Твой друг Сборник по собаководству (Выпуск 3, 1986 г.)
ОНИ СРАЖАЛИСЬ ВМЕСТЕ С НАМИ
Олег Туманов Тимур
В начале апреля 1940 года отец подарил мне щенка немецкой овчарки. Это было пушистое, неуклюжее существо, с мутными по-детски глазами, огромными лапами и такой же головой. Он скорее напоминал медвежонка, чем собаку.
Мы назвали его Тамерланом, тем самым возложив на него некоторые наши честолюбивые надежды, о чем он, конечно, не мог и подозревать.
К середине июля Тимка подрос и оказался темпераментным и довольно смышленым щенком. Он уже выполнял команду «фу». Когда перед Тимуром клали кусочек колбасы, он, облизнувшись, отворачивал морду, чтобы не видеть лакомства и не так уж чувствовать его соблазнительный запах. Самым трудновыполнимым для него был приказ «сидеть».
Достав кучу книг по собаководству и обложившись ими, я начал изучать сложную науку дрессировки животных. Но во множестве изданий было и множество противоречий. То, что предлагали одни, отвергали другие. Как быть? По какой из книг учить Тимку?
И вот я услышал, что в Осоавиахиме служебных собак берут на учет и обучают.
В клубе служебного собаководства Тимура осмотрели, ощупали, вновь и вновь перечитали родословную. Дед Тимура был волком. Из-за этого некоторые члены комиссии стали возражать против его приема в клуб, но большинство были восхищены экстерьером и поведением Тимура, и мне выписали удостоверение члена клуба.
Мы с Тимкой начали посещать дрессировочную площадку. Обнаружив у Тимура безграничную смелость, напористость и необычайно развитое обоняние, инструктор Борис Петрович Исаев стал развивать у него эти природные качества, давая специальные упражнения. Чувства нерешительности или страха для Тимки не существовало. Как только раздавалась команда, он на мгновение задумывался, словно пропуская через себя детали предстоящего задания, а потом, сорвавшись с места, бросался ее выполнять.
В парке, на территории которого проводились занятия, стояла парашютная вышка. Она давно не работала, лестница полуразвалилась, кое-где не хватало ступенек, и надо было обладать недюжинной смелостью, чтобы взобраться наверх и спуститься вниз, перепрыгивая через пролеты с недостающими ступеньками. Многие собаки, получив приказ идти наверх, обычно начинали скулить, прижиматься к ногам хозяев. Тимур же, бросив на меня взгляд, выражающий решимость, кидался преодолевать пустые пролеты и через несколько минут, сев к моей ноге, склонив голову набок и высунув язык, с каким-то стесняющимся любопытством заглядывал в глаза инструктору, будто хотел спросить: «Ну как?»
Он безотказно ходил в воду не только за апортировочным предметом, но и «диверсантом», которого неизменно изображал Борис Петрович. Однако самым любимым его занятием был поиск. Обладая уникальным чутьем, Тимур выполнял это упражнение с особым удовольствием.
Занятия по поиску в предвоенные годы начинались удивительно просто. Сначала на ниточку привязывали кусочек лакомства (мяса, колбасы) и на глазах у собаки протаскивали его несколько метров по траве. Потом отстегивали ошейник и подавали команду «ищи». Так как животное видело собственными глазами, куда положено лакомство, то бросалось его искать и тут же находило. Спустя несколько дней лакомство протаскивали по траве и прятали за укрытие так, чтобы собака не видела его. В этом случае собака бросалась к тому месту, где обычно прежде оставлялось лакомство, и, не найдя, возвращалась к исходному пункту, обнюхивала его и пускалась по запаховому следу на поиск. Найдя и съев лакомство, животное с тех пор полагалось при поиске не на зрение, а на свое чутье.
Закрепив этот навык, приступали к следующему: поиску инструктора. Для начала собаку пускали на поиск по запаховому следу, проложенному в обуви, подошва которой предварительно натиралась мясом или колбасой. Затем оставляли обычный запаховый след (подошва обуви ничем предварительно не натиралась). В дальнейшем у собаки вырабатывались навыки работы по запаховым следам не только инструктора, но и других, незнакомых собаке, людей. Позже производилось приучение к выборке вещей по их запаху.
После окончания курса дрессировки Тимура приписали к военкомату, выделили паек — он стал «военнообязанным».
Чтобы выработанные навыки не забывались, я каждое утро повторял с Тимуром все приемы общей и специальной дрессировки. Иногда, навещая товарищей, которые жили недалеко от моего дома, причем не одного, а нескольких, я оставлял у одного из них свою вещь так, чтобы Тимка этого не видел. Вернувшись домой, я восклицал: «Забыли!» — и подавал собаке команду: «Ищи!» Тимка немедленно отправлялся на поиск, забегал к знакомым и неизменно возвращался с оставленной мною вещью. Мои товарищи рассказывали, что Тимка врывался в квартиру и, не обращая внимания на присутствующих людей, начинал тщательный поиск во всех комнатах и продолжал его до тех пор, пока не обнаруживал мою вещь. Радостным, счастливым возвращался пес домой.
«А что будет делать Тимка, если не оставлять вещи, но послать его на поиск?» — как-то подумал я. Придя однажды с прогулки, я подал ему команду на поиск моей вещи. Как обычно, Тимур опрометью бросился из дома. На этот раз он не возвращался очень долго. Каждые пять минут я выскакивал на улицу посмотреть, не бежит ли Тимка. Шел четвертый час, как он отправился на поиск, а его все не было. Не находя себе места, я прислушивался к звукам — не раздастся ли знакомый лай моего друга. Время тянулось удивительно медленно. Тимур не возвращался. Больно ударила мысль: «Ничего не найдя, собака от стыда за неумение выполнить приказ может не вернуться вовсе или, вернувшись ни с чем, навсегда потеряет доверие к хозяину, подающему глупые, невыполнимые команды». В это время с треском открылась входная дверь и в комнату ворвался Тамерлан. Но что же он принес! Год назад товарищу, у которого мы сегодня были, я подарил в день рождения книгу — сейчас она лежала у моих ног. Уставший, но счастливый сделанным, рядом сидел Тимка. Оказалось, что он по нескольку раз обегал квартиры моих знакомых, где мы бывали, и, ничего не найдя, вернулся в конце концов к книге — единственной вещи, которая из всех сегодня обнюханных издавала чуть ощутимый, смешанный с чужими запахами, запах хозяина. Подивившись тому, как ловко хотел его «надуть» мой товарищ, Тимка беззлобно тявкнул на него, схватил зубами книгу и был таков.
Этот случай врезался мне в память на всю жизнь. С того дня, прежде чем подавать ту или иную команду, я думал о возможности ее выполнения.
22 июня 1941 года нашу мирную жизнь оборвала война. В июле мы получили повестку о мобилизации Тамерлана в действующую армию.
А когда война кончилась, и я вернулся домой, мама мне показала необыкновенную похоронную. В ней было написано, что собака по кличке Тамерлан погибла в бою, подорвав танк противника.
Я храню эту похоронную по сей день в память о своем друге детства Тимке.
Илья Эренбург Каштанка
Издавна собаку окрестили четвероногим другом. Она помогала и пастуху, и охотнику, и пограничнику.
Ум собаки и терпение ее воспитателя делают чудеса. Все знают, как собаки-водолазы спасают тонущих или как сенбернары выручают путников, замерзающих в горах.
Кто зимой не видел на фронте нартовых собак? Это русские лайки — пушистые, ласковые, выносливые. Они спасли тысячи и тысячи жизней. В лесу по глубокому снегу четыре лайки быстро, но осторожно везут лодочку с раненым. Машины не могут проехать, лошади не проходят, а собаки совершают по нескольку рейсов в день.
Помню одну упряжку. Лайки замечательно работали, только иногда Шарик ворчал на Красавчика — они были в ссоре, но знали, что теперь не до драки, и ворчали вполголоса. В лодочке лежал раненый лейтенант, любимец роты: осколок мины разбил колено. Один из бойцов подошел к псам, погладил их и серьезно сказал: «Молодцы, что довезли…»
На одном участке Западного фронта отряд нартовых собак перевез за месяц 1239 раненых и доставил на передний край 327 тонн боеприпасов. Передо мной записка, нацарапанная наспех карандашом: «Наша часть, наступая, несет потери. В церкви скопилось много раненых. Вывезти не на чем. Если можно, сейчас же пришлите нартовых собак. Положение серьезное. Командир медсанбата». Собаки поспели вовремя и вывезли раненых.
…Я знаю лайку Мушку. Осколок мины оторвал у нее ухо, но она продолжает работать. Это обстрелянная собака. При сильном огне она не идет, но ползет. Другие собаки явно уважают Мушку и следуют ее примеру. Мушка вывезла много раненых. Один боец отдал ей свой кусок мяса и задумчиво сказал: «Как будто она… А может, и не она — похожая… Вот такая меня спасла возле Ржева…»
Есть собаки по природе приветливые, общительные — они незаменимые помощники санитара. Было это возле Сухиничей. Шотландская овчарка Боб в белом халатике ползла по поляне. Короткая пауза между атакой и контратакой. Раненые попрятались в ямах или в воронках. Боб отыскал шестнадцать раненых. Найдя человека среди снега, Боб ложится рядом и громко, взволнованно дышит: я — здесь. Боб ждет, не возьмет ли раненый перевязку: на спине у собаки походная аптечка. И Бобу не терпится: скорей, бы взять в рот брендель — кусок кожи, подвешенный к ошейнику, — знак того, что собака нашла раненого, — и поползти к санитару: иди сюда… Боб нашел семнадцатого — лейтенанта Яковлева. Когда собака поползла за санитаром, начался обстрел из минометов. Осколок оторвал у Боба сустав передней лапы. Он все же дополз до хозяина, не выпуская изо рта бренделя, торопил: скорее за мной!..
Есть и другие собаки, с характером угрюмым, недоверчивым. Эти превосходно охотятся за «кукушками». Барс открыл трех гитлеровских автоматчиков, четвертый застрелил Барса, но тем самым выдал себя и был снят снайпером.
Видал я и другого охотника за «кукушками» — Аякса. Это крупная, отнюдь не приветливая овчарка. Аякс не выносит вражеской формы, серо-зеленая шинель приводит его в ярость. Кроме того, Аякс «считает», что человеку не подобает сидеть, на дереве. Для него самое большое удовольствие — прочесать лес.
Я не знаю, можно ли перевоспитать молодых гитлеровцев. Сомневаюсь. Но немецкую собаку наши перевоспитали. Ее взяли вместе с штабными бумагами. Она занималась низким делом: искала партизан. Теперь этот пес, прозванный Фрицем, ищет «кукушек».
В январе гвардейский стрелковый полк оказался в тылу у врага — под Вереей. Проволочная связь часто рвалась, радиоустановки были разбиты. Связь поддерживали четырнадцать собак. Собаки ползли по открытой местности под ураганным минометным огнем. Здесь погибла овчарка Аста, она несла из батальона на командный пункт полка донесение: «Огонь по березовой роще». Аста, раненая, доползла до своего вожатого Жаркова. Положение было восстановлено.
Однажды собака Тор принесла следующее донесение: «Залегли. Не можем поднять головы — сильный обстрел». Тор понес назад приказ: «Людей поднять. Вести наступление». Два часа спустя гвардейцы вошли в Верею. Комиссар полка Орлов говорит: «Собаки нас выручили под Вереей…»
Как не вспомнить рыжего эрдельтерьера Каштанку? Раненная в голову, с разорванным ухом, истекая кровью, Каштанка подползла к вожатому: доставила в батальон донесение. Ее забинтовали и отослали назад: другой связи не было. Две недели, забинтованная, она поддерживала связь с резервом. Было это возле Наро-Фоминска. Там Каштанка и погибла от снаряда. Многие бойцы ее помнят.
Связная собака предана долгу, ее не остановят ни пуля, ни птица в кустах, ни река, ни смерть: она спешит с донесением. Красноармеец Козубовский добился, что его собака поддерживает связь между двумя пунктами, расположенными на линии огня и отстоящими один от другого на шесть километров.
Когда наши защищали высоту Крест, эрдельтерьер Фрея проделала тридцать три рейса — семьдесят километров. В последний раз Фрея принесла донесение смертельно раненная: осколок мины раздробил ей челюсть.
Что добавить к этому простому рассказу? На войне люди больше чем когда-либо ценят верность. Мы все помним прекрасный рассказ Чехова «Каштанка». Теперь Каштанка спасает раненого хозяина.
25 мая 1942 года.
Николай Жданов Ленинградская история
Когда Рики был маленький, он любил кататься по ковру — лохматый прыгающий шар с большими ушами и нетвердыми лапами. На свете, вероятно, не было существа более жизнерадостного и забавного. Как смешно он пятился и лаял, когда Володя катил на него больший полосатый мяч или, стащив с дивана старую рысью шкуру и покрывшись ею, полз по ковру, изображая настоящего зверя. И как он радовался, когда мальчик наконец отбрасывал шкуру и, прыгая, кричал:
— Рики, глупый, это же я, я!
Если Рики казалось, что с ним поступают грубо или несправедливо, то он, обидевшись, залезал под диван или под широкое кресло и лежал там, закрыв лапами и ушами свою мордочку с мокрым черным носом. Однако сердиться долго Рики не мог и всегда был рад примирению.
К лету он вытянулся, стал долговязым, и рыжий хвост его сделался похож на большое перо. Когда Рики выпускали на двор, он подолгу с таинственным видом подкарауливал воробьев, щебетавших на единственном кусте боярышника, росшем у ограды, или настороженно обнюхивал еще незнакомые ему предметы, словно боясь, что каждый из них может наброситься на него, уколоть или прищемить нос.
На улицу Рики брали редко, а если все уходили, он ложился у порога и ждал, изредка царапая дверь лапой и повизгивая. Одиночество Рики не нравилось. Когда Володя возвращался вместе с матерью из детского сада или приходил из лаборатории его отец, Рики принимался лаять и прыгать от счастья.
Сняв пальто и синюю спецовку, отец брал из угла алюминиевую плошку и, накрошив в нее черствого хлеба, говорил матери:
— Ну-ка, что у нас сегодня — суп или щи?
Залив крошево горячим, он ставил плошку на старое место и, погрозив Рики пальцем, говорил:
— Тубо!
Рики уже знал, что это значит, и молча ложился перед плошкой, не сводя с нее глаз и ожидая, пока пища станет чуть теплой.
— Уж пусть бы ел. — говорила мать, — и так он тебя заждался.
— Нельзя, — объяснял отец, — от горячего у него нюх пропасть может.
Наконец отец, уже кончив умываться и собираясь сесть к столу, трогал пищу пальцем, не горяча ли, и коротко приказывал:
— Пиль!
Рики тотчас вскакивал и начинал есть.
Почти то же повторялось утром, перед тем, как отец уходил на работу. Он всегда старался кормить Рики сам и не любил, чтобы это делали мама или Володя.
— Рики, — говорил он, — должен знать своего хозяина.
Отец научил Рики отыскивать и приносить брошенный мячик или палку, бегать по сигналу вперед и по сигналу возвращаться назад, ходить во время прогулок у самой ноги, не забегая вперед и не отставая. Он говорил, что осенью поедет со своим товарищем на охоту, возьмет Рики с собой, чтобы Рики научился делать стойку на дичь, как настоящий сеттер.
Но еще в середине лета Рики заметил, что с ним почти перестали играть и все сделались какими-то скучными и озабоченными. Отец приходил теперь поздно, почти не замечая Рики, садился к столу, но ел мало, а молча смотрел перед собой на стену, на которой Рики не мог, сколько он ни старался, увидеть ничего примечательного. Вообще все вели себя непонятно. Отец подымался утром раньше обыкновенного и слушал, что говорит шипящий черный круг, висящий на стене. Потом вздыхал, хмурился. Рики однажды подошел к нему и, чтобы напомнить о себе, положил ему голову на колени. Но отец только провел два раза ладонью по его голове и сказал:
— Да, Рики, такие-то, брат, дела…
Затем он поднялся, поправил одеяло на спавшем еще Володе, попрощался с матерью и ушел.
Мать теперь целые дни зашивала какие-то мешки, паковала тюки, укладывая в них разные вещи, свернула и зашила в мешок даже ковер, на котором Рики так любил играть с Володей.
Мальчик и теперь, особенно по утрам, был весел, как раньше. Едва проснувшись, он прятал голову под одеяло и затем, внезапно высунувшись, щелкал зубами и говорил: «Ам-ам!», стараясь напугать этим Рики. Потом, еще не одевшись, он старался связать Рики лапы своим чулком или, положив ему на спину кусочек хлеба, смотрел, как Рики будет его доставать.
Когда завыли первые сирены воздушной тревоги, Рики протестующе залаял, срываясь на жалобные, звенящие ноты. Затем, слушая, как стучит метроном, он старался потеснее прижаться к Володе, так, что даже обеими руками его нельзя было оттолкнуть.
Иногда тревога заставала дома отца — тогда он подымался на свой пост на крышу, а Володя и мама шли в убежище и брали с собой Рики. Если слышался нарастающий вой летящей бомбы или вздрагивала от близкого взрыва земля, Рики, скребя лапами цементный пол, старался забиться подальше под нары. Тогда стоявшие и сидевшие вокруг женщины говорили:
— Собака, а тоже жить хочет.
У Рики был теперь плохой аппетит, и он не сразу заметил, что ему стали давать мало пищи. Но постепенно чувство голода обострялось все более. Рики особенно хотелось есть вечером, когда приходил Володин отец. Но теперь отец уже не доставал из угла плошку, не крошил в нее хлеб и не спрашивал у матери:
— Ну-ка, что у нас сегодня — щи или суп?
Плошка стояла забытая, чисто вылизанная и покрывалась пылью.
Отец и сам не ужинал, как раньше. Но обычно он приносил в кармане кусочек хлеба величиной со спичечный коробок. Садясь на свое место к столу, он доставал этот хлеб, тщательно завернутый в бумажку, и, развернув, собирал пальцем маленькие крошки и засовывал их себе под усы, но хлеб не ел, а всегда отдавал Володе. Рики внимательно следил за тем, как Володя брал хлеб и быстро запихивал в рот сразу весь кусочек. Некоторое время он держал так хлеб, не двигая челюстями, словно боясь, что вдруг, если он сожмет их, хлеба не окажется. Затем он закрывал глаза и принимался с наслаждением сосать вкусную хлебную кашицу. Рики подходил к мальчику и умоляюще смотрел ему в рот, чувствуя, как по языку текут слюни и падают на пол. Но Володя открывал глаза, только когда во рту у него уже ничего не было, и в доказательство показывал Рики зубы, язык и весь рот, до самого горла.
Теперь Рики постоянно хотелось спать, и он целые дни дремал на узлах, которые были свалены, как ненужный хлам, в углу у маленькой железной печки: уехать из города уже давно было нельзя.
Во сне Рики чаще всего видел пищу: много жирных костей, или полную плошку хлеба со щами, или овсяную кашу. Но теперь ему давали есть только немного жидкого столярного клея, сваренного вместе с кофейной гущей.
Самыми неприятными были часы артиллерийского обстрела. Рики слышал, как далеко за домами что-то щелкало, потом раздавался короткий свист и, наконец, протяжный вой. От этого воя внутри у Рики все сжималось, и он, не помня себя от страха, старался забиться как можно дальше в щель между большим тюком и шкафом.
Если снаряд разрывался близко, то Рики слышал, как звенят стекла, падая на камни из оконных рам. Раз ночью снаряд ударил в ограду, у которой рос воробьиный куст. Весь дом дернулся, и по стене застучали каменья, выбитые из ограды. Один из камней со звоном влетел в окно и, прорвав штору, упал у Володиной кровати. Рики завизжал и бросился к двери, но она была заперта.
Володя проснулся, сел на кровати, видимо не зная, плакать или нет.
— Спи, — стараясь казаться спокойной, сказала ему мать. — Спи, маленький. — Она с тех пор, как начался обстрел, сидела в кресле у его изголовья.
— Надо бы вам пойти в убежище, — заметил с дивана отец.
— Все равно, — ответила она. — Заткни чем-нибудь окошко, дует.
Всю ночь мать так и не отходила от мальчика. Рики тоже подошел к ней и, дрожа всем телом, прижался к ее ногам. Она нашла в темноте его голову и, гладя, говорила:
— Не бойся, Рики. Вот видишь, наш Володя какой храбрый мальчик, он совсем не боится. Сейчас он закроет глаза и будет спать.
— А разве ты видишь в темноте мои глаза? — спрашивал мальчик.
— Да, маленький, вижу. Закрой их и спи.
— Знаешь, мама, ты, наверное, ошиблась, что я храбрый, я тоже боюсь, — признался Володя и, помолчав, добавил: — Хорошо бы скорее утро настало, утром всем людям хлеб дают…
Как-то вернувшись с работы, отец не снял ставшего очень широким для него пальто, долго стоял не двигаясь, опираясь рукой о шкаф, потом с трудом опустился в кресло. Его синевато-бледное лицо казалось рыхлым, глаза смотрели тускло.
Немного погодя он по обыкновению полез в карман и достал завернутый в бумажку кусочек хлеба. Володя поднялся со своей кровати и подошел к столу. Мать следила за ним от печки. Когда отец протянул хлеб, что-то в его лице заставило мальчика отдернуть руку.
— А ты сам? — спросил он.
— Я ел суп. Это тебе. — И отец, стараясь не глядеть на хлеб, подвинул его на край стола.
Володя не мог больше выдержать, он взял хлеб, как всегда целиком засунул кусочек в рот.
— Не смей! — послышался крик матери. Она резко встала и быстрой, шатающейся походкой отошла к окну. Плечи ее дрожали.
У Володи сдавило горло. То неловкое чувство, которое он всегда испытывал, принимая от отца хлеб, вдруг стало тяжелым, как большое горе. Задыхаясь от того, что рот его был забит хлебом, захлебываясь слезами и дрожа, он упал лицом на диван и заплакал. Хлебная кашица вывалилась у него изо рта на пол, и тотчас же Рики подхватил эту кашицу и одним движением языка и глотки проглотил ее.
На другой день отец не поднялся с дивана. Он попросил маму, чтобы она отнесла в лабораторию какие-то важные чертежи. Вернувшись, мать увидела, что Володя тоже лежит на своей кроватке. Она села к нему на край постели, потрогала его лоб рукой. Володя открыл глаза и снова закрыл их. Последние дни ему не хотелось вставать, он совсем не играл и только думал.
Он думал о том, что если бы какой-нибудь волшебник или король предложил ему на выбор ковер-самолет, шапку-невидимку или столик-накройся, то он взял бы столик. Он принес бы его домой, позвал маму, папу и Рики и сказал: «Столик, накройся!» Как бы все удивились и обрадовались, а он бы пошел во двор, позвал бы всех-всех и тоже сказал бы: «Столик, накройся!» И все бы стали радоваться и есть, а когда все съели, он бы опять сказал: «Столик, накройся!» И так тысячу раз, пока все в городе не стали бы сыты.
А если бы ему дали ковер-самолет и шапку-невидимку, то он полетел бы в немецкие войска. В шапке-невидимке он подошел бы к самому главному фашисту, к Гитлеру, и убил бы его из автомата. Тогда бы все закричали, забегали, а он набрал бы на столах побольше хлеба, конфет и даже пирожных и опять сел на ковер и прилетел домой…
Но сегодня Володе казалось, что ему ничего не нужно и не будет никогда нужно, что лучше всего закрыть глаза и спать, спать.
И когда мать положила ему на лоб руку и Володя открыл глаза, она увидела — глаза его были мутными и тусклыми, как у отца. Мать почувствовала страх и метнулась к отцу, чтобы он помог ей. Но отец лежал без движения и, когда она взяла его за руку, только грустно посмотрел на нее, и на его почерневших губах появилась слабая, виноватая улыбка.
Несколько минут мать, сидела в каком-то оцепенении, только ее отчаянный взгляд блуждал по комнате, словно в поисках какого-нибудь выхода.
Рики подошел и положил к ней голову на колени. Он был худ, казался совсем старым, и кожа в лохмотьях шерсти висела на выпирающих костях.
— Это ты, Рики? — сказала мать тихо. Потом вся вздрогнула и вдруг наклонилась к собаке, поцеловала ее в обвисшие губы с редкими сухими усами и встала. — Идем, — сказала она отрывисто, и Рики поплелся за нею в маленькую кухню, куда уже давно никто не входил и где было холодно, как на улице.
— Проснись, мальчик, вот тебе горячий суп, — говорила мать.
Володя поел супу, который показался ему вкусным, похожим на бульон, только немного горьким, и снова лег. Сквозь дремоту он слышал глухой голос отца.
— Мы так давно не ели мяса, — говорил отец, — мне сразу стало лучше. Кажется, я могу встать и подложить дрова в печку. Где ты достала?
— Да уж достала… — отмахнулась мать. — Теперь хватит на несколько дней.
Потом она подошла к Володе, чтобы, как всегда, поцеловать его на ночь.
— А ты ела суп, мама? — спросил мальчик. — И Рики тоже ел?
— Спи, спи, — тихо сказала мать и отошла от кровати.
Через несколько дней папа опять ушел на работу. Володе тоже не хотелось больше лежать. Он встал и позвал Рики. Но мама сказала, что к ним приходил один папин товарищ и ему отдали Рики, потому что там ему будет лучше. Мама теперь все больше лежала на диване, одетая, покрывшись старым пальто, и почти совсем не вставала.
Однажды утром к ним пришла маленькая быстрая девушка в полушубке.
— Я из комсомольской бригады, — сказала она, — и буду вам помогать.
Она принесла со двора воды в чайнике и в алюминиевой кастрюле, затопила печку, потом сходила в булочную и принесла хлеба.
— Знаете, — сказала она матери, — на Крестовском острове открыли детский стационар. Там бы вашему сыну давали кроме хлеба соевое молоко и компот. Дети там поправляются. Хотите, я поговорю по этому вопросу?
Володя запомнил это слово — «стационар». Оно было чем-то похоже на самовар, только не пузатый и красный, какой стоял у них на кухне, а сверкающий, белый и строгий, какой он видел однажды у тети Веры.
Когда на другой день пришла девушка в полушубке, Володя спросил:
— Вы еще не говорили по этому вопросу?
— По какому? — спросила она, улыбаясь.
— Про стационар, — с трудом выговорил Володя и покраснел.
На другой день во двор, где жил Володя, приехал автобус. В нем уже было больше десятка детей. Володю тоже посадили в автобус и увезли.
В стационаре Володе было хорошо и даже не скучно, потому что было много мальчиков и девочек и он рассказывал им про Рики, про столик-накройся и ковер-самолет. Здесь часто давали есть. А один раз всем выдали по два мандарина и по палочке шоколада, потому что был Новый год.
Володя съел оба мандарина, а шоколад спрятал в бумажку и все время его хранил для мамы. Он скучал о ней теперь больше, чем о папе, и больше, чем о Рики.
И вот наконец приехал автобус, и Володю опять привезли на знакомый двор с кирпичной оградой, разбитой в одном месте снарядом.
Когда Володю подвели к дверям их квартиры, он нащупал в кармане шоколадку и крепко зажал в руке.
Но мамы не было дома. Папа сам расстегнул Володе пальто, снял с него шапку и башлык, поцеловал и повел его к печурке.
— Ну вот, грейся, — сказал он, — а я сейчас принесу воды и вскипячу чай.
— А где же мама? — спросил Володя.
Но папа уже взял чайник и алюминиевую кастрюлю и скрылся в дверях. Воды все еще не было в кранах, ее брали на дворе, из колонки.
Володя осмотрел комнату. На диване никого не было, он заглянул за печку, где на тюках спал раньше Рики, потом толкнул дверь и вошел в кухню. Там тоже никого не было, но на подоконнике, запорошенном снегом, потому что было выбито верхнее стекло, он увидел что-то похожее на губку, которой его мыла мать. Но это оказалось не губкой, а чем-то другим, лохматым и рыжим, и напомнило ему что-то очень-очень знакомое.
И Володя понял. Он даже уронил «губку» на пол, но потом снова поднял и опять со страхом осмотрел ее. Он узнал ухо, мохнатое рыжее ухо Рики, сморщенное морозом.
— Где же ты, мальчик? — послышалось рядом, и отец вошел в полуоткрытую дверь кухни.
Володя показал ему ухо, хотел что-то сказать и заплакал.
— Рики, Рики… — бормотал он, глотая слезы.
Отец взял его на руки, отнес в комнату и, сев на диван, усадил к себе на колени.
— Рики спас нас с тобой, — сказал он.
— Он умер, — упрямо сказал Володя, — я же знаю. А мама мне сказала… Где мама? — спросил он. — Где она?
Отец молча гладил его по голове.
— Мамы больше нет у нас, — наконец проговорил он.
Лицо его сделалось некрасивым, он с трудом дышал, как будто глотал что-то застрявшее в горле, и Володя с удивлением понял, что он плачет. Он первый раз видел, чтобы плакали такие большие люди, как папа, и чувство жалости и страха охватило мальчика. Он хотел тоже заплакать, но что-то подсказало ему, что теперь плакать нельзя, а то отцу будет еще тяжелее.
И Володя сдержал слезы. Какая-то новая мысль вертелась у него в голове. Когда отец стал ровнее дышать, он спросил:
— А почему же Рики не спас маму?
— Она не могла есть тот суп, — сказал отец. — Она сделала это, чтобы спасти нас.
А. Поляков Трофей
Танки КВ ворвались в деревню. Командир танка Калиничев направил машину вперед, вдоль задымленной улицы, туда, где еще продолжали сопротивляться фашисты. То и дело он подавал водителю Дормидонтову команду: «Стоп. Стреляю…»
Вдруг среди бурлящего моря огня и смерти водитель Дормидонтов увидел мечущегося от хаты к хате громадного пса. Это был большой, красивый, с рыжим отливом пойнтер. Он как затравленный бросался то к пустым избам, то к пробегавшим мимо него обезумевшим гитлеровцам.
— Вот он у меня сейчас прыгнет лапками кверху! — выкрикнул стрелок-радист Шишов, прильнув к пулемету.
— Да ты что, очумел? Это же собака, а не фашист, — сердито ткнул Шишова в бок Дормидонтов.
На миг Шишов замедлил спуск курка, и раздавшаяся затем звонкая очередь пришлась как раз по двум вражеским гранатометчикам, выскочившим из-за угла дома.
— Вот твои собаки, по ним и целься, — не отрываясь от смотровой щели, весело бросил Шишову Дормидонтов.
Бой затих. Деревня была наша. Дормидонтов при первой же возможности попросился у командира машины «сходить посмотреть собачку».
Не прошло и двадцати минут, как на пороге хаты, где расположились танкисты, появился Дормидонтов с покорно сопровождавшим его рыжим псом. Ребята подняли веселый галдеж.
— Где это такого пленника подхватил? Ай да Женька!
— А ну, Фриц! Фриц, иди сюда!
— Рыжий, дай лапу, подними лапу!
Неведомо чем обольстил Дормидонтов этого чистокровного пойнтера, только пес невольно жался сейчас к Евгению, доставая головой до самого его пояса и подозрительно озираясь на всех остальных.
Дормидонтов погладил собаку рукой и знаком пригласил сесть рядом с собой. Пойнтер послушно сел. Он вздрагивал время от времени всем своим энергичным, гладкошерстным телом. Большая его голова рывком поворачивалась в сторону шума, раздававшегося из толпы. Отвисшие уши чуть приподнимались, а громадная пасть обнажала сверкавшие белой эмалью острые клыки.
— Собака, ребята, немецкая. Вот номер и надпись на ошейнике, — проговорил Дормидонтов.
Все уже успели заметить на собачьей шее белый медальончик в форме щитка со штампованным номером и надписью.
— Офицера какого-нибудь, — заметил кто-то.
— Не иначе, — согласился Константинов. — Валяется где-нибудь в подворотне, собака поганая, а благородный пес его греется вместе с нами.
Все рассмеялись.
— Так вот, ребята, — продолжал Дормидонтов, — за собакой буду ухаживать я. Командир уже разрешил держать ее в батальоне.
— Тогда давай ей кличку дадим, — предложил кто-то, и со всех сторон, как дождь, посыпались предложения:
— Фашист, Бандит, Адольф, Гитлер, Геббельс, — и еще ворох имен в этом роде.
— Нет, ребята, это все не годится, — перебил друзей Дормидонтов. В его синих глазах замелькали веселые искорки, притворно серьезным тоном он продолжал: — Товарищи! Ну разве к лицу собаке носить такое имя. Это же оскорбление для нее.
Громкий взрыв хохота покрыл слова Дормидонтова.
— Так как же нам ее назвать? — забеспокоились танкисты.
— Знаете, как назовем, — заговорил опять Евгений. — Она ведь наш трофей. Так давайте и назовем ее Трофей.
— Трофей, Трофей, — шумели ребята, и всем сразу очень понравилось это имя.
…С того памятного зимнего дня, когда пес попал к нам в плен, прошло несколько месяцев. Трофей безотлучно находился в батальоне. Он быстро привык к своей новой кличке, очень сдружился с Дормидонтовым и неимоверно скучал без него во втором эшелоне, когда тот был занят в боях.
— А что если Трофей к фрицам убежит, — подтрунил раз кто-то над Дормидонтовым, и это заставило Евгения серьезно и глубоко задуматься. «Надо приручить собаку покрепче», — рассудил он про себя и с тех пор почти всегда ходил вместе с Трофеем, дрессировал его терпеливо и умело.
Трофей научился доставлять из роты во второй эшелон донесения, таскал в зубах пулеметный диск, обернутый в тряпку, носил за ремень автомат.
Привязанность Трофея к своему новому хозяину росла с каждым днем. Уезжая в бой, Евгений нежно прощался с другом: жал ему лапу, трепал по шерсти, давал кусок сахара. Когда пятерка танков КВ одновременно возвращалась из боя и подходила к своей базе, Трофей срывался с места и безошибочно мчался к машине Дормидонтова.
— Трофейчик, милый мой, полезай сюда, — обращался из люка Дормидонтов, заглушив машину. Трофей одним махом прыгал на танк, просовывал морду в люк и нежно терся там о шлем и чумазое, почти неузнаваемое лицо своего друга и хозяина.
…День ото дня бои становились все ожесточенней. Иногда танк лейтенанта Калиничева не возвращался на базу по два-три дня подряд, и тогда изнывающий от тоски Трофей не находил себе места. Он уже совершил несколько побегов на передовые линии, но, не обнаружив нигде следов своего хозяина, скучный и голодный, возвращался обратно.
…Однажды ночью танки ушли в бой.
Противник решил отбить только что отнятый у него выгодный рубеж. Предпринял мощную контратаку. Но после двухчасового боя показал спину. Пятерка КВ дралась превосходно. Особенно хорошо работала машина лейтенанта Калиничева. Виртуоз-водитель Евгений Дормидонтов бросал машину то в тыл, то на фланги вражеских боевых порядков.
Бой закончился, но танк командира Калиничева не вернулся. Как ни обнюхивал Трофей машины, хозяина не находил. Хозяин остался где-то на поле боя.
Прошло несколько часов, а танка Калиничева все нет и нет. Несколько пар танкистов и пехотинцев ходили в разведку, но машину нигде не обнаружили — как сквозь землю провалилась.
В батальоне кто-то вдруг предложил послать Трофея поискать машину. «Трофей ее издали узнает, а фашисты не тронут его. Он с бляхой».
Трофея вывели из окопа, показали на один из танковых следов, идущих в сторону врага, и сказали: «Ищи!»
Видимо, только этого он и ждал. Умный пес пустился во всю прыть вперед, наверняка понимая своим собачьим сознанием, что искать ему нужно только единственное — своего любимого хозяина.
Через несколько часов Трофей появился на сборном пункте машин. Первого попавшегося танкиста он схватил зубами за комбинезон и стал тянуть за собой.
— Нашел, неужели нашел?! — удивлялись и радовались танкисты.
Разведчики Валин, Аровский и Нальченко отправились за Трофеем, потащившим их в сторону передовой. Путь собаки пролегал далее прямо к врагам, откуда изредка раздавались ружейные и пулеметные выстрелы. Идти было небезопасно. Но Трофей настойчиво рвался вперед.
Ребята решили немного продвинуться. Крадучись, они поползли между мелкими кустами за Трофеем. Но не миновали и трех десятков метров, как Трофей остановил их сам. Прильнув к земле и положив передние лапы на что-то черное, он повернул голову в сторону разведчиков. Бойцы приблизились. Перед ними лежал труп танкиста в комбинезоне, шлеме и перчатках. Это был Ваня Писарев — артиллерист из танка Калиничева.
— Ванюшка! Как же ты здесь? — скорбно, полушепотом проговорил один из разведчиков.
Писарев был весь изрешечен пулями. За пазухой у него оказались документы, записные книжки всего экипажа. Очевидно, он пробирался ночью, чтобы известить об аварии, и был убит по дороге. «Живы или нет, и где они сейчас? — вот вопрос, который волновал разведчиков. — Хотя бы записочка какая-нибудь. Ничего».
Трофей, сорвавшись с места, вдруг вихрем полетел в сторону противника.
— Куда его понесло? Взбесилась собака, — воскликнул Аровский.
— Да разве не понимаешь? Он уже по следу Писарева поскакал. Танк найдет сейчас, — уверенно заявил Нальченко.
Через час с бумажником в зубах появился Трофей. Он положил ношу к ногам разведчиков и стал в выжидательной позе.
Бумажник раскрыт, и перед глазами разведчиков… записка с подписью командира танка Калиничева.
«Хоть сколько-нибудь боеприпасов. Хотя бы с Трофеем. Мы еще живы. Расстреливаем последние. Набили штук сотню гадов, но не сдаемся и никогда не сдадимся. Калиничев».
Вот когда все вспомнили об умении Трофея таскать диски, автоматы. Будто предвидел Дормидонтов произошедшее теперь, обучая собаку этому делу.
Разведчики тут же добыли у пехотинцев один диск и завернули его в тряпку. Диск — Трофею в зубы, и пес уже знал, что ему надо делать. Пулей помчался он в направлении, указанном ему рукой, по своему свежему следу.
Три рейса с дисками в зубах совершил к танку пойнтер. Машина находилась, очевидно, километрах в трех в глубине территории противника. В третий раз Трофей вернулся с опаленной в нескольких местах шерстью и запиской, прикрепленной к ошейнику:
«Дорогие товарищи! Спасибо вам, спасибо Трофею. Вот какая собака! Она помогла нам подстрелить еще с полсотни гадов. Прощайте, ребята. Последние минуты. Обливают бензином. Умрем, но победа за нами! Передайте привет родным. Трофея спускаем в нижний люк. Он такой, он прорвется. Прощайте. Калиничев, Дормидонтов, Шишов, Соловьев».
…Через неделю мы погнали фашистов дальше и заняли то место, где находился танк Калиничева. У него были перебиты обе гусеницы, гитлеровцы облили его горючим и подожгли.
Подолгу стояли здесь бойцы, сияв свои шлемы, и всякий раз с танкистами прибегал четвероногий друг Дормидонтова, любимый всем батальоном пес Трофей.
Борис Рябинин Три повести о верном друге, взятые из жизни
Охотники за смертью Записки минера
1
Итак, моя фронтовая служба в качестве минера началась.
Никогда не думала, что моя привязанность к собакам приведет меня в специальное собаководческое подразделение.
Было это делом случая.
В конце сорок второго года пришла повестка с вызовом в военкомат. Что ж, молода, здорова, не замужем. Если девушки могут быть полезны на фронте, то кому идти, как не мне, решила я.
В военкомате было полно народа. Среди людей вертелась и собачонка: видно, потеряла хозяина и теперь искала его, тычась беспомощно то к одному, то к другому. Вошел высокий, неуклюжий как медведь парень и своим тяжелым сапожищем наступил ей на лапу. Раздался такой отчаянный собачий визг, что парень и сам-то. испугался. Вокруг послышались смех и шутки, а я, подхватив бедную шавку на руки, начала успокаивать скулящее от боли и страха животное.
На шум из комнаты председателя призывной комиссии выглянул пожилой усатый майор. Лицо его было строго. Окинув взглядом происходящее, он неожиданно сухо обратился ко мне:
— Вы любите собак?
— Да! — несколько вызывающе ответила я, решив, что он является их убежденным противником: есть ведь такие люди.
— Хорошо, — сказал майор и скрылся за дверью.
Через полчаса, когда я прошла комиссию и была признана годной, мне вручили бумагу с печатями и подписями, на которой значилось, что для прохождения военной службы я направляюсь в школу дрессировщиков.
Если бы не эта собачонка, быть бы мне или медицинской сестрой, или радисткой. Но случай распорядился по-своему.
И вот я на фронте. Школа осталась позади. На мне полная походная армейская форма, на плечах погоны младшего лейтенанта войск технической службы.
Задача нашего подразделения — разминирование.
Но наши минеры не вооружены длинным, заостренным как копье щупом-шестом, чтобы шаг за шагом медленно продвигаться по местности, обследуя каждый квадратный вершок площади вокруг себя. Не вооружены они и миноискателями, дугой которого минер водит, словно косарь, влево и вправо над землей, а сам ждет, не раздастся ли в наушниках знакомый, похожий на пение комара звук — знак, что мина тут, близко…
Наше оружие — собаки.
Не знаю, известно ли вам, какой полезной оказалась собака на этом очень специфическом участке нелегкого воинского труда, какое число людей обязано своими жизнями этому животному.
Всем понятен страшный смысл фронтовой поговорки: сапер ошибается только один раз. Так вот: сапер почти перестал ошибаться, когда его помощником стала собака. С применением собак эта специальность стала для человека если и не совсем безопасной, то, во всяком случае, в значительной степени потеряла свой прежний характер непрерывного неравного состязания со смертью, не говоря уже о том, что сам процесс разминирования ускорился во много раз.
Но не все сразу. Сначала — о людях нашего подразделения, моих товарищах по фронтовой жизни и труду.
Мне нравится наш командир, капитан Александр Павлович Мазорин — человек волевой, мужественный. Капитан худощав и подтянут, по-военному аккуратен, никогда не теряет выдержки и самообладания. Солдаты говорят, что храбр.
Кроме того, он образован и начитан, знает немецкий и английский, любит музыку.
Когда я была еще девчонкой-пионеркой, он уже был известным человеком в среде собаководов. Собак он знает в совершенстве, чего я не могу сказать про себя. Во времена моего детства у нас был Бобик, которого я заставляла служить, выделывать другие штуки, что он принимал с охотой и покорностью, характерной для большинства дворняжек. Мне очень хотелось иметь большую и породистую собаку, но мама не разрешала. Пришлось ограничиться посещением собачьих выставок. На одной из них я впервые увидела Александра Павловича — он там был судьей-экспертом. И вот теперь фронтовая судьба свела нас в одном подразделении.
Помощник командира — старший лейтенант Сигизмунд Христофорчик. Он рыжий как огонь, коротенький и толстый, но, несмотря на это, необычайно подвижный.
Христофорчик — полная противоположность капитану. Если капитан очень сдержан, этот всегда кипятится, всегда чем-то недоволен, донельзя раздосадован. Вид— постоянно озабоченный, запаренный. Так и кажется, что он не способен ни присесть, ни замолчать хотя бы на минуту.
Забавный номер выкинул Христофорчик сразу после моего приезда.
В подразделении я обнаружила несколько собак по кличке Динка. И вот неожиданно, на второй день, выводят их солдаты на занятия — а клички у них другие: Лида, Радда, Джима, одна даже Персик.
— Что случилось? — спрашиваю Христофорчика. — Почему собаки переименованы?
Тот покосился на солдат, потом наклонился ко мне:
— Неудобно, знаете!
— Что неудобно?
— Вас как зовут?
— Дина Петровна. По-моему, я вам уже говорила.
— Говорили, верно, Ну вот!
— Что «ну вот?» — недоумевала я.
— Не понимаете? — Старший лейтенант энергично пожал плечами, удивляясь моей недогадливости. — Вы Дина, и собака Дина… Запоперечится какая-нибудь собака, боец рассердится и закричит: «Динка!» Нехорошо получится…
Я рассмеялась и попросила его отменить распоряжение о перемене кличек. Он долго не соглашался, доказывая, что по его будет лучше, и уступил с большой неохотой.
Сердиться на него было невозможно и — бесполезно.
При всем том, Христофорчик — умница и большой специалист в своей области. Он быстро ориентируется в любом вопросе, а страсть к собакам (именно страсть, другого слова я не нахожу) доходит у него до какого-то помешательства. Обидеть при нем собаку — нажить врага на всю жизнь.
У меня Христофорчик вызывает довольно противоречивые чувства. Он и нравится, и раздражает. Правильно сказал капитан, что Христофорчика можно терпеть лишь в малых дозах. Но сам капитан, однако, отлично переносит его в любых количествах: они — друзья и в неофициальной обстановке говорят друг другу «ты». Их связывает увлеченность своим делом, очень серьезная и глубокая привязанность к собакам. Любовь к животным постоянно внушается и солдатам. Первая заповедь в подразделении — будь внимателен к животному. Это и понятно. Я уже говорила: собаки — наше оружие; а солдат без оружия — не солдат.
2
А теперь — о собаках, этих незаметных тружениках войны.
Вы уже знаете, что у нас есть несколько Динок (почему-то эта кличка очень распространена среди армейских собак). У каждой из них свой служебный номер, но не будешь же его всякий раз называть, тем более что номера иногда многозначные, поэтому в ходу прозвища: Динка-черная, Динка-чепрачная, Динка-тощая, Динка-толстая.
Затруднение возникло с пятой Динкой. Она вроде серая, а вроде и черная, не толстая, но и не худая.
Один из бойцов как-то сказал, обращаясь к ней:
— Эх, ты… штопаная…
Я спросила:
— Почему — штопаная?
Он показал, раздвинув шерсть на се боку:
— Осколком задело… Потом зашивали.
С этого времени пятую Динку стали звать Динка-штопаная.
Все Динки хорошие работницы.
Есть у нас две сестры — Нера и Ара. Обе попали в армию годовалыми. Теперь это громадные собаки, очень злобные, но в руках своих вожатых — послушные и дисциплинированные.
Еще можно упомянуть двух Затеек: Затейка-московская и Затейка-свердловская. Первая подарена Московским клубом служебного собаководства, вторая — с Урала, поступила через Свердловский клуб.
Есть Лель, Зай (был Заяц, но солдаты переделали кличку по-своему), Дозор. Дозор — крупный, мрачного склада пес. Он хромой: наступил на противопехотную мину, когда еще учился, оторвало пальцы. Думали, будет бояться. Ничего, работает!
Имеется, конечно, и непременный Джульбарс (после кинофильма «Джульбарс» эта кличка по распространенности может смело соперничать с Динкой).
В нашем подразделении почти все собаки — овчарки. Человек, чуждый нашему делу, различит их только по цвету шерсти да по величине, но для нас все они разные и по характеру, и по повадкам. Есть у нас пес по кличке Чингиз. Если он влезет в воду — не дозовешься. Как-то на стоянке, в начале мая, прибегает ко мне боец:
— Товарищ младший лейтенант! Чингиз уплыл!
— Как уплыл? Где он?
Я тогда еще не знала об этой особенности Чингизова нрава.
— В реке, товарищ младший лейтенант!
Погода— холодище, вода — как лед, а Чингиз плавает, хоть бы что! На вожатого — никакого внимания: рад, что дорвался до воды. Еле выманили. После купали только на длинном поводке. Но уж зато в одном отношении вожатый мог быть спокоен: с Чингизом — не утонешь!
Есть и совсем смешные причуды. Зай, например, корм съест — и чашку разобьет. Глиняную, фаянсовую — не давай.
Но, пожалуй, самые интересные экземпляры — это трофейный пес Харш и любимая собака капитана Альф.
Харш— толстый, жирный флегматик. Такой же толстый фашист сел в машину, когда его арестовали, отдал поводок; собаку посадили в другую машину. Они даже не посмотрели друг на друга — редкое равнодушие, особенно со стороны собаки, которая, как бы ни был плох хозяин, всегда привязана к нему.
Харш — как гитлеровский солдат: так же вымуштрован, так же бездумен. Прикажут лечь — ляжет, скажут «сидеть» — будет сидеть, пошлют за апортом — сходит и принесет, но все — как автомат, без искринки живости, без всякого выражения. Подлинная флегма. Я никогда не предполагала, что могут быть такие собаки. Дисциплинирован исключительно, но — и только.
Одно желание доступно ему: есть! Не случайно бойцы очень метко переиначили его кличку на Харч. Оживляется лишь, когда увидит еду. Когда ест — не подходи: делается злой. Как-то к нему в бачок сунулась другая овчарка. Он молча ее за ухо — цоп! И — нет уха!
— Ты хам! Нахал! — кричал на него Христофорчик.
Харш был невозмутим. Ни слова, ни интонации не трогали его. Не спеша доел корм, облизнулся и потом долго стоял неподвижно, глядя в землю: слушал или дремал, переваривая пищу, — не разберешь.
Его довольно быстро удалось научить искать мины. Работает прекрасно, но медленно — взбесишься!
За Харшем хорошо ходит ефрейтор Сузов, пожилой, в усах, немногословный человек. Но дружбы между ними нет.
Но все же оказалось, что и в Харше можно пробудить некоторые чувства. Мне первой удалось достичь этого. Теперь он раз пять в течение ночи придет, лизнет в лицо, разбудит и уйдет спать. Меня сердит, но и трогает эта его привычка. Поскольку он в силу полного отсутствия темперамента никогда не затевает драк с другими собаками и не стремится убежать, его оставляют без привязи.
Об Альфе следует рассказать особенно подробно. История его драматична.
Альфа обнаружили в запертой квартире в небольшом городке, захваченном врагом в первые месяцы войны и теперь освобожденном. Неизвестно, сколько он оставался один до того, как его нашли, и куда делся его хозяин. Но за это время Альф превратился в скелет, обтянутый кожей. На полу стояла чашка с засохшей кашей. Альф не дотронулся до нее.
Собаку привезли в наш питомник, но без всякой надежды, что из нее может выйти какой-нибудь толк. На Альфа было страшно смотреть. Худой, плешивый от авитаминоза, в болячках, расчесах. Ко всему этому добавилось серьезное кишечное заболевание, да еще нервный шок. Пес всех кусал, в вольере метался как дикий зверь.
Лечение не приводило к успеху, и при очередном осмотре начальник школы распорядился выбраковать Альфа.
За обреченную собаку вступился капитан Мазорин. Альф приходился сродни лучшим собакам своей породы.
Генерал нахмурясь выслушал Мазорина, затем сказал:
— Какой смысл его оставлять? Он же не поправится.
Но Мазорин стоял на своем. Тогда начальник школы приказал:
— Выбраковать собаку и подарить Мазорину!
Это соломоново решение развеселило окружающих. Капитан же отнесся к нему с полной серьезностью и поблагодарил генерала.
На первых порах для Альфа, казалось, ничего не изменилось. Он продолжал жить в вольере, как и жил. Ему давали ту же пищу, что и раньше. И тем не менее он сразу почувствовал перемену: у него появился хозяин. Собака превосходно чувствует тонкости такого рода. И Альф начал поправляться.
Прежде всего он перестал рычать и бросаться на всех без разбора: появилась нормальная реакция на окружающее. Капитан гулял с ним несколько раз в сутки, потом стал повсюду брать с собой. Разрешал всем ласкать, кормить собаку.
Труднее оказалось излечить физические недуги Альфа. Но и они наконец постепенно стали сдаваться. Через месяц Альфа нельзя было узнать. Он поправился, оброс, заблестел шерстью. И превратился в статного и сильного красавца.
Очень скоро стали заметны благородство его натуры, влияние хорошего воспитания. Он не дрался с собаками. Самое большее — зарычит и отойдет прочь. Покровительственно относился к слабейшим. В питомнике было несколько щенков фокстерьеров. Видя незлобность Альфа, их стали часто подпускать к нему Скоро он превратился для них в няньку-кормилицу. Фоксы лезли Альфу прямо в пасть. Он терпеливо ждал, пока они насытятся. Даже стал худеть из-за этого. Пришлось ему увеличить рацион, а фоксов подпускать пореже.
Альф всем сердцем привязался к капитану. К ночи оказавшись в вольере, долго не мог успокоиться. Иногда кто-нибудь из бойцов, обслуживающих питомник, докладывал Мазорину через час или два: «Товарищ капитан, так и стоит, вас ждет…» Однажды стал ломать вольер. Сломал зуб, повредил другой. Но со временем привык к такому распорядку жизни, стал спокойнее. Но утром ел торопливо и все время смотрел: не идет ли капитан. Бойцы даже уговаривали его: «Да ешь ты, Альф, время еще есть…»
Полюбился Альфу велосипед капитана. Подойдет, хвостом повиляет от удовольствия, лизнет колесо или руль. Чтобы собаке было веселее, Мазорин стал оставлять велосипед у Альфа.
У Альфа оказалось поразительное чутье, Другие собаки не найдут — он разыщет. Дрессировать его оказалось одно удовольствие. Капитан кладет перед ним шапку, поводок, перчатки, чашку и еще немало других предметов. Командует: «Дай поводок!» Поводок подан. «Дай чашку!» Тащит в зубах чашку, да так осторожно тащит — чтобы не раздавить. Бывало, правда, что иногда он вдруг все начинал путать, делался несчастным, как будто виноватым в чем-то и… непередаваемо грустным В такие моменты Альфа оставляли в покое. Очевидно, это сказывалось пережитое нервное потрясение.
От прошлого у него осталась еще одна памятка: хронически больной желудок. Как-то он чуть не погиб от этого. Не ел три дня, на четвертый слег. Когда другие меры не помогли, капитан приказал дать английской соли. Оказалось, Альф наелся травы, чтобы прочистить ею желудок и кишечник, но эта собачья врожденная привычка стала теперь для него смертельно опасной.
Альф работал по всем службам. Охотно, усердно. Узнав его и с этой стороны, Мазорин окончательно убедился в том, что именно мешает Альфу спокойно переносить питомник и клетку. Слишком сильна была привычка к человеку, тяга к общению с ним. И капитан решил перевести его на свободное содержание. С тех пор Альф ни днем ни ночью не покидал своего друга.
Однажды Альф шел с капитаном по лесу. Вдруг собака набежала на что-то и остановилась; шедший позади Мазорин почти натолкнулся на нее. Оказалось — мина, хотя считалось, что в этом лесу мин нет.
Генерал, частенько приезжавший к нам, в конце концов заявил:
— Я за свою жизнь знал двух действительно хорошо дрессированных собак. И обеих звали Альфами. Один был у меня, другой сейчас у Мазорина…
Генерал, может быть, несколько преувеличил, но его похвала была приятна Мазорину. А вот Альф остался к ней безразличен. Собака радуется похвале только близкого для нее человека.
Гордо идет Альф рядом с капитаном. Черный как ночь, без единого пятнышка, только глаза поблескивают. Идеального экстерьера. Взгляд преданный, но грустный-грустный. Со взглядом уж ничего не поделаешь. Может играть, ласкаться к хозяину, а в глазах все равно будет никогда не исчезающая печаль. Может быть, этим он и покорил капитана?
Но Альф неузнаваемо веселеет, когда надо идти искать мины. Его призвание, как и всякой настоящей собаки, — в службе человеку.
3
Минно-розыскная служба — одна из самых молодых форм использования собак в военном деле. Она родилась в годы Великой Отечественной войны, когда обнаружился небывалый размах применения мин немецко-фашистскими войсками.
Уже при контрнаступлении советских войск под Москвой нашим саперам пришлось проделать гигантскую работу, прокладывая проходы в минных полях, которыми окружили себя гитлеровцы. По мере того как нарастали масштабы военных действий, все большие размеры принимало и минирование.
Поиск и обезвреживание мин требовали немало времени и сил, уносили немало жизней.
Надо представить кропотливость героического труда минера, кропотливость, связанную с непрерывным, выматывающим нервы риском. Восемьдесят уколов щупом на каждый квадратный метр. Щуп длинный, но он не спасет, если мина случайно взорвется. А таких случайностей сколько угодно. Иногда можно попасть концом щупа и в сам взрыватель.
Есть еще и электрический миноискатель. Но он показывает только металлические мины. А враг стал делать мины с деревянным, картонным (пропитанным смолой), стеклянным, цементным корпусом.
Мысль использовать для разминирования собак была сколь оригинальна, столь же и проста. Ведь ищет же собака преступника по его следу, безошибочно наводит охотника на дичь в лесу!
Первые собаки выкапывали мины. Но от этого скоро пришлось отказаться: собаки часто взрывались. В конце концов была разработана очень несложная и эффективная технология подготовки собак.
Собака явилась универсальным средством, пригодным для поиска мин любого типа. Она работает как на запах взрывчатки, так и на комплексный запах мины.
Первыми четвероногими минерами, показавшими отличную выучку и полную пригодность, были овчарки Джек и Фрося. В июле 1942 года состоялось их испытание. Когда их подготовка была закончена, приехала комиссия, Предложено было найти пятьдесят процентов мин на специально устроенном минном поле. Собаки нашли все сто. Но все же многие из тех, от кого зависело применение собак для минно-розыскной службы, в первое время сомневались, смотрели на их работу, как на фокус.
Следующее испытание проходило в фронтовых условиях. Минное поле было на территории, недавно отвоеванной у врага. Обширное пространство уже успело зарасти высокой густой травой. Кое-где виднелись колючая проволока и таблички с надписями по-немецки: «Achtung! Minen!» Солдат-вожатый Садищев, бывший осоавиахимовец, подружившийся с собаками еще в клубе служебного собаководства, прошел с Фросей все поле. Ни одной мины не нашел. Вернувшись, вожатый доложил начальнику школы, в то время еще полковнику:
— Товарищ полковник, мин нет.
— Как нет?!
Пошли, проверили обычными средствами.
Действительно — нет. Собака не ошиблась.
Очевидно, враги, отходя, нарочно поставили таблички с надписями, чтобы ввести в заблуждение.
Как ни странно, но именно после этой проверки, хотя мин не нашлось, произошел окончательный перелом во взглядах высшего командования на возможность использования собак для минно-розыскной службы. Однако потребовалось еще некоторое время, чтобы эта служба завоевала полное доверие.
Капитан рассказывал, что первое время получалось так:
— Отведут подразделению заминированный участок, обычно где-нибудь в стороне от главного направления, — и работай. Когда минеры закончат участок— неделей раньше или позже, никого особенно не интересовало. Находят они мины, обезвреживают их, складывают, а тем временем где-то вдалеке грохочет бой. Чувствовали себя, как на отшибе.
Работа шла спокойно, даже чересчур спокойно.
И вдруг спешный вызов и переброска самолетом в город В.
В. только что отбит у врага. В нем большой аэродром. Аэродром нужен для нашей авиации. А на взлетной площадке подрываются самолеты. Саперы ищут мины — не находят. А взрывы продолжаются. Тогда вспомнили о собаках.
Условия для работы были очень, сложные: весенняя грязь, местами — лед, под ним вода.
Пошли. Первую мину нашел Альф. Капитан сам пошел с ним, понимая ответственность момента. Потом Джульбарс обнаружил одну за другой целых пять мин. Мины оказались в деревянном корпусе, потому их и не могли найти минеры с электрическими искателями. Отличился и Харш: обнаружил четыре мины. И — все. Десять мин. Больше не было. Они стояли узкой полоской вдоль стартовой линии. Вся работа продолжалась час с небольшим.
Командование не поверило, что аэродром разминирован. Заставили искать еще. Работали еще три дня — больше ничего не нашли. С аэродрома тем временем уже взлетали эскадрильи краснозвездных боевых самолетов.
Это обстоятельство совпало по времени с моментом решительного перелома в ходе войны, когда стала быстро расти потребность в разминировании. Собак миннорозыскной службы начали в обязательном порядке придавать всем инженерным частям. Были созданы специальные подразделения минно-розыскных собак, которые перебрасывались на различные участки фронта по мере возникновения надобности.
Для минно-розыскной службы оказались пригодными собаки многих пород, но в нашем подразделении предпочитали все же восточно-европейских овчарок. Оно было укомплектовано исключительно ими. И овчарки, которые раньше назывались немецкими, очень хорошо служили нам в борьбе с немецким фашизмом.
4
Наше подразделение почти непрерывно передвигается. Отвоевана у врага территория — требуется произвести разминирование. Готовится наступление — опять вызывают минеров с собаками — делать проходы в минных полях.
Забыты времена, про которые еще недавно рассказывал капитан. Теперь мы уже работаем не на отшибе, мы обязательный род оружия, полноправные и непременные члены огромного фронтового коллектива. Мы приносим реальную и немалую пользу, наше участие необходимо там и тут, и потому нас так часто перебрасывают по линии фронта.
На фронтовой дороге подорвалась автомашина. Место взрыва оцепили, вызвали нас. Мы приехали, немедленно приступили к разминированию. Навстречу друг другу пошли по три собаки: по одной — по полотну дороги, по две — по кюветам.
А машин собралось на дороге — тьма! Люди следят за действиями животных с напряженным, острым любопытством. Собака села — извлекли мину. Общий восторг, гомон. Собакам нужно работать, а они команды не слышат. Приходится утихомиривать «зрителей».
Было найдено четыре мины. Вынули их, потом, обезвреженные, положили у обочины дороги. К нашим вожатым подходили, говорили: «Здорово!» Другие спрашивали: «Долго вы их учили?» Не было такой машины, которая не предложила бы подвезти нас и собак.
В такие минуты так дорого для нас восхищение людей. видящих, какие чудеса творит собаки.
Война — это подвиг народа. Смерть на фронте непрерывно грозит каждому, и когда люди, не щадящие себя ради достижения победы, видят, как собака приходит человеку на помощь, принимая на себя часть той опасности, того риска, которые уже многих и многих свели в могилу или сделали калеками до конца дней, то как же не потеплеть человеческому сердцу, как не преисполниться ему благодарности к этим труженикам войны.
Главная наша работа — на минных полях.
Порядок на минном поле очень строгий. Собака на поводке. Человек идет прямо, а четвероногий минер — зигзагом, производя поиск. Нашла — села. Коротким щупом вожатый нащупывает мину, ставит справа от себя вешку. С левой стороны идет другой вожатый с собакой, тоже ставит вешки. Следующий — на тридцать метров позади, Дистанция соблюдается неукоснительно.
Категорически запрещено на минном поле шуметь, делать произвольные движения в ту или иную сторону, отвлекаться и отвлекать других. Надо помнить, что под ногами — смерть.
Впрочем, забыть об этом невозможно, даже если бы хотел.
Смерть. Она притаилась Мы ищем ее. Ее нарочно запрятали так, чтобы она могла поразить вернее, внезапнее. Мы ищем эту притаившуюся смерть, дабы не дать ей погубить жизнь, ищем, чтобы обезвредить ее, уничтожить.
Минное поле — это не нечто такое, что сразу определишь по его зловещему виду. О нет! У минного поля может быть очень невинный, очень мирный, даже манящий вид Цветут лютик и ромашка, жужжат шмели и осы, бабочки перепархивают с цветка на цветок. А там, под ними, под цветами и бабочками, притаилась гадина, готовая ужалить насмерть. Мы как охотники выслеживаем ее. И нас не обманет ни безмятежное очарование пейзажа, ни жаркое полуденное солнце, заливающее сверху лучами эту картину.
Печет. Чтобы с собаками не случилось солнечного удара, на них «шляпы» из парусины. И все равно им тяжело. Языки высунуты, стекает прозрачная клейкая слюна, учащенно ходят бока.
Людям тоже не легко. Правда, если работа производится не в непосредственной близости от переднего края, в ближнем тылу, они позволяют себе скинуть изрядно надоевшую, хотя и ставшую привычной амуницию, стянуть гимнастерку. Лица и спины черны, выдубели под солнцем. Чтобы вспомнить, какого цвета была кожа раньше, надо разжать кулак, удерживающий поводок или щуп, и посмотреть на ладонь.
В высокой траве издали не всегда разглядишь собаку; только мелькнет время от времени пушистый хвост. Видно лишь, как неторопливо, методично передвигается человек. Но вот остановился (это значит, что еще раньше остановилась и села собака), согнулся, что-то томительно долго и очень осторожно нащупывая перед собой; потом — выпрямился. Есть. Нашли!
Чем дальше на запад откатывается враг под ударами советских войск, тем чаще наша работа переносится на территории населенных пунктов. В бессильной злобе враг старается уничтожить наши города, села. Он жжет и взрывает все, что может. Там, где это ему не удалось сделать, закладывает фугасы огромной разрушительной силы, мины замедленного действия. Мы должны успеть вовремя обезвредить их.
Условия для работы собак в населенном пункте, как правило, сложнее, чем на открытом пространстве. К тому же срок исполнения всегда сжат до предела.
В редкие периоды затишья проводим тренировочные фронтовые занятия. Повторение — мать учения. Это относится и к собакам.
5
Разминируем город X. Он только что освобожден, кругом следы поспешного бегства гитлеровцев, разбитые мостовые, простреленные стены, порванные провода.
Город возвращен своей стране, народу. Но город все еще как бы в состоянии осады. Передвигаться по нему опасно, входить в дома — того опаснее: мины.
К моменту нашего приезда там уже работали бригады минеров. В эту работу немедленно включились и мы со своими собаками. Срок был дан самый жесткий: нормальная городская жизнь должна быть налажена как можно скорее.
Здесь отличилась Нера: нашла фугаску, закопанную на глубину в один метр двадцать сантиметров. Это был первый случай, когда заложенный фугас удалось обнаружить на такой глубине.
6
Опозорился наш «доктор минных наук» — пес Желтый. Долго водил за собой вожатого по подвалу, потом принялся разрывать кучу всякой всячины в углу. Разгребая, перебил массу бутылок, склянок, осколками рассадил себе живот. В конце концов оказалось, что никаких мин в подвале нет — в земле был закопан громадный бидон с керосином. Сбежавший с гитлеровцами хозяин дома, в прошлом торговец, очевидно, припас керосин на «черный день». Находка, в общем-то, не так плоха, население очень нуждается в керосине. Плохо, что долго не заживает брюхо Желтого. Чтобы раны не загрязнялись при ползании по земле, пришлось сшить для него специальную попону из прочной материи, застегивающуюся на спине на шинельные пуговицы. Теперь недели две будет ходить в этом «мундире».
На голове у Желтого «шляпа», сам — в «мундире» с блестящими медными пуговицами…
7
Оказывается, о наших делах прослышали в тылу. Из политотдела сообщили: к нам едет делегация трудящихся Москвы.
Радостное событие. Все взволнованы. Капитан решает задачу: что бы такое необычное устроить для делегатов. Наконец пришли к выводу, что лучше всего устроить показательные учения с собаками. Гостям это должно быть интересно.
Сначала шло все так, как было задумано. Гости приехали, познакомились с личным составом, осмотрели собак, помощников бойцов. Посмеялись над Желтым. Вид у него, действительно, забавный. Хотя один из гостей — знатный животновод из Подмосковья — отнесся к наряду Желтого вполне серьезно. Его особенно заинтересовал «мундир». «Удобная штука для раненых и больных животных». Спросил, кто шил. Пришлось сказать, что — я.
Для учений выделили лучших собак. Положили в разных местах учебные мины. Начали… Но неожиданно невинное упражнение вылилось в происшествие совсем другого рода. Когда была пройдена уже половина поля, один из бойцов обернулся в нашу сторону и дал условный выстрел в воздух. Капитан немедленно скомандовал:
— Отставить учения!
— Что случилось? — встрепенулись гости.
Ну что может случиться в пашем деле? Конечно — мина, настоящая боевая мина, так называемая крылатая, очень опасная. Прикасаться к ней нельзя. Очевидно, ночью сбросила вражеская авиация. Таким способом противник иногда минирует озера, реки, открытые пространства.
Одна ли? Учебное подразделение убрали, поставили боевое. И нашли шестнадцать мин.
Гости, совершенно непредусмотренно, получили полное представление о том, как работают собаки в настоящих полевых условиях. А нам, признаться, было уже не до приезжих.
Близко штаб фронта. Если крылатки появились здесь, они могут оказаться и около штаба.
Искать! Немедленно искать!
Но как искать, когда день уже потух, быстро темнеет. По телефону предупредили штаб, чтобы там приняли все возможные меры предосторожности, ограничили передвижение людей и машин, хотя ночью — самое движение! Делегаты, разумеется, тоже никуда не уехали, заночевали у нас.
С нетерпением ждали утра. Едва начало светать — пошли. Прощупали все пути и дорожки, ведущие к селу, где расположился штаб. Обошли вокруг села несколько раз. Пять крылаток нашли. Где бы вы думали? Не на дороге, нет. В саду, примыкающем к дому, где жил командующий фронтом.
8
Наши войска после упорных боев освободили город П. Город горит. Бойцы и уцелевшее население тушат пожары, стараясь спасти то, что еще можно спасти. Чад, копоть. Рев пламени и грохот рушащихся зданий. Взлетают вихри пылающих головней, рассыпаются фейерверки искр, в удушливом жару мечутся люди. Маленькие дети, уцепившись за юбки матерей, застывшими глазами смотрят на огонь, пожирающий все то, что еще недавно было их домом.
Спасательные работы осложнены тем, что все вокруг заминировано. Повсюду надписи на табличках или просто мелом на стене: «Осторожно. Мины», «Входить нельзя. Мины», «Мины». Это уже предупреждают наши саперы.
В городе действует гвардейский батальон минеров. Нас с собаками посылают с контрольной проверкой.
Здание, где помещался вражеский госпиталь, одно из немногих сохранившихся в городе. Его нужно срочно очистить, чтобы разместить наших раненых.
Работать почти невозможно: уничтожены запасы медикаментов, удушливый запах йодоформа наполняет этажи, им пропитаны все предметы. Тем не менее приказ есть приказ. Надо начинать проверку.
Динка-черная походила-походила и села у кровати. Кровать пустая, только лежит матрац. Зашла с другой стороны. Опять села. Привязали к койке веревку, дернули из окна так, что койка проехала по полу несколько метров. Ничего не произошло.
Вернулись в помещение — собака опять села. Тогда взялись за матрац. Мина оказалась там — узкая, тонкая, вроде небольшой дощечки.
При проверке разминированного завода нашли мину, запрятанную в трансмиссию. Обнаружила ее лайка Рыжик.
Рыжик — единственный представитель другой породы в своре овчарок и еще один продукт мазоринской заботы и любви к животным. Лайка была получена из Свердловска для ездовой службы, но оказалась недостаточно крепка. Александр Павлович взял ее к себе. Поправил усиленной кормежкой, обучил поиску мин, и она стала работать наравне со всеми. С тех пор Рыжик, подобно Альфу, при любой возможности старается быть при капитане.
Так вот этот самый Рыжик, обследуя цех, сел в цехе на пол, задрал нос кверху и не сдвинулся с места, пока вожатый не добрался до трансмиссии.
Рыжик вообще очень хорошо работает верховым чутьем. Недаром лайки — лучшие промысловые собаки, превосходно идущие на белку, на боровую дичь.
Но больше отличился при проверке завода наш хромой ветеран Дозор. Его водили по наружной территории завода. Неожиданно он сел. Начали рыть — никаких признаков мины. Даже пожурили собаку: «Стареешь, Дозор, всюду чуются тебе мины».
Пошли еще раз. Пес, ковыляя на своих изувеченных лапах, довольно быстро вторично обследовал отведенный ему участок и потянул на прежнее место. Опять сел.
Стали копать глубже. Вырыли яму глубиной метра два. Снова впустую. Рассердились на собаку: «Сидит себе, а тут копай!»
Рассердиться-то рассердились, а задачу собака задала. Ефрейтор Алексей Жилкин, молоденький вожатый Дозора, сдвинув пилотку на затылок и морща загорелый лоб, задумался. Потом решил: «Надо пройти еще». И пошли они в третий раз по территории.
Нарочно начали с другого конца, петляя туда и сюда, — и что же? Дозор сел на старом месте третий раз.
Не будет собака садиться зря!
Стали копать, как говорится, до победного. И докопались до мины чудовищной взрывной силы. Лежала она почти на трехметровой глубине.
Постепенно мы привыкаем ко всем этим хитростям врага. «Нас не проведешь!» — сказал один боец. А точнее, не проведешь наших собак. Из-под земли выроют, в воздухе учуют. От них не спрячешь.
Жители возвращаются в уцелевшие дома. Появились инженеры, рабочие в разминированных корпусах завода.
И так приятно, когда вместо надписи: «Входить нельзя, мины» появляется другая: «Мин нет. Тростникова».
Тростникова — это я.
9
В истории нашего подразделения произошел еще один занятный эпизод.
К генералу по какому-то делу вызвали капитана Мазорина. Капитан прибыл по обыкновению в сопровождении Альфа.
Альф только вошел вслед за хозяином в землянку — сразу же потянул носом, обнюхал все углы, стены, встал даже на задние лапы у стены, чтобы достать носом повыше, а затем сел, выставив нос почти вертикально вверх, как ствол зенитного пулемета, и продолжая напряженно втягивать ноздрями воздух.
— Что это с ним? — удивился генерал. — Еду учуял?
На столе генерала как раз стоял горячий ужин.
— Товарищ генерал, прошу вас немедленно покинуть землянку, — вместо ответа отчеканил Мазорин. — В землянке мина.
Конечно, Альф не подвел. Мина была заложена в потолочном перекрытии, где ее хитро замаскировали при отступлении гитлеровцы. В эти же дни произошел эпизод со складом боеприпасов.
Боеприпасы были сложены на большой поляне у леса. Неожиданно подорвалась автомашина, подъезжавшая сюда с грузом. Стали расследовать причины, пустили собак, и те обнаружили несколько мин нажимного действия под самыми снарядами. Мины не взорвались чудом.
10
Зима. Белые хлопья валятся с неба. Собаки, утопая по брюхо, бродят по поляне, зарываются с головой в снег, шумно отдувая его от ноздрей. Чтоб не зачерпывать снег в валенки, вожатые надевают наколенники или опускают поверх голенищ широкие брезентовые штаны, которые делают их похожими на моряков или грузчиков.
И зимой надо искать мины. Война идет круглый год. Наша «охота за смертью» не знает сезонов.
Вот Ара потопталась, махнула хвостом из стороны в сторону и, приминая снег, села.
Нашли радиостанцию и пятнадцать исправных винтовок. Фашисты закопали. Ару привлек запах кислоты аккумулятора радиостанции.
Остановились в сожженной врагом деревне. Над пеплом и запустением сиротливо стоят закопченные русские печи. С одной вспугнули кошку. По привычке она все еще искала тепло на этой печи.
Уцелела лишь одна избушка, стоявшая на отлете.
Христофорчик сразу захлопотал «по хозяйству», послал нарубить дров, чтоб протопить печку и обогреть избенку. Капитан разложил на столе карту. Вдруг заметил: Рыжик ушел в подпечье, ходит там, фыркает, пытается сесть, а пространство тесное, не дает сесть кирпичный свод. Стало ясно, что в печке — мина.
Собаку вытащили, осторожно вынули несколько кирпичей — мина была вмонтирована как раз под топкой. Как только затопили бы печь — взорвалась. Оттого и цела была избенка: оставили нарочно.
Страшно подумать, что было бы. В первую очередь, мог погибнуть капитан. Он простудился, сильно кашлял и мечтал погреться на настоящей русской печи, и чтоб жаром от нее так и пыхало.
В связи с происшедшим Христофорчик пустился в пространные рассуждения о том, что нам теперь, особенно для работы в населенных пунктах, непременно следовало бы иметь собак разного калибра, вплоть до такс и фокстерьеров. Почему мину нашел именно Рыжик? Почему ее не обнаружил Альф? Да потому, что Рыжик меньше габаритами и сумел протиснуться под печку, где, наверное, до него бывали только кошки.
Уже давно осталась за спиной среди снегов та сожженная деревня, а я все еще не могу спокойно вспомнить об этой мине в подпечье. Украдкой от других ласкаю и угощаю Рыжика лакомством. Милый Рыжик, спасибо тебе за капитана!
11
Разминируем территорию, освобожденную в результате Корсунь-Шевченковской операции. Условия — тяжелейшие. Небывало ранняя весна, дожди вперемежку со снегопадом превратили дороги и поля в неоглядные болота жидкой грязи. Собака не может сесть — грязь ей по брюхо. Бойцы в серой непросыхающей коросте с головы до пят. И люди и животные вымотались до последней степени. Но нельзя терять ни одного часа: наше наступление продолжается нарастающим темпом, наперекор страшной распутице.
Расплескивая грязь, по истерзанным, залитым водой большакам и проселкам, а местами напрямик через поля громыхают танки — наши неутомимые знаменитые тридцатьчетверки. Ползут тракторы с тяжелыми пушками на прицепе. Шагают по грязи солдаты, подоткнув полы шинелей, шагают неторопливо, да податливо. Все охвачены единым порывом: вперед, на запад!
Орудийный гул откатывается все дальше и дальше. Еще сегодня он был, кажется, вон там, за бугром, а завтра его уже чуть слышно, и второй эшелон должен спешно подтягиваться, чтобы не оторваться от первого. Машины буксуют, и наши бойцы тащат на себе все имущество. Не успеют перевести дух, Христофорчик уже поднимает на ноги:
— Товарищи, веселее!
И — двинулись дальше.
Линия фронта передвигается так стремительно, что армейские тылы отстают. Но с нашим Христофорчиком не пропадешь. Он ухитряется найти выход из любого положения.
— Я же родня Колумбу! Доплывем. Что нам грязь, — любит он повторять в эти дни.
Но недавно нашему Колумбу пришлось пережить несколько неприятных минут.
Задержался подвоз продуктов для людей и собак. Несмотря на перебой, через день капитан с удивлением обнаружил, что все бойцы накормлены, сыты и собаки.
— Откуда продукты? — спросил капитан у старшего лейтенанта.
— Продукты? — невинно переспросил Христсфорчик. — От благодарного населения, товарищ капитан!
— От какого населения?
— От местного.
И прежде в подразделении иногда появлялось свежее мясо, яйца, когда в соседних частях в это же время их не было и в помине. Однако на сей раз Христофорчик побил все рекорды. Капитан сделал ему строжайшее предупреждение чтобы впредь не было подобного.
— А о собаках надо заботиться? Я спрашиваю, надо? — кипятился, отойдя от капитана, Христофорчик. — У человека есть энзэ, а у собаки что? Что же, прикажете ей голодной сидеть, да? А кто будет мину искать? Я? Да? Да я был бы последним человеком, если бы допустил это!
Не в оправдание Христофорчика, а справедливости ради надо заметить, что для благодарности у населения были веские причины: на минах подрываются не только военные. Это оружие не знает пощады.
12
У нас ЧП. Убило Затейку-московскую. Она нашла около семисот мин, но тут, видно, что-то ее отвлекло, и произошло несчастье.
Интересно подвести некоторые итоги.
Динка-черная нашла шестьсот тридцать пять мин и различных «сюрпризов». Динка-серая — четыреста пятьдесят. Альф — семьсот семьдесят. Дозор — без малого девятьсот. Чингиз — почти тысячу. «Доктор минных наук» Желтый — тысячу триста семьдесят четыре. Всего на счету нашего подразделения десятки тысяч найденных и обезвреженных мин, фугасов и прочей прелести.
После итого как не скажешь про наших помощников: герои!
Но собака работает успешно тогда, когда ею хорошо руководит человек. Не случайно все наши вожатые и инструкторы отмечены правительственными наградами. Вся рота минеров — орденоносцы. Среди них есть немало «тысячников», то есть имеющих на своем лицевом счету по тысяче мин и более.
Затейка — не первая наша потеря. Мы потеряли Динку-штопаную. Тоже подорвалась на мине. Очень глупо погибла Динка-тощая. Нелегкая занесла на минное поле дикую козулю. Динка-тощая не выдержала вида дичи, бросилась за нею, оставив конец оборванного поводка в руках вожатого. Не смогла совладать с ловчим инстинктом, который мы все время стараемся подавить дрессировкой, и была жестоко наказана за это.
Словно что-то оборвется в сердце, когда слышишь взрыв на минном поле. Взрыв — значит кто-то погиб. Кто; человек или животное? А может быть, оба сразу.
Хоть с применением собаки специальность минера стала менее опасной, но мина есть мина, доля риска всегда будет. Вот почему так суров капитан со всякими нарушителями порядка, установленного для минного поля, даже если отступление от этого порядка самое ничтожное.
Кого как, а меня не покидает чувство опасности, постоянно сопутствующее работе минера. Нервы непрерывно напряжены, иной раз везде начинают чудиться мины.
Выдался как-то кратковременный перерыв, можно заняться личными делами: почистить, починить обмундирование, постирать. На войне это — удовольствие. Здесь, как никогда, познаешь сладость мирных дел, которые раньше казались столь непривлекательными. Какие у нас у всех сейчас простые заветные мечты: посидеть вечером с книжкой на диване, сходить в театр, поужинать в семейном кругу… Но все это возможно только после войны…
Занимаюсь стиркой и вдруг слышу: тикают часы. А перед тем была статья во фронтовой газете, где описывалось, как фашисты замаскировали на мельнице мину с часовым механизмом.
Осмотрела весь дом. Часов нигде нет. Уж не галлюцинация ли? Прислушаюсь, затаю дыхание — нет, тикают.
Вышла на улицу. Сходила к бойцам, побывала у собак. Успокоилась вроде. Вернулась в дом — тикают!
Чувствую, что больше ни о чем другом думать не могу.
Принялась обшаривать дом. Наконец догадалась заглянуть под кровать — а там мина с часами. Мина разоружена. Накануне ее закладывали для тренировки, а потом принесли и сунули под широкую деревенскую кровать.
Вздохнула с облегчением. Чуть с ума не свело это тиканье! Бомбежку переношу нормально, артиллерийский обстрел, а вот тут — сдали нервы. И это объяснимо. Мы-то хорошо знаем, что сколько мин — столько и неожиданностей.
Это в начале войны мины были в основном нажимного действия: ступишь на нее — взорвется, не ступишь — будет лежать хоть до скончания века. Потом появились мины со всякими дополнительными хитроумными устройствами: с взрывателем на боку, с несколькими взрывателями, с проволочками, протянутыми в сторону от мины так, что можно пройти в нескольких метрах от нее, а она все равно взорвется. Прыгающие мины. Крылатые. Плавучие, которые течением прибивает к берегу. Иногда мины бывают незаметно соединены между собой: заденешь одну — взорвется и другая.
Могут быть целые комбинации мин. «Пасьянс», — говорят минеры. Все чаще попадаются глубинные мины замедленного действия, с часовым механизмом. Они могут взорваться через час, через сутки, через неделю. Мины с химическим механизмом еще страшнее. В такой мине идет химическая реакция, а когда переест волосок, который приведет в действие взрыватель, — никто не знает.
Поэтому нашим минерам, невзирая на постоянную боевую практику, приходится еще тренироваться, учиться, чтобы уметь разгадать любую вражескую уловку, быть всегда во всеоружии.
Можно восхищаться мужеством и самоотверженностью наших людей, которые достигли в минном деле виртуозного мастерства. Есть у нас боец Лепендин. Он разоружит любую мину, разгадает любой секрет, зачастую по одной детали безошибочно определит все ее устройство.
Руки у минеров удивительно чуткие. А посмотреть на них — заскорузлые, черные, как у землероба. Впрочем, все наши люди, от рядового до командира, и есть землеробы: постоянно роются в земле, ощупывают, оглаживают ее.
Нашпиговали матушку-кормилицу всякой нечистью — теперь очищай!
И собакам тоже приходится постоянно совершенствовать свое искусство. Для тренировки чутья закладывают разоруженную мину на дороге. Неделю по ней ездят, льют на нее дожди. Этого нам и надо. Ждем, чтобы пропал всякий запах. Только после этого пускаем собаку. Найди!
Мины без взрывателя прячем также под лежневку, в болото. Опять — найди!
Собаки научились работать и на тиканье часового механизма. Как услышат знакомый звук — сразу садятся!
13
Наступление! Минула небольшая передышка — и опять: вперед, на запад!
Погода — жара, сушь. Пыль клубится до небес. Масса техники, которая выплеснулась из всех окрестных перелесков, где укрывалась до поры до времени, теперь неудержимой лавиной катится на врага.
Идет сила, сметающая перед собой все преграды, ломающая отчаянное сопротивление врага, сила, выкованная героическим трудом советских людей в тылу, на заводах Урала и Сибири.
Идут и едут люди, шагают коренастые армейские лошадки, загорелые ездовые весело потряхивают вожжами, воздух сотрясается от непрерывного рокота моторов, и где-то среди этого нескончаемого невообразимого потока — наше подразделение, собаки.
Ночью — яркие сполохи по горизонту: бьет артиллерия. Она бьет и близко, и далеко. Иногда среди ночи подъедет батарея, займет огневую позицию и начнет обстрел противника. Проснешься и уже больше не спишь. А собаки — ничего, даже не лают. Привыкли.
Они уже настолько втянулись в такую жизнь, что, кажется, перестали замечать и грохот орудийной пальбы, и тысячи других резких раздражителей. Никакие отвлечения для них не существуют. Они преображаются только, когда раздается команда: «Мины! Ищи!»
Ездим на шести грузовиках. Стоит крикнуть: «По машинам!» — собаки начинают бешено лаять. Альф сломя голову бросается в кабину. Любит ездить в кабине, а не в кузове. Ему тесно, неудобно, нельзя лечь, но он терпит. Только время от времени лизнет капитана, словно спрашивая: «Скоро приедем? Когда кончится это мучение?»
Работы больше, чем когда-либо. За разминированием каждый проходит минимум двадцать пять километров в день.
Альф исхудал. Он никогда не был особенно толстым, а теперь просто приходится удивляться, как еще его ноги носят. Солдаты прозвали его по-украински «шкедлой». Сильно отощали и остальные собаки.
Маршрут следования нашей колонны отмечен на местности колышками с дощечками с дорогой для всех нас надписью: «Мин нет!» За постановкой их усердно наблюдает Христофорчик. Одно время старший лейтенант не был так внимателен к этой заключительной детали нашей работы. Считали: разминировано — и ладно. Но после того, как ему однажды пришлось вернуться из-за этого километров на семьдесят назад, он научился их ставить.
Интересно бы проехать по этим местам лет через десять, двадцать, зная, что здесь на стенах многих домов под слоем известки все еще существуют слова, торопливо начертанные твоей рукой: «Проверено, мин нет!» Сколько надо положить труда, чтобы могла появиться такая надпись даже на одном доме.
В период подготовки наступления пришлось крепко поработать всем подразделениям минеров нашего фронта. Необходимо было разминировать девяносто минных полей. Девяносто! Я не оговорилась.
Работа началась одновременно на многих участках. Из нескольких наших вожатых и лучших собак была создана контрольная группа командующего. Минеры не очень-то любят появление нашей группы. Заметно волнуются. Особенно строгий экзаменатор для них — Альф. Как пойдет, так обязательно что-нибудь обнаружит.
На марше изнываем от зноя. Едва выдается хоть какая-то возможность, мгновенно выскакиваем из машины и бежим к воде, купаться и купать собак.
Речка… Какое блаженство! Можно окунуться в нее, почувствовать прелесть ее прохлады, смыть с себя пыль, которой пропитались одежда, волосы. И собакам тоже большое облегчение: замаялись от жары…
14
Опять ЧП. Околел Харш. Накинулся на еду после длительной тряски в машине, съел сверх всякой меры — и конец. Врач констатировал заворот кишок. Погубила его жадность. Поневоле вспомнился тот толстый гитлеровец, первый хозяин Харша, который воспитал собаку по своему подобию — жирного, жадного, тупого разбойника. И все же жаль Харша: животное есть животное, оно не несет ответственности за дела людей.
15
Мы — в Польше, приближаемся к Висле.
Мелькают небольшие аккуратные городки и поселки с непривычно звучащими названиями. Многие разбиты артиллерийским огнем или бомбежкой с воздуха, опалены пожарами. И здесь лик земли изъязвлен кошмарной печатью войны, и здесь нам приходится искать и обезвреживать смертоносную начинку на дорогах, в населенных пунктах.
Запомнился вечер в одном городке.
Собственно, от городка оставалось лишь бесформенное нагромождение камней, из которых торчали то ножки железной кровати, то обломок стола или стула, говорившие, что еще совсем недавно тут была жизнь. Перед самым нашим приходом, вынужденные отступить, гитлеровцы подвергли ни в чем неповинный город варварской и не вызывавшейся никакими военными соображениями авиационной бомбардировке. Два часа полдюжины «юнкерсов» сбрасывали на беззащитные кварталы жилых домов тяжелые фугасные и зажигательные бомбы. Город был разрушен до основания. Жители — кто успел, убежали в лес, кто не успел — остались под развалинами.
Потухли пожары: лишь кое-где продолжал куриться синий дымок. Население не возвращалось, опасаясь нового налета. Могильная тишина стояла над уничтоженным городом.
Бессмысленность этого уничтожения выходила за рамки всего виденного нами ранее. Снова легло на сердце чувство неизбывной боли за бесчисленные жертвы и страдания, боли, с которой мы пришли сюда через тысячу смертей, пришли на истерзанную землю Польши.
С этим тяжелым чувством Мазорин, Христофорчик и я бродили после заката солнца среди руин, пытаясь отыскать хотя бы крупицу чего-то живого, уцелевшего от общей гибели. Неожиданно наткнулись на женщину, рывшуюся среди камней. В черном, надвинутом на лоб платке, в черной юбке и в какой-то неопределенного темного цвета линялой рваной кофте, с изможденным, хотя еще не старым лицом, на котором застыла нестерпимая мука, она казалась живым олицетворением человеческого горя, персонажем, сошедшим с знаменитых гравюр Гойи, изображавших ужасы войны. Увидев нас, женщина поднялась и пошатываясь направилась к нам.
В первый момент она показалась нам безумной. Размахивая трясущимися руками поочередно перед липом каждого из нас, она заговорила с такой быстротой, что в потоке слов можно было разобрать только одно часто повторяющееся слово: Освенцим, Освенцим. Потом Христофорчик, для которого польский — его второй родной язык, пояснил нам:
— Она говорит, что ее мужа и старшего сына гитлеровцы угнали в Освенцим и там сожгли. А двое младших детей погибли вчера во время бомбежки. Она даже не знает, где они лежат. В панике они растеряли друг друга…
Что могли мы сделать для нее в утешение? Сказать, что фашистам приходит конец, что они проиграли войну? Женщина видела это сама. Увести ее отсюда, чтобы она не оставалась одна среди этих камней, пахнущих гарью? Она не пошла бы за нами.
Словно догадавшись о наших мыслях, женщина внезапно замолчала, перестала водить по лицам лихорадочно горящим взором расширенных сухих глаз, в которых уже не оставалось больше слез, и, опустившись на корточки, принялась снова копаться в камнях, нетерпеливо отбрасывая их от себя и монотонно-надрывно повторяя: «Дитыны… дитыны…»
— Чем бы ей помочь? — произнес Мазорин. — Спросите у нее, нет ли какого-нибудь предмета погибших ребятишек?
Христофорчик перевел вопрос капитана. Женщина выслушала его, молча глядя в землю, затем, точно слова доходили до нее с запозданием, сунула руку за пазуху и вытащила какую-то скомканную тряпку. Это была детская рубашонка.
— Очень хорошо, — сказал Мазорин.
Альф был с нами. Ему дали понюхать рубашку, и он повел нас среди развалин.
Путь был недалек, и скоро Альф принялся разрывать груду щебня, подобно тому, как это делала женщина, но в другом месте. Мы принялись помогать ему. Христофорчик сбегал за солдатами, и через несколько минут на уцелевшей мостовой лежали два детских трупика.
Мы похоронили их тут же неподалеку, под деревом, и удалились в молчании, а безутешная мать осталась рыдать на свежей могиле.
Долго, долго мне будет памятен этот вечер.
Потом Христофорчик и солдаты ушли, а мы остались вдвоем с Александром Павловичем.
Молчали.
Фашизм. Как он страшен!
Сожженные деревни и села, разрушенные города, рвы, наполненные расстрелянными женщинами и детьми. Массовые насилия, каких не знал мир. Душегубки. Это — фашизм.
Гитлеровская пропаганда кричит о каком-то «секретном оружии», которое якобы скоро должно появиться у них и изменить ход войны, но мы все убеждены, что это пустые измышления.
Гитлера уже не спасет и не может спасти никакое оружие. А если даже такое оружие появится, Советская Армия все равно одержит полную и окончательную победу.
Должно быть, о том же думал и капитан, потому что произнес:
— Когда-то великий французский писатель-философ Шарль Монтескье, умевший провидеть будущее, сказал устами одного из своих героев, что он опасается, как бы не изобрели средства уничтожения, более жестокого, чем все имеющиеся. Однако тут же добавил, что если бы это случилось, то оно вскоре было бы запрещено человеческим правом и единодушное соглашение народов похоронило бы его. Я думаю, что прошли те времена, когда маньяки, одержимые манией покорения мира, могли безнаказанно творить, что хотели!
Взошла луна, и в садах застрекотали ночные кузнечики. Альф, лежавший у ног капитана, встал и принялся нюхать запахи, долетавшие вместе с вечерней свежестью.
Мазорин внезапно замолчал и после длинной паузы и, как мне показалось, с легким сожалением, сказал:
— Уже поздно: Пора идти.
Мне стало совсем грустно…
Капитан проводил меня до машины, в кузове которой я спала, когда погода была сухая и теплая, и, пожелав спокойной ночи, удалился.
«Спокойной ночи»… Неужели я люблю его?!
16
У Динки-серой юбилей: она нашла трехтысячную мину.
Три тысячи мин отыскала одна собака! Сильно выросли личные счета и у других собак: Дозор — тысяча четыреста сорок, Чингиз — тысяча шестьсот, Желтый — тысяча девятьсот девяносто… А по всему советско-германскому фронту четвероногие друзья нашли миллионы мин.
Советские армейские собаки участвовали в разминировании многих городов Польши, в том числе Варшавы, Кракова, Лодзи. Это вклад советских собаководов, вырастивших для армии полноценных животных, в дело освобождения братской страны.
Раньше в нашем подразделении были вожатые-минеры «тысячники» — теперь появились «двухтысячники», «трехтысячники». Прибавилось наград у каждого.
Наш капитан уже не капитан, а майор. И я уже не младший лейтенант. Повышен в звании и Христофорчик.
Как говорится, жизнь шагает вперед.
Мы уже в Германии. Трудно передать чувства советских солдат и офицеров, когда они ступили на территорию страны, откуда выползли на нашу землю фашистские полчища. Надо быть с нами, чтобы по-настоящему понять это.
«Добить фашистского зверя в его берлоге!»
Мы — в Германии. Этим все сказано.
17
Война кончилась… Какое счастье! Только что поступило сообщение о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.
Новость принес запыхавшийся Христофорчик. Не помня себя от радости, я повисла на его толстой шее, крепко расцеловала, а он закружил меня, как маленькую девочку. Оглянулась — вижу: Мазорин пристально смотрит на меня. Подскочила, поцеловала и его. Майор смутился.
Такая новость, такая новость! Солдаты как ошалели. Стреляют в воздух, обнимаются, целуются, бросают вверх пилотки. Никто не может ни о чем другом ни говорить, ни думать. У всех на уме одно — Победа! Победа!
Хочется обнять весь мир, хочется сказать каждому что-то приятное, очень-очень хорошее, от полноты чувств. Душа поет, душа ликует, тянет на какие-то немыслимые поступки. Перецеловала чуть не всех собак. Ведь в нашей радости есть и их доля!
Тормошу их, а сама повторяю:
— Война кончилась!.. Слышите?
18
Война кончилась, но не для нас, минеров.
Военные действия прекратились, замолкли пушки, а нас посадили на грузовики и повезли дальше. Куда? Говорят, будем разминировать столицу одного из освобожденных нами государств. Поработайте, товарищи минеры, еще. Поработайте заодно с ними и вы, их четвероногие помощники.
Стремительный круглосуточный марш. Путь через горы, живописные долины, куда стекают хрустально-чистые говорливые ручьи. Горизонт закрыт каменными кряжами, вздымающимися и справа и слева, эхо дробится в ущельях между скал. Крутые склоны поросли кленами и дубами, на полянах цветут алые как кровь маки, целые поля маков.
Это прекрасная страна — Чехословакия, более семи лет изнывавшая под сапогом гитлеризма.
Мы движемся по следам горячих сражений. Перед нами прошли танки прославленных советских гвардейских танковых бригад, спешивших на помощь восставшей Праге. Еще дымятся сожженные фашистские «тигры» и бронетранспортеры, обломками вражеской техники завалены все кюветы. Пламя облизывает черные кресты и свастики.
Мы стремимся вперед. Скорей, скорей! А вокруг нас то тут, то там вспыхивает короткий, быстротечный яростный бой: наши части добивают рассеявшиеся по лесам остатки разгромленных эсэсовских дивизий, которые продолжают упорствовать.
Неописуема радость народа. Когда проезжаешь через селения, в кузовы летят букеты полевых цветов, пшеничные булки, головки душистых сыров. На коротких стоянках женщины в платьях с национальными узорами выносят на подносах угощение, зазывают в хаты. Ребятишки снуют среди машин, разнося глиняные кружки с молоком, пивом, и удивленно застывают на месте, увидав, что мы везем с собой полным-полно собак…
19
И вот — прекрасный город на реке. Каменные мосты, повисшие над тихими водами. Шпили башен. Старинный кремль на высоком холме. Широкие площади, до отказа запруженные народом, и узенькие средневековые улички, еще помнящие славные времена национальных героев Яна Гуса и Яна Жижки.
Прага. Матка мест, как говорят чехи: мать городов чешской земли. Злата Прага.
Развеваются на ветру чехословацкие и советские флаги. Рокот моторов смешивается с гулом ликующей толпы. Нерусская речь, которую понимает каждый русский. Со всех сторон, будто выдыхаемое одной могучей грудью, несется:
— Наздар! Наздар!
— Ать жие Руда Армада!
— Победа! Победа!
— Да здравствует Красная Армия!
Мы движемся среди живых стен. Наши машины догнали танки и теперь замыкают их торжественное шествие. Осторожно, словно живые разумные существа, плывут среди моря людских голов движущиеся крепости, запыленные, в копоти бесчисленных сражений. На них — победители: танкисты, автоматчики.
Куда ни кинь взгляд, счастливые смеющиеся лица. Матери поднимают на танки и грузовики маленьких детей. Малыши тянут к нам ручонки. Цветы без конца. Словно какой-то волшебный дождь сыплется на нас. Под ворохом цветов совсем не видно наших собак, которые не понимают, что происходит вокруг.
Никогда не забуду эти дни. Не забуду кветы, по-чешски цветы, и кветень — май, пражский май 1945 года.
Как прекрасна жизнь! Как прекрасно быть советским воином, носить на плечах погоны Советской Армии — освободительницы.
Но смерть еще не побеждена окончательно. Нельзя допустить, чтобы она взяла хотя бы еще одну жертву.
Еще продолжается встреча советских воинских частей, вступающих в Прагу, а мы уже на окраине города, мы — разминируем. Вперед, Альфы, Динки, Дозоры, Чингизы! «Мины! Ищи!»
20
Война кончилась, а мы все переезжаем с места на место и разминируем, разминируем… Мы снова на Родине, в родной, непобедимой стране.
Сколько следов оставил после себя враг. Сколько полей обнесены колючей проволокой. Ступи на их зеленый ковер — и нет тебя.
В одном селе председатель колхоза жаловался нам:
— Надо посевную начинать, выходить в поле, а шагу ступить нельзя. Ребятишек боимся из дому отпустить: кругом мины. И на пашне, и в лесу. Скотину выгнать на пастбище — тоже нельзя. Живем, как на острове. И войны нет, а все как война. Хоть бросай все хозяйство да переезжай на другое место…
После, когда мы закончили разминирование колхозных угодий, благодарили нас всей артелью.
Посев смерти — он щедро сделан врагами. На нем все еще продолжают гибнуть люди, подрываются лошади, коровы.
Наши ряды поредели. Кое-кто из вожатых старшего возраста демобилизовался. С нами нет нашего Христофорчика, к которому я успела привязаться всей душой, несмотря на его несносный характер. Он получил повышение по службе и новое назначение.
К мирному гражданскому труду вернулись миллионы людей. А у нас, то есть у меня, у майора Мазорина и некоторых других наших товарищей, жизнь все еще на колесах. И, как в военные годы, мы по-прежнему ищем, ищем…
21
Огромную кропотливую работу нужно проделать по разминированию Брянского леса.
Брянский лес — это дремучие лесные дебри, не раз хорошо послужившие русским людям в борьбе с незваными пришельцами — татарами, половцами, а в позднейшую эпоху — с фашистами.
В Брянском лесу в годы Великой Отечественной войны действовали многие партизанские отряды, постоянно тревожившие врага, и, не найдя других, более эффективных средств борьбы с ними, гитлеровцы со всех сторон заминировали его. Это не помогло захватчикам: им все равно пришлось убраться отсюда. Но мины, заложенные ими, остались.
На сотни километров тянутся здешние лесные массивы. Так и ждешь, что в этом романтическом лесу раздастся лихой разбойничий посвист, оживут времена удалых былинных молодцев… А вместо этого — разорванный миной лось, волк с вспоротым животом, которого пришлось прикончить выстрелом из пистолета.
— Мины! Ищи!
Находятся не только мины. Обнаружили подземный склад оружия — шестьдесят четыре мины и изрядный запас взрывчатки.
Меня теперь часто сопровождает Альф. С некоторых пор он делит свою привязанность поровну между мною и майором. С ним очень спокойно. Дома он мирный, а в лесу к палатке ближе чем на пятьдесят метров никто чужой не подойди.
На территории подразделения он ходит сзади, вне его — всегда на несколько шагов впереди. Остановился, поднял голову, смотрит на тебя — значит, что-то есть. Таким манером мне неоднократно уже приходилось натыкаться на весьма неприятные находки, и всякий раз благодаря Альфу все оканчивалось благополучно.
22
Остается досказать немного.
Теперь на мне нет ни погон, ни шинели, у меня отныне не только одежда, но и фамилия другая: я уже не Тростникова, а Мазорина. Мы поженились сразу же, как меня демобилизовали. Учусь в ветеринарном институте. Это Александр Павлович настоял, чтобы я пошла учиться.
И вот возник вопрос: как быть с Альфом? Я весь день на учебе в институте, а у Александра Павловича началась полоса бесконечных командировок (он теперь связан по своей работе с клубами собаководства всей страны). Альф целыми сутками сидел взаперти.
Как раз в эту пору один давний товарищ Александра Павловича обратился к нему с просьбой: не подыщет ли он ему хорошую собаку для дачи. Мы посовещались между собой и решили отдать Альфа ему. Пусть поживет вольготно на старости. По нашим подсчетам, ему было уже не менее двенадцати лет.
Нет, отдали не совсем, конечно, а временно, пока не кончатся командировки Александра Павловича и не устроимся с квартирой, чтобы можно было держать собаку, не мешая соседям.
Вместе отвезли Альфа на его новое местожительство, удостоверились, что ему там действительно будет хорошо. На даче был чудесный сад, в котором Альф мог бегать с утра до ночи, все члены семьи от мала до велика обожали животных и не скупились на внимание к собаке… Словом, мы уехали оттуда успокоенные, в полной уверенности, что лучшего места для нашего друга нечего желать.
К нашей радости, Альф переносил разлуку с нами довольно спокойно. Тем более, что Александр Павлович часто навещал его. Так прошло месяца полтора. И вдруг тревожный вызов по телефону — приезжайте немедленно, с Альфом плохо.
Мы бросили все дела и поспешили на помощь, но когда приехали, все было кончено.
— Ел траву? — спросил Александр Павлович.
— Ел.
Все стало ясно.
Однажды этот собачий инстинкт едва не привел к преждевременной гибели нашего четвероногого товарища. На этот раз рядом с Альфом не было друга, хорошо знавшего его недуги.
Однажды Александр Павлович сказал: «Друзей не продают». Я могла бы добавить теперь, что и не отдают.
Альф был уже старик. И все-таки так тяжело стало от того, что его нет больше, что он никогда не подойдет и не положит голову на колени, не посмотрит на тебя таким умным и таким печальным взглядом… Прощай, Альф, прощай наш верный друг, прошедший вместе с нами все испытания военных лет!
Что сказать еще?
Мы часто вспоминаем нашу фронтовую жизнь. В ней было много такого, чего я ни за что не хотела бы пережить еще раз, но было и хорошее, даже прекрасное. Никогда мне не забыть моих товарищей, которые так старались скрасить и облегчить мое фронтовое житье-бытье, ибо если солдатская служба подчас тяжела для мужчины, то для девушки — тем более.
Мы вспоминаем и ту собачонку на призывном пункте, которая привела меня в минно-розыскное подразделение. Право, странно, как иногда случай может повлиять на всю нашу жизнь!
— Но если бы не она, я не встретил бы тебя… — говорит мне при этом Александр Павлович.
Мститель
1
Известно, что, когда соберутся несколько любителей собак, разговоров не оберешься. А нас было четверо, и все закоренелые «собачники»: Сергей Александрович, много лет руководивший клубом служебного собаководства, полковник в отставке, недавно вернувшийся из Германии, еще один член нашего клуба — бухгалтер по профессии и я.
Все мы хорошо знали друг друга, но не встречались давно, так как прошедшая война разметала людей, и только вот теперь, когда наконец буря пронеслась и страна снова вернулась к мирной жизни, мы собрались, чтобы отвести душу в дружеской беседе. Поговорить нам было о чем.
Сергей Александрович был все таким же, каким я знавал его в былые времена: оживленным, смуглолицым, с громким голосом, силе которого мы не раз дивились, когда он раздавал призы на ринге, с прежней юношеской подвижностью и ловкостью в худощавой подтянутой фигуре; лишь пробивающаяся в черных волосах седина напоминала о том, что все мы стали значительно старше. На правой половине груди его была нашивка, свидетельствующая о перенесенном тяжелом ранении, — память о Сталинграде, на левой — орден Красного Знамени и ряд медалей, в том числе за оборону Москвы, за взятие Будапешта и Вены. На груди же полковника было столько орденских планок, что от них рябило в глазах.
Бухгалтер как всегда держался в тени. В клубе этот человек слыл чудаком. Говорили, что перед войной он пережил какую-то тяжелую семейную драму, после чего сделался замкнутым, ушел в себя. Малоразговорчивый и сдержанный, он оставался верен себе и в этот вечер: больше слушал, ограничиваясь только отрывочными, всегда сказанными к делу, репликами.
Я не раз видел, как этот человек в своем неизменном теплом бобриковом пальто, с остриженной ежиком седой головой, покрытой поношенной черной шляпой, приходил в клуб, ведя очередную собаку на добротном поводке. Там уже знали о дели его посещения. Он вручал собаку, расписывался аккуратным каллиграфическим почерком в толстой канцелярской книге, в которой регистрировался «приход» и «расход» собак, подтверждая своей подписью, что он добровольно и безвозмездно передает собаку государству, затем, держа шляпу в руке, сдержанно выслушивал благодарность и, потрепав в последний раз жалобно повизгивающую питомицу, уходил, постукивая тростью. Казалось, он видел в этом какой-то особый, известный только ему, смысл…
Говорил главным образом Сергей Александрович. Почти на протяжении всей войны он командовал собаковедческими подразделениями. В самое тяжелое время, когда гитлеровские полчища были под Москвой, ему довелось участвовать в эвакуации из Подмосковья центральной школы-питомника военно-служебных собак. Транспорт был занят более важными перевозками, и почти четыреста километров собаки шли «своим ходом», на поводках у вожатых. Этого тяжелого перехода не выдержал старик Риппер, отец моей Снукки, в прошлом победитель многих выставок, одна из знаменитейших наших собак, вошедшая в историю советского собаководства. В пути старый заслуженный пес отказался идти дальше, и молодой лейтенант, не знавший редкостной биографии собаки, приказал пристрелить ее. Жаль беднягу Риппера, но что поделаешь, время было суровое. Гибли люди, не только собаки.
Истинными героями в эти трудные дни показали себя вожатые: каждый вел от трех до пяти собак, а некоторые, кроме того, еще несли щенков. Они хотели во что бы то ни стало спасти свою школу, не дать погибнуть ни одному ценному животному, сохранить государственное имущество, и они действительно сохранили его. Эту решимость не могли поколебать ни ранние морозы, ни постоянная опасность налетов вражеских самолетов (в тот период они господствовали в воздухе, рыская над ближним и дальним тылом), ни другие трудности и испытания пути. Каждый понимал, что эвакуация временна. И они не ошиблись. Вскоре школа вернулась на обжитое место и продолжала готовить резервы обученных собак и кадры вожатых для фронта. Впрочем, она не переставала готовить их и находясь в эвакуации.
С Риппера наши мысли незаметно перешли к тому, какие бедствия принесла с собой война и какую ненависть к врагу породила она. И тут кто-то неожиданно затронул вопрос, а способны ли проявлять ненависть собаки?
2
Не следует понимать нас превратно. Мы не собирались смешивать разумные действия человека с безотчетными проявлениями чисто биологической активности животного и отождествлять свои собственные чувства и переживания с ощущениями собаки, но — все-таки: могут ли собаки ненавидеть? Всем известно, какой привязанностью платит собака за дружбу и ласку; способна ли она на такие же сильные чувства, но совсем противоположного свойства?
Вопрос возбудил общий интерес, и начавшая было утрачивать остроту беседа вновь оживилась.
— Я считаю, — сказал Сергей Александрович, — что собаки всегда помнят причиненную им обиду и способны жестоко отплатить за зло. Они очень хорошо умеют отличить друзей от врагов, и в этом смысле их нервный аппарат не оставляет желать ничего лучшего. На фронте, например, я неоднократно имел возможность убедиться, что наши собаки превосходно разбирались, где свои, а где чужие. Один вид гитлеровского солдата в его голубовато-зеленой шинели вызывал у них приступ бешеной ярости…
— Ну, это самый обыкновенный рефлекс, — возразил полковник, вынимая изо рта трубку, которую он посасывал весь вечер.
— Да, конечно, — кивнул Сергей Александрович. — Но в данном случае интересно то, что никто не учил их реагировать специально на форму противника.
— И тем не менее, это очень просто объяснимо, — снова сказал полковник. — Часто встречаясь с этой формой при таких обстоятельствах, которые не вызывают у собаки приятных ощущений, она быстро привыкает и реагировать на нее определенным образом.
Начальник клуба, соглашаясь, снова кивнул, а мы с бухгалтером, несколько задетые категоричностью тона полковника, который, как нам показалось, начисто отрицал возможность проявления ненависти у собаки, принялись горячо доказывать ему, что он ошибается и что собака может быть и злопамятной, и мстительной.
В подтверждение этого каждый из нас припомнил какой-нибудь случай из собственной собаководческой практики. Полковник слушал, не перебивая, чуть склонив свою крутолобую, начинающую лысеть голову, невозмутимо вставляя в паузах: «Рефлекс» или «Инстинкт».
Наконец, мы замолчали и выжидающе уставились на него. Он неторопливо выколотил трубку и неожиданно для нас заявил:
— Ну, уж если зашла речь о ненависти собак, — он говорил медленно, раздельно, отчего слова приобретали особую убедительность и вескость, — то могу поделиться с вами более необыкновенным случаем. Вы не будете возражать, если я займу ваше внимание?
Нет, мы не возражали, и полковник продолжал:
— Лично я глубоко убежден, что собака способна питать ненависть, и очень сильную ненависть. Каждый из нас замечал симпатию или антипатию своего пса к тому или иному человеку! Более того, я думаю, что собаке знакомы многие чувства, которые присущи нам, людям, например: ревность, тоска… Ведь факт, что собака очень тяжело переносит разлуку с любимым хозяином и даже может погибнуть от тоски. Вспомните верного Фрама, который остался на могиле Седова и погиб там. Сорок тысяч лет живет собака около человека — сорок тысяч лет! Она уже не может жить без человека, настолько близки ей стали его привычки, его уклад жизни. Она научилась понимать наши желания. И нет ничего необыкновенного в том, что она за это время приобрела, по выражению Горького, и нечто от человеческой души. Один ученый высказал такую мысль: поскольку у собаки есть все те органы чувств, какими располагаем мы, — относительно большой по массе головной мозг, состоящий из двух полушарий, с большим количеством извилин в их коре, сильно разветвленная нервная система — естественно предположить, что у нее должны быть и зачатки самих чувств. Почему, когда у нас дурное расположение духа, мы невеселы, чем-то озабочены или удручены, нервничает и собака? Особо возбудимые из них в такой момент даже ищут, куда бы спрятаться, хотя им не грозит никакая опасность, мечутся по квартире, не находя себе места… Признаюсь: я тоже иногда не прочь пофилософствовать об уме собаки. Что поделаешь, уж очень хороший подарок преподнесла нам природа в лице этого животного! Недаром наш великий соотечественник Иван Петрович Павлов из всех представителей животного мира выделял именно собаку.
Он первым из ученых поставил ей памятник в Кал-тушах — памятник как другу и помощнику человека-труженика. Помните сочиненную им надпись для памятника: «Собака, благодаря ее давнему расположению к человеку, ее догадливости и послушанию, служит, даже с заметной радостью, многие годы, а иногда и всю свою жизнь, экспериментатору». Иван Петрович любил и ценил собаку за ее понятливость, за ее преданность, за ее готовность всегда и везде следовать за человеком, слиться с его желаниями, полностью отдаться ему во власть. Он наказывал нам не мучить собаку без нужды, заботиться о ней…
Огласив единым духом этот панегирик в честь собаки, произнесенный, впрочем, в обычной сдержанной и убедительной манере, полковник продолжал:
— Теперь скажите мне: великий естествоиспытатель столько раз причинял боль своим подопытным животным, и все же, несмотря на это, они продолжали оставаться друзьями. Почему? Потому что природа дала собаке могучий инстинкт, который помогает ей безошибочно отличать друга от недруга, распознавать врага, иногда даже предчувствовать беду Не случайно собаку никогда не удается обмануть фальшивой лаской: она всегда распознает обман… Павлов научно объяснил все побуждения собаки. Он доказал, что в основе всего лежит рефлекс, но отнюдь не обдуманные действия.
Умаляет ли это наших животных? Нисколько. Просто это позволяет нам лучше понять их, глубже проникнуть в их внутренний мир, мир нервной деятельности, увереннее руководить их поступками. Таким образом, и ненависть у собаки, как я представляю себе ее, — это реакция на какой-то очень сильный раздражитель. Реакция эта может быть очень прочной и ярко выраженной, и тут возможны действительно поразительные случаи. Об одном из них я и хочу вам рассказать.
После паузы, в течение которой ни один из слушателей не проронил ни слова, полковник задумчиво произнес:
— Выше всего я ценю преданность, верность. О преданности и верности будет идти речь и в моем рассказе, хотя главная движущая пружина в нем — ненависть…
3
— Начало этой истории относится еще к предвоенным годам, а конец… Впрочем, не буду забегать вперед.
Накануне Великой Отечественной войны я служил в пограничных частях и жил с семьей на границе. Наш участок считался одним из самых неспокойных. Работы нам, пограничникам, хватало…
У нас на заставе вожатым розыскной собаки служил прекрасный парень — добрый, умный, хорошо воспитанный. Он сам, когда его призвали в армию, попросился направить его в школу вожатых служебных собак, окончил ее с превосходными показателями и после этого вместе с собакой приехал к нам.
Собака у него была из породы овчарок, молодая, хорошо натренированная и привязанная к своему вожатому необычайно. У него было природное умение обращаться с животными. Можно без преувеличения сказать, что когда они находились на посту, в секрете, то представляли собой как бы одно целое. Он понимал ее по малейшему изменению поведения, по движению ушей, а она слушалась его с первого взгляда.
И вот этого отличного парня, замечательного пограничника, убили.
На нашем участке границу перешла крупная банда. Завязалась перестрелка. Ему и еще одному бойцу выпало принять на себя первый натиск. Несмотря на то, что нарушителей было много, а их только двое, они сумели задержать противника до подхода подкрепления.
Когда мы прибыли на место происшествия, то застали следующую картину: второй пограничник был цел и невредим, со стороны нарушителей было убито трое, наши потери — один человек, вожатый Старостин…
4
Легкий возглас прервал в этом месте речь полковника.
— Как вы сказали — Старостин?
— Да, — повторил полковник, — Старостин.
— А имя?
— Афанасий.
Лицо бухгалтера внезапно покрылось смертельной бледностью. Он схватился рукой за сердце и, казалось, упал бы, если бы не откинулся на спинку кресла. Мы с тревогой и недоумением смотрели на него. Старостин — фамилия бухгалтера. Но какое это могло иметь значение? Мало ли однофамильцев на свете?
Что с вами, Василий Степанович? — осведомился Сергей Александрович. — Вы не здоровы?
— Нет, ничего… Уже ничего, благодарю вас, — отвечал тот. Голос его звучал глухо, незнакомо. — Нет, право, ничего, продолжайте, прошу вас, — повторил он через минуту уже своим обычным тоном, видимо, овладев собой. — Что-то немного с сердцем, но уже прошло… Продолжайте, пожалуйста, это очень интересно… то, что вы рассказываете. Так вы говорите, что он… этот убитый юноша… вел себя героически?
Да! подтвердил полковник. — Так, как и надлежит вести себя советскому воину. Но, может быть, лучше отложить мой рассказ до другого раза? Вы все еще бледны…
— Нет, нет, — решительно запротестовал бухгалтер. — Мне уже хорошо. Не нужно откладывать. Извините, что прервал вас… Больше этого не случится.
Он действительно успокоился и дослушал начатую историю до конца, не проронив больше ни слова.
5
Афанасий Старостин расстрелял все патроны и был убит в рукопашном бою, пистолетным выстрелом в упор. Около него лежала тяжело раненная собака. Она защищала вожатого и получила два огнестрельных ранения.
Все мы чрезвычайно переживали гибель товарища. И очень тосковал по нему его пес — Верный. Он вскоре поправился от ранений и его передали другому бойцу, но из этого ничего не вышло. Во-первых, пес плохо слушался нового вожатого; во-вторых, дойдя до того места, где был убит его друг, начинал выть.
Да! Забыл одну важную подробность. Рядом с убитым Старостиным мы нашли два человеческих пальца. Вероятно, это были пальцы человека, который его застрелил. Их отхватила собака, защищая своего друга.
Собаку пытались использовать на другом участке, но она стала очень возбудимой, часто срывалась лаем, потеряв, таким образом, одно из важнейших качеств пограничной собаки. Кроме того, с нею случилась другая беда. Одна из ран была в голову, пуля повредила какой-то нерв, связанный с органами слуха, и пес стал быстро глохнуть. Для службы на границе он больше не годился, и я взял Верного к себе.
Он жил у меня в семье, привязался к моим близким, выделяя, однако, меня. У собак всегда так: кто-нибудь обязательно должен быть главным. Однако я думаю, где-то в глубине его сердца все эти годы продолжал жить образ его прежнего хозяина.
Вскоре началась Великая Отечественная война. Всю войну я провел на фронте, на переднем крае. Правда, в течение трех с лишним лет мне посчастливилось три раза побывать дома. Верный сделался совсем глухим, сильно изменился. Исчезла прежняя живость, поседела морда. Тем не менее он был еще крепок и силен, в нужные моменты — злобен.
Оттого что Верный оглох, он не стал беспомощным. По мере того, как пропадал слух, обострялись другие органы чувств. У него развилось поразительное чутье и совершенно необыкновенная… интуиция, что ли. Он понимал по движению губ. Можно было прошептать команду, и он исполнял ее даже быстрее, чем раньше, когда был здоров. Порой казалось, что он воспринимает чуть ли не твои мысли, настолько был понятлив при своем столь серьезном физическом недостатке.
На фронте я довольно часто видел четвероногих связистов, санитаров, подносчиков боеприпасов, минеров, которые, наравне с другим фронтовым другом человека — лошадью, несли все тяготы войны, помогая советским людям защищать свое Отечество, — и каждый раз вспоминал своего глухого пса.
Собаки в этой войне были в армиях всех воюющих держав. В британской, например, они имелись даже в составе специальных отрядов «коммандос», совершавших рейды на Атлантическое побережье, тщательно охранявшееся гитлеровцами. Собаки-доберманы были обучены бросаться на дот, чтоб закрыть амбразуру, откуда велся огонь. Были и другие новинки в применении собаки. И все же оказалось наиболее подготовленным наше собаководство. Это признается не только нами.
Американцы, например, издали вскоре после окончания второй мировой войны толстую книжку, в которой, не стесняясь в выражениях, расписывали действия своих служебных собак на фронтах; однако и они в конце ее были вынуждены признать, что русские в этом отношении показали образец, оставив далеко позади и врагов, и союзников.
Забавная книжка! В ней есть такой эпизод, как вручение ордена собаке, отличившейся при разгроме экспедиционного корпуса Роммеля в Северной Африке.
Орден этой собаке пожаловал «сам» Черчилль, а вручал награду генерал Александер. Вот какая честь привалила собаке! Интересно отметить, что это была лайка, лайка по кличке Хуска, потомок одной из тех, которых гордые сыны Альбиона вывезли у нас в девятнадцатом году во время интервенции на Севере… Автор описал церемонию награждения с полной серьезностью. А в заключение — приписка, что собака не посмотрела на высокие чины присутствующих и укусила Александера за ногу…
Ну, мы не кричали после войны о своих успехах в области служебного собаководства, хотя у нас было чему поучиться. Мы первыми применили противотанковую собаку, и это сохранило жизнь многим советским людям. Мы с необычайным эффектом использовали собак, обладающих острым чутьем, для поиска мин.
Мне везло: в течение почти всей войны я не был ни разу ранен, хотя приходилось бывать в очень опасных местах. И только под самый конец, весной сорок пятого, меня сильно контузило. Месяц пролежал в госпитале. Рано утром третьего мая мне позвонил по телефону генерал, справился о здоровье, а затем ошарашил:
— Берлин взяли наши!
Я так и привскочил. Мы в госпитале этого еще не знали.
— Через час лечу в Берлин, — сообщил генерал. — Могу взять с собой. Хочешь?
Хочу ли я?! Я уже одевался. Через несколько минут подошла машина, а через час мы были уже в воздухе и летели на запад.
Мы опустились на аэродроме в пригороде Берлина и на штабном «газике» помчались в один из районов гитлеровской столицы.
Перед нами была поверженная, разгромленная и плененная вражеская столица. Не скрою: я торжествовал. Мы не хотели войны. Возмездие настигло гитлеровскую грабительскую армию, гитлеровское разбойничье государство. Смотрел на руины зданий, на улицы, засыпанные осколками стекла, битым кирпичом, исковерканным железом, на брошенное вражеское оружие, на омертвевшие под ударами наших пушек «фердинанды» и «тигры», на весь этот хаос, столь выразительно говоривший о полном военном поражении некогда грозной Германии, и думал: вот что ждет всякого, кто вздумает тронуть нас!
Война — как бумеранг: возвращается к тому, кто ее начал, и поражает его. Кажется, у китайцев есть поговорка: «Война подобна огню — не погасишь вовремя, сожжет и поджигателя…» Враги лишь пожинали то, что посеяли сами.
Но вместе с тем проснулась и глубокая жалость к немецкому народу, обесчещенному и обманутому гитлеровской верхушкой, доведенному своими правителями до крайней степени падения. Гитлер и его партия оказались прежде всего врагами своего собственного народа. Теперь, думал я, начнется новая история Германии. Испытавший горечь военного поражения, осознавший свои ошибки, немецкий народ примется за строительство новой жизни.
— Отныне все пойдет по-иному… — вырвалось у меня.
— Да, но еще нужно выкорчевать корни фашизма…
Генерал был прав. Еще оставались на свободе эсэсовские молодчики и гестаповцы, которые, переодевшись в гражданское платье, с подложными документами прятались теперь, как крысы, по щелям.
Я хорошо знаю немецкий язык. До войны читал много немецкой литературы по собаководству, знал, где находятся в Германии питомники полицейских и военных собак, каким поголовьем они располагали. Нам с генералом не терпелось узнать, что с ними стало, что уцелело.
Поехали в один из. крупнейших питомников полицейских собак. Его ворота были взломаны, все помещения раскрыты настежь, кругом ни души.
С большим трудом нашли одного человека из обслуживающего персонала. Он оказался чехом, поэтому не убежал с остальными. Спрятавшись, ждал прихода наших людей. Он и повел нас по питомнику.
Страшное зрелище открылось нам. Горы трупов — трупов собак… Оказалось, что в канун дня капитуляции Берлина, когда советские снаряды уже рвались неподалеку, в питомник приехали три эсэсовских начальника. Они прошли внутрь двора и приказали выводить собак. К ним подводили собак, а они в упор расстреливали их одну за другой из пистолетов. В течение часа эти трое нагромоздили гору трупов: четыреста собак.
Чех рассказывал об этом, плача от ужаса и негодования. Я и генерал стояли ошеломленные.
Это было отнюдь не проявление слепого отчаяния. Нет, это было хладнокровное, обдуманное злодейство — продолжение тотальной войны, но только уже на своей территории. Собака — это ценность; гитлеровцы понимали это и стремились напакостить и здесь. Кроме того, они не рассчитывали на возвращение.
В памяти у меня возник июнь сорок первого года: Белоруссия, пылающая под фашистскими бомбами, рев вражеских самолетов. Первые дни войны. Тяжелейшие дни. Гитлеровские воздушные пираты сбросили бомбы на питомник служебных собак. Загорелись деревянные домики. Надо было видеть, как наши бойцы, рискуя жизнью, выносили из горящих щенятников маленьких слепых щенков, прижимая их к груди и стараясь защитить от падающих головней… Вспомнил, как колхозники угоняли скот от врага. Они гнали его через леса, болота, переходили линию фронта; спасая общественное добро, нередко гибли сами…. Какой контраст представляло это с тем, что мы увидели в берлинском питомнике!.. Нет, звери были не те, что лежали перед нами недвижные на земле; звери — уничтожавшие их, одетые в черные эсэсовские мундиры!
— Особенно старался один, беспалый, — продолжал говорить чех. — Он один уложил их столько, сколько двое других вместе. И стрелял с каким-то дьявольским наслаждением, даже улыбался.
— Беспалый? — машинально переспросил я.
— Да, у него на правой руке не хватало двух пальцев… вот этих… и он стрелял левой.
Тогда я не обратил внимания на эту деталь.
6
Вскоре меня назначили военным комендантом одного из небольших городков Бранденбургской провинции. Я перевез туда свою семью; вместе со всеми приехал и Верный. Прошло несколько месяцев.
Как-то вместе с Верным я возвращался из комендатуры на квартиру. Он часто сопровождал меня, ходил всегда рядом, без поводка.
Верный еще больше сдал за последнее время. Много спал, седина с морды перекочевала и на другие части тела. В глазах появилась характерная синева. Только чутье по-прежнему оставалось таким же острым.
На полпути что-то случилось с моей собакой. Верный начал то забегать вперед, то отставать, какая-то нервозность овладела им. Я даже рассердился.
— Да что с тобой, старик? — подумал я вслух, делая жест, чтобы заставить его выравняться со мной.
И тут заметил, что Верный весь дрожит. Он напряженно нюхал то воздух, то асфальт на тротуаре и трясся, как в ознобе. Я хотел пощупать у него нос — не заболел ли он, рукой показал, что надо сесть, и… удивился еще больше: впервые он не послушался меня.
— Верный, что с тобой? — в сердцах сказал я и остолбенел. Он услышал меня, услышал и обернулся.
Я помню это совершенно точно: он не мог видеть движения моих губ, так как стоял ко мне затылком, и, однако же, понял меня. Я запомнил и другое — его глаза. В них было то самое выражение, какое видел когда-то у него на границе в день гибели вожатого Старостина. Выражение боли, страшной невысказанной злобы и еще чего-то, что трудно объяснить словами. Шерсть на нем стояла дыбом, хвост — где-то под брюхом. Я еще никогда не видел его в таком возбужденном состоянии.
А главное — к нему вернулся слух.
Внезапно, опустив голову к земле, он пустился прочь от меня.
— Верный, куда ты? Ко мне! Ко мне! — закричал я.
Но он больше не оборачивался — либо опять перестал слышать, либо не хотел повиноваться.
Я пробовал бежать за ним, но скоро отстал. Верный скрылся. В большой тревоге я пришел домой.
Прошло часа два. Верный не шел у меня из головы. Где он? Что с ним? Мои домашние высказывали самые разные предположения — что он взбесился или еще что-нибудь в этом роде. Я только отмахивался от них рукой. Какой-то внутренний голос говорил мне, что произошло что-то более серьезное.
И вот на исходе третьего часа зазвонил телефон. Голос дежурного сообщал мне, что на одной из улиц в центре города произошло необычайное происшествие: невесть откуда взявшаяся одичавшая собака, похожая на волка, напала на проходившего неизвестного гражданина и стала его терзать…
— Что?! — закричал я. — Какая собака? Опишите мне ее!..
— А ваш Верный дома? — осторожно спросил дежурный офицер.
— Верного нет дома! — кричал я в сильном возбуждении.
— Там были два наших бойца, — продолжал докладывать дежурный, — они говорят, что она похожа на Верного…
— Человек жив?
— Кончается.
— А собака?
— Собака еще жива…
Он продолжал говорить еще что-то, но я, не дослушав, уже звонил в гараж и вызывал машину.
Через несколько минут я был на той самой улице, которую назвал мне дежурный. Лужа крови на асфальте, которую еще не успели замести дворники, указывала место, где все это произошло. Человека внесли в дом. За минуту до моего приезда он испустил дух.
Это был уже не молодой светловолосый мужчина высокого роста, одетый в обычный штатский костюм, какой носят все немцы, с выражением жестокости на лице, которое не смогла смягчить даже смерть. Овчарка почти вырвала ему горло. Он не прожил и четверти часа. Здесь же находился и Верный, но в каком виде!
У неизвестного оказался револьвер, и он, обороняясь, выпустил в собаку всю обойму. Раны были смертельны, но Верный еще жил. Я опустился перед ним на колени. Он узнал меня и слегка дернул хвостом. Пузырьки крови вздувались в уголках пасти, и вместе с этими пузырьками вылетало глухое клокотание; оно словно застряло у него в горле.
Верный смотрел куда-то мимо меня. Я проследил за его взглядом и понял: его глаза остановились на умерщвленном человеке. И сколько ненависти было в этом взгляде!
Близость этого тела не давала успокоиться собаке.
— Унесите его! — распорядился я, показав на мертвеца.
Двое бойцов подошли к нему и начали поднимать. От толчка правая рука его соскользнула и упала вниз, глухо стукнувшись о пол. Я глянул на нее и невольно вздрогнул: на руке покойника не хватало двух пальцев.
Столько чувств, мыслей вспыхнуло мгновенно при виде этой беспалой руки. Внезапно я вспомнил далекую картину, заслоненную в последние годы грозными событиями войны, — вспомнил так, как будто это было только вчера: мертвый Афанасий Старостин на окровавленном примятом снегу, раненая, истекающая кровью овчарка и два желтых человеческих пальца… Вспомнил — и понял все.
Верный узнал своего врага, узнал по следам, обнаруженным на асфальте. Восемь лет хранил он в памяти запах этого человека, ненавидел его и — дождался своего часа.
— Личность установили? — спросил я.
— Почти, — ответил мой помощник, прибывший сюда незадолго до меня, и подал документы.
Беглого взгляда было достаточно, чтобы понять многое. Тут были: билет члена нацистской партии, регистрационная карточка агента гестапо…
— Носил с собой?! — удивился я. — Видно, крепко сидел в нем фашистский дух!
— Было зашито в подкладку…
— Крупная птица! — невольно вырвалось у меня.
— Да, кажется, крупная, — согласился помощник. — Он, видимо, хотел пробраться в англо-американскую зону. Там пригрели бы его…
Мертвеца унесли, и Верный успокоился. Взгляд его начал мутнеть, выражение ненависти пропало. Через всю его жизнь прошла эта ненависть, начавшись на далекой восточной границе Советского Союза и окончившись на мостовой немецкого городка в сердце Германии. В последний раз лизнул он меня языком, вздохнул глубоко, вытянулся, и нашего Верного не стало…
Вот, собственно, и все… Можно, впрочем, добавить: дальнейшее следствие установило, что этот эсэсовец, расстреливавший с садистской жестокостью ни в чем не повинных собак и нашедший свой конец под клыками моей овчарки, был в прошлом крупным диверсантом-разведчиком, опасным и непримиримым врагом, всю свою жизнь боровшимся против нашей страны. Он не ушел от расплаты.
7
Теперь, когда рассказ был кончен, наши взоры обратились снова к бухгалтеру Василию Степановичу. Он сидел, опустив голову, казалось, погруженный в глубокую задумчивость, и лишь время от времени большим клетчатым платком проводил по лбу к вискам.
Только тут догадка осенила нас. Это совпадение фамилий, драма, пережитая им перед войной, и даже собаки, которых он выращивал для службы в армии, — все вдруг предстало в своем истинном свете. Его волнение, и эта чудаковатость, которую приписывали ему и которая в действительности была не чем иным, как выражением больших человеческих чувств, чувств патриота и отца…
Да, отца. Он подтвердил это, ответив на вопрос, кем приходится ему погибший Афанасий Старостин, коротко и с той простотой, которая стоит многих слов:
— Это был мой сын.
Дочь Мирты
1
Дизель-электроход «Россия» возвращался в Одессу из очередного рейса. Ослепительно белый от верхушек мачт до ватерлинии, щедро заливаемый лучами полуденного солнца, красавец-корабль Черноморского пароходства легко и свободно рассекал острой грудью бирюзовую воду.
Море нежилось под горячим южным солнцем. Еще вчера оно было неспокойно. Громадные волны, как движущиеся горы, накатывали одна на другую. Корабль то взбирался на высокий водяной холм, переливавшийся под ним, то вдруг словно проваливался между двух зыбких свинцово-серых стен, где среди водяной пыли вспыхивала и гасла радуга; чайки кружились и кричали, и резкие голоса их смешивались с шумом разбушевавшейся стихии. А сегодня с утра все стихло, и — будто и не было вчерашнего волнения — море лениво плескалось за кормой.
Свободным и легким сделался полет наших крылатых спутников — чаек, этих беспокойных и хлопотливых жительниц моря, неотступно сопровождавших «Россию» почти с момента выхода ее из порта Батуми. Сейчас они уже не метались над волнами, не перекликались между собой, тревожимые налетевшей бурей, а беззвучно парили позади дизель-электрохода, зорко поводя головками. Стая дельфинов играла на просторе. Их черные, лоснящиеся, заостренные к хвосту тела, будто вытолкнутые из глубины неведомой силой, внезапно взлетали над гладью вод, делали в воздухе изящный пируэт и, точно веретено, мгновенно погружались, исчезая из глаз. В отдалении медленно проплывали берега. Легкий бриз освежал лица пассажиров. Впереди, прямо по курсу, уже маячили в легкой дымке белые строения Одессы.
Был последний день апреля 1953 года. Я сидел на верхней палубе и любовался раскрывающейся панорамой, не в силах оторваться от этого яркого синего неба, синей воды, сливавшихся на горизонте, вдыхая полной грудью насыщенный запахами моря свежий ветер, когда с носа судна донесся выкрик вахтенного матроса:
— Человек за бортом!
Тот, кто бывал на море, знает, какое впечатление производят эти три слова. Мгновенно опустели шезлонги и бассейн. Пассажиры, столпившись на борту, сосредоточились на едва заметной точке, черневшей в море.
Судно замедлило ход, матросы расторопно спустили шлюпку.
К общему удивлению, шлюпка, не проплыв и половины расстояния, сделала плавный разворот и повернула назад, а черная точка на воде стала быстро удаляться, направляясь в сторону берега.
Вскоре всех облетело известие:
— Это не человек, а собака!
Собака — в открытом море? Откуда она взялась? И потом — коль скоро уж спустили шлюпку, то почему бы не спасти и собаку?
— А она не захотела! — объявил один из матросов.
— Как не захотела? — поинтересовался я.
— А так. Мы — к ней, а она — от нас! Поплыла к берегу.
— Что же она делает в воде?
— А кто ее знает… Купается!
Хорошенькое «купается» — это в нескольких-то километрах от берега! Для меня это было что-то новое.
Морское путешествие, при всей его привлекательности, всегда несколько однообразно: поэтому неожиданное происшествие развлекло всех. Давно уже не осталось на воде и признаков четвероногого пловца, а пассажиры все еще обсуждали, каким образом в море могла оказаться собака.
Но вот строения Одессы как-то сразу приблизились, отчетливо вырисовываясь на фоне зелени садов. Уступами поднималась знаменитая одесская лестница, увековеченная в фильме «Броненосец „Потемкин“». Все ближе лес мачт, скопление судов в порту, наклоненные стрелы кранов. Где-то звонко начали отбивать склянки, и сейчас же, далеко разносясь по воде, со всех сторон откликнулись судовые колокола, отбивающие рынду. Значит, полдень.
«Россия» вошла в гавань и, дав задний ход, чтобы застопорить движение, стала швартоваться у стенки. Вода, взвихренная могучими винтами, закипела, сбилась в пену, окрасилась мутью, поднятой со дна. Полетели на берег тонкие стальные тросы, вытягивая за собой толстенные пеньковые канаты — швартовы. На палубе началась суета, всегда предшествующая высадке пассажиров, заиграла музыка, с какой возвращающийся из дальнего плавания корабль обычно приваливает к причалу, какое-то необъяснимое волнение поднялось в душе. Собака была забыта.
2
Чудесный город — Одесса. В тот день он был особенно хорош. Весь яркий, удивительно солнечный, пронизанный теплом и светом.
Дерибасовская, Французский бульвар, Пересыпь, Молдаванка… уже в самих названиях что-то романтическое, какая-то экзотика… А когда протяжный гудок повисает над Французским бульваром, над памятником Дюку Ришелье… кажется, что и весь многолюдный, разговаривающий на всех языках мира город устремляется куда-то за гудком, за кораблями, в таинственную и манящую голубую безбрежную даль!
Купальный сезон на Черноморском побережье еще не начался, однако небывало ранняя весна и великолепный день привлекли на пляжи массу отдыхающих. Я медленно продвигался вдоль берега, высматривая для себя подходящее местечко, когда детский голосок, звонко скомандовавший: «Мирта, апорт!», заставил меня остановиться и посмотреть в ту сторону, откуда донесся этот оклик.
У воды стояла девочка лет тринадцати-четырнадцати, тоненькая, изящная, от загара будто вылитая из бронзы, и, подбирая камешки, швыряла их в море, а там то исчезала, то появлялась на поверхности черная голова собаки. Когда очередной камешек, описав крутую траекторию, булькнул в воду, собака мгновенно нырнула за ним. Вынырнув, встряхнула головой, и камень вылетел из пасти. Девочка восторженно захлопала в ладоши, вознаграждая этим собаку за ее труд, затем снова, приказав: «Мирта, апорт!», бросила камешек.
Я подошел поближе. Оказалось, многие следили за необычной игрой. Мое внимание привлекла молодая женщина в легком шелковом платье, сидевшая в глубоком плетеном кресле под тентом, с красивым и, как мне показалось, чуть грустным лицом; на коленях у женщины лежала раскрытая книга, а глаза были устремлены на девочку: ласковая материнская улыбка освещала ее лицо с ранними морщинками у рта и глаз.
— Хватит, доченька, Мирта уже устала. — сказала она.
— Ой, мамочка, Мирта никогда не устает плавать! — откликнулась бронзовая девочка, но все же послушалась матери и позвала собаку из воды.
Шепот восхищения пронесся среди отдыхающих, когда собака подплыла к берегу и вышла на песок. В те годы такие собаки были редкостью, и я невольно залюбовался ею. Очень крупная, массивная, черная от кончика носа до кончика хвоста, с длинной волнистой шерстью, образующей живописные начесы на лапах и под животом, с пушистым хвостом и свисающими ушами — такова была четвероногая пловчиха, привлекшая общее внимание. Она несомненно принадлежала к породе собак-водолазов, родиной которых является далекий остров Ньюфаундленд, отчего и собак этих называют ньюфаундлендами. Отряхнувшись, она подошла к старшей хозяйке и растянулась у ее ног, а девочка опустилась рядом и, обхватив собаку за шею, погрузила руки в ее влажную густую и мягкую шерсть.
Я вспомнил о собаке, виденной накануне в море, и спросил у владелицы ньюфаундленда, не могла ли это быть Мирта.
Да, да, это была Мирта, — с живостью подтвердила мать девочки. — Мы видели, когда шла «Россия». Мирта как раз в это время плавала. Мирта часто делает так: уплывет, и нет ее — иногда час, два. Это у нее как ежедневное занятие гимнастикой. Она не может без этого.
— А вы не боитесь, что она может утонуть?
— Мирта? Утонуть? Что вы! — рассмеялась молодая женщина.
Она сказала это таким тоном, точно речь шла не о собаке, а о каком-то неизвестном мне существе, на которое не распространяются обычные законы, которому не страшны никакие стихии.
— Ну, а если вдруг — шторм? — не унимался я.
— В шторм? — моя собеседница не ответила, задумавшись, и я решил, что заставил ее поколебаться в своей уверенности; в действительности, как я понял позднее, напоминание о шторме всегда вызывало в памяти моей собеседницы картину, заставлявшую ее на время выключиться из разговора.
Вместо матери ответила дочь.
— Вы не знаете нашу Мирту! — с гордостью и нежностью заявила девочка, легкость и хрупкость фигурки которой особенно подчеркивалась соседством крупного и сильного животного.
Так я познакомился с Надеждой Андреевной Доброницкой, ее дочерью Верой-Мариной и их верным спутником Миртой, «голубушкой Миртой», как часто называла собаку Надежда Андреевна, вкладывая в эти слова не только ласку, но и, как я понял, чувство огромной благодарности вечному другу человека — собаке. И так мне стала известна эта необычайная и трогательная история.
На следующий день я встретил своих новых знакомых на бульваре в парке имени Шевченко, когда над Одессой опустился бархатный южный вечер. Как и все, мы пришли сюда полюбоваться на салют кораблей, на фейерверк в честь дня международной солидарности трудящихся — Первого мая. Цвели каштаны и белая акация, наполняя воздух тонким нежным ароматом. Над улицами, площадями, над аллеями парков и скверов плыл гомон нарядной, по-южному экспансивной оживленной толпы, разносились звуки оркестров. Прекрасный город сиял огнями иллюминации. На рейде и в гавани стояли празднично расцвеченные суда.
Вера-Марина шла, обхватив своей тонкой рукой руку матери, доверчиво прижимаясь к ней, как всегда делают очень ласковые и влюбленные в своих родителей дети. Другой рукой она придерживала за поводок Мирту, послушно шагавшую рядом. С высоты Приморского бульвара, от старой крепости, открывалась панорама ночной Одессы. Слева — дуга порта, прямо — рейд и корабли; за ними на другой стороне бухты чуть мерцали огни Лузановки. Правее — начинался необъятный простор моря. У двух каменных шаров, обрамляющих спуск к воде, мы сошли по ступеням вниз и сели на скамью. Собака легла на гранитных плитах набережной и стала смотреть в море.
Здесь было не так многолюдно, больше веяло прохладой. Волны с ровным и сильным всплеском набегали на берег одна за другой, и это безостановочное ритмическое движение, приходившее откуда-то из темноты, как бы напоминало о вечности жизни.
Внезапно рейд на мгновение осветился словно заревом пожара. Ударил пушечный салют, громыхнули военные корабли, стоявшие на якорях. Прочерчивая в темном небе огненный след, полетели вверх ракеты и рассыпались в вышине красными, желтыми, синими, зелеными огнями. Собака вскочила и залаяла; затем, успокоившись, снова легла.
Громыхнуло еще; опять полетели в небо каскады разноцветных трепещущих огней, многократно отраженных водами залива. Гул и гомон толпы усилились, напоминая шум морского прибоя.
— Как красиво… — чуть слышно проронила Надежда Андреевна. — Но каждый раз, когда я слышу залпы орудий, — призналась она, — мне хочется плакать… Ведь совсем недавно была война. В такие дни и радуешься, и поневоле вспоминаешь прошлое, тех, кто никогда не вернется… Так хочется, чтобы другим не довелось испытать того, что пришлось пережить нам…
Она умолкла, но ненадолго. Прикоснувшись к тому, что хранилось у нее в душе, она уже не могла не говорить дальше. Вместе с залпами салюта нахлынули воспоминания. Надежда Андреевна одной рукой обняла девочку за плечи, как бы черпая в этом прикосновении силу и мужество для себя. Пальцы другой перебирали за ушами Мирты, однако Надежда Андреевна вряд ли даже замечала это.
3
— Я дочь моряка и жена моряка, — так начала она свой рассказ. — Я родилась и выросла на море, море было моей колыбелью, с морем связаны и самые сильные впечатления моей жизни.
Мой муж был капитаном дальнего плавания. Мы жили в Одессе, куда был приписан его теплоход.
Однажды муж привез из очередной заграничной поездки крупного черного щенка. Он сказал, что по повериям тех мест, где приобретен щенок, эти собаки приносят морякам счастье. Прошел год, и щенок вырос в громадную красивую собаку, которая сделалась настоящим другом нашего дома. Когда муж уходил в плавание, Мирта помогала мне коротать ожидание, скрашивая часы досуга; когда он возвращался, я брала ее с собой, и мы вместе шли встречать корабль… Я не суеверна, но Мирте, действительно, суждено было сыграть важную роль в моей судьбе.
Наша квартира находилась недалеко от порта. Шум портовой жизни днем и ночью вливался в раскрытые окна, он стал как бы составной частью моего существа, без него я не представляла себя. Ритм этой жизни был ритмом и моего собственного бытия. Я на слух, по гудку, могла безошибочно определить, какое судно швартуется в гавани, помнила расписание каждого парохода и теплохода, по их приходу и уходу следила за временем, обязательно связывая это с очередным приездом или отъездом мужа. В те дни, когда он был на берегу, мы уезжали куда-нибудь подальше, на Большой Фонтан или Лонжерон, причем обязательно с Миртой. Купаясь, он играл с нею, забавляясь сам и давая ей возможность поплавать. Муж и научил собаку нырять за камешками.
Мы жили счастливо. У меня родилась дочь — Вера. Муж боготворил меня и нашу малютку… Может быть, это звучит напыщенно, но я не могу найти другого слова, которое более полно могло бы выразить то, что я хочу сказать. Мне казалось, что нет женщины на свете счастливее меня.
И тут началась война. Теплоход мужа стал военным транспортом. Во время обороны Одессы корабль вывозил раненых, доставлял в осажденный город продукты, боеприпасы. Но однажды он ушел и больше не вернулся…
Тогда я как-то плохо сознавала, что муж погиб, что я больше никогда, никогда не увижусь с ним. Мне казалось, что вот-вот донесется с моря знакомый гудок, я увижу на рейде его теплоход…
Я работала медицинской сестрой в госпитале, проводя в нем круглые сутки; со мною была и моя Верочка, тогда еще совсем крошечная.
Снаряды и бомбы рвались на улицах, смерть витала над городом, унося новые и новые жертвы. Бомбами были разрушены целые кварталы домов. Особенно сильно пострадал рабочий район Пересыпь. Были взорваны дамбы, море поглотило парки Лузановки, Куяльника. Жители с детьми ютились в различных временных убежищах, другие нашли себе пристанище в катакомбах, которые потом, в период оккупации, сделались главным местопребыванием партизан.
Нелегко вспоминать все это. Но и не вспоминать — нельзя. Когда оглядываешься назад, даже не верится, что все это пришлось пережить нам, что все это — было…
Когда наш госпиталь был эвакуирован, настала и мне пора уезжать.
С ребенком на руках я пришла в порт. Мирта, конечно, с нами. В порту — тьма, наполненная движением людей, тихим бряцанием оружия… Под прикрытием темноты грузились и уходили суда, спеша под покровом ночи пересечь опасную зону, уйти как можно дальше.
В длинной веренице людей дохожу до трапа, ведущего на борт транспорта, и тут — остановка:
— Гражданка, с собакой нельзя!
Молодой боец морской пехоты преградил мне дорогу.
Что делать? Бросить Мирту? Это было невозможно.
Я стала просить бойца пропустить собаку. Он отказал наотрез. Потом вгляделся мне в лицо — и вдруг слышу: «Надежда Андреевна!..» Оказалось — моряк из экипажа моего мужа. Он лежал, раненый, в госпитале, когда его товарищи отправились в свой последний рейс… Узнав меня, он уже не смог отказать вдове своего бывшего капитана и пропустил Мирту.
4
В рассказе Надежды Андреевны наступила короткая пауза.
Невдалеке, оставляя за собой на поверхности моря длинный волнистый след, прошел полный народа, ярко освещенный катер-трамвай, возвращавшийся из Аркадии. На минуту он отвлек нас, а его праздничный вид напомнил мне недавнее путешествие на «России».
Воображение нарисовало, как плывет под черным пологом южного неба, отражаясь в воде, залитая огнями громада дизель-электрохода. Далеко по морю разносится музыка. Под желтыми как апельсины фонариками танцуют пары. В изумрудно-зеленом бассейне скользят тени пловцов. Вода освещена изнутри, она точно фосфоресцирует, и кажется, что и тела людей тоже фосфоресцируют, словно диковинные рыбы в глубине. А вокруг — теплая, ласковая темнота. Море пустынно. Лишь изредка замерцает и пропадет вдали огонек рыбацкой шаланды, утонули во мраке берега, а может быть, они вообще сейчас так далеко, что их не увидишь и при ярком свете дня? И мнится, будто во всем мире сейчас только это судно — одно между небом и водой…
— Правда, красиво? — с женской непоследовательностью проговорила Надежда Андреевна, провожая взглядом уплывающий трамвай, и тут же, возвращаясь к нити своего рассказа, поспешно добавила: — Нет, не таким было наше плавание…
Представьте черный, до отказа набитый ранеными, детьми, женщинами, пароход, без огней, без опознавательных знаков, плывущий куда-то в кромешную тьму, вспомните тревожную обстановку того момента, и вы хоть в малой степени поймете те чувства, с какими мы покидали Одессу.
5
Мы вышли при попутном ветре и при слабом волнении на воде, однако с каждым часом ветер крепчал.
Ночью в море разыгрался свирепый шторм. Перегруженный транспорт тяжело ложился с одного борта на другой. За стенами каюты, где вместе со мной, Миртой и ребенком был еще добрый десяток пассажиров, стояли оглушительные гул и грохот; от непрерывно чередовавшихся ударов волн содрогался корпус корабля. Тем, кто находился на палубе, было приказано держаться друг за друга, чтобы их не смыло.
Перед рассветом, когда шторм начал немного стихать, на нас напали фашистские бомбардировщики. Сбросив осветительные бомбы на парашютах, они принялись один за другим пикировать на транспорт.
Разгорелся тяжелый и неравный бой. Пароход отбивался, но самолеты снова и снова заходили для атаки, ложились на крыло и обрушивали на цель свой смертоносный груз.
Нашим зенитчикам удалось сбить два стервятника. Пылающими факелами они упали в море. Но силы были слишком неравны.
Помню взрыв, потрясший все судно. Полетели палубные надстройки. Начался пожар. Был подан сигнал: всем покинуть корабль.
Прижимая к себе дочурку, я выбежала на палубу. Момент был ужасный. Транспорт быстро погружался. Ярость обреченного корабля, который все еще продолжал отбиваться от врагов, мешалась с воплями женщин, выкриками команды, ревом пламени, треском ломающихся переборок. Огонь пожирал то, что еще уцелело от взрыва. Стали спускать шлюпки, но одна оказалась изрешечена осколками и пошла ко дну, оказавшись на воде, другая, переполненная людьми, была разбита прямым попаданием бомбы. Летели в воду спасательные круги, за ними прыгали люди.
В эти страшные мгновения я думала лишь об одном: как спасти мою Веру. Каждая мать хорошо поймет меня: когда у тебя на руках находится беспомощное существо, жизнь которому дала ты, и ему грозит опасность, все мысли — только о нем, только о том, как отвратить от него беду; о себе не помнишь.
Какой-то боец подал мне пробковый пояс. Я успела обвязать им ребенка, который, ничего не понимая, испуганно цеплялся за меня, когда новый, еще более сильный взрыв потряс судно.
Волна горячего воздуха смела меня с палубы и выбросила в море, вырвав из моих рук ребенка, а подхвативший шквал сразу же отнес далеко от парохода. Смутно помню, как я боролась с волнами, как кричала и звала мою Веру. Вокруг меня носились на обломках дерева, барахтались тонущие люди; над головой, расстреливая беззащитных, все еще завывали самолеты; а вдалеке догорал на воде гигантский костер… Потом в памяти — полный провал.
Сознание вернулось ко мне много дней спустя, в госпитале, на Большой земле. Меня и некоторых других подобрала наша подводная лодка. Но Веры среди спасенных не было…
6
Голос Надежды Андреевны внезапно прервался. Воспоминания взволновали ее. Зябко поведя плечами, она умолкла, а я, под впечатлением ее слов, явственно представил себе тяжелый гул ночного шторма. С громом катится вал за валом. Ни звезд на небе, ни огонька на воде; только этот грозный беспрерывный гул.
И где-то среди этой разбушевавшейся стихии, которой, кажется, нет ни конца ни края, в кромешной тьме — ребенок, беспомощное крохотное живое существо, оторванное от матери, едва начавшее жить и уже обреченное войной на преждевременную гибель…
Надежда Андреевна провела рукой по волосам дочери, которая еще теснее прижалась к матери, и, успокоившись, продолжала:
— Кончилась война. Пришли мирные дни, но для меня это была уже совсем другая жизнь, ибо я потеряла всех, кого любила: мужа, дочь. Даже собаку.
Медленно, как после тяжелой болезни, оправлялась я от пережитых потрясений, с душой, окаменевшей от горя. Я не была одинока, нет. Друзья заботились обо мне, но здоровье мое пошатнулось.
Как-то раз я отдыхала в Крыму, близ Евпатории. Стояла чудесная солнечная погода. А мне в такие дни делалось особенно грустно. Отделившись от компании, я пошла побродить одна.
Не заметив, забрела далеко. Дорога пролегала мимо небольшого рыбацкого поселка. Мне захотелось пить, и я направилась к крайнему домику, где были развешаны сети. У калитки, ведшей внутрь дворика, греясь на солнцепеке, лежала большая черная собака. Я взглянула на нее и задрожала: это была Мирта.
Да, да, наша Мирта, живая, невредимая, только несколько постаревшая, с сильной сединой на морде. Она сразу узнала меня, мой голос, бросилась ко мне, принялась ласкаться, лизать. Я так и опустилась перед нею на колени, обнимая ее и плача от радости и волнения. При виде ее все чувства вновь всколыхнулись во мне, прежняя жизнь воскресла перед глазами.
— Мирта, голубушка, — повторяла я. — Ты ли это? Как ты здесь очутилась? Где моя малютка, где моя Верочка?
Собака не могла ответить мне, только продолжала радостно вилять хвостом, на котором тоже кое-где появились серебристые крапины — метка времени.
Немного придя в себя, я зашла в дом, познакомилась с хозяевами — пожилым рыбаком и его женой, спросила, давно ли живет у них эта собака.
Муж и жена переглянулись, сначала не понимая нервозности, которая звучала в моих словах, но потом поняли, что я пришла не случайно, и рассказали следующую историю.
В сентябре 1941 года, в грозную штормовую ночь, они услышали звуки морского боя. Потом в море занялось зарево — горел корабль. Через некоторое время зарево потухло: шторм довершил то, что начали самолеты.
Рыбак и его жена долго стояли на берегу, всматриваясь в темноту, ожидая, не выбросит ли море кого-нибудь, кому понадобится их помощь. Но не было никого. Только водяные валы с грохотом обрушивали свою ярость на прибрежную полосу суши.
Рано утром рыбак снова был на берегу. Он знал: иногда пройдет много часов, прежде чем море расстанется со своей добычей.
Он не ошибся. Что-то чернело у кромки берегового прибоя. Волнение стало стихать, но отдельные волны еще докатывались до этого непонятного предмета, окатывая его пеной и брызгами.
Рыбаку показалось, что это — человек. Но опустившись к воде, он понял, что ошибся: это была громадная черная собака, бессильно распростершаяся на песке, а перед нею лежал, какой-то странный сверток, из которого слышался детский плач.
Собака была измучена, но бросилась на рыбака, защищая спасенное ею дитя. Потом инстинкт подсказал ей, что это друг, и она позволила ему взять ребенка — девочку, спеленатую спасательным поясом.
Более полувека прожил молчаливый суровый рыбак на берегу моря, не раз сам смотрел разъяренной стихии в глаза, чего только не встречал на берегу после бурь и кораблекрушений; но никогда не видел, чтобы у моря отвоевала крошечного ребенка собака, да еще у моря штормового. Это было похоже на сказку, если бы не война и факел корабля, погибшего ночью на глазах рыбака.
Отогревая ребенка, рыбак направился домой. Вслед за ним пришла жить в дом и собака.
Это были добрые, прекрасные люди, выходили и удочерили девочку. Назвали ее Мариной…
Вы понимаете мое состояние, когда я услышала, что вместе с собакой был ребенок, маленькая девочка… Ведь это же была моя дочь, моя Вера! — продолжала Надежда Андреевна.
— Где она? — почти закричала я, бросаясь к ним и тормоша то одного, то другого. Слезы ручьем лились из моих глаз.
— Она в школе, скоро придет, — сказал рыбак. Он едва успел проговорить это, как в комнату вошла девочка в опрятном платьице и переднике с ученической сумкой в руках. Так это — Вера?! Как она выросла! Она уже ходит в школу! И тем не менее, я сразу узнала ее. Эти синие-синие, как васильки, глаза, эти русые волосы могли принадлежать только ей, моей дочери Они так живо напомнили мне покойного мужа, ее отца… Остановившись у порога, она с любопытством разглядывала незнакомую женщину, недоумевая, почему Мирта ласкается ко мне.
— Вера!..
Я протянула к ней руки, а она не двигалась с места и удивленно смотрела на меня.
— Меня зовут Марина.
Марина! Ну, конечно, она была тогда настолько мала, что даже не помнила своего первого имени. Вера-Марина…
7
После рассказа Надежды Андреевны мы долго молчали.
Взошла луна и посеребрила длинную дорожку от далекой и высокой черты горизонта до берега; вечерняя свежесть разлилась в воздухе. Наступил тот час, когда природа с особой силой говорит человеческой душе. Голоса людей, шорохи шагов на бульваре сделались тише, словно отдалились; слышнее стал тихий ропот моря. Море вело свой бесконечный разговор. Может быть, оно хотело рассказать о том, как много-много тысяч лет назад человек привел в свой дом из первобытной чащи дикого зверя, стал заботиться о нем, превратил его в союзника и друга и как благодарный зверь сторицей отплатил человеку за его труд и ласку, служа бескорыстно и преданно…
— Поди, побегай! — нарушив молчание, ласково сказала Надежда Андреевна дочери, разжимая объятия и слегка подтолкнув ее вперед.
Девочка оставила скамью и побежала к воде, с тихим всплеском набегавшей на берег. Мирта немедленно вскочила и последовала за ней.
— Так это — она? — произнес я, с уважением провожая взглядом собаку.
— Нет, — качнула головой Надежда Андреевна. — Это дочь Мирты. Тоже Мирта. И такая же преданная. Той Мирты давно нет в живых. Но мы всегда будем помнить ее… Скоро поедем в Крым, к нашим бабушке и дедушке. Благодаря Мирте я не только вернула себе дочь, но и приобрела новых близких людей. Ведь не могла же я отнять у них Веру совсем? Через нее мы породнились навсегда…
С. Гаврилов Никогда не забудется
Четвероногие подрывники
Августовской ночью в тыл врага летел наш небольшой транспортный самолет. На его борту находилась группа вожатых с диверсионными собаками. Возглавлял группу сержант Алексей Бычков.
Над линией фронта фашисты открыли по самолету огонь из зениток, но, к счастью, все обошлось. Летчик, искусно маневрируя, сумел вывести машину в безопасную зону. Спустя еще некоторое время на земле мелькнули сигнальные костры, обозначавшие место посадки самолета…
…Командир партизанского отряда объяснил группе Алексея Бычкова боевую задачу. Много раз партизаны пытались пустить под откос эшелоны фашистов с важными военными грузами, медикаментами, следующими в сторону фронта, но постоянно терпели неудачу. Железнодорожное полотно тщательно охранялось, лес вдоль него был вырублен и обнесен колючей проволокой. Фашистские патрули круглосуточно ходили вдоль дороги, а по ночам освещали местность ракетами.
— Вся надежда теперь на вас и ваших питомцев, — сказал в заключение командир. — Если и они не смогут пройти, выполнение задания командования окажется под угрозой срыва.
В одну из ночей, предварительно ознакомившись с местностью, сделали первую попытку. Бычков и вожатый Николай Кириллов с собакой Джеком замаскировались на опушке леса, метрах в двухстах от полотна дороги.
Вскоре вдали послышался гудок паровоза. Вожатый надел на Джека вьюк со взрывчаткой. Проверил крепление и работу рукоятки сброса. Вдоль полотна заскользили неясные тени. Это были вражеские патрули.
По мере приближения поезда волнение собаководов возрастало. Их беспокоила мысль: как бы не ошибиться в моменте пуска собаки. Опоздаешь — эшелон успеет проскочить.
Когда поезд был примерно в трехстах метрах от предполагаемого места сброса вьюка, Кириллов, подтолкнув Джека, шепнул: «Вперед!» Сгибаясь под тяжестью взрывчатки, собака быстро двинулась к полотну дороги. Пес достиг проволочного заграждения. Тем временем паровоз быстро пошел под уклон. Джек попытался подлезть под заграждение, но ему мешал матерчатый вьюк, который цеплялся за острые колючки проволоки.
Фашистский патруль услышал шум и дал длинную автоматную очередь. Но, к счастью, пули миновали собаку. Решив, что в проволоке запутался какой-нибудь зверек, гитлеровцы пошли дальше. Джек еще раз попытался пролезть сквозь проволоку, и снова безрезультатно.
Собаки были обучены так, что если по каким-либо причинам не достигали полотна, то сразу возвращались к вожатому. Джек вернулся. С него сняли боевой вьюк и двинулись на базу. Первая попытка подорвать эшелон не удалась. Винить в этом Джека было нельзя. На его пути стояла непреодолимая преграда.
Партизаны стали искать другой участок, более удобный для прохода собаки. И вскоре его нашли. Здесь не было сплошного проволочного заграждения. Зато патрули — усиленные.
Днем охрана железной дороги, как правило, была слабее, чем ночью. Следующую попытку подрыва эшелона решено было сделать днем. На этот раз выбор пал на Дину.
На выбранном участке вдоль полотна были воронки от крупных авиационных бомб. Глубокой ночью Бычков и Александр Филатов с Диной пробрались ползком в одну из них. Замаскировались и стали ждать рассвета. В другой воронке устроились два партизана. На них возлагалась задача прикрыть собаку огнем, если фашисты ее заметят.
Солнце встало и согрело землю. И снова гудок паровоза. Филатов привел Дину в боевую готовность. Потянулись томительные минуты ожидания. Наконец настал момент пуска. Собака прошла кустарником, оврагом, а потом — на крутой подъем и нырнула в разрыв проволочного заграждения. Правда, вьюк зацепился за колючки проволоки, но Дина, рывком прошла вперед. Выскочив на полотно, она остановилась между рельсами и зубами потянула рукоятку вьюка. Он развалился на две части и упал к ногам собаки. Сразу же задымил бикфордов шнур. Почуяв знакомый запах гари, Дина со всех ног бросилась назад к своему вожатому.
В это время фашистский патруль повернул обратно и увидел мелькнувшую собаку. Гитлеровцы не сразу сообразили, как и зачем она здесь оказалась, но на всякий случай дали по ней несколько автоматных очередей. Услышав свист пуль, овчарка стремглав скатилась по склону оврага.
Фашисты сначала не обратили внимания на вьюк, лежащий между рельсами, но затем один из них кинулся к нему. Этого только и ждал партизанский снайпер. Выстрел — и гитлеровец растянулся на откосе. Заметив на полотне солдат, машинист паровоза попробовал затормозить, но поздно — раздался взрыв. Паровоз подпрыгнул и скатился под откос, увлекая за собой платформы с танками, самоходками и другой боевой техникой.
Овчарка быстро по следу нашла вожатого, который вместе с остальными участниками операции уходил через лес к партизанскому лагерю.
Эта диверсия была совершена 19 августа 1943 года в 11 часов дня на перегоне Полоцк — Дрисса. Движение на дороге было прервано на несколько дней.
И так спасали раненых…
Впервые в истории наших Вооруженных Сил подразделения нартовых упряжек собак для вывоза тяжелораненых воинов с поля боя стали применяться во время войны с белофиннами. На Кандалакшском и Карельском направлениях в боях участвовали отдельные отряды санитарных упряжек собак, подготовленные в Центральной школе военного собаководства Красной Армии. Ими командовали — полковник К. Мищенко, майор В. Голубев, а действиями сводного курсантского отряда руководил автор этих строк.
За короткое время в условиях суровой зимы 1940 года были вывезены и доставлены на медицинские пункты тысячи раненых и обмороженных бойцов и командиров. Благодаря такой оперативности врачам удалось сохранить жизни многим воинам. Кстати, на обратном пути, уже к передовым позициям, на этих упряжках подвозились боеприпасы, продовольствие и другие важные грузы.
Опыт использования нартовых упряжек собак был приумножен в годы Великой Отечественной войны. На фронтах действовало около 15 тысяч упряжек. Зимой на нартах, летом на специальных тележках они вывезли с полей сражений тысячи и тысячи раненых и контуженых воинов вместе с их оружием.
В течение зимы 1942 года в боях за Ленинград 16-й отдельный отряд нартовых упряжек собак (командир — капитан Ф. Акишин) вывез 1729 человек и доставил 20 тонн боеприпасов и продовольствия, а отряд, которым командовал я, — 2250 раненых. В труднейших условиях действовал на Карельском фронте 19-й отряд. Несмотря на это, свою задачу он выполнил успешно и получил высокую оценку военного совета фронта: «В сложных условиях заносов и бездорожья нартовые упряжки были основным видом транспорта в батальонах и полках…»
А вот отзыв начальника санитарной службы 1-й ударной армии: «В результате применения санитарных собак в дивизиях сокращено число санитаров-носильщиков. В некоторых случаях нартовые упряжки заменили полностью работу санитаров рот и батальонов, вместе с тем сроки эвакуации раненых с поля боя сократились».
Действия вожатых нартовых упряжек не ограничивались только вывозкой раненых. Нередко они с оружием в руках сражались с врагом. Так, при форсировании реки Великой 14 июня 1944 года вожатые сержант А. Руднев, рядовые М. Елин и Р. Линник, вывозя раненых, трижды участвовали в отражении контратак гитлеровцев. Когда в кожухах пулеметов выкипела вода и почти не оставалось боеприпасов, на выручку подоспел рядовой П. Торопкин с тележкой, нагруженной пулеметными лентами и бидонами с водой. Контратака гитлеровцев была отражена.
При форсировании реки Нейсе взвод старшины Б. Анисимова в ночь с 15 на 16 апреля 1945 года на десяти упряжках эвакуировал с поля боя 310 тяжелораненых.
При выполнении этого задания особенно отличились дальневосточник рядовой И. Левченко и его сослуживец рядовой Я. Козлов. В боевых порядках нашей пехоты ворвались они в траншеи противника, где оказывали доврачебную помощь раненым и доставляли их на посты санитарного транспорта. Вожатый Я. Козлов на своей упряжке, сам раненый, продолжал выполнять свои обязанности.
В том же бою ранило командира одного из полков. Для его выноса были посланы четыре санитара. Однако по пути два из них погибли, один был ранен. И другие попытки спасти командира оказались тщетными. Тогда выполнить задачу вызвался рядовой И. Левченко.
Он со своей упряжкой ползком добрался до траншеи, оказал офицеру первую помощь и сумел доставить его потом на медицинский пункт. Жизнь командира удалось спасти.
Помимо ездово-санитарных упряжек на фронтах использовались диверсионные собаки, собаки-истребители танков, собаки-миноискатели, а также собаки санитарной службы, имеющие на спинах санитарные сумки.
Они сами отыскивали раненых и приводили к ним санитаров. Благодаря этому многие сотни советских бойцов и командиров были спасены. Так, лишь одна собака Марго отыскала около четырехсот тяжелораненых.
…Вожатые ездово-санитарных упряжек собак в составе Центральной школы военного собаководства участвовали в историческом Параде Победы в Москве. Они прошли торжественным маршем перед Мавзолеем В., И. Ленина. Рядом с ними на коротких поводках были их четвероногие друзья.
Охотники за минами
Когда Юрий Русаков со своим Кедром прибыл по назначению и доложил командиру взвода, офицер неподдельно удивился. Оказывается, он и не подозревал о существовании собак, которые могут быть помощниками саперов.
— Что же, — сказал лейтенант, — мы сейчас как раз разминируем оставленную гитлеровцами полосу заграждений. Там и проверим вашего Кедра…
Явились на указанный участок. По сигналу вожатого собака начала поиск. Буквально за полчаса она обнаружила три противопехотные мины и фугас. Перед каждым зарядом Кедр садился. Русаков щупом проверял подозрительное место, вынимал заряд, давал собаке немного мяса. А потом, отведя Кедра в сторону, разряжал боеприпас.
— Ну и ну, — изумленно произнес командир взвода, присутствовавший при этом. — Какой же это совершенный инструмент — собачий нос!
Вскоре офицер убедился, что четвероногий помощник сапера запросто находит заряды в любой упаковке — в отличие от миноискателя, который «чуял» лишь металл. С той поры он окончательно поверил в способности Кедра.
…С детства, живя в сибирской деревне, Юра любил возиться с собаками. Его пес был на редкость понятливым и дисциплинированным. Но вот грянула Великая Отечественная война. Отец с первых дней ушел воевать. Не усидел дома и Юра. Однажды, прихватив с собой Кедра, прямиком направился в военкомат. Военком был неумолим: «Подрасти маленько, ведь тебе всего семнадцать».
И тогда юноша загорелся желанием самостоятельно добраться в подмосковную школу военного собаководства, о которой слышал давно. Ехали с Кедром в товарных вагонах «зайцами».
В школе военного собаководства у Юры проверили документы, состояние здоровья, а также состояние здоровья собаки и оставили. Юра обучался саперному делу. Освоил практику разминирования наших и вражеских мин. И Кедр был на высоте положения — любой заряд наловчился находить быстро. Минуло еще время — и вот оба на фронте.
…Войска продвигались вперед. Захвачен крупный населенный пункт. Саперное отделение получило приказ проверить здание, которое предназначалось под госпиталь. С миноискателями и щупами бойцы шаг за шагом исследовали полы, стены, потолки, подвал двухэтажного здания. Обезвредили десятки взрывных устройств. Командир отделения доложил взводному об успешном выполнении задания. Однако лейтенант не спешил ставить в известность об этом начальство.
— Теперь пусть Кедр произведет контрольную проверку, — распорядился он.
Русаков начал с подвала. Кедр, пущенный в работу без поводка, обнюхал земляное покрытие пола. Ничего не обнаружил. Но вдруг остановился, внимательно посмотрел вверх и тотчас сел. Юра пригляделся к стене и потолку, но ничего подозрительного не заметил. Повторил команду: «Ищи!» Кедр неохотно поднялся, сделал два шага и снова вернулся на старое место. «Значит, что-то здесь есть», — подумал боец, вполне доверяя чутью четвероногого друга. Подставил к стене лестницу. Щупом осторожно потыкал в потемневший угол у самого потолка. Соскоблив штукатурку, увидел вмазанный камень. Вынул его. В нише едва слышно тикала мина с часовым механизмом, а за ней находилась взрывчатка.
— Молодец, Кедр, — похвалил Юрий. Он передал мину в пластмассовой коробочке и взрывчатку командиру взвода и продолжил работу. К счастью, больше «сюрпризов» не было.
Бежали дни за днями. Однажды зимой перед наступлением потребовалось сделать проходы в минном поле перед передним краем обороны. Саперное отделение с вожатым Русаковым и его собакой ушли на задание ночью. Все надели маскировочные халаты, для Кедра сшили белый жилет, чтобы и он не выделялся на снегу.
Гитлеровцы периодически освещали местность ракетами, и тогда приходилось ползти. Неожиданно появились проволочные заграждения. В ход пошли ножницы. Прошло еще немного времени, и из-под снега были извлечены противопехотные и противотанковые мины.
Кедр тем временем добросовестно обнюхивал свой участок. Нашел заложенные заряды у столбов проволочного заграждения. Вдруг собака легла и натянула поводок. Вожатый знаком указал старшему группы на опасность: вдоль окопов следовал вражеский патруль. Бойцы замерли. Но вот Кедр опять зашевелился: опасность миновала. Работа продолжалась. Отделение выполнило задачу, бойцы благополучно вернулись назад.
А в следующий раз Кедр спас Русакову жизнь. Как-то при разминировании недалеко от Юрия разорвался гитлеровский снаряд. Взрывная волна отбросила бойца в воронку, где его засыпало землей. Кедр не растерялся: мгновенно бросился следом и, усердно работая четырьмя лапами, откопал вожатого. Русаков отделался легкой контузией.
…На Параде Победы по Красной площади шел, сверкая до блеска начищенными наградами, рядовой Юрий Русаков. А рядом с ним был Кедр.
— Спокойно, — изредка говорил он собаке. — Не надо волноваться: война кончилась.
Каро в боях
Звали его Каро. Пес не простой, а специально обученный. На войне ведь всякое бывает, и там, где нет никакой возможности пройти, скажем солдату-связисту, пробежит, проплывет, проползет обученная собака. Такая, как Каро.
А попал он на фронт так. Однажды к нам в Центральную школу военного собаководства пришел парнишка, почти мальчик, и попросил принять его на военную службу вместе с обученным им годовалым псом. Проверили Каро: умеет кое-что. Взялись учить, а некоторое время спустя и Ваня Зыков, так звали парня, стал у нас военную службу проходить. К тому времени Каро по команде «пост!» уже умел бежать в назначенное место, преодолевать водные преграды, овраги, болота. Привык он и к учебным выстрелам и взрывам. Так что Ване Зыкову пришлось даже догонять своего четвероногого приятеля в военной науке.
Прошло еще немного времени, и Ваню с Каро зачислили в стрелковую роту лейтенанта Петра Данева.
Солдаты, когда увидели «пополнение» — щуплого Ваню и рядом с ним на поводке крупную овчарку, — на смех их подняли. Ну и вояки, мол! А зря смеялись, потому что вскоре случилось вот что…
Рота вела оборонительный бой. Фашистские стервятники сбрасывали бомбы, рвались снаряды и мины. Конечно, под бомбежкой и артобстрелом и человеку страшно, а собаке? Сидит Каро в окопе, прижался к ногам хозяина, не сводит с него своих испуганных глаз. Но знает — без команды сейчас ничего нельзя делать, даже голоса подать. Да и сам Ваня Зыков неловко себя чувствует. Первый раз ведь в бою.
Положение роты, несмотря на стойкость наших солдат, все осложнялось. Потери увеличивались с каждым часом. Фашисты начали обходить роту с флангов. А тут телефонная связь с батальоном прервалась. Послали одного связиста для восстановления, другого — не дошли солдаты: открытое место за окопами фашистские снайперы взяли на прицел. Вот тогда и настал черед Каро. Это была последняя надежда сообщить в штаб о случившемся, запросить помощь.
Ротный написал донесение, а Ваня Зыков вложил записку в портдепешник на ошейнике Каро, поднял его на бруствер окопа и подал команду. Каро взял было быстрый аллюр напрямую, но огонь врага заставил его искать более безопасный путь. Где по кустарнику, где по лощинкам, по канавкам ползком добирался он.
Впереди показалась небольшая быстрая речка. Каро с ходу кинулся в воду. Фашисты заметили отважную собаку и открыли по ней пулеметный огонь. Вода фонтанчиками забурлила вокруг пса. Одна пуля задела ухо. Но ничто не могло остановить Каро. Вот и другой берег. Там, в лесочке, штаб. Собаку заметили наши, прикрыли ее огнем. Каро, тяжело дыша, прибежал и подставил ошейник второму своему вожатому, которого знал так же хорошо, как и Ваню Зыкова. Донесение передали командиру, и он отдал приказ ударить по фашистам из орудий. А собаке тем временем санитар оказал помощь, и она тут же получила добрый кусок мяса.
Вот так четвероногий друг-связист помог нашим солдатам.
С того случая стал Каро любимцем всей роты. Даже строгий лейтенант Данев нет-нет да баловал его то кусочком сахара, то галетой, а всем вновь прибывшим рассказывал о его подвиге.
А однажды был такой случай.
Телефонист рядовой Самойлов долго вызывал штаб полка, но ответа не последовало. Доложил комбату. Тот приказал восстановить связь. Найти обрыв кабеля вызвался рядовой Матраков — смелый и опытный боец. По-пластунски пополз вдоль провода. Когда до штаба оставалось совсем немного, солдат был тяжело ранен. Дальше двигаться не мог. Все это происходило на глазах у воинов.
Рядовой Зыков предложил использовать своего боевого друга — Каро.
К ошейнику овчарки привязали конец кабеля, а одному из солдат приказали внимательно следить за размоткой катушки. Ибо задержка могла привести к гибели собаки. Вожатый подал команду, и овчарка помчалась вперед.
Вот и воронка, где лежал раненый Матраков. Он снял с ошейника собаки перевязочный пакет, который предусмотрительно прикрепил вожатый, и сделал перевязку. Затем овчарка побежала дальше.
Начало темнеть, когда Каро добрался до штабного блиндажа. Конец провода быстро подключили к телефонному аппарату. Связь с полком была восстановлена.
…Во время наступления рота лейтенанта Данева оторвалась от основных сил и попала в окружение. Солдаты дрались отважно и стойко. Но с боеприпасами становилось все хуже и хуже. А без патронов как драться? И тут Каро опять пригодился, но уже не как связист, а как подносчик патронов. Это сам Ваня Зыков придумал. Он взял и вложил в портдепешник просьбу ротного, чтобы прислали с Каро патронов. Начальник пункта боепитания так и сделал, потому что никакому другому подносчику боеприпасов нельзя было пройти из-за сильного огня. Прикрепили на спину Каро несколько автоматных дисков и отпустили, дав команду «пост!». Собаке груз показался нелегким и неудобным, но делать было нечего, команду надо выполнять. Ведь его ждет хозяин!
Напрягая все силы, Каро где бегом, где ползком, укрываясь от огня, изнемогая от усталости, все же благополучно добрался до окопа своего вожатого. И вовремя: с помощью принесенных им боеприпасов рота отразила еще одну атаку фашистов. А Каро в это время уже бежал за новой их порцией. Так в тот день он сделал трижды. Даневцы продержались до вечера, а как стемнело, дерзким броском вырвались к своим.
Многие солдаты за этот бой получили награды. Рядовой Иван Зыков — медаль «За боевые заслуги».
— Жаль, нечем Каро отметить, — сокрушались солдаты. — Двойной обед — разве это награда за такой подвиг?
Но Каро был доволен и этим.
А кто-то из связистов в боевом листке поместил свое стихотворение о Каро:
Хоть на вид и неказист Каро лохматый, наш связист, Но в бою он все сумеет И себя преодолеет. Нипочем ему буран, Дождь, овраги и туман, Даже мины вражьей вой, Даже самый страшный бой. За отвагу, словно брата, Каро любят все солдаты. Сколько раз их выручал И ни разу не ворчал!Всю войну Иван Зыков со своим лохматым другом находился на фронте. Оба были несколько раз ранены, к счастью легко, и из строя не выходили. Они дошли до Берлина, а во время исторического Парада Победы в Москве рядовой И. Зыков гордо шагал в строю победителей по Красной площади, и рядом с ним на коротком поводке с достоинством шел Каро. На груди вожатого ярко сверкали боевые награды Родины: орден Красной Звезды и три медали.
ТРЕВОЖНЫЕ БУДНИ
В. Киселев Застава
— Все, приехали. Дальше некуда. Граница. — Солдат-первогодок Сергей Аблин остановил машину.
Первое очень острое чувство связано с тем, что налево можно и направо можно, назад — пожалуйста. А вот вперед нельзя. Там та же степь с метелками ковыля, шарами перекати-поля и блестящими пятнами солончаков. Морщинистый старик с белой как пух бородой клинышком, трусящий верхом на ишаке, за которым я наблюдаю в бинокль, очень похож на стариков, встреченных на пути к заставе.
Увы, не каждого соседа назовешь другом. И пока границы есть, их надо охранять. Каждую минуту и секунду. В любую погоду. Бдительно. Надежно.
Почему стал пограничником Иван Хижняк? Трудный вопрос. Даже сам лейтенант не может толком ответить на него. Традиции? Да нет. Не было в роду пограничников. Окончил Высшее пограничное военно-политическое училище. Попросился туда, где потруднее и обстановка посложнее. Попал на восточную границу и вот уже второй год несет здесь нелегкую службу. И не жалуется. И считает, что жизнь задалась.
Сложно говорить с Иваном Хижняком. Не потому, что неразговорчив он, замкнут или стеснителен. Наоборот, очень общителен. Но постоянно что-то прерывает нашу беседу. Это — застава. Здесь ничего нельзя оставлять «на потом». Если только сон… или очередной отпуск… или еще что-либо, относящееся к жизни личной… Ничто не должно отражаться на главной задаче: перекрыть участок границы, за который ответствен, так, чтобы никто не смог перейти его незамеченным — ни человек, ни зверь.
Это сказано не ради красного словца. Заметит наряд на контрольно-следовой полосе отпечаток человеческой ноги или копыта зверя — результат один: «Застава — в ружье!» И прочь все заботы, кроме одной — преградить, не допустить, успеть…
Двое суток держался без сна Иван Хижняк. На третьи не выдержал. Заснул во время фильма. Я не стал будить. Пусть поспит лейтенант. Ему необходимо отдохнуть хоть немного.
Дни в этих краях жаркие. Да нет, даже не жаркие. Знойные дни. Настолько, что уже к июню выгорает под солнцем начисто вся степь. На многие километры вокруг — лишь растрескавшаяся корка земли с серым пыльным ежиком высохшей травы да прожигающие подметку сапога раскаленные островки песка. Такого пекла не выдерживают даже старые толстые тополя. Сворачивают в трубочку и сбрасывают пожухлые листья. Так легче. А молодые деревца, высаженные вокруг заставы, все болеют который год, не могут прижиться, несмотря на то, что привозят им регулярно автоцистерну с питьевой водой.
Ночи в этих краях темные. Густую, плотную черноту не могут пробить даже по-южному крупные и яркие звезды.
Исчезают в темноте наряды, выходят на позиции прожекторы и радиолокационные станции. Граница не только просматривается с помощью приборов ночного видения, но и прослушивается. Это не просто. В наушниках постоянный треск от бьющейся о берег реки, шелеста травы, но опытный оператор по изменению звука определяет даже заячий скок.
Однако как бы ни совершенствовались приборы, помогающие человеку, без верного, испытанного помощника — собаки — пограничнику не обойтись.
На заставе собаки выглядят куда внушительнее, чем их четвероногие собратья, живущие в городских квартирах. Толстые шеи, бугры мышц перекатываются под шерстью. Огромные клыки обнажаются мгновенно, едва только подойдешь к вольеру.
Но есть люди, каждое слово которых закон для этих неукротимых зверей. Это вожатые служебных собак — пограничники с беспредельно развитым чувством самоотдачи, надежные друзья и просто смелые парни.
Когда я был на этой заставе, один из них, рядовой Игорь Козлов, совсем недавно начал службу.
Несколько лет занимался Игорь в Павлодарском клубе служебного собаководства. Хотел прийти на границу с воспитанной им собакой, но она не прошла по возрасту. Требования к пограничным собакам жесткие.
На заставе Козлову дали Айну, хозяин которой, отслужив положенное, уволился в запас. Айна тосковала. Отказывалась от пищи, слабела. Сердце какого собаковода, если он таков по призванию, выдержит в подобной ситуации?
И Игорь откинул крючок и вошел в вольер. С первого же раза. Посмотрев Айне в глаза, положил руку на загривок.
Есть на заставе и человек, который несет службу днем на наблюдательной вышке. Спозаранку припадает он к мощной оптике, вглядываясь в отведенный сектор обзора: урчит на поле трактор, пылит автомобиль, блестят на солнце отполированные мотыги крестьян, поднимаются дымки над трубами в селе. Но трактор — чужой, и автомобиль — чужой. И деревушка — не обычная деревушка, а сельхозрота. Все жители — ополченцы, регулярно проходящие военную подготовку, готовые по первому приказу стать под ружье.
Это понимает рядовой Юрий Изотов. Поэтому нет для него мелочей в малейшем изменении обстановки в секторе обзора.
Гражданская профессия у Юрия самая мирная — строитель. Военная тоже очень мирная — повар-хлебопек.
Хлеб он печет ночью. А днем, когда подойдет черед, стоит на вышке. Второе лето встречает на заставе Изотов. Он стоял на посту вчера, заступит сегодня и завтра. Чтобы вновь и вновь сменялись времена года. Чтобы счастливой была его девушка. Чтобы мир был в каждом доме.
А по другую сторону границы высятся сложенные из темного кирпича массивные мрачные башни. Настороженно поблескивают в бойницах стекла повернутых в нашу сторону приборов.
И сдерживаешь готовый сорваться вопрос: не приедается ли каждодневная служба, повторение одного и того же, не пропадает ли чувство границы, столь сильное вначале? Понимаешь, что ответ может быть лишь однозначным — нет!
Ни днем ни ночью не умолкает Москва. Даже сейчас, далеко за полночь, приносит она в мое открытое окно на двенадцатом этаже то стук каблуков по асфальту одинокого прохожего, то автомобильный сигнал. Я вслушиваюсь в голос ночной столицы и думаю о своих товарищах с заставы. Сейчас там ближе к утру. На границе — тишина. Как важно, чтобы она была мирной, а не тревожной.
Василий Великанов Случай на границе
С подъема начальник погранзаставы майор Киселев был в штабе. Чуть-чуть рассветало, где-то за стеной ритмично тукал движок, посылая электрический свет по проводам. После физзарядки солдаты умывались в туалетной комнате, весело переговаривались между собой, брызгались и смеялись. Дневальный Полюшкин, высокий сухощавый парень, подметал казарму и ворчал на своих товарищей, выбегавших из туалетной комнаты:
— Куда вы, погодите. Дайте порядок навести…
— А ты поживей бы поворачивался, медведь… — шутили над ним товарищи.
В штабную комнату стремительно вошел дежурный по части старшина Пономаренко, здоровенный, скуластый, и басом отчеканил:
— Товарищ майор, от сержанта Сивкова радиограмма…
Майор Киселев развернул листок бумаги и пробежал глазами короткое донесение.
— Объявите боевую тревогу и вызовите ко мне лейтенанта Белозерова.
— Есть, объявить тревогу и вызвать лейтенанта Белозерова.
Старшина Пономаренко сделал четкий поворот «кругом» и исчез за дверью. Вскоре послышалась зычная команда старшины:
— Застава-а, в ружье!..
…В штабную комнату вошел лейтенант Белозеров, среднего роста, круглолицый, коренастый.
— Товарищ майор, по вашему вызову лейтенант Белозеров прибыл.
Майор Киселев протянул ему донесение Сивкова.
— Ознакомьтесь, — и взглянул на ручные часы. — Сейчас пять сорок. Немедленно разъезду из трех конных под вашим командованием выехать в район Тихого ущелья — помочь Сивкову найти нарушителя. Возьмите с собой собаку. Задача ясна?
— Так точно.
— Выполняйте.
После ухода лейтенанта Белозерова майор Киселев вызвал радиста Веселова, протянул ему лист бумаги с текстом радиограммы:
— Немедленно передайте «Каме», «Оке» и «Волге». О приеме радиограммы доложите.
Через несколько минут всадники широкой рысью покинули заставу. А в эфир полетели тревожные радиограммы о том, что в ночь с первого на второе ноября нарушитель перешел государственную границу.
Уже совсем рассвело, а в ущелье было еще темновато. Небо заволокло серой пеленой туч.
След нарушителя петлял по склону горы, поднимаясь все выше и выше — к вершинам. Вероятно, этот человек умышленно следовал тяжелым, сложным путем — чтобы затруднить погоню…
Сивков привык ходить по горам, но от быстрого шага все же изрядно утомился. Теперь бы отдохнуть хоть пять минут. Однако слишком дорого время. Нарушитель может пересечь горы и уйти в лес, а там — и в большой город… Ищи-свищи его тогда. И как назло, напарник Воробьев вывихнул ногу и отстал… Одному труднее преследовать врага…
Вместе с собакой Сивков поднялся на небольшое голое плато и прислушался. Тихо. Огляделся по сторонам и взглянул вперед: метрах в семидесяти от него — большой кусок скалы, серый, голый, конусовидный. Как раз с той стороны тянул ветерок.
Марс оторвал нос от земли, приподнял черноватую длинную морду. Внюхавшись в струю воздуха, он рванулся вперед и ощетинился.
— Лежать! — тихо приказал Сивков и, упав на землю, спрятал голову за камень. Марс прижался рядом, вздрагивая от возбуждения. Большой и мускулистый, весь в злобном напряжении, он готов был решительно броситься на врага, спрятавшегося где-то совсем близко…
Можно подкараулить противника и сразить его меткой очередью или подползти и приглушить гранатой. Но лучше захватить живым. Через него можно размотать большой клубок замышляемых преступлений… Но как его взять живым?..
Вот, кажется, и выпал счастливый случай проверить своего Марса на обходной маневр. Как-то Сивков прочитал в газете, что на фронте у вожатого Корецкого собака Альфа, пущенная на противника, шла обходным путем по лощинам и набрасывалась на врага с тыла. «А почему бы и мне так не научить своего Марса?..» — задумался тогда Сивков. Много пришлось потрудиться ему в дрессировке Марса на обходной маневр. Обычно собак приучали действовать в непрерывной близости с вожатыми. Они бросались на нарушителя с фронта, прямо в лоб, и нередко погибали от первой пули врага. Сивков же научил собаку действовать и в отрыве от него — ходить на врага в обход.
Сержант отстегнул поводок от ошейника, тихо и властно несколько раз повторил: «Кругом, фас!» И отпустил ошейник.
Пограничник опасался, что Марс, охваченный злобной животной горячкой, забыл сейчас о его дрессировке и, повинуясь инстинкту преследования врага, побежит вперед. Но нет. Сорвавшись с места, он побежал не вперед, а назад. Метров через сорок повернул влево и, спускаясь по склону горы, скрылся из глаз. Значит, понял команду…
Чтобы сковать действия и волю противника, Сивков дал по камню, за которым притаился нарушитель, короткую очередь.
Эхо дробно раскатилось по горам.
Через несколько минут из-за противоположного ската плато показался Марс. Распластываясь в беге, он стремительно взлетел на пригорок и скрылся за камнем.
Раздался крик и выстрел. Сивков выскочил из-за своего укрытия и побежал на помощь Марсу. Пес вцепился зубами нарушителю в шею сзади так крепко, что тот никак не мог сбросить его с себя. Левая задняя лапа собаки была в крови. Недалеко от них валялся на земле длинностволый черный пистолет.
…Конный разъезд пограничников под командованием лейтенанта Белозерова подъехал к месту происшествия в то время, когда нарушитель уже был обезврежен и сидел у камня, прислонившись к нему спиной. Ему было лет сорок. Он поник головой и смотрел в землю.
Перед ним стоял сержант Сивков с карабином на взводе, а недалеко от хозяина лежал Марс, зализывая раненую лапу.
Н. Лободюк Тревога
В четыре часа утра дверь в комнату дежурного резко распахнулась. На пороге стояла немолодая женщина. Еле сдерживая частое дыхание, она выговорила:
— У нас на маяке чужой человек…
Но еще до ее прихода на участке Н-ской заставы были обнаружены едва уловимые признаки нарушения границы. Все говорило о том, что в наш тыл прокрался хитрый и опытный враг. И тогда раздалась команда:
— Тревога!
Начался пограничный поиск. Чем шире он разворачивался, тем становилось очевиднее: готовясь перейти границу, нарушитель тщательно изучил участок. Искусно маскируясь, он долгими часами неотрывно вел наблюдение за нашей территорией, мысленно вычерчивая свой коварный маршрут.
Замысел лазутчика был понятен: выйти к ближайшим населенным пунктам, где его след найти будет значительно сложнее. Натыкаясь на многие посторонние отпечатки, служебные собаки станут сбиваться, путаться. Закон границы непреложен: с момента ее перехода каждая лишняя минута на руку врагу.
«Горячий» след то отыскивался, то вновь обрывался. Но тиски поиска сжимались.
Пограничная группа в расчетное время неминуемо схватила бы лазутчика. Но случилось так, что он был задержан несколько раньше. Ведь каждый житель этих мест всегда готов оказать содействие пограничникам…
Владимир Васильевич Симонов — начальник маяка, услышав резкий, отрывистый лай собак, не мешкая поднялся с постели. Включил в доме свет, взял фонарь, сунул в карман ракетницу — мало ли что? Елизавета Федоровна — жена, обеспокоенная поведением собак, лай которых становился все громче, неукротимее, прильнула к окошку.
Выходя из дому, Владимир Васильевич глянул на часы: половина четвертого… На дворе хозяйничал ветер.
Спускаясь по ступенькам вниз, Владимир Васильевич прикрикнул на собак Нору и Сильву, поднял фонарь над головой. Яркий сноп света выхватил из тьмы собак, обступивших поваленного на землю человека. Симонов догадался обо всем моментально. Незнакомец сделал попытку подняться, но резкий окрик предупредил его намерение, он распластался на земле, вытянув руки вперед. Нора и Сильва, взбудораженные, чуть отступили, освобождая путь хозяину. Для верности приведя ракетницу в готовность, Владимир Васильевич приблизился к лежащему на земле.
Начальник маяка вел себя, как заправский солдат-пограничник, хотя в армии он никогда не служил. Детство и юность выпали на военное лихолетье. Семнадцатилетним он добровольно уехал на один из самых сложных участков трудового фронта на Дальний Восток. Произошло это в 1943 году. Здесь, в глубоком тылу, оборонное производство нуждалось в умелых специалистах. К лету 1945-го вернулся домой, на Вологодчину, в родную Шую. Устроился слесарем на ткацкую фабрику. Тут и познакомился со своей будущей женой Елизаветой Федоровной. Бережно хранит она мужнину медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Жили хорошо: имели квартиру, любимую работу, растили дочку и сына. Но однажды шевельнулась дремавшая долгие годы память о Дальнем Востоке. И Симоновы переехали сюда, пустили корни на новом месте.
…Симонов привел ночного гостя в дизельную, приказал сесть на стул у крошечного окошка. Внимательно следя за незнакомцем, убрал тяжелый инструмент.
Елизавета Федоровна подождала-подождала и, почуяв неладное, отправилась за мужем: нашла его в дизельной.
Кому-то из них надо было немедленно сообщить пограничникам о происшедшем. Пойти ему — значит оставить жену один на один с задержанным нарушителем государственной границы. Это исключено. И ее посылать — страшно подумать. Ночь, темень, а впереди ледяная пустыня бухты, которую не умеючи не преодолеешь: то здесь то там трещины, едва схваченные слюдяной коркой лунки, оставленные рыбаками. Судить-рядить некогда, и Елизавета Федоровна, одевшись потеплее, вооружившись палкой и фонарем, позвав Нору и Сильву, решительно спустилась с каменного острова на лед.
Симонов перебрался с нарушителем в дом.
Что он думал, какие чувства испытывал в эти тревожные минуты?
Прежде всего, беспокоился за жену. И верил в нее — пройдет благополучно. Перед задержанным страха не испытывал. Верил в себя.
Так они и сидели: начальник советского маяка, огромный, высокий, худощавый, с широченными ладонями, — по одну сторону стола; пришелец из-за кордона, коренастый, перевитый литыми мышцами, — по другую.
Между тем Нора и Сильва мягко ступали следом за хозяйкой.
«Где шагом, где бегом, — рассказывала потом Елизавета Федоровна звонким задушевным голосом, — спешу, а мысли роем вьются. За мужа беспокоюсь больше всего. Он хоть и здоровый, крепкий, да ведь всякое бывает. За себя боялась только по одной причине: вдруг чужак не один — с „хвостом“. Одного мы взяли, а второй, может, сейчас следит, не даст до пограничников дойти».
«Хвост», как показалось Елизавете Федоровне, должен был быть где-то справа, в тени от скалы. Преодолеть бы этот отрезок, а там не страшно. За скалой гораздо светлее, дорогу хорошо видно. Но за скалой как раз и подстерегала ее самая серьезная опасность. Путь преградила широкая трещина. С трудом преодолела ее и заторопилась дальше. Однако прежде сделала вот что — повернула собак домой. «Они не хотели возвращаться, но я их все-таки уговорила. Вдруг что случится с хозяином, они и выручат, а я как-нибудь доберусь».
Не знала она, что тем временем к каменному острову подходила пограничная группа.
Выбравшись на берег, Елизавета Федоровна побежала к пограничникам. Вот и дверь в комнату дежурного. Толчок — и, не слыша собственного голоса, она громко сказала:
— У нас на маяке чужой человек…
Супруги Симоновы поступили, как настоящие солдаты-пограничники.
В. Горлов Погоня на рассвете
— Костерин, — тихо сказал старший лейтенант Пирюшев, — не гони так быстро. Теперь ведь не к спеху. Да и ребята…
Шофер взглянул в зеркальце и улыбнулся. Прислонившись друг к другу, Камалтдинов, Сапегин и Торопов крепко спали. Лишь Дик, вытянувшись у их ног и по-прежнему навострив уши, нес свою службу.
— Во дают! — не скрывая зависти, весело отозвался Костерин. — После такого — и заснуть. Ну и нервы…
…В 6.02 дежурный по заставе рядовой Саенко принял сигнал о нарушении государственной границы. Через секунды он услышал, как отбарабанили в коридоре сапоги, как за окном вразнобой хлопнули дверцы машины и медленно растворился в шуме дождя гул мотора.
Они ехали в машине молча и смотрели в окно. Но что там можно было увидеть? Даже «дворники» на лобовом стекле едва успевали разгребать мутные лужицы. Ночь выдалась трудной. Такие чаще выпадают ранней весной и поздней осенью. Ветер и дождь зарядили с самого вечера. Это был десятый выезд на границу. Все они основательно промокли, промерзли и одинаково хотели спать.
6.22 — взглянул на часы Пирюшев и остался доволен шофером. Он видел, как быстро исчезают в темноте Камалтдинов, Сапегин и Торопов, хотел крикнуть вдогонку что-нибудь ободряющее, но вышло сухое и командирское:
— Камалтдинов! Повнимательнее на КСП!
Ефрейтор Ренат Камалтдинов, услышав наставление командира, даже чуть обиделся: подними ночью и новичка, он без запинки отбарабанит, как нужно действовать тревожной группе при осмотре границы. А Сапегин, Торопов и он, Камалтдинов, не первогодки. Сколько раз за время службы тревога призывала их сюда, на контрольно-следовую полосу. Сколько раз читал на ней разные «автографы»: горных козлов, волков, зайцев. Но это так, «между строк».
— Сапегин, — приказал ефрейтор, — смотри ограждение. Торопов — на дорогу.
Они действовали без суеты, привычно, каждый знал свой маневр наизусть. Дождь не прекращался, под ногами хлюпала грязь, фонарь едва пробивал туманную завесу. Камалтдинов не прошел и сотни метров, когда луч света выхватил на распаханной полосе ровные строчки следов. Ренат присел на корточки и внимательно осмотрел их. Сомнений не осталось — прошли люди.
…На соседнем участке было тихо. Костерин изловчился сделать крутое кольцо на узкой дороге, поддал газу. Мысленно старший лейтенант Пирюшев был сейчас там, где осталась тревожная группа. Три года, как он, выпускник погранучилища, пришел на заставу. Теперь он здесь — самый опытный по стажу из офицеров. И группа сейчас подобралась надежная — все опытные, знающие свое дело ребята.
Костерин — лучший водитель комендатуры. Сапегин — отличник Советской Армии. Камалтдинов — комсорг заставы, имеет два знака «Отличник погранвойск». На таких положиться можно.
— Андрей! — Камалтдинов обернулся к Сапегину. — Смотри внимательнее. Кажется, гости.
Следы читались легко. Прошли двое. В кирзовых сапогах. Мужчины — следы широкие, вмятины от каблуков глубокие. Прошли недавно, минут двадцать назад. Иначе бы следы давно залил дождь.
Дело было за Диком. И хотя каждая секунда обрела особый вес, Ренат давно усвоил: Дика торопить не надо. Он берет след без волнения и спешки, но зато намертво и уже не петляет вслепую и не возвращается.
— Спокойно, — сказал он Дику. — Работай, Дик. Как умеешь работать.
Дик покрутился у следов, поднял голову, снова уткнулся в мокрую землю: дескать, все в порядке, готов!
На дороге остановилась машина, и краем глаза Ренат увидел, как быстро и твердо бежит по пахоте старший лейтенант. Он повернулся, чтобы доложить по форме, но Пирюшев остановил его жестом, бросил коротко шоферу:
— Костерин, связь с заставой!
Дик натянул поводок, и Костерин скоро потерял из виду товарищей. Он прикрыл плащ-палаткой следы от дождя — улики еще понадобятся, — отметил стрелками на земле направление, куда ушла группа, и, усевшись в машину, включил рацию.
…Они знали достаточно много о нарушителях. Двое, с той стороны. Прошли, наверное, километра три-четыре. По такой погоде да еще в незнакомой местности далеко не уйти.
«К тому же, — отметил про себя Пирюшев, — вот-вот прибудет подкрепление, блокируются пути вероятного продвижения нарушителей. Скоро рассвет. Он тоже наш союзник. Знать бы еще, где ожидать с ними встречи. Вооружены ли? Готовы ли к сопротивлению?»
А нарушители ушли чуть дальше, чем предполагал Пирюшев. Невысокие, плотные, тренированные, они бежали по заранее разработанному маршруту. Фонари не включали, часто падали, но тут же молча вставали и карабкались на очередную сопку. Каждая новая преграда была для них еще одной ступенькой, отделявшей от погони. Они основательно готовились к этому переходу. Изучали местность. Долго выжидали подходящую погоду. Вот такую — дождливую, ветреную и туманную. И время перехода, считали они, выбрали самое удачное — раннее утро.
Дик выкладывался честно. Следы петляли неимоверно. Те, двое, конечно, были не новичками, знали, как путать погоню. Но вряд ли они знали другое — такие же, правда учебные, маневры Дику и Камалтдинову были не впервой. Десятки раз приходилось им ночью по тревоге в дождь, снег, жару преследовать и настигать «противника». Через пять, десять, пятнадцать километров. В этих кроссах нет хронометристов, но всегда есть победители.
Впереди оставалась еще одна сопка. Крутая, голая. За ней начиналась долина. По тому, как Дик подобрался, с остервенением натянул поводок, Ренат понял, что нарушители совсем рядом. И он передернул затвор автомата.
Да, он был готов к бою, двадцатилетний ефрейтор, отличник погранвойск, комсорг заставы Ренат Камалтдинов.
Широкими прыжками пограничник выскочил на сопку и сразу увидел нарушителей, спускавшихся по склону.
— Стой! — крикнул он и не узнал своего голоса — злого и звонкого.
Один из нарушителей метнулся в сторону, и Ренат проследил его движение стволом автомата.
— Руки! — приказал он.
Нарушители не спешили выполнять команду. Их было двое, а он один. В его пользу сейчас срабатывал лишь один фактор неожиданности. Важно, оценил обстановку Ренат, не дать нарушителям прийти в себя. Он приспустил поводок, делая вид, что дает волю Дику, и медленно стал сокращать расстояние.
— Руки! — повторил он и облегченно вздохнул. Сзади уже слышалось тяжелое дыхание ребят.
Выстрелов не было. А что важнее на границе, чем тишина?
М. Зверев Загадочная собака
Ранним майским утром молодой пограничник дежурил на вышке. Облокотись на перила, он смотрел на неширокую речку, разделявшую села двух соседних государств.
Берега речки заросли кустарником. За ней находилось окруженное полосками земли, каждую из которых обрабатывал ее владелец, небольшое селение. Пограничник оглянулся на поля колхоза около заставы и невольно улыбнулся — они уходили за горизонт, подернутые ровной изумрудной зеленью пшеничных всходов. Большое колхозное село начиналось от речки широкой улицей.
За речкой тревожно закричала сорока. Она перелетала с одного куста на другой и постепенно приближалась к берегу. Пограничник насторожился и в бинокль стал осматривать заросли на том берегу. Вот одна из веток дрогнула, ближе к речке качнулась другая. Сомнений больше не было — по кустам кто-то пробирался. Сорока предупредила вовремя.
Вот тальник качнулся у самого берега. Пограничник удвоил внимание. В кустах мелькнуло что-то белое, и на прибрежный песок вышла самая обыкновенная собака — белая с рыжими пятнами и хвостом, кренделем лежащим на спине.
Тревога пограничника оказалась напрасной.
Собака долго лакала воду, а затем перебралась через речку по мелкому перекату и затрусила в колхозное село.
«Видно, ловила ночью зайцев и теперь побежала домой», — подумал пограничник. Он видел эту собаку в селе, когда они ходили помогать колхозникам во время посевной.
Прошло несколько дней. И вот как-то вечером во время отдыха пограничник вспомнил об этом случае и, смеясь, рассказал о нем товарищу. Но тот даже не улыбнулся. Оказалось, он тоже два раза видел, как ночью эта же собака перебегала границу. А что если не просто так? «Нарушительница» могла доставлять какие-нибудь сведения.
Пограничники доложили о своих подозрениях командиру. Тот выяснил, что еще несколько пограничников видели эту собаку во время дежурства.
Начальник заставы приказал поймать «нарушительницу», и непременно живой. Вечером на берегу речки были выставлены посты около того места, где обычно переправлялась собака. Вскоре поступило донесение, что, как только стемнело, собака прибежала из села, перешла через речку и скрылась в кустах.
На берегу у переката пограничники натянули рыболовные сети и залегли в кустах справа и слева от них, чтобы загнать собаку в сеть.
Ночь прошла в напряженном ожидании. Утро не принесло ничего нового. Собака не вернулась и в течение дня, словно кто-то знал о засаде и не отпускал ее с той стороны.
Снова наступил вечер. Пограничники, сменяясь, терпеливо лежали в кустах. Приказ есть приказ…
Чудесная лунная ночь звенела соловьиным пением. Бесконечно тянул одну и ту же ноту козодой. В болотце хором азартно квакали лягушки. В кустах раздавались шорохи ночных обитателей зарослей. Огромная водяная крыса-ондатра с. громкими всплесками преодолела прыжками мелкий перекат и нырнула на глубоком месте, пустив по воде серебряные круги.
Пограничники ждали.
Во второй половине ночи собака вдруг неслышно появилась на том берегу. Залитая трепетным лунным светом, она долго лакала воду, потом неторопливо перебрела речку по перекату. И тут слева и справа вышли из кустов пограничники, находившиеся в засаде. Собака поджала хвост, рванулась прямо вперед и запуталась в сетях. С визгом она завертелась в них, пытаясь вырваться, но пограничники, подбежав, еще крепче завернули ее в сети и принесли в них собаку на заставу.
В казарме «нарушительницу» границы освободили. Она бросилась в угол, подняла шерсть на загривке и блеснула белым оскалом зубов под сморщенным носом. Весь ее вид говорил о том, что она сумеет постоять за себя. Впрочем, кусочек хлеба она поймала на лету и поджатый хвост ее слегка вильнул. А когда повар принес кусок вареного мяса, собака больше не дичилась. Ее кормили, гладили и тщательно обыскивали. Но на дворняжке ничего не было кроме простого, самодельного ошейника. Его расстегнули, тщательно осмотрели и снова надели.
Пришлось собаку выпустить за ворота заставы. Она побежала в село. Полная луна заливала спящую улицу голубоватым светом, и собаку было хорошо видно. Двое пограничников верхом следовали за ней, не выпуская ее из виду.
На востоке занималась заря. Ни в одном окне села не горел свет. Вскоре собака подбежала и закрытым воротам небольшого дома и заскреблась в калитку. И, странное дело, калитка тотчас открылась с легким скрипом, пропустила собаку и захлопнулась. Глухо щелкнул металлический засов — собаку кто-то поджидал.
Когда пограничники подъехали ближе, услышали шаги удалявшегося от ворот человека.
Обо всем этом было доложено начальнику заставы. Капитан приказал тщательно следить за берегом около переката. Через два дня ему доложили, что собака перешла на ту сторону. Через ночь она вернулась обратно. Вскоре было установлено точное расписание движения собаки — через два дня за границу и через два дня обратно.
Ее снова поймали и опять, кроме ошейника, ничего на ней не обнаружили.
За домом в селе, где жила собака, тоже установили наблюдение. В нем жил одинокий старичок, седой, но еще совсем бодрый. Поселился он здесь недавно, приехав из города. Дом купил у старушки, которая уехала на Украину к сыну. Раз в месяц старик ездил в город за пенсией. Целые дни он занимался своим садом, подружился с соседями, был общительным, разговорчивым, всем нравился и не возбуждал никаких подозрений. Доктора, как он говорил, посоветовали ему поселиться в деревне, и он здесь чувствует себя гораздо лучше.
Прошло больше месяца, пока не была установлена одна особенность в жизни старичка. После того как его собака прибегала ночью с той стороны, утром он брал лопату и отправлялся к речке. Там он исчезал в кустах и вскоре шел обратно в село, неся выкопанный молодой урюк или другое деревце. Он сажал их в саду и ухаживал за ними.
Но почему старик все же ходил за саженцами к речке только после возвращения своей собаки с той стороны?
Однажды, когда старик возвращался от речки в село с каким-то кустиком, завернутым в мокрую тряпку, его задержали, привели на заставу и обыскали. В кармане у него оказался сверток с опиумом. На допросе все выяснилось.
Оказалось, что пестрая собака имела не одного, а двух хозяев: здесь и по ту сторону границы. Старик не кормил собаку больше суток, а вечером, сидя на лавочке у ворот, смотрел, в какую сторону от заставы уходит на ночь наряд пограничников. Если влево — он застегивал ошейник на нижнюю дырку, если вправо — на верхнюю. После этого спускал собаку с цепи, и она сейчас же убегала пить к речке, а затем на ту сторону к другому хозяину. Там ее кормили и тоже сажали на цепь.
Второй хозяин брал сверток с опиумом, привязывал к нему камень, пробирался ночью по берегу речки направо от заставы, если наряд ушел влево, или наоборот, и перебрасывал сверток в условленном месте в кусты на другой берег.
Утром старик шел выкапывать очередной кустик и брал сверток.
На той стороне собаку также не кормили больше суток и ночью выпускали. Она прибегала к старику.
Так две дырки на ошейнике были хорошим способом «переписки» в руках контрабандистов.
Алексей и Юрий Анатольевы Степаняны
Вечерело. С сопредельной территории через границу медленно ползли, цепляясь за пики заснеженных вершин, тяжелые грозовые тучи.
Степана Степаняна вызвали к начальнику заставы.
— Ты почему матери не пишешь?
— Я писал недавно…
— Недавно, это сколько? Месяц, два?
— Двадцать три с половиной дня тому назад, товарищ старший лейтенант! — вытянулся перед офицером сержант Степанян, но, не выдержав официального тона, улыбнулся. — Да уж чего там…
— И ничего смешного здесь нет. Вон какой лоб вымахал, а самых простых вещей не понимаешь. Мать ведь волнуется… — офицер распекал Степаняна не на шутку. Он хотел добавить еще что-то, но громадная овчарка, лежавшая у ног сержанта, вскочила и угрожающе зарычала, давая понять, что хозяина в обиду не даст.
— Ах и ты еще…
Договорить офицер не успел. На заставе истошно «заквакал» сигнал тревоги. Он оборвал воспитательную работу. Старший лейтенант, сержант и его Амур бросились на этот требовательный звук.
Офицеру доложили о нарушении государственной границы, и он принял руководство по задержанию на себя. Подойдя к тревожной группе, которой предстояло идти по обнаруженному следу, сказал:
— Осторожней там, ребята. Действуйте решительно, но аккуратно… Постоянно держите связь с заставой.
Тревожная группа вскочила в уже заведенную машину и умчалась к границе.
Даже самый надежный метроном вышел бы из строя, попытайся он день за днем точно отбивать ритм жизни пограничной заставы. События здесь развиваются то неторопливо, и тогда застава внешне напоминает хуторок, то вдруг действие берет мгновенное ускорение, и тогда заставу можно сравнить только… с заставой, поднявшейся по тревоге. Все ее люди приходят в состояние обнаженного нерва. Их движения стремительны, точны. Каждый делает свое дело, но общая слаженность замечается мгновенно даже самым непосвященным человеком.
Старший лейтенант сидел рядом с дежурным радистом и ждал вестей от тревожной группы. Он знал, что эта тревога не учебная, и переживал как никогда, думая о сержанте Степаняне, который шел в те минуты по следу нарушителя, и о его матери.
…Амур, до предела натягивая поводок, несся впереди. Группа, не отставая, следовала за ним, хотя ее путь проходил по крутому каменистому склону. Щебень с визгом вылетал из-под сапог. Хотелось на бегу расстегнуть бушлат, гимнастерку, чтобы хоть на мгновение остудить разгоряченную грудь. Старший группы уже сообщил на заставу, что нарушителей двое. Погоня за ними, судя по всему, входила в решительную стадию. Нарушители были где-то совсем рядом. Может быть, они уже видели настигающих их пограничников, может быть, уже поняли, что самый опасный для них в эти секунды — человек с собакой на поводке.
Пульс границы бился в предельном режиме. Что отсчитывал он: просто удары сердца или последние мгновения жизни какого-нибудь парня в зеленой фуражке? Сержанта ли Степаняна, его ли товарища по тревожной группе? Этого до. поры никто не знал и знать не мог. Старший лейтенант Лев Степанян продолжал оставаться возле рации и впервые за всю службу готов был проклинать свои офицерские погоны, которые в данный момент не давали ему права самому возглавить тревожную группу. Как самый опытный на заставе, он был обязан руководить всей операцией с командного пункта. Он мучился этим, ведь первым на нарушителей предстояло выйти его родному брату Степану Степаняну, сержанту. В ожидании вестей Льву снова подумалось о матери. Их маме…
…Уши у Степана были величиной с ладонь и горели алым цветом. Лев прикладывал к ним смоченную в воде рубашку и слушал рассказ о случившемся.
— Что, яблоки мне его нужны, а? Я за мячиком полез, а он сразу за уши. Спекулянт, зараза…
Футбольный мяч перелетел через забор чужого сада, а когда его стали доставать, хозяин усмотрел в этом покушение на свое благосостояние и, не разобравшись, устроил над мальчишкой расправу. Он поступил опрометчиво, в чем и убедился в ближайшую ночь.
Братья Степаняны и их друзья поклялись мстить до гробовой доски, а клятву подписали кровью.
Был выработан план, немедленно началось его осуществление. Вскоре из домов, где жили мстители, пропала вся валерьянка…
А ночью хозяину сада было не до сна. Полчища котов и кошек бродили вокруг его дома и истошно вопили, привлеченные запахом своего любимого напитка, которым мальчишки щедро окропили веранду и стены дома. Кошек не мог разогнать даже злющий пес, спущенный с цепи.
Но жажда мести удовлетворена не была. Мальчишки вынашивали еще более зловещие планы. Они начали соскребать серу со спичек и собирать ее в одну банку, чтобы сделать потом «адскую машину». На счастье обидчика, отец Степанянов — Владимир Михайлович — догадался обо всем и дал строгую команду:
— Отставить!
Сыновья не могли не послушаться отца. Его слово для них всегда было непререкаемо.
Но это не оттого, что у Степанянов в доме царила казарменная дисциплина. Такой ее у них не было никогда. Была просто дисциплина, какую часто встретишь в больших семьях. Но все же воинский порядок, вернее, порядок пограничный, всем братьям был знаком с детства. Не раз бывало, что в разгар семейного торжества к дому подкатывала машина и отец, не говоря ни слова, уезжал на границу.
Когда перед братьями встал вопрос, кем быть, они один за другим стали пограничниками.
…Степан с трудом удерживал разъяренного пса…
Обложенные со всех сторон, нарушители сдались практически без сопротивления. Они стояли под дулами автоматов с поднятыми руками, угрюмо озираясь.
На заставе старший лейтенант Лев Степанян вскинул руку к козырьку:
— За четкие и уверенные действия при задержании нарушителей Государственной границы СССР личному составу объявляю благодарность. Амуру, — пес насторожился, услышав свою кличку, — выдать пять кусков сахара, — улыбнувшись, добавил офицер.
…После построения братья снова могли поговорить наедине.
— Лев, ты только маме не рассказывай, — попросил Степан.
Пограничники говорят, что их служба измеряется не часами и днями, а метрами и километрами, пройденными вдоль границы. И каждый километр границы — кусочек жизни. Жизни сложной, напряженной. И потому следы часовых границы хранит не только земля на наших дальних рубежах, хранит их сама история, человеческая признательность.
Именем самого старшего из Степанянов — Макара — названы улицы во Львове и Раве-Русской. Здесь в 1941 году проходила граница.
…Когда помощника комиссара пограничного отряда по комсомольской работе Макара Степаняна вызвали среди ночи в штаб, он еще не знал, что произойдет. В те июньские дни такое случалось часто. Наскоро попрощавшись с женой, он переступил порог, и больше родные ничего не знали о нем двадцать с лишним лет.
Узнав, что началась война, младший брат Макара — Владимир Степанян, тогда еще мальчишка, подошел к карте и нашел маленький украинский городок Рава-Русская. Приграничный городок. Только он не сразу осознал, что его брат в числе первых вступил в бой с врагом.
Подлинный смысл случившегося проступил, когда запричитала соседка, получившая похоронку. Когда плакала мать, зажав окаменелыми пальцами похоронки на двух своих сыновей — старших братьев Владимира — Погоса и Степана.
Потом была Победа. И еще несколько лет жизни.
Когда настала пора делать выбор, где служить, Владимир Степанян не сомневался. В военкомате заявил:
— Направьте в погранвойска…
Застава для него стала острием судьбы. Своей и брата Макара.
…Первая весточка о Макаре Степаняне пришла в 1964-м. Была она песней, сложенной о герое-пограничнике. Ее услышали пионеры из школы-интерната, которая находилась в здании бывшего Рава-Русского погранотряда. Заметили, что фамилия Степанян из песни значится и на могильном, обелиске в сквере.
…Политрук Макар Степанян получил приказ с группой пограничников отбросить врага за линию Государственной границы СССР и занять оборону. Было 5 часов утра 22 июня 1941 года.
Бой длился девяносто часов.
Медью отстрелянных гильз горела на солнце земля.
Не оборвались следы Макара Степаняна на приграничной земле. В дозор вышли Владимир Михайлович Степанян и его сыновья.
…Машина пришла за ним среди ночи.
Пока тряслись по дороге, начало рассветать. На заставе тщательно мыл руки, внимательно слушая рассказ:
— Он, гад, несколько раз стрелял. Попал! Но она его все равно завалила. Еле оторвали. Он-то просто помятый, а она… Тронуть побоялись, вдруг помрет.
Владимир Михайлович Степанян посмотрел на инструктора службы собак, поймал себя на мысли, что тоже бы так сказал о раненой собаке: «Помрет…»
Оперировал на тщательно вымытом столе, взятом из бытовки. Человек спасал собаку, которая здесь, на границе, прикрыла собой человека.
Техника остается техникой. Ее сегодня на вооружении много. Она может далеко видеть и слышать. Но даже самый совершенный механизм не возьмет след и не зарычит, защищая хозяина.
Вынув пулю, Владимир Михайлович протянул ее инструктору.
— Возьми на память. Тебе предназначалась.
— Ну, а с ней что теперь? — глядя на неподвижное тело собаки, спросил проводник.
— Выходим, послужит еще…
…Когда девятиклассник Размик Степанян вдруг засел за учебники с какой-то особой настойчивостью, Татьяна Николаевна — мать — про себя порадовалась. Думала, что раз обложился парень книгами, то решил пойти в институт, а может быть, даже стать учителем, как она сама.
Несколько смущало ее, что и гирям, и перекладине подрастающий сын уделяет не меньше внимания. Но хотелось надеяться все-таки на лучшее: может, хоть этот выберет себе судьбу поспокойнее.
Размик на осторожные материнские вопросы отвечал уклончиво: мол, не решил еще, кем быть.
Когда подошло время отправки документов в военное училище, он свои не отправил. Дома сказал:
— Сначала послужу, посмотрю, подхожу ли для пограничного дела, а уже потом ясно станет.
Отец внимательно выслушал сына, согласно кивнул.
— Это ты правильно решил, сынок. Я попрошу, чтобы тебе помогли.
И помогли. После учебного подразделения Размика направили на такую заставу, где год службы можно смело считать за два.
В письмах отец сына о службе не расспрашивал, при встрече с его начальниками вопросов тоже не задавал — ждал, не заговорят ли сами.
И вскоре заговорили. Отец слушал рассказы о Размике, хмурился, старательно пряча при этом довольную улыбку.
Провожая его в пограничное училище, «высоким штилем» не напутствовал. Знал, что и там все будет в порядке.
Так и оказалось.
Спустя четыре года затянутый в новенький мундир лейтенант Размик Степанян для дальнейшего прохождения службы на границе прибыл.
…В доме Степанянов есть комната, в которой постели когда-то стояли в два яруса. Мальчишки, повзрослев, сами так оборудовали свою комнату. И вот она стала пустеть…
Ушли служить на границу Лев, Михаил, Степан, который после двух лет остался на сверхсрочную вместе с Амуром, — он, кстати, сам вырастил и подготовил собаку к службе. Поступил в военное училище и Размик.
Теперь только одна подушка белела в детской. Самвел еще оставался под отчей крышей. Самый младший.
Этот чуть ли не с первых шагов стал пограничником. Грядка в огороде для него — контрольно-следовая полоса. Куча обрезанных веток в саду — идеальное место для секрета. Впрочем, сын и брат пограничников, он еще до начала службы определил для себя специальность. Решил стать связистом.
…Опустел дом на окраине Нахичевани. Даже в большие праздники не собирается семья в полном составе. У границы свой распорядок. В праздники у нее — будни, ответственные и напряженные.
И. Демидов За что Гайсу купили конфет
Грибов в этом году уродилось в окрестных лесах видимо-невидимо. Лесные опушки были буквально усыпаны белыми и подберезовиками. Особенно — за речкой, у линии ЛЭП. И после уроков в школе ребята отправлялись туда. А уж там, на полянах, каждый искал свою грибную тропу, свою удачу. Но эти пятеро не расставались даже на грибной охоте. Они всегда и везде были вместе: Марина и Галя Цыгановы, Оля Кобкина, Саша Малахова, Лена Заятрова. Вот и теперь всей компанией отправились в лес. А с ними еще два посторонних спутника — дворняги Шарик и Пулька.
Прапорщик Юрий Александрович Соловьев сдал дежурство час назад. Надо было еще отвести Гайса в питомник, покормить, побеседовать перед расставанием. Иначе обидится и весь следующий день будет мрачен и неприветлив. А какая работа при дурном настроении?
— Ну все, Гайс. Давай прощаться. Отстань, говорю! Пока. До завтра.
Не думал прапорщик Соловьев, что встретится с Гайсом вовсе не завтра, а через какой-то час, и что им предстоит долгая и трудная работа. Не думал об этом и Гайс. Он лежал на деревянном полу вольера и скучал. Он всегда начинал скучать, когда хозяин после суточного дежурства приводил его сюда. Потому что Гайс ненавидел безделье и любил работу. Он даже начал было поскуливать, хотя знал, что взрослой, семилетней овчарке, да к тому же служебно-розыскной, так себя вести не полагается.
— Товарищ майор! К вам… — дежурный в сторону, и офицер увидел на пороге своего кабинета двух девочек.
— Потеря-я-я-лись, — в голос плакали они.
— Кто? Где?
— За грибами пошли и потерялись… Пять девочек.
— Давно ушли?
— Еще утром.
Майор глянул за окно — сумерки уже легли на поселок. Так… Главное теперь — все делать быстро. Солдат по тревоге — и в лес. С ними — радиста. Пустить по следу собаку.
Гайс поставил уши торчком, наклонил голову и начал слушать. Кажется, хозяин. С чего бы? Не иначе, что-то случилось. Так и есть — хозяин. Значит, будет работа! И Гайс приготовился работать.
К вечеру девочки вышли на опушку. Устали, конечно, здорово. Но не зря: корзинки были полны грибов, и не каких-нибудь, а крепеньких белых! Пулька и Шарик возились в траве. А солнце тем временем незаметно опустилось за лес. Первой спохватилась Марина:
— Ой, девочки, поздно как! Давайте возвращаться. Попадет нам.
От опушки расходились две одинаково ровные тропинки. Но по какой идти — никто не знал. После недолгих споров выбрали левую.
В поселке уже зажигали огни, когда Соловьев с Гайсом в сопровождении двух солдат шел улицей по направлению к реке. Их обогнали на мотоциклах другие прапорщики: они мчались в сторону леса.
Александр Кузьминов притормозил и крикнул:
— Все вокруг объехали. Нигде нету. Так что, ребята, на вас надежда.
— Слышишь? — сказал Соловьев Гайсу.
У опушки леса за речкой они встретили нескольких женщин.
— Отсюда они пошли, — стала объяснять одна из них Соловьеву.
Юрий Александрович посветил фонариком. Луч выхватил из темноты детские следы на песке.
— Кажется, это моей Леночки! Видите, какой маленький? Она там самая младшая… — одна из женщин заплакала.
— Гайс, ищи, — подал команду Соловьев.
…А девочки все шли. Луна совсем спряталась за черными тучами. Лес, днем такой веселый и приветливый, выглядел теперь неуютным и страшным. Леночка — самая маленькая — совсем устала и все время отставала.
— Куда мы идем? — всхлипывала она. — Я устала. Я боюсь.
Старшая, Галя, как могла, успокаивала ее, а самой в пору сесть и зареветь. Вдруг она остановилась. Тропинка, только что бывшая надежной и твердой, стала пружинить под ногами. Еще шаг — захлюпала вода.
Шаг в сторону — ноги стали погружаться в мягкую трясину.
— Болото! — девочка рванулась назад.
Так вот куда они забрели впотьмах! Большое болото! Так называли его взрослые, когда строго-настрого запрещали им даже нос поворачивать в ту сторону. Галя села на землю и заплакала. Глядя на нее, захныкали остальные…
Прапорщик Соловьев понимал, какую сложную задачу поставил он перед Гайсом. Легко сказать: «Ищи». Отпечаток один, а детей пятеро…
— Надо постараться, Гайс.
И Гайс старался. Фонарик слабо освещал путь. Они долго бежали по лесу. Пересекли длинную просеку и очутились среди старых дубов. Собака шла впереди, обнюхивая землю. Прапорщик и солдаты еле успевали за ней. «Бежит, вроде, уверенно. Значит, след не потерял, — думал Соловьев. — Мох под ногами. Сравнить бы с тем отпечатком, что у речки. Но разве на мху увидишь! Давай, Гайс, давай, милый!»
Пробежали еще километра три. Выскочили на дорогу. На ней стояли машины, солдаты. Короткое совещание.
— Все осмотрели. Пусто. Садись в машину, поехали. Будем искать в другом месте.
Но Соловьев не согласился. Он поверил Гайсу: очень уж уверенно шел пес. И они остались в лесу.
…Семь лет назад получил Юрий Александрович маленького щенка. Щенок рос, а когда наступило время выводить его на площадку, оказался на редкость бестолковым. Не слушался команд, не желал выполнять приемы, убегал. И еще все время болел. То лапы опухнут, то простынет, то еще что-нибудь. По всем статьям не получалась из него розыскная собака. И Соловьев вполне мог расстаться с ним. Мог. Но не расстался. Верил в него. Все вокруг говорили: «Брось. Получишь другого, нормального». А ему почему-то казалось, что из Гайса будет классный пес. И в сотый раз, проклиная себя и строптивого щенка, тащил упирающегося и взъерошенного Гайса в учебный городок. Часами бегал с ним по лесу, дрессировал, заставляя брать след. Сидел около него, больного, ночами, выхаживая, как младенца. И Гайс вырос. Превратился в огромного красавца пса. Преданного, понимающего хозяина не то что с полуслова, с полувзгляда…
На болото лег туман. Стало холодно. Легкие платьица девочек отсырели. Они собрались вокруг Гали. Шарик и Пулька забрались в середину. Компания стала засыпать.
Овчарка уверенно шла по следу. «Куда же он? Там болото! А вдруг ребятишки попали туда?»
— Устал? Нельзя нам с тобой сейчас отдыхать. Что если забрались они в Большое болото. След, Гайс, след!
Опять бегом. Кричать уже невозможно: охрип. Под ногами стал пружинить мох. А Гайс все тянул и тянул дальше — в болото.
Несколько шагов — и Юрий Александрович выше колен ушел в трясину. Еще шаг — и опять яма. Сколько их было, сколько раз он вылезал из липкой вонючей грязи… Раз присел на поваленное дерево — и встать, казалось, сил не было. Подбежал Гайс, лизнул в щеку. Теперь уже он торопил хозяина.
…Начало светать. Нет, даже еще не светать, а просто мрак из черного стал черно-серым.
— Неужели нас не найдут? — спрашивали маленькие у Гали.
— Обязательно найдут. Смотрите, смотрите!
Над лесом одна за другой поднялись две ракеты.
— Вот! Ищут нас! Ищут! Ура!
…Фонарик совсем погас. Бежать уже не было сил ни у того, ни у другого. Проклятое болото… Где же дети? Но по поведению собаки прапорщик понял, что осталось немного. И вдруг — голоса! Сил сразу словно прибавилось:
— Дети! Отзовитесь!
И в ответ радостное:
— Здесь! Мы здесь! Сюда!
Взяв Гайса покрепче за поводок, Соловьев побежал на зов.
Домой возвращались, когда уже совсем стало светло. Маленькая Леночка сидела у дяди Юры на закорках и спала. У дяди Юры ноги подкашивались, но он старался ступать как можно аккуратнее. (Позже по карте Юрий Александрович выяснил, что в общей сложности они с Гайсом проделали путь в сорок километров.) Так и вошли в поселок. Леночка сонным голосом сказала:
— Дядя Юра, отведи меня домой, а то мама ругать будет.
Отвел. Правда, мамы дома не было — искала дочь. Уложил девочку в постель и пошел домой. Гайс брел рядом, опустив хвост и свесив уши, — устал пес. Дома у прапорщика Соловьева их обоих ждал ужин.
Вот так в служебной карточке инструктора службы собак, прапорщика внутренних войск МВД СССР Юрия Александровича Соловьева появилась запись: «За умелые действия по розыску пятерых детей, заблудившихся в лесу, награжден ценным подарком».
— А Гайс? — спросил я. — Чем его наградили?
Юрий Александрович улыбнулся:
— Купил ему конфет. Он у меня лакомка. Правда, Гайс?
Л. Богачук Амур идет первым
Большой черный пес бросился молча. Только ударившись в прыжке о металлическую сетку так, что задрожали стены вольера, он хрипло залаял на чужого.
Я подошел ближе и сел вплотную, прижавшись к сети. Амур задохнулся от ярости. Казалось, он был готов клыками рвать железные нити, но, увидев, что его проводник рядовой Юрий Черешнев разговаривает со мной вполне дружески, сразу успокоился.
— Хороший Амур, ай, хороший, — уверенно сказал я.
Амур привалился к моему плечу с той стороны сети. На всякий случай он отвернулся, стараясь, наверное, не показать, как ему приятны мои слова.
— Не удивляйтесь его благодушию;—сказал Юра. — Он дрессирован на работу не в караульной, в миннорозыскной службе. Здесь надо доверять людям. Я, например, у него уже третий…
Юра запнулся, подыскивая слово.
— Хозяин? — подсказал я.
— Нет, хозяин у него один — Гена. А я уже третий, кто здесь с ним работает. Хороший пес, понимающий.
— Медалист?
— Считайте — орденоносец…
Впервые Амур появился полтора года назад. А в сопроводительном документе значилось: «Восточно-европейская овчарка, окрас черный, рождения 7.9.79. Принадлежит Мотылькову Геннадию Геннадьевичу. Город Горький, проспект Кораблестроителей, д. 15, кв. 64».
В первую же неделю рядовой Гена Мотыльков и его верный друг, с которым они когда-то вместе пришли в военкомат, отправились сопровождать колонну в один из горных кишлаков. Афганские грузовики везли зерно, которое следовало распределить среди населения. Приближалась весна, а дехкане, только что получившие землю, не имели семян.
У контрреволюции много жестоких уловок. Не дойдет колонна к месту — и дехканин сам на коленях приползет к богачу: будь милостив, сеять нечего. Зерно бедняку дадут, но под какие проценты… И будто не было революции, земельно-водной реформы! А то еще заставит феодал в виде платы пособничать басмачам.
Но колонна прорвалась сквозь засады. Впрочем, «прорвалась» сказано не совсем точно. До сих пор помнят солдаты участок длиной всего в семь километров, между вторым и третьим мостами. Эти семь километров они шли сутки. А впереди колонны — саперы. Они идут открыто, в рост, проверяя каждый сантиметр дороги. Они, конечно, знают, что в любую минуту могут нарваться на засаду, понимают, что сапер для душмана — цель номер один. После двух часов работы собака должна отдыхать, потом еще перерывы через каждые два часа. И отдых на все жаркое время суток. Амур работал чисто. И хотя был новичком, меньше других собак отвлекался на грохот двигателей броневого сопровождения и не очень боялся обстрелов. Он бесконечно доверял своему хозяину. И если тот говорил: «Работай!», Амур старался. Он лучше других умел находить итальянские пластиковые мины, где металла-то всего семь граммов — это боек взрывателя. Он отыскивал самодельные фугасы, чему его никогда не учили…
Сколько жизней они спасли, сказать трудно. Но даже если бы только одну…
Однажды Амур обнаружил зарытый на дороге металлический ящик. В наушниках миноискателей, как говорят, зазвенело «плотно». Мина! Обычно, извлекая мину, Гена отсылал Амура. Но сегодня тот не послушался, сел у края дороги. «Устал», — сказали солдаты. Но Гена внимательно посмотрел на Амура и решил, что неспроста осталась собака. Что-то ее смущает. Стали искать. Так и есть! Обнаруженная мина двумя тоненькими проводами соединялась с артиллерийским снарядом, спрятанным рядом. Тронь ее — и прогремит взрыв.
Противосаперная ловушка!
А потом были еще дела. Гена Мотыльков и Амур честно делали работу, которая называется солдатской службой. И было в этой службе все. Лежали однажды саперы Андрей Ванин и Гена Мотыльков с Амуром и Ральфом за камнем, пока афганские воины подавляли засаду бандитов.
— Политзанятие по теме «Мировой империализм против афганской революции», — заметил вдруг Гена.
— Чего? — не понял Андрей.
— Гранаты из-за реки бросают американские, слева бьет «бур» — английская винтовка, а мину мы только что обезвредили итальянскую… Урок политграмоты!
Потом Гену ранили. Он был отправлен в Советский Союз на лечение. Амур два дня никого к себе не подпускал. Но уходила в путь очередная колонна, а Ральф сломал ногу. Тогда Андрей вошел в вольер и сказал, как когда-то говорил Гена: «Работать надо…» И Амур ушел с колонной.
Его и раньше любили солдаты, теперь же каждый старался сказать доброе слово. Только нашелся как-то шутник: «Где Гена? Вот, смотри, Гена идет!» Амур, оборвав поводок, бросился, обежал колонну, обнюхал каждого солдата. Вернулся через час, уши прижаты, даже не скулил — плакал. Нет в солдатском лексиконе таких крепких слов, которых в этот день не услышал шутник. Но Амур затосковал всерьез.
Тогда Андрей пошел к Юре Черешневу: «Ты еще в „учебке“ дружил с Геной. Работай с Амуром».
И пошла дальше солдатская служба. Много еще жизней спасли Юра и Амур. Но вот проводнику пришла пора уезжать домой. Рядовой Юрий Черешнев, как положено, обратился по команде с просьбой демобилизовать и Амура. Командир вызвал Черешнева:
— Собаку не отпущу, — твердо сказал он. — Понимаю, что иду на нарушение… А ты знаешь, сынок, сколько он мне еще людей сбережет?
А потом, помолчав, мечтательно сказал:
— Отпустил бы, будь ему замена. А еще бы лучше — несколько таких же парней, как Гена, со своими собаками…
Рядовой Мотыльков Геннадий Геннадьевич за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга, награжден орденом Красной Звезды. Рядовой Черешнев Юрий Викторович представлен к государственной награде.
Газета «Комсомольская правда», 10 июня 1983 года.
Ю. Гейко Служили два друга
Их история начиналась так просто… «Комсомольская правда» рассказывала об этом 10 июня 1983 года. А теперь, когда все уже позади, они часто приходят на высокий волжский берег — худой двадцатилетний парень в кроссовках, джинсах и просторном пиджаке и черная, как смоль, овчарка. На них, как и на многих «собачников», ворчат со скамеек, а некоторые припоминают, что вроде бы эта же «парочка» появлялась здесь года два назад, но, может, и не эта…
Эта. Тот же парень — Гена Мотыльков и та же собака — Амур.
И не эта. Не глядели они тогда подолгу на свой город, а носились, не уступая друг другу в детскости, не замечалось тогда у Амура проседи на холке, не прихрамывал его хозяин, Гена Мотыльков, и не было на правом лацкане его пиджака чуть заметной, но характерной вмятины, которую никаким значком не оставишь — только орденом.
Жмурятся они от солнца, поглядывают друг на друга — и что вспоминают? Афганистан? Свист душманских пуль? Или, может быть, долгую разлуку, казавшуюся обоим непоправимой?..
Чем раньше увлекся школьник Гена Мотыльков — собаками или взрывными устройствами, он теперь не помнит. И то, и другое увлечение было сопряжено с трудностями чисто практического характера. Первую трудность Гена преодолел, вступив в клуб собаководов и поставив матери жесткое условие: «Беру дворнягу». Через несколько дней она сама принесла из питомника УВД черного замечательного щенка. Но самопал другом человека не являлся, и здесь со школой возникли сильные осложнения. Выручил сормовский машиностроительный техникум, а именно — военрук Анатолий Леонидович Бронников.
Так и постигали они каждый свое: один — взрыватели и мины, второй — барьеры и команды до тех пор, пока не пришла к Мотылькову армейская пора.
И незадолго до призыва приснился Гене странный сон: березовая аллея, двухэтажная казарма красного кирпича и будто бы это — Афганистан.
В точности такую аллею и казарму он увидел через несколько дней — в «учебке». В ней Гене не раз предлагали остаться — инструктором. Но не остался. Афганистан он увидел через несколько месяцев.
Их было несколько в подразделении, таких саперских «тандемов»: собака — человек, и впереди любой бронированной колонны всегда шли они.
Когда работали Гена и Амур, в колонне были спокойны.
— Собака есть собака, она как человек, — говорит Гена, — моя жизнь зависит от ее настроения и от того, как мы с ней понимаем друг друга. Часто ее нельзя заставить, можно только попросить, ее надо знать лучше, чем самого себя.
Кончился миноопасный участок, и все остальное, «нерабочее», время их оберегали, как могли. Но упасть на Амура, прикрыть его телом от пуль, решетящих тент автомашины, — это была привилегия только Мотылькова. И ею он пользовался не раз.
Сколько раз они спасали жизнь и друг другу, и другим? Этого никто не считал. Хотя все же одну цифру назвали: четыреста. А кто — кому, так ли это важно?
Найдя мину, собака садится возле, а потом уходит. Однажды Амур не ушел. Это сейчас легко сказать, что Мотыльков насторожился. Но почему все же он не спешил поднять с земли круглую пластиковую лепешку? Почему ни грохот моторов за спиной, ни жара, ни усталость не заставили его ошибиться?
— Наверное, потому, что я очень люблю Амура, а значит, верю ему, чувствую его. Я ни о чем таком не думал, я просто почему-то не спешил…
За эти-то «неспешные» секунды он и увидел два тоненьких проводка, уходящие от мины в сторону.
Беззлобно посмеиваясь, ребята говорят, что сапер ошибается два раза. Первый — когда выбирает профессию, второй… об этом знают все.
Ни Гена Мотыльков, ни Амур не ошиблись ни разу.
Но расстаться им все же пришлось.
…Он стоял в бронетранспортере и, глядя вниз, успокаивал волновавшегося от близких разрывов Амура, когда вдруг почувствовал стекающую в сапог кровь. Тогда сел, потом лег на сиденье и «заснул», как он мне рассказывал, а точнее — потерял сознание от потери крови. Очнулся от голосов: «Гена, ты живой?» В люк залезали ребята. «Я сам», — сказал он и поднялся. Но руки сорвались с брони, и дальше он ничего не помнит.
Пришел в себя на операционном столе, слышит — ногу отрезать собираются. «Нет! — простонал. — Не надо… пожалуйста…» Потом — госпиталь — тишина, радио на русском, программа «Время» по телевизору: Союз…
— Здесь чувствуешь?
— Да.
— А здесь?
— Чувствую…
— А здесь?
Амура нет. Что с ним, как он?.. О чем только нс думал, чего только не представлял себе за два долгих госпитальных месяца! Мучили жестокие приступы малярии, и в сорокаградусном бреду думалось: лучше бы пристрелили… пристрелили, не сможет он, пропадет без меня… Не выдержал, написал об этом Юре Черешневу, другу Получил ответ: «Все нормально, работаем вместе. Мой Ральф заболел и умер. Амур никого не замечал, а однажды надо было сопровождать колонну с зерном. И, кроме нас с ним, некому. Я-то понимаю все, а он скулит. Подхожу вечером к вольеру и говорю: „Надо, Амур. Работать“. Он „работать“ услыхал и вскочил. Ну, думаю, порядок. Так мы и начали. Но он тебя помнит. Недавно один шутник заорал: „Где Гена? Вон Гена идет!“ — так Амур с поводка сорвался, всю колонну обежал, обнюхал, а как вернулся, то будто плакал, и слезы капали…»
Мотыльков немного успокоился, написал маме: «Лежу в госпитале, царапнуло». Мама и госпиталь разыскала, и палату, звонит, сына просит позвать, а ей отвечают: «Да вы что, он тяжелый у нас, на растяжках». И мама прилетела на другой день.
— Вошла я в палату, увидела его… А он мне: «Да ведь я же не Генка!» Не узнала я сына, он рядом лежал.
Потом мама уехала, а он из госпиталя написал командованию, просил вернуть собаку, имел на это все права. Но вернуть не смогли, не было замены.
Гена лежал на белых простынях и думал о том, что значит каждый день там, каждая новая мина. Ему даже стыдно было перед Амуром за то, что тот продолжал служить, а вот он… На блюдце позвякивал извлеченный из его ноги осколок, раны ныли от других осколков, оставшихся, и горький запах тротила никак не вспоминался, за что было ему особенно стыдно, ведь запах этот — Гена знал — убивает со временем у собаки нюх, отравляет ее легкие… А ему он уже не вспоминался.
Потом Мотыльков приехал в Горький, домой, нажал кнопку звонка. Открыл младший брат и тотчас убежал в глубь квартиры:
— Мам, к тебе солдат какой-то пришел!
Видимо, он действительно изменился.
Старый ошейник пах Амуром. И квартира, и двор были пусты без него, каждый день проживался болезненно.
Приходили друзья из армии, рассказывали о трудностях службы, а он даже не усмехался и не спорил. И шрамы не показывал — не в его это характере. Оформился инженером по новой технике в автобусный парк. Жаль только, что работа сидячая. Избрали его председателем комитета ДОСААФ. Начал Гена Мотыльков строить на предприятии тир — приходил позже, уставал больше, а Амуром душа все болела и болела. Услышал раз по радио фразу из художественного рассказа: «Они делились с собакой последней флягой воды», — усмехнулся и задумался: чем они делились с Амуром? Всем — и водой, и сухим пайком. Но чувствовал — это не главное. Чем же еще? Жизнью, наверное, они там делились. Это точно сказано, хоть и громко.
Однажды взял Мотыльков отгул. Вдруг — звонок, голос начальника техотдела Николая Павловича Серикова:
— Ну, сержант, поздравляю!
— С чем? — Гена вскочил, первая мысль — честное слово! — об Амуре.
— А ты будто не знаешь…
— Да не знаю же!
— С орденом, с орденом поздравляю! Завтра вручать будем.
Орден… Мотыльков растерялся. Он знал, конечно, что представили его к награде, но давно это было, и как-то об этом не думалось. Да и не всех представленных награждают.
Волновался он крепко и мало что помнил из происходящего. Цветы, подарки, поздравления… Отошел немного от автопарка, вывинтил орден из лацкана и ходил по улицам до вечера, стиснув остроконечную эмалевую звезду в кулаке. Останавливался, разжимал пальцы, смотрел, смотрел… И вспоминал.
«…За мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга…»
Верным помощникам саперов ордена не дают — им дают только медали. Да и те не за мины, не за верность и героизм, а за то, что от самой собаки не зависит. Была такая медаль и у Амура — золотая.
Геннадий надел орден в День Победы, да и то друзья попросили. Шел по улицам — люди оглядывались. По-разному: «Твой, парень?» — «Мой». — «Серьезно, твой? Поздравляю…» «Сними, щеголь! Это не джинсы, не покупается…» Гена остановился: «Извинись. Не хочу нам обоим праздник портить». — «Извини, коли так», — есть в этом худом двадцатилетием парне то, что заставляет к его словам прислушиваться.
Шло время. Вероятность того, что Амур выживет, вернется, уменьшалась с каждым днем. «Я вон полгода всего пробыл, а сколько у ребят собак за те полгода сменилось…» О том, что меняются и проводники, он как-то не думал, хотя и был сам из числа таких.
Однажды в пятницу вечером Гена задержался на работе. Пришел домой, а мама:
— Юра звонил, Черешнев. Из Подольска. Он Амура привез…
Как вез Юра огромную собаку через всю страну — это целая история. Ведь ей отдельное купе положено. А у него проездные документы на себя, немного денег да подарки родным. Заплатил солдат все деньги, продал подарки.
Через несколько минут Гены дома уже не было — спешил на вокзал. Подходил к дому Юрки, волновался: как там ребята… каким стал Амур? Ведь больше года прошло.
Но ничто не дрогнуло в собачьих глазах, когда оказались они друг перед другом: не узнал Амур Гену. Сентиментальной встречи не получилось. Но Гена не растерялся. Не разочаровался в их прозаической встрече и я, потому что рядом с нами сидел Амур и смотрел на своего хозяина такими глазами!..
А тогда Мотыльков не растерялся: «Сидеть! Лежать! Голос!» — посыпались на Амура команды. После секундного замешательства собака выполнила одну за другой. «Дай колбасу, — попросил Мотыльков Юру, положил ее псу на нос: — Держать! — Потом сунул колбасу в пасть: — Фу! Держать!»
Косился Амур и на колбасу, и на Гену, слюни глотал, но не дрогнул.
— Надо же! А я и не знал, что он так может, — сказал Юра.
Вот тут-то они и «встретились», тут-то Амур и показал, что такое собачья радость! Уж так он ласкался, так крутился, что даже переусердствовал — цапнул Юру за руку.
Два дня мы бродили с Геной и с Амуром по Горькому и разговаривали. Две или три катушки пленки истратил на них фотокорреспондент. Оба мы пытались «выловить» в Мотылькове что-то особенное, значительное. Пора было прощаться, а у нас все не получалось и не получалось. А они уже уходили. И вот тогда был сделан еще один снимок, а я, глядя, как они растворяются в толпе, понял, что в нем особенного и значительного: Гена такой, как все.
И тогда, после нашей встречи, и теперь, на улицах, в поездах и самолетах, я все пристальнее вглядываюсь в лица двадцатилетних.
Газета «Комсомольская правда», 1 июля 1983 года.
Борис Рябинин Помощники
Позвольте вам представить: Тамара Ивановна Полинская-Можарова. Приветлива, улыбчива, общительна, вообще человек приятный, внушающий симпатию. Ходит с палочкой (годы, ничего не поделаешь). Зовут в питомник работать — там полегче, спокойнее, но не может заставить себя расстаться с опекаемыми ею четвероногими работягами, с которыми неразлучна вот уже третий десяток лет, с привычными занятиями и обязанностями, которые стали делом ее жизни. А дело это — охрана народного достояния, помощники — собаки…
Около тридцати лет работает она в отделе вневедомственной охраны на Рижском мясоконсервном комбинате. В 1947 году награждена медалью «За трудовую доблесть», с 1969 года носит звание ударника коммунистического труда. В 1981 году как инструктор собаководства при ОВД Октябрьского района города Риги занесена в книгу Почета. О каждой собаке она говорит, как о дорогом и близком существе… Но пусть лучше рассказывает она сама.
— С ранних детских лет, сколько себя помню, я любила животных, но собак и лошадей любила особенно. В тяжелые годы разрухи, девчонкой, делилась с бездомными собаками, которых приводила с улицы, едой. Они потом так и жили около — во дворе, под лестницей… Жильцы гоняли их, но и кормили. Раз даже лошадь подобрала и привела во двор. Она упала, груз был непосильный, возчик избил ее и ушел. Мы ее кормили несколько дней, потом за нею пришел хозяин.
Жили мы в Одессе. Там я встретила и своего будущего мужа, и тоже не без участия собаки. Ехали в трамвае из Аркадии. Вошел моряк, трамвай дернулся, и моряк встал собаке на хвост. Я, конечно, не удержалась и выругала его, но мне он понравился. А потом этого моряка привел к нам его друг, наш знакомый. Судьба, что ли… Вскоре мы поженились.
Жили дружно. Муж мой тоже любил животных; случалось, приносил под шинелью подобранного одинокого щенка. Потом его дарили кому-нибудь. Когда муж учился в Ленинграде и мы жили в общежитии, я как-то тоже подобрала щенка; когда была проверка, спрятала под одеялом. Собаки были у нас всякие. Среди них и породистые — пойнтер, сеттер-лаверак, боксер. Овчарки появились уже после войны.
Когда началась война, я выехала из Одессы и взяла с собой собаку: поскольку муж был моряк, это не составило особого труда. Да много места она и не заняла, пролежала почти всю дорогу под койкой.
Собака была со мной в Кисловодске; там я работала в госпитале. Оттуда уезжала санитарным поездом, и на этот раз пришлось оставить нашего четвероногого Мишку квартирной хозяйке, у которой снимала угол. Потом я писала ей, что хочу приехать за собакой, но получила ответ, что после моего отъезда пес отказался от пищи и пал. Конечно, я очень переживала и долго печалилась о Мишке, хотя к тому времени у меня уже была другая собака.
Моя мама, эвакуируясь в Ростов-на-Дону, была вынуждена оставить в Одессе овчарку Джека. Потом она специально вернулась в Одессу за Джеком.
Кроме Джека, у мамы еще была обезьянка Яшка, общий любимец. И вот, когда мама уехала, он очень скучал и в конце концов, как уверяла мама, повесился… Что с Яшкой в действительности произошло, для меня так и осталось загадкой, но мама очень долго считала себя виноватой в его смерти. Но так уж вышло. Сами понимаете, война.
Война принесла тяжкое горе. Мой муж был тяжело контужен и умер в госпитале, в Фергане, куда перебралась и я.
Как только освободили Одессу, вернулась в родной город. Уже в сорок пятом записалась в Одесский клуб служебного собаководства (к тому времени у меня появилась овчарка Куна), ходила на занятия на дрессировочную площадку, хотя еще не представляла, во что все это выльется.
Время приносит тяжелые испытания, горе и несчастья, но время и лечит… Жизнь берет свое! Я снова вышла замуж. Правда, под старость опять осталась одна… Но мне кажется, что муж всегда со мной, просто уехал в командировку и скоро вернется.
Снова мне попался человек, который разделял мою, ставшую неотъемлемой частью моего существования, любовь к животным, понимал меня. Впрочем, будь он другим, не были бы мы и вместе…
Второй мой муж был военным, и в 1947 году мы оказались в Риге. Здесь работа с собаками стала моей профессией.
На работе у меня сейчас пятьдесят собак и щенки.
Работа очень интересная, так как у каждой собаки свой характер и свои особенности. Обслуживают собак семь вожатых, кормят, варят, чистят зоны, моют питомник и посуду, ухаживают за нашими трудягами, а я организую тренировку, подбор животных и прочее. Работа такая, ни с какой другой не сравнить…
Вначале было очень тяжело. Собаки часто гибли от рук злоумышленников — их травили. Так продолжалось, пока не провели операцию «Мясо». Переодели охранника вожатым и таким образом разоблачили и поймали воров. После этого перестали травить и собак.
На охране использовались когда-то и кавказские овчарки. А однажды привели собаку — помесь дога с овчаркой. По кличке Тарзан. Не хотели брать, упросили. Тарзан выглядел очень добрым, по крайней мере сначала. Ласкался к людям.
Раз были в засаде, подъезжает машина (за мясом!), двое вышли, их попытались задержать. Те, конечно, сопротивляться. Началась потасовка. Собака кинулась на одного из них и вырвала у него клок из мягкого места, но похитители все-таки отбились и уехали. Известили все больницы (ждали, что раненый вынужден будет обратиться в больницу), и через десять дней преступника задержали.
Дебют Тарзана оказался удачным.
Но работал Тарзан недолго. На территорию попали две бродячие собаки, он очень переволновался из-за них, а утром его нашли у сетки мертвым: сердечная недостаточность. У него и раньше наблюдались случаи — не выходил из будки, когда приходили кормить, но на это не обращали внимание. А пес оказался с пороком сердца.
Вообще, начнешь рассказывать, многое вспоминается. Как погиб Джек, овчарка! Он никогда ночью не спал, всегда сидел за сеткой и чужих облаивал. Раз ночной вожатый не вышел на дежурство — сейчас же нашлись охотники воспользоваться представившейся возможностью, чтобы перебросить краденую продукцию через забор. Джек лаял, мог их разоблачить, тогда стальным прутом проткнули ему горло. Вскоре он погиб.
Каждая собака у нас со своим характером, со своей биографией, со своими приключениями.
Как-то две собаки убежали — как их проглядели, не ведаю. Не было два дня. Пришли виноватые-виноватые…
Однажды лайка Пича увела одного пса, Норда. Его сбила машина, добрая женщина подобрала, выходила, потом отдала в зоопарк, охранять. Утром, когда служащие пришли кормить зверей, он лает, никого не пускает — охраняет. Пича пришла через две недели. Нагулялась — и домой…
У нас свой врач — Дагния Рудольфовна Сириус. Она настоящий знаток животных, спасла от болезней немало собак и щенков.
Заболел пес по кличке Дик, с ним стоит в паре Белка. Красивые злобные овчарки. Дик не встает, не ест, не пьет, на посторонних не реагирует. Белка здорова, но она переживает за Дика и тоже не ест, не пьет и на посторонних не реагирует. Думали, Дик падет, но благодаря хорошему уходу и лечению поправился. И Белка повеселела, стала нести службу с полной отдачей…
Была у нас кавказская овчарка Тайга. Привели ее в пятимесячном возрасте. Выросла красивая и злобная собака, но к своим была очень добрая, ласковая. И вот в одно утро во время кормежки вожатая обнаружила Тайгу павшей, после установили, что собака была отравлена. Нужно было унести собаку из зоны. А с нею в паре работал кобель Бобик, овчарка. Бобик никак не подпускал к Тайге, тащил ее мертвую в будку за шкуру. Кое-как с трудом увели Бобика и тогда вынесли Тайгу. Собравшиеся сотрудники комбината смотрели на это тяжелое зрелище и не хотели верить, что собака может так переживать смерть своей подруги.
Вообще, собаки часто подают пример любви и ненависти: они вместе с тобой радуются и переживают, это я испытала на себе. Их ласка, привязанность лечат, учат стойкости.
Овчарку Лориса отдал нам хозяин, так как не мог держать. Сначала пес был очень ласковый. В один прекрасный день — утром это было, зимой — вожатая после кормежки зашла к Лорису за грязной миской, а с ним стоит красивая овчарка Эллия. Лорис подбежал к вожатой и начал вырывать у нее тряпку. Вожатая не отдавала, тогда он сбил ее с ног… Словом, дело дошло до больницы. Так одна неосторожность или, вернее, непонимание психики собаки может довести до беды. Случай поучительный. С того времени Лорис сделался неузнаваемым. Злобным. Я так думаю: конечно, вечная настороженность, постоянное ожидание каких-либо гнусных выходок со стороны разных подонков, не желающих жить как все — честным трудом, тоже оставляют свой след, сказываются на характере собаки… Лорис и в дальнейшем проявлял свой нрав, но вожатая не хотела с ним расставаться: когда он нес службу, можно было не беспокоиться. Но потом он совсем озверел. Работники службы переживали, расставаясь с ним, но он стал всем страшен.
Бывают у нас свои пенсионеры. Это собаки, которые долго и безупречно несли свою службу. Они заслужили свою миску супа с мясом. Их кормят, выгуливают, ухаживают за ними. Они доживают до конца своих дней.
Для меня все собаки одинаково дороги. Вот только не хочется думать, что годы идут и придется расставаться со своими подопечными. Буду работать, сколько смогу…
В. Бульванкер Барри
В 1899 году в Париже, на одном из островов реки Сены, было открыто кладбище для собак и других животных. Когда после церемонии открытия присутствующие вошли на территорию кладбища, первое, что они увидели, был большой мраморный памятник. Верхом на собаке, крепко держась за шею, сидел ребенок. Это был памятник сенбернару Барри.
В давние времени в Альпах, там, где сходятся границы трех государств — Франции, Италии и Швейцарии, был основан монастырь Святого Бернара, и ближайший перевал, соединяющий Швейцарию с Италией, стал именоваться Большим Сенбернарским перевалом.
После бури или снежного обвала монахи обязательно выходили на поиски пострадавших на перевале. Помогали им выращенные в монастыре и специально обученные большие, сильные собаки. Со временем собак этой породы стали называть сенбернарами. Они прекрасно ориентировались на местности, знали наиболее опасные места, человека чувствовали даже сквозь толстый слой снега.
Среди сенбернаров были такие собаки, слава о которых разошлась по всему свету. Но самым знаменитым был Барри. О нем писали газеты, журналы, издавались книги, в которых быль перемешивалась с легендами. По-разному пишут и о гибели Барри. Сегодня трудно проверить достоверность фактов, имевших место в начале прошлого века. Мы приведем ту версию, которая кажется наиболее правдоподобной и объясняет надпись на парижском памятнике: «Он спас сорок человек и был убит сорок первым…»
В суровую зиму 1812 года Наполеон и его армия покинули горящую Москву и начали отступление под непрерывными ударами русской армии.
Потерпев поражение в России, Наполеон не думал складывать оружие. Он стал вновь готовить армию для продолжения войны. Но солдаты начали дезертировать.
Один из дезертиров оказался в районе Большого Сенбернарского перевала в Альпах. В пути его застала пурга. Он упал в расселину, засыпанную снегом, и, измученный, заснул под снежным покровом. После пурги Барри, направленный на поиск пострадавших людей, нашел дезертира, откопал и, как учили, лег на него, чтобы согреть замерзшего. Но когда человек пришел в себя, открыл глаза и увидел заснеженную морду зверя, первое, что он подумал: волк! Он выхватил нож и ударил собаку…
Раненый Барри оставил спасенного им человека и побрел к монастырю, оставляя за собой кровавый след. В монастыре ему остановили кровь и обработали рану. Проезжавший купец, узнав о положении Барри, упросил настоятеля монастыря разрешить ему увезти собаку в Берн, где была лечебница для животных.
Барри уложили в сани. Его вышли проводить все жители монастыря.
В Берне собаку подлечили. Но вернуться к своей благородной спасательной работе из-за полученной раны и старости он уже не смог. В 1814 году его не стало. Чучело Барри стоит в Бернском музее естествознания.
КОГДА РЯДОМ ДРУГ
Василий Великанов Дагестанская быль
Это было давно, в 30-х годах, когда я только начинал свою ветеринарно-врачебную практику в Дагестане, но я до сих пор не забыл старого чабана Лукмана Муртазаева и его верного пса Рагаца…
Впервые я встретился с ними летом.
На высокогорные пастбища я поехал верхом на маленьком сером коньке местной породы. К задней луке была приторочена бурка.
Узкая извилистая тропа вела все выше и выше. Левее — огромный срез горы, массивные пласты которой похожи на покоробленные листы толстой старой книги. В пластах пород леденцами вкраплены серые гладкие камешки — галька древних морей. Правее — аул Куруш. Угловатые сакли, сложенные из серого известняка, навечно срослись с горой.
Но вот я поднялся так высоко, что поравнялся с облаком и утонул в густом тумане. Все исчезло вокруг. Стало холодно и промозгло. Я набросил на себя бурку.
Минут через десять езды туман постепенно стал редеть, и показалось обширное зеленое плато. Конь и бурка были мокрыми, как будто мы только что вылезли из воды.
Выехав на плато, я замер от восхищения.
Между гор висели беловато-дымчатые облака, а в просветах между ними проглядывались зеленая долина и серая река.
Вокруг меня, насколько хватало глаз, поднимались округленные зеленоватые вершины гор. Небо — голубое, чистое, а солнце так и брызжет слепящим светом. Но от солнца не жарко — гуляет прохладный ветер. Сочная трава с крупными цветами белой и розовой ромашки зыбится под ним, трепещет, ластится к земле.
Впереди меня торчал в небо скалистый, острый гребень высокого Шалбуздага. Вокруг гребня, как вокруг шеи, — белый шарф снега.
Вначале богатые луга показались мне пустынными, необжитыми. Но проехав по тропе вперед, по направлению к Шалбуздагу, придержал коня — на склоне горы увидел белую овцу и крупную серую собаку. Собака негромко взлаивала на овцу и пыталась гнать ее под уклон, но та не шла. Она топталась на месте и жалобно блеяла: «Бэ-ээ-э…» Будто говорила: «Не пой-ду-у…» Собака пошарила в траве и подняла голову. В ее зубах был белый ягненок. Собака понесла его под уклон. Овца перестала блеять и спокойно пошла следом.
Я поехал за ними. Собака, услышав позади себя всадника, опустила на траву ягненка и бросилась на меня с громким злобным лаем. С разбегу она прыгнула к морде коня, но конь успел высоко задрать голову, и собака щелкнула зубами в воздухе. Затем кинулась к стременам, чтобы схватить меня за ногу, но я поднял ноги на седло. Тогда, разъяренная, она опять забежала вперед и стала кусать коня за ноги. Конь приседал, но продолжал идти. Пытаясь во что бы то ни стало остановить лошадь, собака забежала сзади и, уцепившись зубами за хвост, изо всей силы уперлась ногами в землю. Конь остановился. Признаться, я не ожидал такого стремительного, свирепого нападения и несколько даже растерялся. Что делать и как обороняться? Кавказские овчарки настолько смелы и сильны, что нередко вступают в единоборство с волком и побеждают его.
Из-за склона появился высокий старик в бурке. В руках у него было ружье, на которое он опирался, как на посох. Это и был Лукман Муртазаев.
— Рагац! Рагац! — крикнул он громко и строго.
Пес неохотно отошел, хрипло рыча и злобно посматривая на меня. Только тут я заметил, что собака была приземистая, массивного сложения, лохматая, с толстой шеей, лобастая. Беловатая полоска разделяла широкий лоб на две половины. Уши короткие, обрезанные, хвост серпом.
Старик подошел ко мне, поздоровался и покачал головой.
— Ах, мал доктор, как можно так ехать?.. Надо было послать кого-нибудь из аула… Собаки злые — беда будет.
Старик показался мне исхудалым богатырем. У него было большое продолговатое лицо с орлиным носом и впалыми щеками. Небольшие карие глаза глубоко запрятаны — острые, спокойные.
Я сошел с коня и повел его на поводу.
Пес покосился на меня и пошел впереди нас.
Вероятно, от многолетней ходьбы по горам Лукман сутулился, а походка у него была медленная, тяжелая, словно он груз на себе нес. На голове у него была беловатая, порыжевшая от солнца, лохматая папаха, на ногах толстые шерстяные носки и легкие чарыки из сыромятной кожи. На поясе висел кинжал, отделанный чеканным серебром.
Мы спустились по склону ниже, и я увидел большую отару овец. Они рассыпались по лощине — белые, черные, серые. Среди них мелькали ягнята на тоненьких длинных ножках. Вокруг отары ходили большие серые собаки.
На широком зеленом плато находился овечий загон, обнесенный невысокой стеной из серого горного камня. Рядом с загоном стояла маленькая сакля.
Навстречу нам из сакли вышла смуглая женщина лет сорока пяти в черном платке. Робко взглянув на меня, она молча поклонилась.
— Моя жена, — представил мне ее Лукман и, обратившись к ней, сказал:
— Гульнас, возьми коня.
Женщина привязала коня к столбу и дала ему подсушенной травы. Все движения у нее были резкие, быстрые.
Мы вошли в саклю. Это была сторожка для пастуха на случай ненастья. Внутри темновато — оконце пропускало мало света. Посередине стоял железный таган. На этом очаге пастух готовил себе пищу и обогревался. Земляной пол был устлан свежим сеном, пахло ромашкой.
У Гульнас уже готов был обед: обжаренная на масле в растертой печенке вяленая баранина. Такого вкусного кушанья я никогда не пробовал и похвалил Гульнас. От похвалы она вспыхнула и стыдливо опустила глаза. Глаза у нее были быстрые, какие-то пронзительно-диковатые.
После обеда Гульнас ушла домой в аул Куруш: она приносила мужу продукты.
До позднего вечера мы с Лукманом осматривали в загоне овец и вводили им внутрь лекарство, от которого погибают глисты.
Когда же солнце скрылось за скалистый гребень Шалбуздага и стало быстро темнеть, Лукман расставил собак на их посты. Три легли снаружи около стек загона, а около ворот расположился Рагац. Вероятно, ему доверялся этот важный пост как самому надежному часовому. Собаки уже не лаяли на меня и не рычали, но все же поглядывали недоверчиво и злобно, как на чужого. Усталые овцы легли, тесно прижавшись друг к другу. Так теплее.
Поздним вечером мы сидели с Лукманом в сакле, пили очень сладкий чай — ширинчай по-местному — и ели пресные лепешки — чуреки — с сыром из овечьего молока — брынзой. Лукман был неразговорчив. Видно, одинокая пастушья жизнь приучила его к молчанию. Но он с интересом спрашивал и с большим вниманием слушал о жизни в больших городах. На мои же вопросы отвечал скупо, отрывочно.
Восемьдесят лет прожил Лукман Муртазаев в ауле Куруш. Более полувека он пас баранту богатеев, а сам не имел ни одной овцы. У него была лишь убогая сакля, сложенная своими руками из горного камня, да собака. Зимой и летом он ходил в одной и той же одежде — старой вытертой черкеске и шароварах из грубого самотканого сукна, крепкого и ноского, как воловья кожа.
В прошлом году в аул Куруш приехал из Буйнакса молодой рабфаковец-комсомолец Имран Галиев и стал говорить с народом о коллективизации. Тогда Лукман первым подошел к нему и твердо сказал:
— Пиши в колхоз… меня и Рагаца.
…Перед тем, как лечь спать, мы с Лукманом обошли загон. Было тихо. Прохладный ветерок чуть шевелил траву. Темно-синее небо с мерцающими звездами казалось близким и плотным, как полог.
Спать мы легли на кошме, покрывшись бурками. Очаг наш давно затух, стало холодновато.
Ночью мы проснулись от собачьего лая. Лукман схватил ружье, и мы вышли из сакли. Обошли загон. Собаки лаяли с тоскливым подвыванием. На толстых загривках у них вздыбилась шерсть.
— Волки близко… — сказал Лукман.
Ранним утром, когда скалистый гребень Шалбуздага зазолотился от солнечных лучей, я встал. После ночной тревоги Лукман, оказывается, не ложился спать.
Утром он куда-то ушел. Вскоре вернулся, неся в руках два больших, красноватых от ржавчины, капкана.
— Хитрые стали волки… — сказал Лукман, — близко были, а приманку не взяли.
После утреннего чая я поехал в другие места, где паслись отары овец. Собаки уже не лаяли и не преследовали меня.
Впереди отары неторопливо шагал высокий Лукман с ружьем в правой руке, опираясь на него, как на посох. По сторонам и позади отары шли собаки, заворачивая и подгоняя отстающих овец. Вот Лукман остановился и встал на камень. Широкие, плечи бурки топорщились вверх, и Лукман издали показался мне огромной птицей со сложенными крыльями. Таким он тогда и запомнился мне: старый, но еще могучий горный орел, сурово-спокойный, молчаливый и долговечный, как и эти горы, на которых он живет.
Поздней осенью в широкой долине, где протекал Самур, сады пожелтели и горы, на которых летом паслись овцы, покрылись снегом.
Отары спустили пониже, к аулам, и готовили к перегону через горный перевал в теплые долины Азербайджана. Там, на отгонных пастбищах, они могли перезимовать под открытым небом.
Перед тем как погнать овец в этот длинный и трудный путь, надо было отобрать и оставить в аулах слабых и больных животных. Я в это время ездил по селениям и осматривал овец.
Приехал и в аул Куруш.
Заночевал у председателя колхоза Тюль Ахмет Ахмедова. Это был поджарый мужчина средних лет. С бритой головы он никогда не снимал (разве только когда ложился спать) каракулевую серебристо-серую кубанку. В память о славных годах своей службы в буденновской коннице он носил синие бриджи с потертыми кожаными леями.
Ночью я проснулся от громкого разговора, который слышался из-за двери. Говорила женщина — торопливо, горячо, нервно. Я не мог разобрать ее слов.
В комнату, где я спал на полу, устланном ковром, вошел Гюль Ахмет Ахмедов и тихо сказал:
— Мал доктор, пришла Гульнас. Говорит, собака кончается… Лечить скорее надо…
Я быстро оделся и, схватив свою походную сумку с аптечкой, выскочил наружу. Было темно, моросило. Я еле успевал за Гульнас — она почти бежала. На ходу я спросил ее:
— Что случилось?..
Она махнула рукой:
— Плохо, мал доктор… Пропал Рагац…
У Лукмана, как и у многих лезгин, сакля была двухэтажная. В нижнем этаже, заменявшем двор, помещались корова и овцы.
Поднимаясь по лестнице, я почувствовал запах паленой шерсти. Лукман сидел на корточках около очага и калил в огне железный прут. Лицо у него было мрачное, с красноватым отблеском от огня. Рядом с ним лежал, распластавшись, Рагац. Он был неподвижен, будто мертвый. Шея в крови. Лукман почтительно встал и тихо сказал:
— Мал доктор, спасай, пожалуйста, Рагаца… Волк резал его…
— Что вы делали с ним?
— Прижигал немного. Кровь идет…
Я знал, что в народе применяют этот способ остановки кровотечения, но он казался мне варварским, безжалостным. На шее зияла рваная рана, и из нее била кровь пульсирующей струйкой. Быстро нащупав поврежденную жилку, я зажал ее пинцетом и затампонировал рану. Кровотечение прекратилось. Обессиленный пес лежал спокойно и дышал редко, глубоко. Пасть полуоткрыта, видны старые стертые зубы. Глаза у собаки были закрыты, и мне показалось, что она засыпает. Я прощупал пульс и встревожился — пульс был нитевидным: как будто там, в глубине, кто-то чуть дергал ниточку-жилку — и она вот-вот оборвется…
— Давно это случилось? — спросил я.
— Нет, недавно… — сумрачно ответил Лукман.
— Плохо дело, очень плохо… — проговорил я. — Кипяченая вода есть?
— Есть, есть, — торопливо ответила Гульнас.
Я хотел ввести собаке физиологический раствор поваренной соли, чтобы восполнить потерянную кровь. Но пока я готовил раствор, Рагац стал дышать все реже и реже и наконец совсем затих. Пульс не прощупывался. Я приложился ухом к груди и не услышал сердечных толчков.
— Все… — сказал я печально.
Лукман, сидя около трупа своей собаки, угрюмо молчал. Гульнас, обхватив голову руками, раскачивалась из стороны в сторону и протяжно, страдальчески причитала:
— Ай-ай-я-я!. Ай-ай-я-я!..
Лукман поднял труп собаки и молча вышел из сакли. На тревожный вопрос жены: «Куда ты?» — он ничего не ответил и быстро скрылся в ночной мгле.
Гульнас побежала было вслед, но остановилась и закричала испуганно в глухую мокрую темноту:
— Лукма-ан! Лукма-ан!..
Одиноко и дико прозвучал ее голос в ночной пустыне. Ответа не было. Лишь кое-где подвывали собаки, да сердито, грозно рокотал Самур, переполненный осенними водами.
Растерянная и промокшая Гульнас вернулась в дом и, присев перед огнем, тихо, беззвучно заплакала.
Тут она и рассказала мне, как это все случилось и в какую беду попал ее Лукман…
Сегодня ночью, когда собаки подняли сердитый лай с подвыванием, Лукман пошел в ущелье проверить свои капканы. И взял с собой Рагаца. Эта ночь принесла Лукману удачу — в капкан попал здоровенный волк. Но эта удача принесла и несчастье. Вместо того чтобы убить хищника, Лукман пустил на него Рагаца. Ему хотелось полюбоваться поединком, и он был уверен, что могучий пес задушит волка. Но Лукман просчитался. Он забыл о том, что Рагац был стар и зубы его стерлись. Матерый зверь сразу же опрокинул собаку и стал душить ее и рвать горло. Лукман выхватил из-за пояса кинжал и всадил его волку под левую лопатку, в сердце. Затем подхватил собаку на руки и, прижав ее к груди, побежал домой…
С глубокой старины велось так: живому волку радовались, словно приезжему цирку. Пойманного волка приводили на цепи в аул, поочередно пускали на него своих собак и тешились этим поединком до тех пор, пока какая-нибудь собака не задушит зверя.
Но с тех пор, как образовались колхозы и овчарки стали считаться колхозным добром, эти звериные «спектакли» были запрещены.
«Зачем Лукман пустил Рагаца на волка?.. Зачем нарушил закон?» — спрашивала Гульнас, и я не мог ей сказать ничего утешительного.
…На другой день к вечеру по узкой кривой улице аула Куруш торопливо шагал Лукман, ведя на поводке большого темно-серого пса, похожего на Рагаца. Лукман вошел в большой дом колхозного правления и подошел к столу председателя. Я тоже был в правлении по своим делам.
Показывая на пса, Лукман тихо сказал:
— Пиши его вместо Рагаца…
Гюль Ахмет Ахмедов сдвинул шапку на лоб, отчего вид у него сразу стал недоброжелательно-хмурый, и пристально посмотрел на собаку.
— Где взял? — спросил он.
— Купил.
— А Рагац?
— Пропал… — грустно проговорил Лукман и поник головой.
Исподлобья посматривая на провинившегося чабана, председатель строго спросил:
— Лукман, разве ты не знал решение нашей артели? Почему так сделал?..
Чабан глухо проговорил:
— Я не думал, что так получится…
— Волка без клыков не бывает… — сказал председатель и еще что-то добавил по-лезгински, но Лукман, взглянув на меня, ответил по-русски:
— Ахмет, не надо так…
Председатель заерзал на стуле — видимо, ему неловко стало передо мной — и указал Лукману на свободный стул:
— Садись, пожалуйста.
Но Лукман, чувствуя себя как бы подсудимым, не сел. Председатель посмотрел на меня с таким выражением, будто хотел выразить свою досаду: «Ну, что теперь с ним делать?!»
Мне хотелось вмешаться в их разговор, но я не находил для этого подходящих слов и еще не знал, как председатель поведет себя дальше. Я встал и отошел от стола, перед которым понурившись стоял старый чабан. Мне не хотелось быть перед ним в положении судьи. Председатель, видимо, уловил мои мысли. Быстрым движением руки он сдвинул шапку на затылок и, откинувшись на спинку стула, начал увещевать виновника в проступке, но в его словах было больше снисходительности, чем строгости:
— Слушай, Лукман, мы все тебя очень уважали. И вот доктор, — он кивнул в мою сторону, — тоже о тебе хорошо говорил… Баранта у тебя жирная и от волков ты ее хорошо сберегаешь. И жена у тебя хорошая, и сын — большой человек в Махачкале, а ты… Ты же знаешь, что кто любит чабана, тот любит и его собаку… А ты что наделал? Как теперь народу в глаза глядеть будешь, а? Ну, скажи, пожалуйста.
Лукман молчал, и по его виду я понял, о чем он думает: «Ну зачем председатель так говорит? Мне и без того больно…»
Наступила неловкая, тяжкая минута: председатель ждал от виновника ответа, раскаяния, а тот не находил слов в свое оправдание. Желая хоть как-нибудь смягчить эту тягость, я промолвил:
— Ну что ж, потерянного теперь не вернешь.
Хотя я и не одобрял дикого поступка старого чабана, но мне было жаль его. Я видел, как он страдает.
— Конечно, Рагац был уже старый… — проговорил председатель, взглянув на меня, — но… он ведь колхозный.
Я чувствовал, что своим присутствием связываю председателя, мешаю ему быть более решительным и строгим, но в то же время у меня мелькнула и другая мысль: «А может быть, председатель наедине с Лукманом все это дело решил бы значительно проще и быстрее…» Мне показалось, что председателю хочется показать себя непримиримым к нарушителю колхозной дисциплины и в то же время он готов сделать небольшое снисхождение уважаемому человеку, Лукману.
Председатель вопросительно взглянул на меня — а как, мол, вы на это посмотрите? — затем вдруг резко взмахнул правой рукой, будто рубанул шашкой по воздуху, издав при этом высокий, досадливый звук: «Эх!» Наклонившись к столу, он развернул толстую конторскую книгу и тихо сказал:
— Ну, ладно, Лукман. Что с тобой делать? Давай запишем новую собаку.
Записав в книгу кличку собаки, пол и возраст, Гюль Ахмет Ахмедов спокойно проговорил:
— А теперь передай ее чабану Магомедову.
Лукман поднял голову и, весь подавшись к столу председателя, с тревогой спросил:
— Зачем передавать? Я с ней сам к баранте пойду.
— На зимовку пойдут помоложе, а тебе отдыхать надо… — все так же спокойно, но твердо сказал председатель.
Очевидно, Лукман воспринял это как наказание и растерянно спросил:
— Почему так? Почему не доверяешь?..
— Жалею тебя, Лукман, — ответил председатель и вдруг опять взорвался: — Ну, что ты хочешь? — И тут же, устыдившись своей резкости, сказал спокойнее: — Мы тебе полегче работу…
— Не надо мне полегче! — перебил его Лукман. — Я с барантой пойду. Разреши, пожалуйста. Хочешь, я еще одну собаку куплю? Доверяй мне, пожалуйста…
Вероятно, Ахмедов не ожидал от Лукмана такого резкого порыва и смущенно потупился.
— Я верю тебе, Лукман, — сказал председатель, — но если бы ты был на моем месте… подумай сам. Что скажут колхозники, если я тебя по головке буду гладить за нарушение нашего закона?..
На какое-то мгновение Лукман замер, наверно, сознавая, что председатель прав, а потом опять стал говорить свое, все более волнуясь и спотыкаясь на словах, которые туго приходили на ум:
— Возьми собаку, не надо держать у меня… Пусти проводником… Ноги мои еще ходят, глаза видят… Не обижай меня, пожалуйста… Я не знал, что Рагац пропадет. Я не хотел этого… Я друга потерял… Мое сердце болит… Мое сердце не может терпеть…
На этом Лукман оборвал свою нескладную речь и потупился. Крупные капли слез тяжелыми горошинами покатились по впалым щекам и упали на пол. Председатель отвернулся. Отвел глаза и я. Невыносимо тяжело смотреть на сильного мужчину, когда он плачет.
Тут я не выдержал, подошел к председателю и сказал:
— Пусть Лукман идет проводником… А Магомедов поведет баранту…
Лукман смотрел на председателя с такой трогательной надеждой, что тот заколебался:
— У тебя хорошие защитники, Лукман, но… Иди пока. А завтра зайди. Обсудим на правлении…
…Ночь была морозная и лунная. Сухая прохлада как будто звенела, бодрила.
Из аула Куруш выехали два всадника в бурках: один из них был большой, другой — поменьше. Казалось чудом, что низкорослая лошадка так легко везет великана. Это были Лукман и Гульнас. Они ехали в горы, на юг, туда, где высоко и далеко громоздились сахарные вершины горного снежного перевала.
Лукману разрешили идти проводником на зимовку в Азербайджан. А на другой день по этому пути пошла баранта нескончаемым потоком…
Василий Великанов Четвероногий поводырь
В госпитале
Познакомился я с ним в госпитале инвалидов Великой Отечественной войны.
Дежурная медицинская сестра проводила меня в массажную комнату. Около кушетки стоял массажист в белом халате, с засученными по локоть рукавами. Это был мужчина лет тридцати пяти, с прической на косой пробор, в темно-синих очках. Я поздоровался, массажист поклонился и, застенчиво улыбнувшись, тихо сказал:
— Пожалуйста, разденьтесь до пояса и лягте на кушетку.
Только тут я заметил: массажист слепой!
Все его бледное лицо было изрыто мелкими шрамиками, как будто подкрашенными зеленоватой краской.
Я разделся до пояса и лег на кушетку. Руки у массажиста были тонкие, мускулистые. Пальцы длинные, с аккуратно подстриженными ногтями. Он припудрил спину тальком и стал массировать. Начал он с легкого поглаживания, а потом с нажимом глубоко прощупывал тело, будто что-то искал в мышцах. А то вдруг так рассыпался по коже пальцами, словно перебирал клавиши рояля. Иногда мягко пристукивал кулаком и затем до теплоты растирал кожу ладонями.
Сначала от массажа боль усилилась, но потом постепенно стала утихать. Кожа на спине приятно горела… Минут через пятнадцать, легонько скользнув ладонью по больному месту, массажист сказал с улыбкой:
— Ну вот, на сегодня, пожалуй, довольно. Как вы себя чувствуете?
Я встал с кушетки и быстро выпрямился, чего до массажа сделать сразу не мог бы.
— Прекрасно! — бодро ответил я.
Когда наш массажист, Николай Ильич Малинин, закончив работу, вышел из госпиталя, мы столпились у открытого окна. Было уже послеобеденное время. Шел Николай Ильич неторопливо, спокойно, постукивая по тротуару тростью. Впереди него, чуть левее, шла на поводке крупная собака. Поводок от нее был пристегнут к поясу слепого. Всем своим видом — серым окрасом, длинным туловищем с толстой шеей и стелющейся походкой — собака напоминала волка. При встрече с прохожими она не сворачивала — видно, привыкла к тому, что ее хозяину уступали дорогу. Прямо на Николая Ильича шел, о чем-то задумавшись, высокий мужчина в белой шляпе. Казалось, они вот-вот столкнутся. Собака остановилась и, оскалив зубы, зарычала. Рассеянный мужчина очнулся, торопливо снял шляпу и, низко поклонившись, что-то пробормотал.
Мы рассмеялись, и кто-то из нас проговорил:
— Наверно, с улицы Бассейной…
На углу, где надо было перейти улицу, собака остановилась и села: шел трамвай и две машины. Они прошли, и шум их стал затихать. Собака встала и, насторожив уши, как бы прислушиваясь, натянула поводок: путь свободен! Потом повела хозяина через улицу. Она не смотрела по сторонам и, наверно, только по слуху определяла, что путь безопасен.
Перешли улицу и столкнулись с новым препятствием: там белили дом, и тротуар был перегорожен двумя балками. Собака остановилась перед балкой и потянула хозяина левее, в обход по мостовой.
С деревянного помоста спрыгнул молодой штукатур в парусиновом переднике, закрапленном известковыми брызгами, и подошел к Николаю Ильичу. Он что-то сказал слепому, наверно, предложил провести. Но Малинин отрицательно качнул головой и, осторожно шагнув вперед, прощупал препятствие палкой. Да, собака не ошиблась.
Мы наблюдали из окна, как работает умная собака-поводырь, пока Малинин не скрылся за поворотом. Мой сосед по койке, Иван Рубцов, безногий артиллерист, восторженно сказал:
— И чего только человек не придумает, а?!
Способный щенок
Щенку было всего два месяца, когда Боря Цветков принес его из клуба служебного собаководства. Длинный и костлявый, щенок показался неуклюжим и некрасивым. К тому же он часто беспричинно лаял, стаскивал со стола скатерть и не слушался окриков.
— Вот дурашливый какой! — говорила Борина мать, Надежда Васильевна. — Пока сделаешь из него толкового пса, намучаешься.
У Бори был уже опыт по воспитанию щенков. Уезжая на фронт, отец оставил ему боксера.
— Смотри, Боря, — говорил отец, — если понадобится, отдай Гепарда в армию. Пригодится в караульной службе…
В конце войны получили печальное известие о гибели отца. Тогда Борис отвел сильного, злого пса в райвоенкомат и сказал:
— Пусть он там задушит хоть одного фашиста!..
А вместо Гепарда принес из клуба на воспитание щенка по кличке Норка.
Пятнадцатилетняя сестра Таня подсмеивалась над братом:
— И где ты нашел такого дохленького, дураковатого?
— Ты маленькой тоже, наверно, была не очень умной, — сердито сказал Борис. — Ты еще не знаешь, какая у него родословная: его мать первый приз получила на выставке. Подожди, вот он вырастет — покажет себя!
Борис злился: Танька воображает себя уже взрослой, а его считает мальчишкой. Конечно, ему не пятнадцать, а только двенадцать лет, но что ж из этого? Она считает, что он должен ее слушаться во всем. Как бы не так! Будет он слушаться девчонку! И волейбольный мяч присвоила, а ведь мама купила для двоих.
И когда Таня уходила из дому, Борис отдавал щенку мяч. Норка катала его по комнатам, мяч убегал от нее, как живой, подпрыгивал, а иногда даже прятался под кровать, закатываясь в темный угол. Щенок заливался звонким лаем и однажды так сильно вонзил острые зубы в мяч, что тот вдруг устрашающе зашипел и обмяк. Щенок в испуге отпрыгнул от мяча, потом осторожно подошел и чуть шевельнул его лапой, схватил зубами, потрепал и вскоре бросил, потеряв к нему всякий интерес.
Вернувшись домой, Таня увидела своего брата, сидящего за починкой мяча.
— Мама, до каких же это пор его паршивый кутенок будет портить мои вещи! — возмутилась она. — Вчера разорвал платок, сегодня — мяч.
— А ты разве не знаешь, что щенку надо играть? Его надо развивать, — примиряюще сказал Борис.
— Купи себе мяч и развивай своего собачонка, а чужой нечего хватать! У нас сегодня тренировка, а ты мне ее сорвал!
— Не ссорьтесь, — успокаивала их мать. — Таня, Боря починит твой мяч, а для Норки я сошью другой.
Надежда Васильевна сшила тугой мячик из тряпок, и щенок катал его, рвал и кусал. А на дворе Борис воткнул в землю гибкую хворостину и привязал к ее концу мочало. Норка хватала зубами мочало, тянула, потом отпускала его. Хворостина пружинисто качалась, мочальный хвост, трепыхаясь, дразнил разгоряченного щенка.
Ежедневно три раза Борис кормил своего воспитанника густым супом, давал ему молоко, протертую морковь и даже купил в аптеке бутылочку жидких витаминов.
— Ты ему и свой компот отдай, — усмехнулась Таня.
— Ну и отдам, а тебе что? Он же маленький.
Но самая крупная размолвка между братом и сестрой произошла, когда щенок подрос и окреп. Щенок был подвижным, задиристым, но не злобным. А Борису хотелось, чтобы он был злобным и страшным. Борис хорошо помнил, каким был их Гепард, и ему хотелось из Норки воспитать такого же грозного пса.
Однажды к Тане пришла подруга Аня Колесова. Щенок незлобно залаял на нее, а Борис натравил:
— Возьми, возьми, Норка!
Норка громко залаяла и бросилась на девушку. Аня испуганно взвизгнула и, открыв дверь, выскочила в коридор. Из своей комнаты выбежала Таня, и лицо ее стало пунцовым:
— Борис, ты дошел прямо до наглости! Натравливаешь на моих подруг собаку! Так ко мне никто ходить не будет.
— Ты ничего не понимаешь, — спокойно сказал Борис. — Это же воспитание. Норка должна недоверчиво относиться к чужим.
— Ну и трави своих товарищей, а моих подруг не трогай! Я маме скажу…
— Ну и говори! Мама меня лучше понимает, чем ты. А еще в восьмом классе учишься…
Таня вышла в коридор и увидела подругу, прижавшуюся к стенке.
— Аня, иди.
— Нет, надо выждать немного.
— Чего выждать?
— Да чтобы Норка считала, что она «победила» меня. Мы ведь так с Борисом заранее договорились.
— Спектакль, значит, устроили. И меня не предупредили… А чего же кричала как резаная?
— Да ведь знаешь, как страшно-то мне показалось…
Наступила весна, и пришлось Норку выселить на жительство во двор, в деревянный сарай. В сарае Борис смастерил ей будку, а на пол постелил старый детский матрасик, на котором когда-то спал сам. Он ежедневно чистил щенка щеткой, а как потеплело — стал его купать. Щенок охотно плескался, а плавать не хотел — боялся. Но ведь всякая служебная собака должна хорошо плавать. Борис брал потяжелевшего щенка на руки, заносил его поглубже и, бросив в воду, плыл сам впереди. Норка испуганно вытаращивала глаза и быстро плыла обратно к берегу. Потом она привыкла и охотно бросалась в воду за хозяином и даже переплывала с ним на другой берег.
Ежедневно по вечерам Борис гулял с Норкой по городу. Сначала щенок боялся машин и шарахался от них под ноги хозяину. Тогда Борис подвел Норку к машине знакомого шофера и вместе с ней облазил всю машину, а потом они проехались по городу, и щенок перестал бояться машин.
Иногда Борис садился на велосипед, выезжал за город и так быстро несся по асфальтированному шоссе, что в ушах ветер свистел. Норка, высунув язык, еле успевала за ним.
Один раз какой-то старик даже остановил Борю:
— Эй, малый, чего ты кутенка-то гоняешь? Запалить можешь.
Это я его к бегу приучаю.
— Оно, конечно, собака должна бегать, да ведь во всяком деле мера нужна…
— А я все делаю, как в книжке написано, и у инструктора в клубе бываю.
— Ну, если по книжке, то правильно, — успокоился старик.
Но вот Норке исполнилось десять месяцев, и костлявый озорной щенок превратился в рослую собаку, похожую на волка. Даже Таня как-то сказала:
— Мама, а какая наша Норка красивая стала, правда?
Мать улыбнулась:
— Правда, дочка, правда. К чему приложишь руки с любовью, из того и толк выходит.
Кончилось наконец для Норки домашнее воспитание, и надо было приниматься за настоящую учебу. Повел Борис Норку в клуб, и там ему выдали ее «родословную», в которой были указаны не только отец и мать Норки, но дедушка с бабушкой и даже прабабушка. Получив «паспорт», Норка стала вполне взрослой, и теперь ее уже можно было по-настоящему дрессировать.
Всю зиму три раза в неделю ходил с ней Борис в клуб и занимался на учебной площадке под руководством опытного инструктора Вадима Ивановича Третьякова.
Норка оказалась очень способной и быстро усвоила общий курс.
В первомайские праздники, когда к Надежде Васильевне пришли в гости ее сослуживцы, Борис показал успехи своей воспитанницы. По его команде Норка садилась, ложилась, прыгала через палку, ползала, а когда он говорил: «Голос!» — звонко, отрывисто лаяла.
Борис торжествовал. И даже Таня не скрыла на этот раз своего восхищения.
— Знаете, девочки, это ее брат сам воспитал, — сказала она подругам. — Борис у нас ужасно упрямый — он чего хотите добьется.
Однажды Борис пришел из клуба радостно взволнованный.
— Мама, — сказал он, — к нам в клуб приехал инструктор из Москвы, из спецшколы, и подбирает собак на дрессировку в поводыри.
— В какие поводыри? — не поняла мать.
— Поводыри слепых.
— Ты серьезно?
— Честное слово! Он выбрал у нас пять собак. И мою Норку тоже. Он, мама, проверил у нее и слух, и зрение, и память, и внимание и сказал, что она очень способная для этого дела.
— Ну, а как же ты? Тебе разве не жаль ее отдавать?
— Жалко, конечно, но надо. Ведь слепые-то — инвалиды войны. Он сказал, что это новое дело… Вот бы интересно, мама, посмотреть, как дрессировать ее будут?
— Да, интересно, — согласилась мать.
— И знаешь, мама, он еще сказал, что, наверно, Норку после дрессировки обратно в наш город вернут. Она ведь знает все улицы и будет хорошо водить слепого. Понимаешь?
— Понимаю, сынок, но не очень, — улыбнулась мать.
В разговор вмешалась Таня:
— Чудак ты, Борис! Он разыграл тебя, как мальчишку, а ты и поверил.
— Ничего не разыграл, — насупился Борис. — Он правду говорил.
— Совсем ты у меня собачником заделался, — улыбнулась мать.
Она протянула руку и хотела погладить сына по голове, но Борис отклонился:
— Вы все еще думаете, что я маленький…
Надежда Васильевна обняла детей и, прижимая к себе, проговорила ласково и укоризненно:
— Ну, будет вам колоться. Какие вы у меня ежики — дотронуться нельзя…
Трудная дрессировка
Норку привезли в спецшколу, в дачное Подмосковье. Кругом были зеленые луга, рощи, светлые пруды. Деревянные дома окружены садами и огородами.
Собаки, привезенные из многих городов на специальную дрессировку в школу, размещались каждая отдельно в просторной вольере, обнесенной высокими стальными решетками. В середине вольеры — небольшая землянка-конура. Жить в ней собаке очень удобно: летом в ней прохладно, а зимой тепло.
Первое время собаки, оторванные от родного дома, где они выросли, вели себя неспокойно: бегали по вольере от стенки к стенке и тревожно лаяли.
Тосковала по своему дому и Норка. У нее был грустный вид. Она тяжело вздыхала, временами позевывала, а иногда, тихо скулила, будто жаловалась на свою судьбу. А вечерами она поднимала узкую морду кверху и протяжно тянула однотонную, тоскливую песню: «А-у… у-у!»
Новый хозяин — дрессировщик Васильев — успокаивал Норку:
— Ну что ты, дурочка, завыла, а? Скоро работать начнем, и всю твою тоску как рукой снимет.
Собака прислушивалась к спокойному голосу Васильева, пристально смотрела ему в глаза и постепенно затихала. Он выводил ее на прогулку, но не спускал с длинного поводка, и она не могла резвиться так, как резвилась на воле с Борисом. Новый ее хозяин был тоже хорошим, хотя и более строгим, чем Борис. Он кормил ее пахучим мясным супом, чистил щеткой и купал в пруду. Ей было приятно, и она быстро привыкла к новому хозяину, а потом охотно стала выполнять все то, чему ее научили в клубе.
Однажды Васильев привел Норку в рощу, на большую поляну, где был оборудован какой-то странный городок: тут стояли одноэтажные фанерные домики, на стенах которых висели настоящие почтовые ящики, тянулись асфальтовые тротуары, кое-где были лестницы и столбы, рвы с деревянными мостиками, ямы, лужи, тумбы и даже узкоколейная железная дорога с переездом и шлагбаумом.
Васильев надел на Норку кожаную шлейку, она плотно обхватила шею и грудь собаки. На спине от шлейки вверх торчала тонкая стальная дуга. Дрессировщик уцепился за эту дугу левой рукой, как за поводок, а в правую взял трость. Затем он подал команду «вперед, тихо!» и пошел вслед за собакой, ощупывая тростью землю. Он уподоблялся слепому, не закрывая, однако, глаз, и учил собаку двигаться по свободному тротуару на правой стороне улицы. Иногда Васильев плотно закрывал глаза, чтобы яснее себе представить, как чувствует себя слепой. На миг погружался в темную бездну и тут же открывал глаза. Тяжело было без привычки. Будто в подземелье каком-то, и не знаешь, куда идти.
Норка шла послушно — ведь это так нетрудно. Но ее надо было научить понимать и обходить все «человеческие препятствия» — вернее, препятствия для слепого. Сначала она стремилась «срезать углы» при переходе через улицу, как это делают обыкновенно все собаки, а через небольшие препятствия пыталась прыгать и тащила за собой человека. Но Васильев не шел за ней, он упирался и говорил строго: «Нельзя!» Норка оттопыривала одно ухо и отрывисто лаяла: «Ам!» Вероятно, она спрашивала: «В чем дело?» Она по-своему недоумевала: почему это улицы надо переходить непременно на перекрестках, да еще под прямым углом? И почему сильный человек не может перепрыгнуть небольшой ровик или бревно? Но Васильев осторожно обходил бревно стороной, а через ровик переходил по мостику. Иначе не может поступить слепой.
Когда Норка стремилась перепрыгнуть через небольшие предметы, лежащие на ее пути, Васильев опускал поводок до земли и задевал им за этот предмет. Собака рвалась вперед, а поводок больно дергал ее назад. Да, лучше уж обойти стороной…
Предметы на земле Норка быстро научилась обходить, но препятствий выше ее роста она не чувствовала. Но ведь там, где собака проходит свободно, не глядя вверх и не замечая препятствия, человек может задеть головой. Васильев останавливал Норку перед высокой перекладиной и, постукивая по ней палкой, говорил: «Нельзя, обход!» — и при этом тянул собаку за поводок в сторону. Нет, она все-таки не чувствовала никакой опасности в этом препятствии и старалась прошмыгнуть под ним. Тогда Васильев сделал так, что перекладина упала на Норку в тот момент, когда она хотела пройти под ней, и больно стукнула по шее. После такой неприятности Норка стала посматривать вверх и обходить всякое высокое препятствие, расположенное на уровне человеческого роста и даже выше.
— Ну как, Норка, теперь поняла? То-то, упрямая… — сказал Васильев и улыбнулся.
После каждого исполненного приказания хозяин говорил ей: «Хорошо… хорошо…» — и поглаживал при этом по голове сильной, но ласковой рукой. А то и давал кусочек вкусного вареного мяса. На ремешке, перекинутом через плечо, висела у Васильева парусиновая сумочка. Как только Васильев опускал в нее руку, собака нетерпеливо переступала с ноги на ногу и не сводила с него влажно блестевших темных глаз. Получив кусочек мяса, Норка виляла хвостом и беззвучно оскаливала большие белые зубы, будто улыбалась от удовольствия.
Васильев научил ее уступать дорогу машинам, повозкам, верховым, но бесшумному велосипеду, к которому Норка привыкла у Бориса, она не хотела уступать дорогу. А ведь велосипед может сшибить слепого. Пришлось во время дрессировки нарочно наехать на нее. Норка обозлилась и стала бросаться на всех велосипедистов. Но ее быстро отучили от этой дурной привычки.
Через два месяца дрессировки Васильев направился с Норкой на окраину Москвы.
Попав на бойкую городскую улицу, Норка сначала испугалась и попыталась увести «слепого» в боковые более тихие улицы, но Васильев ее не пустил.
— Нельзя, прямо вперед! — строго приказал он.
Попробовал Васильев обратить внимание Норки на световые сигналы уличного движения, но она не поняла их. Она от природы страдала, как и все ее сородичи, дальтонизмом: не различала цветов. Но зато, приученная понимать жесты, она замечала изменения в положении милиционера-регулировщика. Когда милиционер своей полосатой палочкой приостанавливал движение машин, Норка смело устремлялась вперед, ведя за собой хозяина.
Наконец Васильев повел ее туда, где было особенно много людей: на вокзал, базар и в скверы. Норка шла точно прикованная к своему хозяину и не проявляла к людям никакого интереса, кроме одного: как бы не столкнуться с ними, свободно провести своего «беспомощного» хозяина. А хозяин иногда так притворялся слепым, что даже надолго закрывал глаза и шел за обученной собакой свободно, смело, не чувствуя уже никакого страха перед черной бездной. Он шел за своим поводырем и думал: «Хорошо… хорошо… Мой неизвестный друг — слепой — получит надежную опору в ходьбе».
Через три месяца такой специальной подготовки был устроен выпускной экзамен собакам — поводырям слепых. Каждый дрессировщик подготовил несколько собак, и теперь учителя волновались за своих «учеников».
Ведь столько в каждого из них вложено терпеливого, настойчивого труда…
Васильеву завязали глаза, и Норка безукоризненно точно провела его через все препятствия.
Председателем экзаменационной комиссии был профессор Киселев из Института физиологии имени И. П. Павлова. С бородкой клином, в пенсне, он чем-то напоминал Чехова. Профессор, пожав Васильеву руку, говорил, заглядывая ему в глаза:
— Спасибо, товарищ Васильев, очень хорошо вы поработали. Ваши поводыри будут надежными друзьями инвалидов. Но нам надо теперь проверить собак в работе не только по заученным маршрутам. Смогут ли они самостоятельно ориентироваться в городе?.. Вы понимаете меня, товарищ Васильев?
— Да, пониманию, Михаил Иванович, — ответил Васильев.
— Ну так вот вы и проверьте это, когда передадите Норку по назначению. Собственно, поэтому мы и посылаем собак в их родные места, которые они хорошо знают.
Мастер тонкой кисти
Перед войной Николай Ильич Малинин работал художником по тканям на текстильной фабрике. Он пытливо изучал мастерство старых умельцев тонкой кисти, ходил на луга, в сады и в лес, зарисовывая цветы с натуры.
Создал Малинин два своеобразных текстильных рисунка: один был на шелковое полотно, с небесно-голубой и золотисто-солнечной полосками, а другой — на майю для детей, и назвал его Николай Ильич «Лесной полянкой». По белому полю причудливо рассыпаны лепестки цветов, листочки, ветви, ягоды земляники, грибки с красной шляпкой. А среди этих алых фигурок мелькало маленькое солнышко с красным ободком. Приглядишься и заметишь — солнышко улыбается…
Но творческая работа художника Малинина вскоре была прервана войной.
Уходя на фронт, он сказал жене:
— Маша, побереги мои эскизы… Я вернусь и закончу их…
На фронте он был командиром орудия. Однажды на их огневую позицию противник обрушил огонь минометов, и Малинина, с изуродованным лицом, в тяжелом состоянии, эвакуировали в госпиталь.
В тыловом госпитале, на Урале, он пролежал целый год, а затем приехал в родной город.
Светлый мир солнца и красок, который так любил Николай Ильич, исчез для него навсегда и сменился вечной темнотой. Он уже не чувствовал фронтового своего ранения — оно давно зажило, затянулось рубцом, а ранение другое, душевное, не давало ему покоя.
Находясь дома без всякого дела, он страдал. Подолгу на ощупь перебирал свои довоенные эскизы и мысленно вспоминал цветистые рисунки. Однажды Мария, наблюдая за мужем, сказала ему:
— Коля, я заходила в госпиталь инвалидов войны. У них нет массажиста, а нужда в нем большая… Как ты думаешь, а?
Еще в госпитале, в группе выздоравливающих, он научился делать массаж. Как-то при обходе раненых начальник госпиталя сказал Николаю Ильичу:
— Я вижу, вы скучаете без дела, товарищ Малинин. Займитесь массажем. Полезное дело. Пригодится…
Послушался Николай Ильич доброго совета и охотно принялся за дело.
Вернувшись в свой город, он сначала как-то и не думал о том, чем будет заниматься. Но без дела скучно стало жить, просто невозможно. И как кстати теперь заговорила Мария о работе! Он обнял жену за плечи и ласково проговорил:
— Машенька, умница ты моя дорогая… Спасибо.
Работая, он убедился в том, что массаж делает чудеса. Кажется, навсегда после тяжелого ранения окостенел сустав ноги, но усиленный ежедневный массаж и упражнения постепенно возвращают ему нормальную подвижность, и, глядишь, инвалид начинает ходить все лучше, свободнее, веселее.
И как приятно сознавать, что это дело твоих рук, твоего труда!
Больные любили его сильные, горячие руки, и Николай Ильич почувствовал, что он нужен людям, полезен им.
А тут еще родился сын. Мальчик был крепкий, черноволосый и кареглазый. Знакомые часто говорили:
— Смотрите, весь в отца… А глаза-то, глаза как угольки.
И тогда пришла, вернулась к Николаю Ильичу прежняя радость жизни. Лишь одно его всегда волновало. Потеряв в битве с фашизмом зрение, войну он представлял себе сплошной черной ночью и поэтому жгуче ненавидел тех, кто готовил для человечества эту ночь.
Николай Ильич хорошо знал свой город, где он родился и вырос, и ходил на работу без поводыря. Да и некому было водить его. Мария, став директором школы, целый день находилась на работе, а дочь Леночка училась. Но движение в городе становилось все интенсивнее и стало небезопасно переходить улицы, где шумы нередко так переплетались между собой, что трудно было уловить из них тот, который нес слепому опасность.
Однажды вызвали Марию Павловну в городской Совет и сказали:
— Мы послали в Москву заявку на собаку-поводыря для вашего мужа. Да, собаку. Не удивляйтесь, Мария Павловна. Дело это, правда, новое, но, говорят, надежное. Собаку привезет специальный инструктор.
Мария сообщила мужу эту новость, не скрыв своего сомнения. Николай Ильич растрогался), но четвероногого поводыря он никак себе не представлял. А Леночка, услышав разговор родителей и опасаясь, что они откажутся от собаки, радостно всплеснула ладошками:
— Пусть привозят! Я с ней играть буду…
Возвращение
Когда Васильев вел Норку по городу, она смело и свободно шла по улицам: вероятно, узнавала родные места.
Семья Николая Ильича жила в новом четырехэтажном доме, недалеко от фабрики. Возле дома был обширный двор, по краям которого росли молодые акации. В углу двора в большой куче золотисто-желтого песка копались маленькие дети. Девочки-школьницы перебрасывали из рук в руки мяч. Среди малышей вдруг возникла драка.
— Витя, оставь! — закричала светловолосая девочка, разнимая драчунов. — Нельзя драться. Ну что ты такой буян…
Черноволосый мальчик надул губы и, насупив брови, проговорил угрожающе:
— Дам! — Потом он увидел вдруг откуда-то появившуюся собаку и, просияв, крикнул — Вавака!
Все дети мгновенно прекратили игры. Во двор входил человек в гимнастерке, с крупной собакой, похожей на волка.
Девочка оставила брата и побежала к дому:
— Папа! Мам! Посмотрите, какую собаку нам привели! Как волк!
Норка недоверчиво озиралась по сторонам, плотно прижимаясь к ноге своего хозяина. Здесь все для нее было чужим.
Они вошли в просторную гостиную. Мария Павловна указала гостю на стул, а сама вышла в другую комнату.
Васильев огляделся. Все было обычным: чистым, красивым и простым, но необычное гость увидел на стенах. Они были увешаны цветистыми рисунками в рамках: тут были и огненно-алые тюльпаны, синие васильки, белые и розовые ромашки, гвоздика, анютины глазки, красные гроздья рябины. Некоторые же рисунки состояли из каких-то полосочек, точек, завитушек, горошин, но в таком сочетании, что рисунок казался привлекательным. Все эти рисунки отражались в зеркале, и казалось, что там, за стеклом, еще одна такая же красивая комната. Васильев хотел было подняться со стула и подойти к стене, чтобы рассмотреть рисунки поближе, как услышал голос девочки:
— Дяденька, а можно ее погладить?
Не дожидаясь разрешения, девочка протянула руку к голове Норки.
Собака сдержанно прорычала «рр-р-р…», и девочка испуганно отдернула руку:
— Ой, какая злая!
В это время из другой комнаты показался Николай Ильич. Он так свободно шел по комнате, будто был зрячим.
— Здравствуйте, — сказал он, безошибочно протягивая руку Васильеву.
— Папа, как же она будет тебя водить, такая злюка? — разочарованно спросила Лена.
— Вот в том-то и дело, дочка, что надо с ней подружиться.
— Это вы верно, Николай Ильич, сказали. Надо вам теперь завоевать доверие и любовь Норки, но прежде всего я должен подружиться с вами. Иначе Норка не признает вас. Она ведь у нас с характером. А тебе, девочка, надо с ней поосторожнее быть, пока она не привыкнет.
В это время через полуоткрытую дверь со двора, косолапо шагая и сопя, вошел черноглазый Витя, и смело подойдя к собаке, погладил ее по морде.
— Маленькая, — проговорил он.
Все, что очень нравилось Вите, он называл «маленькая». Так его самого называли родители.
— Мама! Она укусит его! — закричала Лена.
— Тише… — остановил ее Васильев.
Норка спокойно взглянула на малыша и вильнула хвостом.
— Не пугайтесь, — сказал Васильев, — даже самые злые собаки не трогают маленьких детей.
— Почему так? — удивленно спросила Лена.
— Наверно, чувствуют, что малыши не могут причинить им никакой боли? — спросила Мария Павловна.
— Безусловно, — подтвердил Васильев.
— Ну, а я для нее большая, что ли? — обиженно сказала Лена.
— Ишь какая хитрая! — улыбнулась Мария Павловна. — То все твердит, что большая, а сейчас захотелось быть вдруг маленькой.
Норка инстинктивно разделяла всех людей на друзей, которые были близки ее хозяину, и к этим людям она относилась доверчиво, и на чужих, которые были далеки от хозяина. Эти люди были ей безразличны, и к ним она относилась со скрытой недоверчивостью. Васильев дружит с новым для нее человеком, он вместе с ним ест за одним столом, ходит по городу, мирно беседует, и Норка, сопровождая их, стала относиться к Николаю Ильичу спокойно, дружелюбно. Попробовал Николай Ильич ее кормить, но она не приняла пищу и даже отошла подальше от него. Тогда Васильев приказал ей строго и ободряюще:
— Можно, Норка, можно… Ешь.
Собака вяло подошла к кормушке и с предосторожностью, нехотя съела еду, посматривая то на Васильева, то на Николая Ильича. Всем своим равнодушно-подневольным видом она как будто хотела сказать новому человеку: «Ну что ж, если так хочет мой хозяин, я съем, сделаю такое одолжение, но на мою дружбу вы все равно не рассчитывайте…»
Потом Васильев стал уходить из дому как раз в те часы, когда надо было кормить собаку, и Норка стала принимать пищу от Николая Ильича, не оказывая при этом новому кормильцу никаких особых признаков внимания.
Попыталась ухаживать за Норкой и Лена, но Васильев категорически запретил:
— Нельзя, Леночка. Иначе она не привыкнет к папе и не будет его водить.
— Но ведь мы вместе живем… — обиженно протянула Лена.
— Ты не расстраивайся, Леночка, — успокоил ее Васильев. — Когда она привыкнет к папе, тогда и ты сможешь ухаживать за ней.
— Дядя Ваня, а почему вы ей разрешаете играть с Витей?..
— Потому что он маленький.
Получилось так, что после первого же смелого знакомства Витя приобрел у Норки какое-то особое расположение. Он не только гладил ее, но даже трепал за уши и брал за нос. Норка играла с ним: бегала по комнате, приседала и взлаивала. Витя гонялся за ней и весело смеялся.
Однажды Васильев ушел на целые сутки, и Норке пришлось остаться одной в семье Малининых. Среди членов семьи она уже заметно предпочитала Николая Ильича: все приятное теперь исходит от него, он такой спокойный, добрый. Правда, он не такой уверенно-строгий, как Васильев, но зато он ничего от нее не требует. Лишь кормит и ласково говорит: «Норка, Норка».
Вечером она забеспокоилась. Подошла к двери и, царапая ее лапами, заскулила, попросилась на волю. Очевидно, она хотела найти Васильева.
— Нельзя, Норка, нельзя, — сказал Николай Ильич, — ложись…
Не дождавшись хозяина, поздним вечером Норка легла около пустого дивана, на котором спал Васильев.
А ночью Николай Ильич проснулся и услышал около своей койки сопящее дыхание собаки. Она лежала на полу, свернувшись клубком. Николай Ильич прошептал: «Норка!» — и легонько погладил ее по голове. В ответ на ласку собака сдержанно, один раз, лизнула ему руку и осталась с ним рядом до утра.
Потом Васильев совсем ушел от Малининых на другую квартиру, недалеко от них, и заходил к ним лишь изредка. А Норка уже так привыкла к Николаю Ильичу, что стала выполнять его простые команды. Тем более, что всякий раз она получала от Николая Ильича кусочек вкусной колбасы.
Прошло две недели. Васильев надел на собаку шлейку, а поводок пристегнул к поясному ремню слепого. Встав правее Николая Ильича, подал Норке команду:
— Вперед!
Норка охотно пошла. Они повернули налево, затем пересекли улицу. Норка точно выполняла все команды Васильева.
На другой день они опять отправились на работу, но Васильев шел уже не рядом с Николаем Ильичом, а по левой стороне улицы, изредка посматривая на них. Команду подавал Николай Ильич сам. Норка издали, через улицу, видела Васильева и точно выполняла приказания Николая Ильича, который шел по знакомому маршруту, в госпиталь. Там Васильев угостил собаку мясным супом. Но все же, когда Норка видела Васильева вблизи, она порывалась подойти к нему, а он сурово взглядывал на нее и даже грозил хлыстом. По-своему Норка, вероятно, недоумевала, почему Васильев вдруг так переменился к ней?..
Тяжело отвыкать от друга, который по непонятной причине вдруг становится холодным, грубым.
Опасная встреча
Через несколько дней Васильев пустил Николая Ильича одного с Норкой. Оказалось, она запомнила дорогу к госпиталю и вела его точно по тем же улицам, где они проходили в предыдущие дни. Норка запомнила и трамвайную остановку, где они садились. Подведя Николая Ильича к трамваю, она потянула его к передней площадке. Зайдя в трамвай, Норка подошла к передним сиденьям и выжидающе посмотрела на людей. Она привыкла к тому, чтобы люди уступали место ее хозяину. К этому ее приучил Васильев. С сиденья сразу поднялись две девочки-школьницы и проговорили одновременно:
— Пожалуйста, пожалуйста… Садитесь.
Николай Ильич сел, а Норка забралась под скамью и лежала там до тех пор, пока не услышала команду: «Встать!»
Они уже подходили к госпиталю, когда Николай Ильич услышал радостный мальчишеский возглас:
— Норка! Норка!..
Судя по голосу, мальчик был где-то слева, на другой стороне улицы. Норка вздрогнула и остановилась: какой знакомый голос!
Николай Ильич услышал приближающийся к нему топот ног. Он решил, что это кто-то из его знакомых, которого он не узнал по голосу.
— Тебе чего, мальчик? — спросил он подбежавшего к нему человека.
— Это моя Норка… — услышал он взволнованный голос.
— Как твоя?
— А так, моя… Я ее воспитал, а потом ее в спецшколу взяли. Она теперь у вас, да?
— У меня…
Не отходя от ноги Николая Ильича, собака вильнула хвостом. Николай Ильич почувствовал на ноге мягкие удары пушистого хвоста. Но вот Норка отстранилась от его ноги и потянулась к мальчику. Николай Ильич дернул за поводок и строго приказал:
— Нельзя, Норка. Стоять!
А потом уже приветливо сказал:
— Я тороплюсь, мальчик, на работу. Ты приходи к нам домой. Только в выходной день. Я дома буду.
И назвал свой адрес.
— Ладно, приду, — обрадовался Борис. — Обязательно приду.
— Вперед! — подал команду Николай Ильич.
Норка послушно пошла впереди Николая Ильича, лишь один раз оглянувшись назад, на своего прежнего хозяина, с которым когда-то так весело было играть…
Борис долго стоял на месте и смотрел им вслед, пока они не скрылись в дверях госпиталя. Ему было и приятно, оттого что его Норка теперь службу несет, и в то же время досадно и грустно: она уже не принадлежит ему.
Дома Николай Ильич рассказал о встрече с мальчиком, но Васильев не одобрил гостеприимства Малинина:
— Конечно, эта встреча рано или поздно должна была произойти. Но вы, Николай Ильич, напрасно пригласили его к себе. Норка должна знать только ваш дом и одного вас. Иначе вы ее можете потерять как вожатого.
…В воскресенье Борис оделся в белый полотняный костюм и сказал деловито:
— Пойду посмотрю, как моя Норка у нового хозяина живет.
— Поди, поди, сынок, — одобрительно сказала мать.
Борис ушел к Малининым и быстро вернулся домой.
— Ты что так скоро вернулся? — удивленно спросила мать. — Не видел свою Норку?
— Да, увидишь теперь! Даже на порог не пустили.
— Почему так?
— А потому, что, наверно, боятся, как бы я не переманил ее к себе…
— Но теперь же она не твоя… — иронически заметила Таня.
— Ну и пусть! Все равно я ее воспитал.
— Так чего же ты надулся? — сказала мать. — Ты сделал свое дело — и хорошо.
— Да ничего… Просто обидно! Даже взглянуть не дали… Спасибо, говорят, тебе, мальчик, за твою работу, но только не надо Норку расстраивать. А то она слушаться не будет…
— А пожалуй, Боря, они правы. Ты же сам всегда говорил, что собака должна знать одного хозяина.
Борис чувствовал правду в словах матери, но все-таки продолжал твердить о своей обиде:
— Заходи, говорят, мальчик, к нам тогда, когда Норка уйдет на работу… И щенка от Норки пообещали… — сумрачно добавил Борис.
Таня будто обиделась за брата:
— Они к тебе, Борис, отнеслись, как к маленькому: чтобы успокоить, кукленка пообещали.
— Не кукленка, а породистого щенка! — поправил сердито Борис.
— Ну, во всяком случае, я считаю, что от одной встречи Норка не испортилась бы, — заметила Таня.
Борис вспылил:
— Что ты понимаешь в этом деле! «Не испортилась, не испортилась»!.. А вот, может быть, взяла и испортилась бы!
Маленькое приключение
Норка уже хорошо освоилась с тремя маршрутами — на работу, в городской сад и в гастроном. В магазине она подводила Николая Ильича сначала к кассе, а потом к прилавку. Так научил ее Васильев.
Прожив у Николая Ильича почти месяц, Норка стала точно ориентироваться во времени. Это было не трудно ей усвоить, потому что день у Николая Ильича был строго размерен по часам: с утра — на работу, потом — отдых, прогулка.
Норка совсем привыкла к новому хозяину и к новому дому, но она не переносила в квартире темноты, которую не ощущал Николай Ильич. Случалось иногда так, что Николай Ильич заходил с ней в дом вечером, когда в квартире никого не было. Норка требовательно взлаивала до тех пор, пока Николай Ильич не включал свет, который совсем не нужен был ее новому хозяину.
В центре города, около театра, раскинулся небольшой парк. Кое-где в тени деревьев стояли скамьи, а в центре парка бил фонтан из огромного клюва каменного пеликана. Против фонтана на высоком постаменте стоял гипсовый малыш в коротких штанишках и беззвучно трубил в горн.
Вокруг фонтана на газонах цвели пионы, настурции, астры и мак.
Николай Ильич пришел сюда отдохнуть и заодно познакомить Норку с новым для нее маршрутом. Подойдя к входным открытым воротам парка, Николай Ильич отстегнул от ошейника поводок и произнес повелительно:
— Ищи! Норка, ищи!
Норка бросилась в парк и побежала по дорожкам, посматривая на скамьи, занятые людьми. Был воскресный день. Норка озабоченно бегала по дорожкам, выискивая свободное место для своего хозяина. Нет, все занято. Николай Ильич неторопливо шел по центральной аллее, прощупывая путь тростью и ожидая сигнала от Норки. Собака забежала в боковую тенистую аллею и остановилась как вкопанная против маленькой скамьи, занятой девушкой и юношей. Уставилась на них выжидающе и требовательно. Девушка схватила юношу за руку и привстала со скамьи:
— Митя, я боюсь! Уйдем от нее.
— Ну вот еще, трусиха! — успокоил ее тот. — Она, наверно, есть хочет. На, песик.
И он бросил собаке конфету. Норка даже не взглянула на подачку, а залаяла громко и угрожающе. Девушка испуганно метнулась в сторону, а за ней вскочил со скамьи и парень.
— И чего только надо этому волкодаву? — смущенно проговорил он.
— Она бешеная, наверно, — сказала девушка. — Пойдем скорее, Митя!
Норка вспрыгнула на освободившуюся скамью и громко залаяла, давая сигнал своему хозяину.
Когда Николай Ильич подошел, Норка соскочила на землю и легла под скамью.
— Смотри, Митя, — сказала девушка, — ведь это она нас прогнала, чтобы хозяина усадить. Вот умница!
Но парень не разделил с ней восхищения:
— Тоже мне умница! Что мы, и без нее не уступили бы место ее хозяину? А то облаяла нас ни за что ни про что, да еще грязью скамейку заляпала.
Николай Ильич, услышав разговор о его собаке, наклонился, заглядывая под скамью, где лежала Норка, и проговорил укоризненно:
— Ну, Норка, ты сегодня, кажется, перестаралась немного… Тебя ведь не учили такой грубости.
Глядя на своего хозяина, Норка похлопала веками, а потом, глубоко вздохнув, положила голову на лапы и закрыла глаза. Вероятно, ее собачья совесть была спокойна: она помогла хозяину хорошо устроиться, и чего он еще от нее требует?..
Большое испытание
Воскресенье — день молодежной эстафеты на приз областной газеты — выдалось светлое, солнечное и не жаркое. Ранним утром машина-поливалка вымыла гладкие мостовые, отчего они потемнели и стали точно лакированные. По сторонам широкого Ленинского проспекта тянулись длинные шеренги молодых лип.
За час до начала соревнований трамвайное и автомобильное движение по маршруту эстафеты было приостановлено. Тротуары наполнились праздничной толпой. Малышей родители несли на плечах. В толпе шныряли ребята. На всех углах и перекрестках стояли милиционеры в белых кителях и белых перчатках.
Именно в этот день Васильев решил устроить Норке самое трудное испытание. Еще накануне он сказал Николаю Ильичу:
— Завтра будет самый удобный момент для этого испытания. Главный маршрут, по которому вы ходите с Норкой на работу, будет перекрыт, и в госпиталь можно будет пройти только по обходному пути, через Вокзальный мост. Это составит крюк километра в полтора. Сможет ли она сама ориентироваться в этой сложной обстановке и довести вас до госпиталя?
— Ну что ж, проверим, — согласился Николай Ильич. — А помните, Иван Николаевич, недавний случай с Норкой?
— Да, тогда Норка проявила себя очень интересно.
Как-то Николай Ильич возвращался из госпиталя домой. Он точно знал, что от угла до поворота к их дому шестьдесят два шага. Этот путь он вымерил еще тогда, когда ходил без поводыря. Но сегодня Норка повела себя как-то странно: когда они дошли до поворота, собака не повернула домой, а потянула его вперед, дальше. Николай Ильич дернул за поводок:
— Норка, налево, домой!
Но собака тянула его по-прежнему вперед. Николай Ильич недоумевал. Что с ней вдруг случилось, почему она стала такой непослушной? Николай Ильич не знал, что впереди, у соседнего дома, играл его маленький сын. Норка, заметив Витю, потянула к нему. Николай Ильич решил позволить Норке пойти вперед, чтобы узнать, что же отвлекло ее от их постоянного маршрута. А Витя так заигрался с товарищами, что заметил отца и Норку только тогда, когда они уже совсем приблизились к нему.
— Па-па! — воскликнул он.
Пухлые щеки его были измазаны глиной, на лоб спускался крутой завиток черных волос. Подойдя к Норке, Витя обнял ее за шею рукой и проговорил:
— Нолка моя!..
Эта самостоятельность собаки тогда приятно удивила Николая Ильича, но сегодня ей предстоит задача более трудная: надо будет найти обходный путь, который пролегает правее от их привычной дороги. Но повернет ли Норка направо от Главного моста, по которому они обычно ходили в госпиталь, или поведет хозяина налево и тогда не найдет перехода через реку?..
На трамвае они доехали до площади.
По случаю эстафеты трамвай дальше не шел. Выйдя из вагона, Васильев смешался с толпой и стал издали наблюдать за поведением Норки, не теряя Николая Ильича из виду. Собака оглянулась по сторонам как-то растерянно — она не видела здесь раньше такого скопления людей, и на миг ей, наверно, показалось, что они попали в незнакомое место. Тут толпами стояли зрители — болельщики за своих, — а подростки, юноши и девушки, одетые в разного цвета трусы, майки, брюки, разминались на месте или прохаживались, готовясь к стремительному броску.
Почувствовав нерешительность собаки, Николай Ильич подал команду:
— Норка, вперед!
Норка повела хозяина через сквер к часам, где обычно они поворачивали направо и шли по панели широкого проспекта.
Публика расступалась перед ними, образуя свободный проход. Послышались услужливые голоса: «Дайте проход! Пожалуйста, проходите!» У выхода из сквера, около часов, стоял милиционер. Он загородил выход и остановил Николая Ильича, сказав при этом учтиво, но требовательно:
— Гражданин, здесь прохода нет.
— Норка, назад! — скомандовал Николай Ильич и дернул за поводок.
Собака зарычала на милиционера, преградившего им дорогу, но, услышав повеление хозяина, умолкла и, взглянув на Николая Ильича, повернула обратно. Но куда же теперь идти? Куда вести хозяина? А хозяин понял затруднение своего поводыря.
— Норка, работа, работа! — напомнил он настойчиво, повелительно.
Васильев, наблюдая издали, насторожился. Наступил важный момент: по какому пути поведет теперь Норка Николая Ильича?
Вот она повела его правее, через сквер, мимо фонтана, к пятиэтажной гостинице. В это время их заметил Сема Кочетков, закадычный приятель Бориса Цветкова.
— Гляди, Борька, твоя Норка!
Борис оглянулся и увидел Николая Ильича с Норкой. Они шли сквозь расступавшуюся перед ними толпу по направлению к гостинице.
Около гостиницы шла узкая улица, параллельная Ленинскому проспекту. Норка повела по ней Николая Ильича. Пройдя два квартала, они вышли к горе, на которой высился огромный театр, окруженный с четырех сторон колоннадой. Отсюда хорошо был виден длинный и широкий проспект, по которому сейчас устремились в беге загорелые спортсмены.
За театром, ниже — большой мост через реку. По нему Норка не один раз водила своего хозяина, когда шли на работу. Именно сюда она привела Николая Ильича, обойдя главный маршрут по параллельной улице.
— Так, так, великолепно! — говорил про себя Васильев, наблюдая издали за поведением своей воспитанницы. — Посмотрим теперь, что ты будешь делать дальше…
У моста милиционеры стояли сплошной цепью и никого не пропускали.
Норка остановилась перед живой стеной милиционеров и взглянула на хозяина так, будто спрашивала: «Как же теперь быть?..»
— Норка, назад!! Работа, работа… — проговорил Николай Ильич.
Собака повернула назад и повела хозяина направо, по берегу реки.
— Так, так, — прошептал Николай Ильич.
Ниже по течению, в полукилометре от Главного моста, был другой мост — Вокзальный.
По этому берегу Норка в прошлом году гуляла с Борисом, купалась и плавала в реке. А через Вокзальный мост они не один раз ходили в ветеринарную лечебницу, когда Норка поранила себе ногу.
Чтобы попасть в госпиталь, надо перейти этот мост, затем пройти три квартала, свернуть налево, обойти новостройку рабочего городка и выйти на Красноармейскую улицу, где был госпиталь.
«Направление взяла правильно, — думал Васильев, следуя издали за Николаем Ильичом. — Но сможет ли она дальше ориентироваться?..»
Вот и широкий железобетонный мост. Норка повела хозяина по правой стороне, около стальных перил.
Позади что-то страшно загремело. Это шла машина с пучками полосового железа. Они свешивались сзади длинным хвостом, пружинились и лязгали. Норка вздрогнула и оглянулась.
Машина со стальным хвостом прогромыхала по мосту и скрылась за поворотом.
— Норка, вперед! — приказал Николай Ильич.
Собака повела хозяина мимо маленьких трехоконных деревянных домиков старого города, который когда-то был похож на большое грязное село, затем повернула в узкий переулок и неожиданно уперлась в высокий забор новостройки рабочего городка. За оградой высились недостроенные четырехэтажные корпуса. Норка остановилась, будто раздумывая, куда же идти, и повела направо. Они обошли казавшийся бесконечно длинным забор, затем свернули налево и вышли на ту улицу, где был госпиталь.
Норка привела Николая Ильича на работу по новому маршруту, который нашла сама.
Васильев широким шагом догнал Николая Ильича у госпиталя и необычно горячо заговорил:
— Ну, Николай Ильич, теперь я могу уверенно доложить профессору, что Норка сдала экзамен на самостоятельную ориентировку. Это ведь замечательно!..
Николай Ильич тут же угостил Норку колбасой, которую она любила больше всего. Он погладил ее по голове и сказал ободряюще, ласково:
— Хорошо, Норка, хорошо!
Собака оскалила зубы, похлопала хвостом по ноге своего нового хозяина и тихо заскулила, будто запела какую-то свою, собачью, радостную песню.
До свидания!
Провожать Васильева пришли на вокзал Николай Ильич, Леночка и Борис Цветков. Бориса на вокзал пригласил Васильев. Он хотел сделать еще одно сложное испытание Норке, чтобы уехать от Николая Ильича со спокойной душой.
Они сидели на скамье в привокзальном сквере, а Борис прохаживался в отдалении, не подавая никакого вида, что он их знает.
Вот они встали и пошли к вокзалу. Около широкой входной двери висел почтовый ящик. У ступеньки Норка остановилась.
Николай Ильич, прощупывая ступеньки тростью, вошел по ним на площадку. Доставая письмо из кармана, он нарочно обронил его, и оно отлетело в сторону.
— Норка, подай!
Норка схватила зубами письмо и подала его к рукам Николая Ильича.
— Хорошо, Норка, хорошо! — одобрительно сказал Николай Ильич и погладил собаку по голове.
Он опустил письмо в ящик, и они вошли в огромный, светлый вокзал с такими большими окнами, что казалось — это не окна, а стеклянные стены.
Николай Ильич крепко пожимал руку Васильеву:
— Большое вам спасибо, Иван Николаевич, за ваш труд! Норка у меня вроде глаз моих.
— Ну что вы… — смущенно проговорил Васильев. — Это мой долг. А вы напишите о ее работе и поведении.
— Напишем. Обязательно напишем!
— Приезжайте к нам еще, дядя Ваня, — сказала Леночка, не сводя сияющих глаз с Васильева.
Они вышли на перрон в тот момент, когда скорый поезд подходил к вокзалу.
Публика хлынула к вагонам.
Васильев выждал немного и, когда перрон освободился, пошел к своему вагону. Поднявшись на ступеньки, крикнул:
— Норка, ко мне!
Норка вздрогнула, взглянула на Васильева, на Николая Ильича и не тронулась с места. Васильев улыбнулся.
— Прекрасно! — воскликнул он.
В это время откуда-то со стороны близко к Николаю Ильичу подошел Борис и показал Норке кусочек колбасы:
— Норка, возьми, возьми!
Собака вильнула хвостом и потянулась за лакомством.
— Нельзя! — строго запретил Николай Ильич.
Норка отвернулась от подачки и прижалась к ноге Николая Ильича, посматривая на Бориса. А тот повернулся и уходя крикнул:
— Норка, за мной!
Собака взглянула на Николая Ильича так, будто спрашивала его, можно ли ей пойти. Но хозяин стоит и молчит. Нет, она не может его оставить. А Борис уходит с перрона, и вот он совсем скрылся за углом вокзала.
Собака услышала одобрительный голос Малинина:
— Хорошо, Норка, хорошо!..
— До свидания, дядя Ваня! — воскликнула Леночка и замахала рукой.
— До свида-ания! — крикнул Васильев.
Николай Ильич на прощание взмахнул рукой и подал команду:
— Норка, домой!
Собака натянула поводок и повела нового хозяина к выходу спокойно, неторопливо, посматривая настороженно вперед.
Леонид Фомин Ожидание
Ефим Петрович долго и тяжело просыпался. Он сильно мерз, и ему мерещилось то открытое окно, то распахнутые настежь двери, а сейчас почудилось и вовсе непутевое: будто стоит он посреди озера на краю полыньи и его окатывает из ведра сын Алешка.
— Да перестань ты! — отбивался старик. — Разве можно такие шутки шутить с отцом!
Но Алешка только скалил свои большие здоровые зубы и все поливал, поливал ледяной водой…
В полубреду Ефим Петрович собрал на себя все, что смог достать рукой — на стеганое одеяло натянул полушубок, на полушубок — старый войлочный потник от седла, лежавший подле кровати вместо коврика.
Таким его и застал Алешка, случайно забежавший за какой-то надобностью. И понял: дела неважны, без врача тут не обойтись. Накануне они привезли сено, и, когда переметывали его с саней в сарай, отец неосмотрительно сбросил телогрейку. Тут его, потного, и прохватило.
Мешкать было нельзя, и Алешка сразу засобирался: запряг в кошевку мерина, набросал сена, одел отца, кое-как вывел его из избы — и поехали.
Жили они на лесническом кордоне в пятнадцати километрах от районного центра, где находилась больница. Ефим Петрович уже два года, как вышел на пенсию, но продолжал работать лесником. Потому и лошадь держал при себе. Да и как не работать, если любил свое дело и чувствовал силу. К тому же был одинок — бессердечная жена бросила их с маленьким Алешкой еще в молодости и теперь болталась неизвестно где. Второй раз жениться Ефим Петрович так и не собрался. Разные на то были причины, но главная все же в том, что уж слишком он привязался к смышленому малышу. Не захотел ни с кем разделять свою единственную отраду. Так и вырастил Алешку один.
А как вырастил, сын незаметно отошел от него. Ну сперва была армия. Потом институт. После института с дипломом лесовода и молоденькой женой Алешка снова приехал в родное лесничество, но только не в отцовский дом, а в казенную квартиру. Управление лесного хозяйства выделило специалистам молодоженам не только квартиру в добротном деревянном доме, но и оказало прочую материальную подмогу. Тут уж не сплоховал сам Алешка, загодя обговорил все с начальством. Ефим Петрович был не в обиде, что ученый его сын как бы в стороне оказался: все же люди самостоятельные, своя семья, вот-вот дети пойдут — пусть живут да радуются. А он уже тем доволен, что сын пошел по стопам отца, да и рядом.
В первый же год родился внук, а через два — еще один. Закрутила Алешку семейная жизнь, работа, все реже навещал он отца, хоть и жили, считай, через дорогу, а потом и вовсе перестал бывать. Разве только тогда, что пособить. Но в этом Ефим Петрович особой нужды не испытывал, сам управлялся с невеликим своим хозяйством. Наоборот, чаще помогал сыну. Вот и в этот раз, с сеном…
Понимал Ефим Петрович, что у теперешней молодежи свои интересы, не шибко-то она тяготеет к старикам…
Алешка не обратил внимания на собаку Серку, и она, верная своему собачьему долгу — не бросать хозяина, неспешно трусила позади кошевки. Серка — умная псина, и не потому, что породная лайка, просто долго, десятый год, живет у Ефима Петровича, знает его нрав, привычки. Поэтому понимает, что с ним сейчас плохо, иначе бы за два дня хоть раз вышел во двор и накормил ее. Вот и бежала за кошевкой, голодная, но терпеливая, бежала, чтобы узнать, куда Алешка везет хозяина.
К больнице они подъехали вечером. Алешка привязал лошадь к березе, бросил ей сена и направился к входу. Вскоре он вернулся с человеком в белом халате. Человек держал в руках носилки. Вместе они положили Ефима Петровича на эти носилки и унесли.
Серка запрыгнула в кошевку, стала ждать хозяина. Ждала она долго, но так и не дождалась. Алешка пришел один. Он опять не обратил никакого внимания на Серку, только выгнал ее из кошевки, отвязал лошадь и быстро поехал обратно. Серка сначала тоже было побежала обратно, но в конце села отстала от лошади. Потопталась, покрутила растерянно головой и вдруг помчалась к больнице. Алешку она знала хорошо, бывала с ним на охоте, бывала у него дома, но хозяина знала куда лучше, понимала куда больше и не могла уйти без него.
Все тут было для нее незнакомо — и этот просторный двор, и его обшарпанные березы, и люди, проходившие мимо, и сам большой дом с неизъяснимо противными запахами.
Первым делом Серка обежала больницу, проверила, обнюхала все, сунулась даже в неплотно прикрытую дверь — и она отворилась. Здесь, в коридоре, увидела носилки, на которых унесли хозяина. Для верности и их понюхала и из многих чужих запахов, исходивших от носилок, все же выделила ни с чем не сравнимый один — запах одежды своего хозяина. Но тут открылась вторая дверь, и женщина в белом халате затопала, закричала на Серку, схватила швабру. Серка выскочила из коридора.
Она вернулась к березе, где Алешка привязывал лошадь, легла на недоеденное лошадью сено, опять стала ждать хозяина. Сначала она смотрела на дверь, на входивших и выходивших из нее людей, а когда стемнело и перестали ходить, перевела взгляд на светящиеся окна. Особенно на то, к которому чаще подходили люди и почему-то долго смотрели в него.
Так она ждала хозяина всю ночь. Ждала и весь следующий день. Хозяин не появлялся. Серка еще раз заглянула в больничный коридор понюхать носилки, но их там уже не было.
Наступила вторая ночь. Сено собрал дворник и выбросил за ограду, а Серке, чтобы не отиралась здесь, пригрозил метлой. Но когда дворник ушел, она вернулась к березе, вырыла в глубоком снегу ямку. Доскреблась до самой земли, отоптала стылую траву, покрутилась и улеглась. Так она делала всегда, когда ночевали с хозяином в лесу.
На третий день Серка нашла помойку, а в ней — несколько сухих хлебных корок. Никогда раньше она не лазила по помойкам, вообще не знала о них, а вот теперь голод заставил. С той поры, как заболел хозяин, она ничего не ела и эти хлебные корки проглотила, почти не жуя. Можно было еще кое-чем поживиться, но сзади подкрался дворник и изо всей силы ударил метлой. Серка взвизгнула, убежала за ограду.
Наступила четвертая ночь, пятая, шестая… Место под березой, где теперь постоянно находилась Серка, округло заледенело и походило на лежку, какие оставляют после дневки в мартовском снегу лисы. Помойка давала ей кое-какое пропитание.
— Чья это там собака? Дворника, что ли? — спрашивал один больной у другого, стоя у окна в коридоре.
— Если бы дворника, так не лупил бы. Да и конура была бы. Так, бродяжка…
— Что-то не похоже. Смотрит-то как на нас! Все глаза проглядела. И каждый день, каждый день! Скорей всего, кого-то ждет.
И как-то незаметно, уже не двое, а многие больные стали подходить к коридорному окну и подолгу смотреть-гадать, что же это за собака и кого она так упорно высматривает. А она не уставала смотреть на них и тоже по-своему гадала: где же тот, кого она ждет, и радостно подпрыгивала, призывно взлаивала, виляла хвостом, если вдруг замечала похожего на ее хозяина…
Теперь даже тяжелобольные, прослышав о собаке, спрашивали соседей по палате:
— Ждет?
— Ждет! — отвечали им, и лица больных светлели.
Прошел месяц с того дня, как Ефима Петровича с двусторонним воспалением легких привез Алешка в больницу, а Серка все неотлучно ждала его. Тем временем наступила весна, днями все выше вставало солнышко, под березами с южной стороны обозначились затайки. Теперь можно было проводить ночи под любой березой, но Серка ложилась на старое место, в свое гнездо.
— Почему она все под одной и той же березой? Удобнее, теплее ведь лежанки есть? — как-то спросил чаще других наблюдавший за собакой больной. И себе же ответил: — Потому что эта береза ближе других к нашему окну. Честное слово, если бы не эта собака, я бы, наверно, еще долго не поднялся с постели!
И его поняли, не засмеялись над ним…
Наконец наступил день, когда и Ефим Петрович вышел из палаты в коридор. Он тоже знал о странной собаке, направился к окну. И вдруг воскликнул:
— Да ведь это моя Серка! Ты почему здесь-то? Как ты нашла ко мне дорогу?
Тогда больные все рассказали старику…
Ефим Петрович не был сентиментальным человеком, а теперь как-то весь сник, глаза повлажнели. Проговорил тихо:
— Подумай-ка, родной сын не удосужился проведать меня, а она, Серка, всю болезнь, считай, у моей кровати высидела. Теперь-то я уже наверняка поправлюсь… Вот только приструнить бы дворника. А она меня дождется…
Василий Великанов Телохранители Рассказ дрессировщика
В тот вечер, после представления, я долго не уходил из цирка, так как заметил, что медведь Потап нервничает, чем-то раздражен. Качается из стороны в сторону, как маятник, и урчит с тяжким стоном…
Терентьич, ночной сторож, посоветовал:
— Да иди ты, Ваня, спать. Чего томишься? Утро вечера мудренее…
Уходя из цирка, я попросил Терентьича в случае чего позвонить мне по телефону. На душе было неспокойно.
Остановился я недалеко от цирка, в гостинице. С тех пор как умер отец, со мною повсюду разъезжала моя мамаша. Когда я пришел в номер, она еще не ложилась — ждала меня с ужином. Но мне почему-то было не до еды. Утомился очень. И уснуть долго не мог. А только задремал, зазвонил телефон. Схватил я трубку и слышу хрипловатый голос Терентьича: «Беда, Ваня! Потап из клетки вырвался… Лютует!..»
Мигом сорвался я с постели, сунул босые ноги в ночные башмаки и в чем был — так и вылетел из комнаты.
Мамаша схватила пальто и за мной.
— Сынок, куда ты раздетый-то! Простудишься!..
Выскочил я на улицу и бегом помчался к цирку.
Пустынно на улице, никого. Мороз был крепкий, но холода не чувствовал. Бегу, что есть духу, и мысли у меня прыгают: «Ох, хоть бы успеть… Натворит дел Потап…»
В Саратове цирк стоит на площади, напротив тогда был милицейский пост. Когда я оказался перед будкой в нижнем белье и со всклокоченными волосами, милиционер зычно крикнул: «Стой, гражданин!» Я, конечно, не остановился, и постовой пронзительно засвистел.
Вскоре, как я после узнал, на этой площади появилась моя мать с одеждой в руках. Милиционер спросил ее: «Гражданка, что случилось?..» А она, не замедляя хода, задыхаясь, еле проговорила: «Беда… Потап вырвался…»— «Сумасшедший он, что ли?!» — бросил ей вслед милиционер, но мамаша отмахнулась от него.
Вбежав в цирк, я услышал звериный рев, собачий лай и чей-то писк. Ночная лампочка слабо освещала широкий коридор. Я столкнулся лицом к лицу с Терентьичем.
— Скорей, Ваня, скорей, — сказал он, — а то лань задерет.
— Свет! Свет дайте! — крикнул я и бросился по коридору, откуда слышалось злобное рычание медведя.
В полутьме ударился ногой о железные прутья, торчащие из клетки, но боли вгорячах не почувствовал.
«Наверно, Потап вывернул…» — мелькнула мысль. Невдалеке виднелся огромный силуэт медведя. Он пытался передними лапами зацепить пятнистого оленя, но плотная стальная сетка не пропускала лапы. В нее проходили лишь черные когти. Медведь совался в решетку мордой и пытался зубами разорвать ее, но это ему не удавалось. А олень защищался: он бил рогами в сетку и наносил медведю сильные удары в морду. Нос у медведя был в крови. Потап злобно рычал и всей тяжестью своего могучего тела давил на клетку. Клетка перекосилась и прижала оленя в угол.
— Потап, ко мне! Потап, спокойно! — крикнул я громко и повелительно, но медведь будто не слышал. Тогда я крикнул еще громче: — Потап! Ко мне!
Медведь повернулся и пошел на меня с грозным ворчанием, будто хотел сказать: «Что ты мне мешаешь?… Вот я тебя сейчас задушу…»
— Потап, спокойно… Потап…
Пятясь, я задел что-то ногами и упал на спину, но тут же вскочил. В это время загорелся свет — его включил Терентьич.
Ослепленный медведь прищурился и на мгновение остановился.
— Потап, спокойно… Потап, тихо… Потап…
У зверя забегали глаза, он зарычал и пошел на меня. Очевидно, Потап не узнавал своего хозяина: ведь в таком странном одеянии он меня никогда не видел. Я думал, что медведь узнает меня по голосу, но рассвирепевший зверь, казалось, потерял и слух, и обоняние, и зрение.
Позади себя услышал дрожащий голос матери:
— Ваня, выпусти Рекса и Сокола.
Терентьич уж кинулся к клетке, в которой находились мои телохранители, два здоровенных дога, но я остановил его: «Погодите!» Мне хотелось без драки и крови укротить медведя. Недавно во время репетиции Потап почему-то вдруг проявил ко мне агрессивность. И тогда мои верные телохранители-доги задали ему такую трепку… Наверное, он ее запомнил. «А не напомнить ли ему об этом?» — подумал я и громко крикнул:
— Рекс! Сокол! Ко мне!
Собаки заметались в своей клетке и басовито залаяли. Медведь вдруг остановился и, повернувшись, торопливо зашагал к своей клетке. Он всунул голову в пролом и застрял. Я подбежал к нему, ухватил за холку, с силой потянул на себя.
— Потап, назад! Потап, ко мне!
Медведь попятился и, понюхав меня, ввалился в открытую дверь клетки: узнал хозяина! Я захлопнул дверку и крикнул:
— Терентьич, цепи!
Мать попыталась накинуть на мои плечи пальто, но я ее отстранил:
— Погоди, мама, не мешай.
Терентьич принес мне цепи, и я быстро заштопал пролом в клетке. И лишь после этого вдруг почувствовал, что мне холодно. Я весь дрожал, ныла ушибленная нога. Оделся и сел на какой-то реквизит. Мамаша тоже присела рядом. Лицо у нее было бледное, дышала тяжело. Я обнял ее за плечи и привлек к себе. Она уткнулась лицом мне в грудь и тихо заплакала.
— Вот какой ералашный зверь, — по-стариковски ворчал Терентьич, — а еще имя людское носит… Я хотел его ружьишком попугать, к порядку призвать, а он, окаянный, схватил лапами ружье и давай его уродовать. Вот, глядите, что сделал…
Терентьич показал нам железный крюк, похожий на кочергу.
Б. Ершов Друзья
Ее привез на озеро Песчаное отец на собственной «Волге». Машина была новенькая, блестела голубым лаком, но картина была грустная: девочка страдала тяжелым нервным недугом. Врачи бессильны были что-либо сделать. Оставалось надеяться только на чудо.
Песчаное — чудесный зеленый уголок со скучным названием «зона отдыха» — в летнюю пору привлекало много горожан, стремящихся убежать от городского шума, найти на природе отдых и разрядку от напряженного ритма жизни. Вместе с родителями приезжали дети. Их голоса с утра до вечера звенели над озером. Счастливые! Этим здоровым ребятам было доступно все: они загорали и катались на лодке, купались и ходили в лес за грибами и ягодами, играли на лужайке в бадминтон и просто бегали.
Больная девочка проводила время одна, без подруг и ровесников. Дни тянулись у нее медленно и однообразно, скучные и похожие один на другой, как стертые монетки, которые она от случая к случаю опускала в копилку, даже не зная, на что они могут когда-нибудь понадобиться ей и понадобятся ли.
Она даже не завидовала: она уже привыкла к своему положению. Безразлично следила она глазами за играми других детей. Они не подходили к ней — их предупредили, что она — больная, может легко расплакаться, малейшее волнение способно вызвать потрясение, нервный приступ, лучше ее не трогать. Таким образом, отчуждение было взаимное.
Пожалуй, некоторый интерес пробудили у нее собаки.
Собак было две, и они, как привязанные, постоянно ходили за ребятами. Одна— крупная черная дворняга — принадлежала коменданту дач, про другую, поменьше, говорили, что ее завез кто-то из отдыхающих и бросил здесь. До осени она могла быть спокойна, насколько может быть спокойно животное, потерявшее хозяина. Пока не кончится сезон — будет сыта. На ее счастье, народ прибывал все покладистый, добрый. Правда, несколько мам поворчали, что это, дескать, не зона отдыха, а собачник какой-то, и запретили своим детям подходить к ним. Но дети при каждом удобном моменте затевали игры с четвероногими, тем более, что остальные взрослые были настроены к животным вполне доброжелательно — ласкали, угощали. Собаки были миролюбивы и никому не делали зла.
Как вышло, что маленькая Джульба оказалась около больной девочки, никто не смог бы объяснить. Никто ее не подзывал, не подманивал куском. Но только нянечка, приставленная к молчаливой одинокой девочке, отлучившись на недолгое время, застала ее в обществе собаки. Джульба сидела перед девочкой, поставив одно ухо и развесив другое, и, наклоняя голову то вправо то влево, старалась, видимо, понять, что ей говорят, а девочка, болтая ногами и весело хлопая ладошками, пыталась втолковать ей что-то.
Всплеснув руками, нянька закричала:
— Пошла отсюда! Тебя кто звал!
Собака с опущенным хвостом послушно отбежала прочь. Но результат был совершенно неожиданный: раздался громкий плач, девочка затряслась в рыданиях. Вперемежку с всхлипываниями слышались два слова:
— Хочу собаку! Хочу собаку!
С этого и началось. Вскоре Джульба стала частой гостьей домика, где жила девочка с няней. Больше ее не гнали, наоборот, она сделалась желанной там, в ее присутствии девочка не плакала, не капризничала, лицо ее часто озарялось улыбкой. Теперь больная часами оставалась весела, прекратились припадки. Бескорыстная доброта и приветливость бессловесного создания, казалось, возвращали ей здоровье и силы. Чудо все-таки произошло.
Новое знакомство пошло на пользу и Джульбе. Собака заметно окрепла, похорошела — нянька вдоволь кормила ее, поскольку стала видеть в ней свою помощницу. Но что будет, когда закончится сезон, польют дожди и придет время уезжать юной покровительнице и хозяйке Джульбы? Да, Джульба почитала отныне девочку за свою хозяйку и беспрекословно повиновалась ей. Они как будто были созданы друг для друга и давно ждали, когда, наконец, встретятся и больше не будут разлучаться.
А день расставания неумолимо приближался. Уже заметно поубавилось народа на Песчаном. Дни стали короче, ночи длиннее и прохладнее. Уже не так жарко грело солнце.
Снова подкатила к домику голубая «Волга». За больной дочкой приехали родители, и с ними — третий, пожилой доктор.
— О, да ты заметно поздоровела, — сказал он, проведя рукой по голове девочки. — Здешний климат пошел тебе впрок…
— А это что такое? — воскликнула мать девочки, увидев собаку, которая незаметно прошмыгнула за ними в комнату и теперь вертелась под ногами как бы в заботе, чтоб не забыли про нее. — Марш отсюда!
В ту же минуту лицо девочки сморщилось, из глаз брызнули слезы. Началась истерика.
— Постойте-ка, — нахмурившись, сказал врач. — Верните собаку.
А Джульбу только помани, и она тут.
И как будто пронеслась тучка — лицо девочки снова просветлело, на нем появилась радость. Ребенок смеялся.
Тогда осмелевшая нянька рассказала, как тут все было.
— Пёсотерапия, — сказал врач. — Рекомендую продолжить.
— Неужели собака? — недоверчиво проговорил отец.
— Да. Ваша дочь нашла то, чего ей не хватало: друга, который благотворно воздействует на ее нервную систему… Такие случаи известны. В некоторых зарубежных клиниках разработан даже специальный курс лечения нервнобольных детей при помощи животных. Я думаю, что это только начало и если проявить разумное понимание, можно достичь полного перелома в болезни.
Часа через два из домика стали выносить вещи, и вскоре голубая «Волга» тронулась в обратный путь. Вместе с людьми в машине сидела и собака. Джульба ехала в свой новый дом.
Василий Великанов Собачья обида
В подмосковном Переделкино недалеко от Дома творчества пролегает широкая улица, на которую выходят дачи многих известных писателей. Эта улица является излюбленным местом прогулок в поселке.
В тот хороший зимний день, перед обедом, я прогуливался по «литературному проспекту» с писательницей Марией Павловной Прилежаевой, жизнерадостной и словоохотливой.
Стояла тихая погода. Свежий пушистый снег слепил глаза, дышалось необыкновенно легко. Прошедшей ночью обильный снегопад завалил улицу и тропы. Двое подростков расчищали от снега дорогу напротив одного из домов.
Мы видели, как из открытой калитки показалась крупная серая овчарка. На толстой шее у нее был ошейник. И тут произошло то, чего мы никак не ожидали: один из ребят почему-то замахнулся на мирно шагавшего пса лопатой. Тот отскочил в сторону, а потом с громким басовитым лаем бросился на обидчика. Подростки шмыгнули во двор и захлопнули за собой калитку. Облаяв их, пес повернулся и направился к нам навстречу с грозным глухим рычанием. Мы остановились в замешательстве: как быть? Я знал, что разозленная кем-то собака в припадке слепой ярости может наброситься и на невиновного, если он окажется рядом.
Мария Павловна судорожно схватила меня за руку и потянула назад, намереваясь бежать, но я ее удержал на месте, сказав тихо, повелительно: «Стойте спокойно. Не мечитесь и не размахивайте руками. Молчите».
Известно, что любая собака, даже самая трусливая, будет преследовать убегающего от нее человека. Я решил полагаться на «ум» обозленной овчарки: должна же она понимать, «разбираться» в людях…
Медленно шагая навстречу, я приглушенно, на низких мягких нотах приговаривал: «Ах они, такие-сякие, немазаные, сухие… Обидели тебя ни за что… Ну-ну, успокойся… Вот я их…» При этом я протягивал к ней руки с широко открытыми ладонями, чтобы собака видела, что в них нет ничего опасного для нее. Ведь и рукопожатие между людьми возникло из чувства взаимного доверия: смотрите, мол, в руках нет камня…
И я не ошибся. Вероятно, почувствовав по моему голосу, что я на ее стороне, сочувствую ей и осуждаю обидчика, овчарка махнула пушистым хвостом и опять с громким лаем кинулась к калитке, за которой укрывались мальчишки. «Так-так их! — подбадривал я ее. — Никто их не трогал… Пусть не лезут…»
Несколько раз пес подбегал ко мне, а потом с лаем бросался к калитке и, поворачивая лобастую голову, смотрел на меня — будто призывая вместе с ним наказать грубого человека.
Облаяв обидчика несколько раз, он подошел ко мне вплотную и, помахивая хвостом, прижался сильным вздрагивающим телом к ноге, посматривая на калитку. Тут уж я смело положил руку на его мощный, вздыбленный загривок и, поглаживая с легким нажимом, сказал тихо, умиротворяюще: «Умница… Молодец. Хороший… Споко-ойно…»
Я обернулся. Мария Павловна, оцепенев от испуга, стояла на том же месте, где я ее оставил.
Погладив пса по спине, я сказал: «Теперь иди, иди, гуляй… Прогнал врагов, и хорошо… Они теперь не высунут носа на дорогу…»
Полууспокоенный пес терся телом у моих ног и… не уходил.
Я позвал Марию Павловну к себе, но она не тронулась с места. Тогда я направился к ней сам, а пес последовал за мной. Подойдя к Марии Павловне, я взял ее под руку, успокаивая:
— Не бойтесь. Теперь он нас не тронет.
Мы медленно зашагали к входным воротам Дома творчества. Пес шел рядом. Мария Павловна с опаской посматривала на собаку.
Дойдя до входных ворот, мы остановились и я сказал, глядя собаке в глаза: «Ну, а теперь иди домой. Слышишь, до-мой». Я особо выделил слово «домой», рассчитывая, что собака знает его. Вильнув слегка хвостом, пес повернулся и пошел по улице успокоенный, солидный, с чувством своей силы и достоинства, как и подобает «культурной» собаке…
Когда мы вошли в дом, разделись и сели за обеденный стол, Мария Павловна, наконец, обрела дар речи:
— Как это вы решились? Почему она вас не тронула?..
Я улыбнулся и сказал:
— Я пошел ей навстречу не только с открытыми ладонями, но и с открытой душой… И она поняла.
Сергей Другаль Картинки с выставки
Как-то довелось побывать на собачьей выставке. Трибуны средних размеров стадиона, где проходила выставка, были почти пусты: большинство публики — на поле. В центре поля — огороженный канатами прямоугольник примерно сто на сто метров, где установлены бум, лестница, барьер.
Кто в толпе участник, кто болельщик — разобрать трудно, поскольку часть животных привязана в стороне. Многие болельщики привели своих собак просто так: молодь до года возрастом — поднатаскать для будущих выставок и псов-пенсионеров — вспомнить прошлое. После достижения девятилетнего возраста собак не допускают к соревнованиям, но фигуры увешанных медалями «ветеранов» здорово оживляют картину.
На этой выставке мне запомнилось несколько сценок. Вот они, зарисованные с натуры.
Последняя попытка
Застенчивый парень выводит на поводке коренастого боксера. Судя по многим признакам — собака немолодая. Она сосредоточенна, не глядит по сторонам. А ее хозяин, смущенный общим вниманием, чувствует себя скованно.
Работала собака безукоризненно. Команды выполняла спокойно и с уверенностью мастера. Посапывая прошла по бревну. Залезла на лестницу и спустилась по ней, хотя это трудно для четвероногих. Судьи дали высшую оценку — по пять баллов собаке и хозяину.
Последнее упражнение — преодоление забора. Забор высокий. Это препятствие ни один боксер самостоятельно не возьмет. Поэтому по правилам соревнований у забора стоит хозяин, который в нужный момент должен подсадить собаку.
Собака разбегается, прыжок — и она повисает, зацепившись лапами за верхнюю кромку. Хозяин растерялся, мгновенная заминка, и собака срывается вниз. Неудача!
— Вторая попытка! — объявляет в мегафон помощник судьи.
Собака бредет к десятиметровой отметке. Снова разбег и еще прыжок. И опять хозяин не успевает.
В толпе свистят. Парень топчется у забора, не зная куда девать руки. Собака возвращается к отметке, но на полпути ложится. Она устала и теперь отдыхает на жесткой траве. Живот ее тяжко вздымается.
В толпе примолкли.
Недолгое совещание судей и зазвучал мегафон:
— Дается третья и последняя попытка!
Собака встала, не дожидаясь команды, но двинулась не к отметке, а к хозяину. Она села перед ним и — хотите верьте, хотите нет — уставилась в глаза хозяину и хрипло, коротко завыла. Она сидела так пару секунд, а затем кинулась к старту.
Последняя попытка. Последняя! Это было другое животное — куда девалась флегма и сонливость. Собака, рыча и взлаивая, отбрасывала землю задними ногами, шерсть у нее на загривке вздыбилась. Потом она рыжим, ревущим комком ринулась к забору…
На этот раз хозяин не оплошал. Толчок ладонью и собака приземлилась по ту сторону.
Когда смолкли аплодисменты, главный судья взял в руки мегафон.
— Товарищи, — сказал он. — То, что вы видели сейчас, достойно уважения. Оценка: собаке — пять баллов, хозяину — четыре.
Искушение
Из всех испытаний, которым подвергали собак на выставке, самым коварным, пожалуй, было испытание сосиской.
Пес сидит смирно в ладу с самим собой. Он всем доволен — ведь хозяин рядом. И вдруг подходит женщина, протягивает руку, и на ладони ее — сосиска.
Сказать, что сосиска вкусно и далеко пахнет, значит, ничего не сказать. Только собачий нос, этот невероятный нюхательный аппарат, способен уловить весь букет ее запахов.
Пес облизывается, смотрит на сосиску, потом на хозяина. У того непонятное лицо — ни да ни нет не говорит. Как быть? Со щенячьего возраста пес усвоил, что у чужих еду брать нельзя. Таков закон, и не собаки его придумали. Но, черт побери, не каждый день тебе предлагают сосиску.
Положение становится невыносимым. Весь в слюнях и сомнениях пес тонко скулит, пятится, закрывает глаза и прячет голову за хозяйские ноги. Когда, наконец, он открывает глаза, то обнаруживает, что женщины больше нет, а с ней исчезла — видимо, кем-то съедена — и предназначавшаяся ему сосиска. Случай — единственный и неповторимый — упущен.
А тут еще судья объявляет:
— Четыре очка. Балл снижен за пассивное отношение к постороннему подателю пищи.
Оказывается, чтобы получить пятерку, женщину, предлагавшую ему сосиску, следовало облаять.
Дисквалифицированные
Какая собака самая лучшая? Каждый собаковод ответит: конечно, моя. Но все же?.. Может, вот эта мальтийская болонка, так похожая на свою хозяйку. Когда старушка прижимает ее к лицу, болонкины кудряшки неотличимы от белых куделек хозяйки. Утеха в старости…
А может, эта беспородная коротышка, что привели на поводке двое пацанов. Она из рода собачонок, из которых вышли Белка, Стрелка и Чернушка. Смышленые, не избалованные вниманием, такие псы чаще всего живут скитальческой жизнью и впроголодь. Настороженные и отзывчивые на ласку, они готовы признать за хозяина каждого, кто утром не забудет бросить им кусок. А пнут их ногой — зла не помнят: жить-то ведь как-то надо. Иногда таких собак опекают дети — у них больше времени, чем у взрослых, чтобы оглядеться вокруг и заметить живущего рядом.
Нет, все же сегодня лучшая — вот эта… На площадке их двое. У кого лучше экстерьер, сказать трудно. Седой, голубоглазый, спортивного вида, а попросту — красивый хозяин, и мраморный дог — благородных кровей ухоженный зверь. Дог ничего не замечает вокруг, единственное, что на земле его интересует — это хозяин.
Ему плевать на сосиску, а когда рядом бахает выстрел, он даже ухом не ведет. Он идет по бревну — ведь рядом хозяин. Лезет по лестнице — хозяин рядом! Всем хорош пес, но его дисквалифицируют. Погорел на примитивном упражнении.
Усаженный в одиночестве в десяти метрах от хозяина, он должен был по команде жестом встать, сесть, лечь. И только потом выполнить команду «ко мне». Но дог не вытерпел и пяти секунд одиночества. Он кинулся обниматься к хозяину.
Так они и ушли, в обнимку, оба нисколько не огорченные. Высокий балл, медаль — это хорошо. Но взаимная любовь — лучше.
В. Бульванкер Бобби из Грейфрайерза
Скайтерьер Бобби не мог понять, почему его хозяина и друга, старого пастуха Джока, уложили в длинный деревянный ящик и куда-то повезли. Люди после похорон разошлись, а Бобби остался возле холмика. Иногда Бобби уходил в город, чтобы напиться из лужи у колодца. Его приметили ребята, стали подкармливать его, играть с ним. Но неизменно пес возвращался к последнему пристанищу своего хозяина. С 1858 по 1872 год Бобби не покидал своего поста. Здесь, на могиле, и нашли его мертвым.
Преданность собаки своему хозяину настолько тронула сердца местных жителей, что у входа на кладбище Грейфрайерз в Эдинбурге Бобби был поставлен памятник.
В. Бульванкер Верному Хачико
Профессору Токийского университета Хейдесабуро Уэно студенты подарили щенка.
Однажды вечером, как всегда, Хачико пришел на станцию встречать хозяина. Прибыла электричка, народ разошелся но поселку, а профессора не было. Хачико встретил, все остальные поезда. Ночью одиноко побрел домой.
Девять лет ежедневно ходил Хачико на станцию. Он состарился и ослаб. Путь из дома и назад стал для него слишком труден. Тогда начальник станции положил для собаки мягкую подстилку в камере хранения, а дети стали приносить ей пищу. О Хачико начали писать в газетах и журналах, и на станцию стали поступать денежные переводы на содержание собаки. Друг покойного профессора, врач, повесил в будке телефона-автомата объявление с просьбой звонить ему, если Хачико станет плохо.
Тронутые верностью Хачико, жители поселка Сибуя заказали скульптору Куме памятник, который был в 1934 году установлен на перроне станции.
ПО СЛЕДАМ БЕССМЕРТНОЙ ЛАЙКИ
Виктор Степанов Голос Лайки
Странное чувство испытывал Владимир Иванович, приходя в виварий. Порой ему казалось, будто собаки знают, для чего они здесь находятся. В этих приподнятых над землею, стоящих как бы на куриных ножках домиках протекала своя — не хотелось сказать собачья, но какая-то удивительная и недоступная пониманию людей жизнь, жизнь, очень похожая на зоопарковую и в то же время решительно от нее отличающаяся.
Сейчас подошло время обеда, и собаки, еще десять минут назад резво носившиеся по газонам и асфальтовым дорожкам своего двора, без понукания вернулись в домики. Голод не тетка, и стригущие уши и нетерпеливые глаза повернуты в одном направлении: к входу в виварий. Владимир Иванович пропущен почти равнодушно — знают, что он не по обеденной части, — а вот следующего за ним служителя в синем халате надо приветствовать стоя. И хвостом веселей, веселей…
Старожилы и внимания не обратили, а новенькая, Пальма, сразу уши навострила, стрельнула ревнивым взглядом — от соседнего домика плеснул в нос наивкуснейший запах колбасы: мне похлебку, а Гильде колбасу? Это по какому такому случаю, за какие такие заслуги?
Как объяснить ей, Пальме, что Гильда три дня и три ночи прожила в особой, совершенно темной и звуконепроницаемой конуре. Когда наконец дверцу открыли и из нее после долгих просьб и уговоров высунулась помятая мордашка, собачьи глаза были полны обиды. Не надо бы Пальме удивляться и другому — почему вместо положенного всем пшенного супа куриный бульон был налит в миску Марсианки. Она лизнула и отвернулась — не до бульона: не так-то просто десять минут прокружиться на центрифуге. Это не карусели на детской площадке…
Да, своя жизнь протекала в виварии. И направляясь сейчас к самому, можно сказать, главному на сей день домику, Владимир Иванович видел эту жизнь во всех вроде бы и привычных, но каждый раз вновь открываемых подробностях.
Первое, что бросилось в глаза, — какая-то удивительная похожесть населения этого городка: почти все собаки были белыми, одинакового роста, чуть крупнее кошки, словно однажды их сняли с полки магазина и оживили. Цвет шерсти и «габариты» диктовались соображениями чисто техническими: оказывается, белое на фоне темного больше устраивало киносъемку и телевидение, а что касается размеров, то на первых кораблях-спутниках, впрочем, как и на последующих, на строгом счету был каждый килограмм.
Но за внешней похожестью собак скрывалось то общее, что и объединяло их в одну семью. Стоило только незнакомцу войти в виварий, как его встречал дружный заливистый лай. Словно где-нибудь в деревне глухой ночью неосторожным стуком калитки ты вспугнул чуткую, недремлющую свору, и теперь, в какую бы сторону ни кинулся, всюду — впереди, сзади, со всех сторон — тебя преследует и теснит безудержное тявканье отводящих душу собак. Такое сравнение напрашивалось не случайно, ибо все обитатели этого городка были дворняжками. Да, выбор пал на беспородных представителей, хотя по внешним признакам для полетов в космос могли бы годиться так называемые декоративные собаки. Но первые же экзамены на выносливость показали, что породистые комнатные обитатели, привыкшие к жизни со всеми удобствами, для космоса неподходящи.
Теперь уже никто и не помнит, как звали ту голосистую и бойкую собачку, от которой ведется история Белки, Стрелки, Пушинки, Жемчужинки и других обитателей этого шумного городка. Говорят, что какой-то молодой лаборант после множества неудач с испытанием благородных, увенчанных призами и наградами кандидатов, вышел однажды во двор и увидел возле ворот приблудную собачонку. Ее габариты внешне соответствовали нормативам. На свой страх и риск поместил он пушистую незнакомку в центрифугу и включил предельную нагрузку. Через несколько минут, вынув из кабинки испытуемую, он пожалел о своей беспечности: она лежала, вытянув лапки, в полной неподвижности. Лаборант уже начал было раскаиваться, как вдруг собачонка зашевелилась, поднялась и глянув на такого жестокого, но все-таки вновь обретенного хозяина, уважительно завиляла хвостом. Это было непостижимо!
Ни одной собаке еще не удавалось столь безболезненно перенести тяжелейшую нагрузку.
Начались опыты, и в результате для подготовки в космос были утверждены такие вот беленькие, на вид похожие друг на друга, но все же такие разные дворняжки, которые сейчас наперебой пытались о чем-то сообщить Владимиру Ивановичу. Нет, их лай не был похож на злобный лай гремящих цепями деревенских сородичей. Стоило подойти к домику, протянуть руку к решетке — и собака, склонив голову, сложив уши, замолкала. Значит, она не отпугивала, а звала? Вот она уже сама тянется к руке мордашкой, смотрит добрыми, ласкающими глазами. Откуда такая привязанность к человеку вообще, а не просто к своему хозяину? Хотя собака остается собакой. Вот выбрала же Белка именно женщину, одну-единственную, и именно с ней, а не с кем другим особенно приветлива, на прогулках ходит за ней по пятам. И даже после триумфального полета в космос осталась верна своей хозяйке.
Но это желание общения с человеком не от предчувствия ли близкой и опасной разлуки? Может быть, разлуки навсегда? В такую интуицию собак не хотелось верить, но и не думать об этом было невозможно. С этими мыслями и подошел Владимир Иванович к домику, хозяйке которого сегодня предстояло стать героиней дня.
Две темные блестящие вишенки глаз — вопрошающих, но уже с тем оттенком спокойного любопытства, какое было характерно для собак, прошедших все «огни, воды и медные трубы» предполетной подготовки, — глянули на него. Прядая темными, чуть обвислыми ушами, собака склонила набок голову, стараясь без слов, по одному только выражению лица человека понять, чего он от нее хочет. Владимир Иванович открыл дверцу, и она, секунды две-три помешкав, еще раз подняв на него глаза-вишенки, соскочила по лесенке вниз, заюлила под ногами, ткнулась влажным холодноватым носом в подставленную ладонь.
— Ну, здравствуй, здравствуй… — проговорил Владимир Иванович, испытывая неловкость от того, что не мог назвать собачку по имени.
Странная человеческая беспечность — это симпатичное, ласковое, не совсем, правда, белое, а какое-то дымчатое существо не имело имени. В списках вивария собачка значилась под лабораторным номером 238, но не будешь же звать ее по номеру! Потому-то звали ее всяк по-своему, как кому вздумается: Дымка, Тучка, Тиша и даже Точка. К чести 238-й, из сочувствия к представителям высшего земного разума она откликалась одинаково чутко на любое имя.
— Ну, пойдем, пойдем, — сказал Владимир Иванович, направляясь к выходу, и через секунду дымчатый клубок катился уже далеко впереди него.
Ослепляющий голубой свет марта заливал поляну. Судя по теплу, погода в этих краях давно уже обогнала календарь. Свежесть еще улавливалась дыханием, но ее сминал, прогонял подступающий зной, и было приятно смотреть на редкую, доверчиво выглянувшую травку, которая в подмосковных краях решается показаться только в мае. К этим травинкам и кинулась собачка. И остановившись, Владимир Иванович подумал о том, что, наверное, очень сейчас похож на городского жителя, вышедшего в воскресный день прогулять свою собачонку. Да и глядя на этот дымчатый клубочек, очутись он в московском дворе, кто бы мог подумать, что через каких-то три-четыре часа эта милая мордашка глянет с экранов всех телевизоров, какие есть на Земле. «А может, она в последний раз бегает по планете и эта травинка, которую она так старается сорвать, может, эта травинка — последняя?» Ему, конечно, было ее жаль, очень… Но от исхода полета зависела теперь не только ее собственная жизнь. Уж слишком много других «датчиков» было привязано к этой неказистой и такой милой собачонке.
Желтый огонек бабочки замелькал над поляной, дымчатый клубок покатился было за ней, но замешкался возле Владимира Ивановича, словно спрашивая разрешения порезвиться. «Пожалуйста», — разрешил глазами Владимир Иванович и уловил в ответном блеске собачьих глаз нечто вроде даже иронии, как будто, перехватив его мысли, она хотела сказать: «Не волнуйся!» Не волнуйся, говорили ее глаза, все обойдется, ну смотри, какая я тренированная: вот прыгнула и почти достала до бабочки; но я ее не цапну, пусть живет и летает; вернусь — и тогда мы еще поиграем…
Вот так же успокоительно-доверчиво смотрели на него четыре года назад глаза Лайки. Он гулял с ней перед стартом на этой же лужайке, только тогда была осень, ветер завивал песок, и Лайка жалась к его ногам. У нее были чуткие, очень выразительные уши — словно два надломленных пальмовых листа, — по этим ушам сразу улавливалось любое движение собачьей души. «Я верю тебе, я с радостью сделаю все, что ты захочешь», — просемафорили тогда уши Лайки. Чувство вины перед этой ее доверчивостью не прошло до сих пор.
Он-то знал тогда, что завтра в удобной, сделанной на совесть кабинке с пробковым полом, с хитроумными приспособлениями для кормления и очистки воздуха Лайка будет отправлена на верную гибель. Тогда еще не умели возвращать аппараты на Землю.
Сейчас он вспомнил все до подробностей: как, опутав проводками датчиков, Лайку усадили в кабину, как закрыли колпаком. Лайка подчинялась каждому приказанию, каждой дотрагивавшейся до нее руке… Она верила, она доверяла людям в белых халатах, и это как бы ею самой подчеркиваемое доверие, ее мордочка, спокойно поглядывавшая из иллюминатора, настолько обострили чувство вины, что Владимир Иванович пошел на поступок почти невероятный: попросил у Сергея Павловича Королева разрешения отвинтить на минутку в кабине пробку и дать Лайке напиться. В этом не было никакой необходимости, приготовленная в дорогу пища, упакованная в автоматическую кормушку, содержала нужную воду, но просто воды в кабине не было. Все знали, как относился Королев к подобного рода просьбам, нарушающим стартовый регламент космодрома. А тут, можно сказать, прихоть, пустяк… Гром и молнии должны были обрушиться на Владимира Ивановича — в подобных прогнозах ошибок обычно не было. Но что-то произошло с Главным конструктором. Встал, заглянул в иллюминатор, отвел глаза.
— Дайте ей попить… Только быстренько. Ну!
И ушел к себе в бункер принимать, командование стартом.
Какой радостью вспыхнули Лайкины глаза, когда через резиновую трубочку при помощи шприца Владимир Иванович капнул ей прямо на нос, на язык несколько капель…
На другой день, когда Лайка плыла уже высоко над Землей и перед ним лежал другой, телеметрический ее портрет в виде широкой бумажной ленты, на которой тонкие, чуткие перья вычерчивали биение собачьего сердца, он понял, что там, на старте, вода была нужна не ей, а ему. Для очищения совести. Семь суток он был весь сосредоточен на признаках жизни, рисуемых магическими перьями. Лайка жила, ела, двигалась, насколько позволяла ей «упряжка» из проводов и кабина. На восьмые сутки перья остановились, словно поставили точку… Что там было, на медленно пересекающей невообразимую высоту звездочке? На этот вопрос ответить не мог никто. Ждала ли Лайка увидеть в иллюминаторе знакомое человеческое лицо или, привыкнув к новой жизни, тихонько засыпала, чтобы уже никогда не проснуться?.. Но люди теперь знали главное — сразу космос не убивает живое сердце.
Портрет Лайки висел теперь у него в кабинете. Впрочем, так же как и фотография Белки и Стрелки. Но тех провожать было легче — им предстояло вернуться. Потом Пчелка и Мушка, которые не долетели обратно. Потом Чернушка, ее радостный лай на Земле…
Сегодня было 25 марта 1961 года, нужна была еще одна гарантия, и все надежды теперь возлагались на эту собачонку, вприпрыжку бежавшую за желтым огоньком бабочки.
— Ну, погуляли — и хватит, пора, — тихо сказал Владимир Иванович, и пушистый комок, как бы все время державший уши настороже, тут же откликнулся, подкатился.
Через час вымытая, высушенная рефлектором и тщательно расчесанная, в окружении возбужденных, но не подающих виду, что волнуются, людей она стояла на столе и помогала себя одевать. Да, помогала! Девушка-лаборантка еще только подносила зеленую рубашку, а собачья мордочка уже сама просовывалась в ворот. Вот подняла лапку, которую надо было продеть в рукав… А теперь замерла. Неужели понимает, что так удобнее закреплять на животе капроновые ленты?
Космическая путешественница была уже почти в полном облачении, когда в лабораторию вошли несколько совершенно не знакомых сотрудникам военных. Из-под накинутых на плечи халатов выглядывали голубые петлицы. С любопытством наблюдая за процедурой одевания, они улыбались, тихо переговаривались.
— Кажется, все, — сказал лаборант. — Теперь в путь.
И тут молодой, стриженный под полубокс летчик, робко улыбнувшись, шагнул к столу:
— Разрешите подержать на руках?
— Подержите, — сухо разрешил старший лаборант: вообще-то фамильярности с собаками не допускались.
Что-то мальчишеское, озорное и доброе одновременно мелькнуло в глазах молодого офицера, когда, потянувшись к путешественнице, он спросил, подмигнув:
— А как нас зовут?
Собака повела в ответ влажным носом, и в наступившей неловкой тишине старший лаборант смущенно признался:
— Номерная она у нас… Кто как хочет, так и зовет…
— Номерную в космос отправлять нельзя, — возразил молодой летчик. — Это же живая душа…
— Пусть будет Дымка, — подсказал кто-то. — Дымка или Шустрая.
— Ну что за Дымка, — не согласился гость. — Да и Шустрая — это не для космоса.
Он на минутку задумался, глянул в собачьи глаза, как будто в них искал подсказки, и твердо, как уже о решенном, сказал:
— Пусть будет Звездочка. За Звездочкой легче лететь…
Было 25 марта. До 12 апреля оставалось немногим более двух недель. Но почему до сих пор не забывалась, не выходила из сердца Лайка?
Спустя много лет, когда в космос летали уже люди, Владимир Иванович прочитал в дневнике Владислава Волкова такие строки:
«Внизу летела земная ночь. И вдруг из этой ночи сквозь толщу воздушного пространства, которое, как спичечные коробки, сжигает самые тугоплавкие материалы космических кораблей, — оттуда донесся лай собаки. Обыкновенной собаки, может, даже простой дворняжки. Показалось? Напряг весь свой слух, вызвал к памяти земные голоса — точно: лаяла собака. Звук еле слышим, но такое неповторимое ощущение вечности времени и жизни… Не знаю, где проходят пути ассоциаций, но мне почудилось, что это голос нашей Лайки. Попал он в эфир и навечно остался спутником Земли…»
Из книги «Серп Земли».Сергей Другаль Тишкин синдром Фантастический рассказ
— Ничто так не сплачивает космический коллектив, как единство этических и эстетических представлений. — Выдав этот афоризм, Вася изогнул седую бровь и поглядел на меня. Тут даже Клемма — мой домовой кибер — и та поняла, чего от меня хотят. Дохнув озоном, она принялась за дело, символически расчищая место для дискуссии: убрала чайный прибор, сняла со стола впечатленца пустотелого, который заправлялся из вазы родниковой водой, и посадила его на окно. Клемма следит, чтобы в квартире было чисто и красиво, и поэтому впечатленец у меня всегда толстенький такой, гладкий и бодрый…
— Насчет этики я согласен, — ответил я, потирая поясницу. — Этика регламентирует отношения в коллективе и тем полезна. Когда же говорят про эстетику, я всегда вспоминаю Тишку.
Вася не спросил меня о связи между эстетикой и собакой, Вася поморщился. Как и все члены нашего экипажа, он не любил вспоминать об экспедиции на Цедну. Это понятно. Выглядели мы тогда не лучшим образом. Лично я отношусь к случившемуся философски, то есть, по квалификации Васи, наплевательски. Процесс познания бесконечен, и какая разница, освоит человечество Цедну на сто лет раньше или позже. А поскольку истина недостижима, то, полагаю, ничего не случится, если оно Цедну вообще не освоит. Я высказывал эту точку зрения и публично и в тет-а-тетной обстановке, и всегда разгорались дискуссии. Как и в любом споре равных, каждый оставался при своем мнении, что не мешало нам уважать друг друга. Сейчас-то я знаю, что друзей мы не выбираем, их нам дает судьба, и надо принимать их такими, каковы они есть. А раньше мы умудрялись ссориться по пустякам, не понимая, что день неповторим и каждую минуту надо беречь для приятного общения. Признаюсь, что я таким умным стал, когда в связи с возрастом отошел от дел. Конечно, триста лет — это еще далеко не старость, но в космосе уже делать нечего, к сожалению…
Так о чем это я? Ах, да, о Цедне. Я уже рассказывал о наших великолепных по результатам экспедициях на Ломерею, на Теору и другие планеты. Но и мы. прославленные, не были застрахованы от неудач. Что же, пусть и об этом узнают потомки, пока не поздно… Если бы с нами тогда был Си Многомудрый или Невсос, этою бы не случилось. Но на Земле тогда начались работы по реконструкции днища Тихого океана и была большая нужда в специалистах по данным ландшафтам, а лучше дельфина и осьминога в этом никто не разбирался.
Цедна, рядовая планета, освещаемая своим оранжевым солнцем, была обитаема, и, готовя свой разведочный рейс, мы учитывали это обстоятельство. Если вы помните, тогда с нашей легкой руки началась эпоха открытия обитаемых планет и многие из них десятилетиями дожидались своей очереди на исследование. Разведочных кораблей не хватало, как, впрочем, не хватает и сейчас…
Мы высадились на Цедне, как всегда оставив звездолет на орбите. Отличная, скажу вам, планета. Зеленая, обильная холодными речками и теплыми морями. Мы летали над ней на махолетах, неспешно разглядывая окружающую красоту. Махолет, он на глюкозе, и не заглушает запахов, а планета пахла черемухой. Леса и воды были населены зверьем, в воздухе реяли птицы, в траве звенели насекомые. К вечеру мы неохотно возвращались в свой третий уже по счету лагерь. Да, третий. Первый мы разбили на опушке хвойного леса, накрыли территорию защитным полем и лишний раз убедились в мудрости составителей предписывающих инструкций. Наш капитан, к слову, делит все инструкции на полезные предписывающие и вредные запретительные. Первые он знает назубок, а что касается запретительных, то он считает, что, если их соблюдать, то нам не то что летать, и ходить-то нельзя будет.
Накрыли мы лагерь защитным полем, и хорошо сделали, ибо утром проснулись от звуков (поле пропускает звук), по сравнению с которыми самая жуткая какофония наисовременнейшего оркестра кажется прелестной колыбельной песенкой. Выскочив, мы увидели у кромки поля четырех зверей. Представьте себе покрытых пенистой слизью что-то вроде свиней, только каждая на шести длинных суставчатых словно паучьих ногах. Более мерзких тварей, да еще таких размеров, видеть никому из нас не доводилось. Мы содрогнулись от отвращения. Умывались и завтракали, не глядя по сторонам: какофонию слегка приглушили звукопоглотителями, но аппетит уже одним воспоминанием о них портили скользкие скоты.
Потом мы свернули лагерь, погрузили оборудование в дисколет, и капитан после часа полета выбрал в горах площадку. Полдня пришлось очищать ее от камней. У леса, конечно, лучше, но мы были на все готовы, лишь бы не видеть больше этих свиноподобных. Напрасными оказались наши труды: утром двое из них суетились и орали у лагеря, поражая нас отвратительной как в кошмаре внешностью. Мы могли вернуться на катер под его защиту радиусом две мегаиоты и тем самым избавиться от этих страшилищ, но капитан решил попробовать еще раз. Третий лагерь мы разбили у голубой бухты в окаймлении живописных скал на берегу моря. И что вы думаете, целое стадо вызверилось на нас со скал. Орали они вроде уже потише и не все сразу, но все равно, смотреть на них без озноба никто из нас не мог.
— Однако, — сказал утром капитан, — они здесь живут, а мы — только гости. Будем так: они сами по себе, а мы сами по себе. Не станут же они нас кусать?
Мы долго смеялись капитанской шутке, понимая, что никто из нас не даст повода быть укушенным. Потом каждый занялся своим делом — программу надо было выполнять, и не родилось еще во Вселенной зверя, который помешал бы нам это сделать. Короче, мы стали работать как положено и заставили себя не то чтобы не замечать, а не обращать внимания на этих зверюг, которые в общем-то оказались для нас безвредными. Они попадались нам в самых неожиданных местах, кричали, но работать не мешали.
А дел было много, как и в любой экспедиции. Пробное бурение, отбор образцов пород, семян, вод и растений, фотоохота за зверьем и насекомыми — это еще не самое сложное. Вася Рамодин выслеживал хищников и силой внушения вынуждал отдавать недоеденную добычу: мы хотели привезти на Землю шкуры для чучел, но не убивать же нам было местных обитателей.
Периодически по очереди отвозили все это на катер, чтобы не очень накапливать в лагере. И тогда приходилось выслушивать громкие жалобы Льва Матюшина на общую несправедливость. Все, дескать, заняты делом, один он сидит у катера как привязанный. В конце концов капитан сжалился над ним и посадил дежурить меня.
Я не скучал. Наш катер — вполне внушительный и солидный корабль для межпланетных перелетов, если не сравнивать его с звездолетом. С утра я делал обход, передавал на звездолет материалы предварительных анализов, потом мы с Тишкой завтракали, а затем я консервировал в жидком азоте шкурки, чтобы сохранить клетки для будущих генетических реставраций. После обеда мы гуляли по окрестностям.
Тишка была корабельная собака. Мы любили ее, маленькую, в космах, веселую и ласковую со всеми. Тишка была не из тех собак, что очертя голову бросаются навстречу опасности. Почуяв угрозу, она сначала убегала, а потом раздумывала, а стоило ли бежать. И всегда приходила к выводу: бежать стоило. Чувство опасности у нее было развито необыкновенно, и она очень дорожила своей шкуркой. Но я это написал вовсе ей не в осуждение. Просто мы однажды подсмеивались, обсуждая это ее качество, но пришел капитан, послушал и сказал:
— Сберегая шкурку, Тишка бережет себя. Для нас! И за то ей спасибо.
Мы привычно подивились Капитановой мудрости и заговорили о чем-то другом.
Если быть справедливым, трусила Тишка только когда оставалась в одиночестве. При нас это была смелая, во всяком случае, весьма громкоголосая собака, всем своим поведением доказывающая, что на миру и смерть красна.
Когда мы гуляли, она активно интересовалась мелким местным зверьем, оставшимся под куполом защитного поля. Это были в основном — голова да крылья — увимчики без присосок, соскачиллы бедрастые и впечатленцы пустотелые, способные не одно киломгновение просидеть в созерцании какого-нибудь невзрачного цветка. Я уже говорил, что планета была густо населена, а к тому времени человечество уже понимало, что население важно само по себе, независимо от того, обладает оно, с нашей точки зрения, разумом или нет. На мой взгляд, у Тишки уважение к живому было врожденным. Но в контакты она вступать не любила. То облает кого-нибудь, то усядется на чью-нибудь временно пустующую нору и не пускает в нее взволнованного хозяина. Подозреваю, Тишка старалась для меня, чтобы я успел сфотографировать зверушку. Тишка, как и все мы, после полетных будней радовалась возможности побегать по траве. А уж радоваться она умела всем своим существом, от носа до хвоста, и по любому подходящему поводу.
Мы с Тишкой наслаждались тишиной и безлюдьем. Свиноподобные, что упорно бродили возле базы, больше не кричали, и Тишка без боязни подбегала к ним в те редкие моменты, когда мы оставались без силовой защиты. Но вскоре настало время сборов в обратную дорогу. Наш дисколет делал по два рейса в день, курсируя между лагерем и катером. Мое дело было снять защиту на время его взлета и посадки, а потом мы с Васей укладывали образцы в ящики и размещали их в грузовых отсеках. Механики демонтировали оборудование, картограф и планетолог в последний раз прокручивали пленки, а капитан, как и положено, поспевал всюду.
Мы спешили, ибо приближался момент старта нашего звездолета, рассчитанный корабельным навигатором. Это только кажется, что звездолет может лететь в любое время, когда капитану угодно будет. Такая махина, снявшись с орбиты, всегда летит только по прямой (разумеется, с учетом кривизны пространства), и всякие маневры исключаются. А так как наша родная звезда Солнце тоже движется вместе с планетами, то курс звездолета рассчитывается с опережением. Там, куда сейчас нацелен наш звездолет, ни Солнца, ни Земли еще нет. Они в эту точку подоспеют как раз к моменту нашего прилета. Стоит опоздать со стартом, и снова придется навигатору вести долгие дискуссии с корабельным компьютером. Это я говорю для тех, кто случайно подзабыл школьные основы космонавигации.
Все имеет свой конец, даже, говорят, Вселенная, хотя я лично в это не верю, как не верю и в ее начало. Природа логична, и нельзя, не греша против логики, утверждать, что Вселенная возникла в результате взрыва протояйца, в котором, якобы было упаковано все вещество всех галактик. И расширяется сейчас, чтобы потом снова ужаться до яйца. Конечность Вселенной, во времени ли или в пространстве, даже в моей голове не укладывается…
Настал день, когда капитан объявил давно заслуженный нами выходной. Он тоже пролетел в заботах, но уже личного плана.
Вечером собрались мы в кают-компании. Мое хобби как врача — операции на мозге. И я всегда вожу с собой муляжного парня, на котором можно имитировать любые повреждения любого органа. Очень, знаете, удобно. Я вывел своего «пациента», усадил на стул лицом к спичке, обклеил датчиками шею, уголки глаз, виски, подключил энцефалограф и включил запись биотоков мозга кого-то из членов экипажа. Кассету я достал наугад и поставил ее не глядя. Подошел Лев Матюшин, мой добровольный ассистент-любитель, и хэкнув, вдарил бедного парня кулаком по темечку. Тот ткнулся лицом в спинку стула, приняв наиболее удобную для операции позу, а Лев взглянул на экран энцефалографа и увидел знакомый всплеск.
— Никак я опять сам себе по мозгам дал, а? — сказал он, ни к кому не обращаясь.
Точно, муляжному «пациенту», как и в прошлый раз, досталась Левина кассета.
Взялся я за инструменты, начал операцию. А капитан впечатленца пустотелого рассматривает, который уселся возле горшка с засохшим кактусом. Сам впечатленец маленький, поменьше кошки будет, а глаз у него на стебле большой, и смотрит он им на кактус, а сам вокруг цветка землю когтем рыхлит. Взрыхлил, лапу поливочную вытянул и зафыркал из нее мелким дождичком. Я десятки раз все это видел, но вздрогнул, когда из кактуса цветок полез. Капитан тронул впечатленца пальцем, а тот вытащил из нутра стебель с запасным глазом, уставился на капитана и помаргивает изредка.
Капитан первым понял, что впечатленцы пустотелые — телепаты. Интуитивно понял. Уже на Земле было установлено, что это — особый вид телепатии, избирательно действующий только на растения. Впечатленец проникает в душу цветка, и она раскрывается ему навстречу. Если бы не моя врожденная и широко известная скромность, то мог бы заметить, что к акклиматизации этих животных на Земле и я руку приложил. На корабле я отвечал не только за здоровье членов экипажа, но и за корабельную оранжерею. А мы везли на Землю, в числе прочих, и десяток впечатленцев. Под свою ответственность я впечатленцев не заморозил, а поселил в оранжерее. И что же? А то, что на обратном пути мы отказались от анабиоза, чтобы не проспать ту редкостную еду, которая начала вызревать в нашей оранжерее! И притом в огромных количествах. Впечатленцы все делали сами: пололи, удобряли, поливали… Нам оставалось только собирать урожай.
Нет, много я повидал диковин, больших и маленьких, на голограммах, в чучелах и живьем, но впечатленцы до сих пор поражают меня. Мы были потрясены, узнав, что питаются они пищей духовной — чистым созерцанием красоты. Так сказать, хорошими впечатлениями, за что и название свое получили…
О чем это я? Ах, да, об отдыхе. Занимается каждый своим делом. Вася, знаток телекинеза, сам с собой за двоих в пинг-понг играет, Лев Матюшин читает справочник гиппопотамовода-любителя и хихикает чему-то, картограф пишет портрет, а я удаляю из мозга осколки черепной кости. Капитан же, налюбовавшись впечатлением, стал рассматривать портрет.
— Любимая девушка, — застенчиво объяснил картограф. И добавил: — По памяти рисую. Генетической.
— Сильная вещь, — одобрил капитан. — Кстати о красоте: ты куда собаку дел? — это он уже у меня спросил.
Отвлекаться во время операции нельзя, и я не задумываясь ответил:
— Куда б я ее дел? Не девал я ее.
— Я спрашиваю, где Тишка?
Тут только до меня дошло, что капитан спрашивает, где Тишка? Где она может быть? Ну, сидит как обычно в кресле, чтобы ее мог видеть каждый и она видела всех. Каждая собака так любит. Но в кресле ее не было! В результате судорожного аврала, возникшего стихийно, было установлено, что Тишки нет ни на катере, ни в его окрестностях. Ничего себе, сюрприз!
Когда мы отдышались от беготни и криков, капитан никого не упрекнул.
— Собаки нет, — констатировал он. — А с орбиты мы должны стартовать через три оборота. Значит, Цедну мы должны покинуть завтра в это же время, чтобы за оставшихся два оборота подготовиться к старту. Спрашиваю всех, что будем делать?
Наш капитан не терпел совещаний. И если он сказал: «спрашиваю всех», то, значит, положение было из ряда вон. Надо было что-то делать.
Тут я поступил так, как поступил бы каждый член нашего экипажа. Сделал шаг вперед и сказал:
— Капитан, это я проворонил Тишку, И если мы все улетим, то она может плохо о нас подумать. Но и оставаться всем не имеет смысла. Останусь я один. И если Тишка пока еще не съедена, я найду ее. Цедна — хорошая планета, ее так и так будут осваивать. Мы с Тишкой здесь подождем.
Я видел, как потупился Лев Матюшин, конечно, потому, что не успел шагнуть раньше меня. Я видел, как дернулся кадык у Васи Рамодина — это он гордился мной.
Капитан долго смотрел на меня в упор, потом качнул головой и сказал:
— Да, непросто командовать такими людьми. Нет, не просто. — Он замолчал, и в тишине было слышно, как сучит ногами мой муляжный больной, видно, я что-то напутал с двигательными центрами. Капитан выключил оперируемого и добавил ни к селу ни к городу:
— Что пеньком об сову, что совой о пенек… — Так он закрыл совещание, не сообщив о своем решении.
На другой день мы не улетели. Капитан поговорил со звездолетом, и там сочли достаточным и одного оборота на орбите для удовлетворительной подготовки к старту. Мы бродили по окрестностям, далеко обходя свиноподобных, которые как нарочно обязательно попадались нам на пути, заглядывали в Щели между скалами, исходили криком у каждой заросли. И все напрасно. Тут кто-то вспомнил, что последним видел Тишку все-таки я, и пришлось дать подробный отчет.
— Все, — говорю, — было, как обычно. Когда я позавчера утром умывался, Тишка обрычала меня за то, что я долго копаюсь. Потом мы с ней ели кашу, и я рассказывал ей, какая она у нас красивая. Какие у нее замечательные блестящие глаза и черненький холодный нос, вокруг которого белый подшерсток, а из темных точек на нем топорщатся усинки…
В этом месте Вася вздохнул.
— Какая замечательная у нее шерстка, желтенькая на животике, коричневая — на боках и почти черная — на спине. И что Тишка может гордиться собой, потому что тот, кто хоть раз видел ее, не может не согласиться, что видел самую красивую и умную из собак. Тишка поощрительно подскуливала, хотя и знала, что я преувеличиваю ее достоинства.
— А ты и не преувеличивал, — прервал меня капитан. — Она такая и была.
Закончили мы погрузку, увязку и утряску, не глядя друг на друга. В должный момент заняли места по вахтенному расписанию, и капитан включил Маком — наш малый корабельный мозг.
— Начнем штатную проверку систем, — сказал он нарочито буднично.
— По какому поводу? — спросил Маком ребячьим своим голосом. В те времена все малые корабельные мозги имели детские голоса, говорят — с целью предотвращения развития комплекса неполноценности у космонавтов.
— По поводу предстоящего старта. — Капитан был печален.
— А вот и нет, — говорит Маком. — А вот и не полетим!
Мы все замерли. Малый корабельный мозг — не более, чем навигационный компьютер. И вот, поди ж ты! А капитан вроде и не заметил нарушения устава.
— В связи с чем не полетим?
— Одного в экипаже не хватает, — ответил Маком.
— Это ты Тишку имеешь в виду?
— Да.
Капитан убрал с клавиш руки, прикрыл глаза. На виске у него билась жилка.
Каждый из нас скорбел о Тишке. Но капитан по долгу своему думал о всех нас, скорбящих, сразу, и он держал себя в руках. Спустя минуту капитан выключил Маком и взял управление на себя.
Предстартовый порядок известен, в нем главное — это забор воздуха в резервуары и сжатие его. При старте с обитаемых планет двигатели сначала работают на сжатом воздухе и уже потом, на высоте десятка километров, начинается подача горючего. Это для того, чтобы не обжечь планету.
Сидим мы, слушаем, как воют компрессоры, и смотрим на пустующее Тишкино кресло: в нем при взлете образовывалась противоперегрузочная ямка точно по Тишкиной фигуре. А капитан угрюмо разглядывает на пульте эргономическую фигу, которая означает, что стартовый комплекс заблокирован, так как трап — он же крышка люка — не поднят.
И вот смолкли компрессоры, капитан навесил над пультом указательный палец, и тут мы вдруг услышали усиленное динамиками Тишкино тявканье.
— Капитан! — всхлипнул кто-то из нас, и палец капитана опустился на клавишу кругового обзора. Вспыхнули экраны. От ближних кустов к нам неслась никем не съеденная Тишка, и встречный ветер сдувал в сторону ее рыжие бакенбарды. Тишка вспрыгнула на поднимающийся трап, сопя и взлаивая взбежала в рубку по винтовой лестнице и с маху кинулась в свою ямку.
Мы стартовали!
Подобной суматохи я за всю свою летно-космическую жизнь не видел. По времени на звездолет мы прибыли впритык. Кинулись по местам, едва в ангаре уравновесилось давление. Только я на секунду задержался, чтобы прижать Тишку сверху пневмоподушкой, чтобы она не выскочила из ямки: помещать ее в компенсан уже не было времени. Буквально на ходу я всадил Тишке под шкурку укол снотворного и успел улечься в свою противоперегрузочную ванну, в упруго-податливый гранулированный кисель компенсана.
Ускорение в пять жи действует ошеломляюще, и я только помню, как ритмически сдавливал мое тело компенсан, помогая сердцу гнать по сосудам тяжелую кровь. Казалось, что перегрузка никогда не кончится. Магнитное поле ворочало нас в компенсане без малого шесть часов, и это был максимум, который мог выдержать самый слабый из нас. Обычно стартовое ускорение не превышает двух жи, но мы расплачивались за задержку на Цедне… Наконец смолкли двигатели и наступила блаженная невесомость. Мы достигли скорости 1000 километров в секунду, и этого было достаточно для того, чтобы уйти в подпространство в любой удобный для нас момент. Мы теперь могли отдохнуть.
Капитан выплыл из ванны, стряхивая с костюма намагниченные гранулы компенсана, и сел за пульт. Предстоял сложный маневр по выбросу в пространство буера, в качестве которого мы использовали многотонный бак с запасами воды. Наконец бак удалился и натянулись тросы, связывающие его с звездолетом. Капитан включил ненадолго боковые двигатели, и мы стали медленно вращаться вокруг буера. Появилась тяжесть в одну десятую земной, мы стали различать, где верх, где низ. Я вылез из ванны и бросился на катер.
Тишка спала в своей ямке и даже похрапывала. Судя по ее виду, ускорение она перенесла отлично.
В оранжерее дел оказалось не на один день: вьющиеся растения не очень пострадали, но древовидные требовали большого лечения. На полу блестели лужицы воды, выжатой из впечатленцев пустотелых, а сами впечатленцы, непривычно плоские и вялые, подчищали лужицы, втягивая в себя воду. Мы с Васей засучили рукава и стали наводить порядок.
Ужинали на кухне. Все были усталые и потому молчаливые. И хотя наедаться перед сном не рекомендуется, мы пренебрегли этим и съели сначала холодец с чесноком, потом борщ с говядиной и кашу гречневую с хрустящими шкварками. Запивали квасом. Капитан вдруг стал рассказывать, как в древности фантасты представляли себе межзвездные полеты.
— На звездолете бассейн с подсветкой и вышкой — это обязательно. Парк для прогулок и обязательно пейзаж, уходящий в даль. Рестораны, где хрусталь и золотые вилки. Приглушенная музыка. Считалось, что в космос летят неврастеники, которых надо изящной жизнью отвлечь от мыслей о космосе.
— Надо же?! — сказали мы на это.
Тишка тем временем наелась каши и забралась в свое кресло слева от капитана. Он положил ей руку на голову, погладил. Вопрос прозвучал неожиданно.
— Кто на собаку ошейник надел? — капитан сдвинул в сторону тарелки и посадил перед собой Тишку.
Мы уставились на Тишку. Действительно, шею ее опоясывала повязка из белой, под горностай, шкурки, перехваченная внизу наподобие бантика. Капитан оглядел наши честные недоумевающие лица и стал белым как сметана. Вася снял повязку, пустил ее по рукам. Шкурка была мягкой и сшита чулочком, а вместо нитки — жилка тоненькая. Тут нам совсем не по себе стало: получалось, что мы три земных месяца околачивались на Цедне, а главного не заметили. Главное же всегда и во веки веков — разум.
— Эстеты мы, вот и опозорились. — Капитан гладил Тишку, речь его была отрывистой. — А вот для собаки все равны, что павиан, что свинья на паучьих ножках. Для Тишки тот, кто не несет угрозы, тот и хорош. А нам еще красоту подавай. В нашем понятии. Зря мы их своим пренебрежением обидели. Тех, кто так хорошо шкурки выделывает. Они ведь просто напрашивались на контакт. Для них-то мы, хоть и двуногие, хороши были… А вот Тишка-то с ними общий язык нашла, — капитан вывернул чулочек, оглядел аккуратный шов. — Тишке подарок сделали. Бантиком повязали… Это я не столько вас, это я себя больше казню.
— Капитан, а может, это не они, не эти… скользкие?
— Ну, мы ведь только с ними и избегали общения. Немелодично, видишь ли, кричат. Плохо выглядят. А ко всем остальным, — капитан ухватил за крыло увимчика, пролетающего над столом, оглядел его и выпустил, — ко всем остальным — со всей душой. Радовались многообразию животных форм…
О том, чтобы вернуться, не могло быть и речи. Мы знали, что на Цедну теперь полетят другие, свободные от эстетических предрассудков. Полетят обязательно, ведь разум так редок и всегда неповторим.
По возвращении на Землю наш отрицательный опыт на Цедне был всесторонне изучен. Проявление коллективного отвращения к непривычным для нас формам живого получило название Тишкин синдром, хотя Тишка как раз и не испытывала ни к кому отвращения или просто неприязни.
Я обрадую вас, сказав в заключение, что Тишка жила долго, пользуясь всеобщей любовью. В ней, как и в каждой благополучной собаке, мягко сочетались красота с добротой. Это так естественно — быть добрым, если ты не на привязи.
ЕСТЬ У ДРУГА ПРАВА
Майя Валеева, 16 лет Предательство
Он был маленьким пушистым комком. Он не знал, да и не мог знать, что зовут его Дэном, что он является представителем породы немецких овчарок и имеет длинную родословную. Дэн знал только теплый бок матери и пряный вкус молока.
Но вдруг все переменилось в его жизни.
Он остался один — без сестер и братьев. Дэн плакал и скулил в неуютной коробке всю ночь, но чьи-то большие сильные руки гладили его, и он успокаивался.
Скоро сознание его прояснилось. Он узнал свое имя, понял, что владелец больших сильных рук — его хозяин. И он преданно полюбил хозяина.
Шли месяцы. Дэн превратился в рослого толстолапого подростка. Однажды хозяин повел его куда-то очень далеко. Услышав разноголосый лай, Дэн заволновался. То, что он увидел, ошеломило его. Вокруг было множество собак. Он еле увернулся от оскаленной морды большой овчарки. Дэна обступили люди, они что-то говорили о нем, щупали грудь, смотрели зубы. Потом началось первое занятие.
Прошло немало времени, прежде чем Дэн понял, чего от него хотят. Он любил тренировки. Любил, когда после них ноют уставшие мышцы и подводит от легкого голода живот. Длинные мускулистые ноги, густая серая шерсть, острые уши и яркие глаза — Дэн стал красивым псом.
Дэн был счастлив: он любил своего друга-хозяина и ради него был готов на все.
Это воскресенье началось, как обычно. Дэн радовался: сегодня тренировка. Но с хозяином творилось что-то неладное. Дэн заметил, как дрожали его руки, запиравшие дверь. Голос его был тревожен. Но Дэн верил хозяину — он ласково ткнулся в ладонь мокрым носом.
Когда они подошли к незнакомой площадке, Дэна буквально оглушил лай. Нет, это был не тот лай, который он привык слышать на тренировках. Это была отчаянная тоскливая мольба. Почуяв недоброе, дрогнуло сердце Дэна. Он взглянул в лицо хозяина и не увидел его глаз.
На площадке — множество овчарок. Среди незнакомых собак Дэн узнал подругу по тренировкам — Вегу. Дэн дружески ткнул ее носом, но вдруг понял, что ей не до него. Вега дрожала, ее взгляд, полный тоски, был устремлен куда-то мимо него.
Дэн смотрел на метавшихся и скуливших собак. Ему стало страшно. Он почуял беду. Тихое рычание заклокотало в горле, шерсть встопорщилась на загривке. Хозяин вел его мимо собак. Дэн снова оказался около Веги. Хозяин сказал: «Ждать!» — и исчез в толпе людей. Теперь, когда Дэн был привязан, смутное подозрение закралось в его душу. Но хозяин сказал «ждать» — значит, он вернется и заберет его! Дэн оглянулся на других собак. Крупный черно-рыжий кобель яростно и отрешенно лаял. Другая овчарка лежала не двигаясь. Дэн видел ее темные, полные ужаса глаза. Дэн взглянул на людей. Они привели своих собак для того, чтобы продать их. За выученную овчарку платят много. Но ни Дэн, ни остальные собаки не знали этого. Они просто чуяли беду. А люди чего-то ждали.
За забором остановилась машина. На площадке появились люди в одинаковой одежде. От них неприятно пахло кожей и железом. Дэн видел, как они подошли к первой собаке. Они надели на нее ошейник и намордник. Дэн понял, что сейчас подойдут и к нему. Он рванулся на поводке и заскулил. «Цыц, ты!» — голос хозяина был сух и равнодушен. Дэн замолк. Злобные огоньки заиграли в его глазах. Потом он увидел, что на Вегу уже надет чужой ошейник. В огромном неуклюжем наморднике Вега показалась ему маленькой и жалкой.
Дэн вдруг ослабел. Земля уходила из-под лап. Только сердце бешено колотилось в груди. Затуманившимися глазами он смотрел на хозяина. Дэн не замечал, как на него надевают колючий ошейник. Дэн все еще верил хозяину, и когда тот ответил высокому человеку в форме: «Да, кобель, полтора года, Дэн», — он завилял хвостом. Главный человек сказал: «Можете идти домой!» — «Домой, домой!» — понял Дэн и радостно заскулил: лаять не давал намордник.
Острые колючки ошейника мертвой хваткой стиснули горло. Рука хозяина коснулась его головы. «Прощай, Дэн, домой — фу!» Дэн понял, что значит «домой — фу!», он понял, что у него нет больше хозяина…
Собаки рвались с поводков, лаяли и выли. Люди, как-то сжавшись, не глядя друг другу в глаза, уходили.
Дэн стоял, вытянувшись в струнку и навострив уши. Лапы мелко дрожали. Он молчал. Взгляды человека и собаки встретились. Человек не выдержал первым. Глаза хозяина жалко заморгали и опустились.
Люди уходили. Вега завыла, протяжно и тонко. Разномастные овчарки лаяли и метались, только большой серый пес стоял молча. Темные глаза его были сухи, в них незаметно гасла любовь и уже затаивалась тоска и ненависть.
Потом их долго везли в темном, обитом железом кузове. Кругом выли, лаяли и скреблись его товарищи по несчастью. Дэн лежал, безучастный ко всему, он все еще не мог поверить и понять, почему его любимый прекрасный хозяин предал его. Любовь и ненависть к нему клокотали в Дэне одновременно.
…Отстегнув поводок, Дэна подтолкнули к клетке. Она была вонючая и тесная. Дэн тоскливо смотрел на клетчатое голубое небо. Случайно в соседнюю клетку поместили Вегу. Она узнала Дэна и жалобно заскулила. Собаки хорошо понимали друг друга.
Стемнело. Дэн даже не взглянул на принесенную еду, он неподвижно лежал в углу.
Ночью с отчаянием и тоской выли новички, яростным лаем отвечали на их вой собаки-старожилы. Вега тонко подвывала и повизгивала, а Дэн молчал. Иногда он впадал в дремоту, и ему снилось его теплое и родное место, хозяин… Но видение исчезало, и он снова ощущал чужие стены и холодный пол. Не проходила тоска по хозяину, по его голосу и ласковым рукам.
Утром пришел приземистый, пахнущий собаками человек. Он ткнул себя в грудь и сказал: «Дэн, я твой хозяин. Хо-зя-ин!» Дэн отвернулся. Он смотрел, как Вегу выводят из клетки. Ему стало горько-прегорько: в это время он провожал хозяина на работу и мог заниматься своими делами — грызть кость, например.
Во время прогулки его спустили с поводка. Но бегать ему не захотелось, и он понуро, медленным шагом, как бы нехотя, обошел дворик. Потом началась тренировка. Она была куда сложней, чем раньше, но Дэн привык выполнять команды, привык напрягать все свои собачьи силы.
Вега не слушалась нового хозяина. Она нервничала и скулила. И тут ее ударили. Вега в ярости бросилась на обидчика, но была сбита с ног метким и сильным ударом. Она смирилась. Шерсть на загривке Дэна поднялась — в руке его нового хозяина тоже был хлыст. Но человек им не воспользовался.
Вечером, в клетке, Дэн забеспокоился. Сам не зная почему, он был уверен, что там, за деревянной стеной клетки, — свобода. Земляной пол был хорошо утоптан и тверд, как камень. Но сильные лапы Дэна пробили жесткую поверхность.
Светлело. От непрестанной работы лапы онемели. Из когтей сочилась кровь, но Дэн почуял свободу! Весь обсыпанный землей, он продвигался все дальше и дальше. Он слышал, как беспокойно мечется Вега, но теперь уже ничто не могло остановить его.
Когда он вылез, от слабости тряслись лапы, язык вывалился из открытой пасти, но Дэн нашел в себе силы и затрусил: сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Вдогонку ему раздался тоскливый вой Веги.
По широким многолюдным улицам города бежала красивая серая собака. Люди смотрели на нее с изумлением и беспокойством.
Дэн впервые был в этих местах. Но могучий инстинкт указывал ему дорогу. Дэн устал. Два дня голода давали о себе знать. Живот изрядно подвело, шерсть запылилась. Но в глазах теплилась надежда. Дэн прощал хозяина, он шел к нему, чтобы снова любить его, верно и преданно.
Выбившись из сил и потеряв потому дорогу, Дэн заночевал в небольшой яме, лежа бок о бок с крупной рыжей дворнягой. Раньше он — аристократ собачьего племени — и близко не подпустил бы к себе бродячего пса. Но теперь Дэн хорошо знал, что такое одиночество, тоска, неприкаянность…
Утром, при свете солнца, Дэн узнал местность и уже уверенно побежал к своему дому. Слова хозяина «домой — фу!» исчезли из его памяти. Радость и волнение охватили его, когда он ступил на порог своего подъезда. Дэн бросился вверх по лестнице. Вот она, родная дверь! Он смотрел на знакомую до мелочей дверь, и восторг светился в его глазах. Он простил хозяину все.
Дэн зацарапался в дверь — громко и требовательно.
Ведь он был уверен, что нужен своему другу! Сердце стучало так сильно, что отдавало в висках.
Заскрипела дверь, и Дэн очутился в своей квартире. Перед ним стоял хозяин. Лапы Дэна уже готовы были опуститься ему на плечи, но вдруг… Вдруг Дэн увидел другую собаку. Пушистый черномазый месячный овчаренок доверчиво смотрел на него глупыми глазенками.
Друг стал врагом. Дэн попятился назад. Хозяин, очнувшись от неожиданности, заговорил: «Это ты, Дэн?! Ты пришел?! Дэн, иди ко мне, ко мне!» Дэн уловил в его голосе фальшь.
Человек и собака смотрели друг другу в глаза. Собака поняла, что больше не нужна человеку.
Смятение и злоба охватили Дэна. Он увернулся от протянутой руки — скорее подальше отсюда! Он слышал, как за ним тяжело бежит хозяин. Но теперь ему не догнать Дэна. На улице Дэн остановился. Мелкими шажками к нему подходил хозяин. Сейчас его рука коснется загривка. Дэн оскалил клыки и зарычал. Он рычал, а в глазах не было злобы. Была только бесконечная тоска…
И Дэн пошел медленно, опустив голову.
Веры и Любви больше не было.
…Через год на площадке клуба служебного собаководства с ужасом и тоской смотрела на уходящего хозяина красивая черная овчарка…
Василий Великанов Собачья судьба Быль
Однажды в летнюю пору, прогуливаясь по берегу реки в дачном поселке, я обратил внимание на голенастую, в коротком ситцевом платье, белобрысую девочку лет восьми, которая волокла на веревочке маленького, с рукавицу, бурого щеночка, похожего на медвежоночка. Упираясь в землю всеми лапками, кутенок тащился по траве на брюхе, хрипло визжал, и в его налитых кровью глазенках-вишенках горел дикий испуг. Вслед за ним топал загорелый мальчонка лет пяти, в коротких штанишках, без рубашки и, размазывая слезы по запыленному лицу, ревел: «Пусти-и его, Катька. Пусти-и…»
Они приближались к глинистому крутояру, и я встал на их пути.
— Чего ты его тянешь! Задохнется… — заметил я, думая, что девчонка хочет искупать щенка.
— Все равно уж… — промолвила девочка упавшим голосом, а мальчонка сквозь слезы пропищал:
— Топи-ить…
— За что же ему такая казнь?
— Отец велел, — ответила девочка. — Мишутка у нас лишний…
— Отдайте его мне, — попросил я.
Девочка смахнула со щеки слезинку и передала мне веревочный поводок:
— Только он у нас еще маленький.
Повеселевший мальчик спросил:
— Дядя, а у вас есть колова?
— Есть молочко, есть, — успокоил я детей и, сняв со щенка веревочную петлю, взял его на руки и прижал к груди. Бархатистый и мягкий, щенок мелко дрожал и тихонько поскуливал, словно плакал и жаловался. Я понес его к себе на дачу, а ребятишки долго стояли, провожая меня глазами.
Принес я щенка в свою комнату, которую снимал на лето у местного жителя, пенсионера Петра Кузьмича Таранова. Пока я нес малыша, он пригрелся у меня на груди и, закрыв вишневые глазки, задремал, но когда я сунул его мордочкой в блюдечко с молоком, чихнул и, очнувшись, быстро все вылакал. Облизывая донышко, он как будто просил добавку. Я дал ему еще молока, и животик у него раздулся. Он облизал мне пальцы, замоченные молоком, и, свернувшись калачиком на мягкой подстилочке возле моей койки, заснул. Во сне он временами вздрагивал и, причмокивая мягкими губенками, тихо поскуливал.
У моего хозяина дворовой собаки в это время не было, и он намеревался приобрести для караульной службы сильного породистого пса. И поэтому, когда я подвернулся со своей находкой, Петр Кузьмич вроде обрадовался:
— Может, подойдет для хозяйства… А какой же он породы?
— Лайка, — ответил я, не моргнув, и улыбнулся. — Да что вас смущает? Овчарка более нежная и ест за двоих, а дворняжки неприхотливы. Что же касается ума и верности, то, как воспитаешь, так и будет…
Петр Кузьмич про себя хмыкнул: он мечтал о волкодаве, а я принес ему в дом не поймешь кого.
Все это лето, до октября, я кормил щенка сам и спал он в моей комнате.
Когда я садился за письменный стол, он укладывался у моих ног и придремывал, а как только я вставал из-за стола, вскакивал и следовал за мной по пятам.
Ежедневно, утром и вечером, я ходил со своим питомцем в лес. Сначала, пока он был маленьким, я носил его в широком кармане брюк, и он забавно выглядывал острой мордочкой из своего уютного теплого «логова», чем вызывал у детей веселый восторг.
Рос и креп Мишутка не по дням, а по часам и вскоре на прогулках стал бегать впереди меня так прытко, что невозможно было его догнать. Описывая вокруг меня круги, он визгливо взлаивал, а когда я пытался его поймать, отскакивал от меня, словно живой мячик, и удирал. Видно было, что эта игра доставляла ему большое удовольствие. Если же кто-либо из детей или Мария Ивановна приставали к нему с лаской, Мишутка увертывался от них и оскалившись прищелкивал остренькими белыми зубками, похожими на короткие шильца.
Видя, что щенок растет однолюбом, Петр Кузьмич заметил с явной обидой:
— Вот вы, Василий Дмитриевич, скоро уедете к себе в город, а ваш «медвежонок» нас и признавать за хозяев не будет…
— Да, да, конечно, — согласился я и, почувствовав себя неловко, разрешил Петру Кузьмичу и Марии Ивановне кормить подросшего щенка.
Мария Ивановна стала угощать Мишутку густым мясным супом, и он так к нему пристрастился, что я часто заставал его у порога кухни, где орудовала Мария Ивановна и откуда неслись вкусные запахи. Принимая от хозяев пищу, он, однако, избегал их ласки. Поест, облизнется, вильнет хвостиком — вроде как вежливо поблагодарит и… ко мне. За такое «собачье» поведение Петр Кузьмич выговорил мне:
— Видать, сколько нахлебника не корми, он все равно чужак…
— Ничего, привыкнет, — успокаивал я хозяина. — Дайте срок.
— Как только вы уедете, — сумрачно пообещал Петр Кузьмич, — я научу его уважать хозяина-кормильца. У меня шелковый будет…
Я знал, что Петр Кузьмич был сторонником строгого воспитания людей и этот свой жизненный принцип переносил и на животных.
К осени Мишутка подрос, но не столько в высоту, как в длину и толщину.
В октябре мне пришлось расстаться со своим питомцем, и признаться, было жаль оставлять его у хозяев.
Прошло несколько месяцев, и я решил проведать Тарановых. Еду и думаю о своем Мишутке: «Наверно, отвык… Может, и не узнает меня…» Но каковы же были мои радость и удивление, когда Мишутка, услышав мой голос во дворе, выскочил из конуры, взвизгнул, неистово стал крутиться вокруг меня и, подпрыгивая, стремился лизнуть руки. Я опустился на скамью возле крыльца. Пес уткнул влажный нос в мои колени и как-то необыкновенно, всем нутром глухо застонал. Казалось, что ему было радостно до боли. Я погладил его вздрагивающее упругое тело, обросшее густой светло-рыжей шерстью, и тихо, ласково сказал:
— Мишу-утка… друг мой… Да тебя и не узнать…
Был он хотя и коротконогим, но туловище — длинное и плотное, а грудь выпирала широкая, бугристая. И уши торчали, как у лайки, острые, подвижные.
Хозяева тоже были растроганы нашей встречей. Петр Кузьмич похвалил Мишутку:
— Крепкий кобелек оказался… Всю зиму на дворе. И караулит хорошо. Голосок у него звонкий…
А Мария Ивановна даже прослезилась:
— Вы только подумайте. Уж как мы его ни кормим, ни обихаживаем, а вас он встретил словно родную мать…
В словах хозяйки я почувствовал доброе сочувствие и ревность.
…Каждое лето я жил на даче у Тарановых, и когда выходил на волю, Мишутка не отходил от меня ни на шаг. Однако власть хозяев признавал и ревностно исполнял караульную службу: оберегал их дом и все хозяйство — сад, огород, сарай, кур, уток и кроликов.
К Марии Ивановне пес относился доверчиво и ласково, а Петра Кузьмича побаивался и при встрече с ним приседал на все ноги и низко опускал голову. Страх перед хозяином появился у него после одного несчастного случая…
Однажды, на виду у хозяина, к собачьей кормушке полезли молодые утки. Известно, что утки очень прожорливы. Ну и Мишутка не стерпел этой наглости и схватил одну из них зубами за шею. Утка затрепыхалась и… голова у нее сникла. Это произошло так неожиданно и быстро, что Петр Кузьмич не успел предотвратить гибель утки. Мишутка выпустил ее из зубов., и растерянно, пугливо посмотрел на хозяина. Петр Кузьмич привязал пса к столбу и жестоко избил плеткой. Меня в это время на даче не было, а Мария Ивановна, услышав брань мужа и резкий скулеж собаки, выскочила из дома на крыльцо и закричала так, что все соседи услышали: «Что ты делаешь, живодер!..»
Весь дрожа от волнения, Петр Кузьмич оставил собаку к покое и ушел на реку охладиться…
Мария Ивановна отвязала Мишку, и он сбежал со двора.
В тот же день, вернувшись из города, я узнал об этом происшествии от соседей Тарановых и, еле сдерживаясь, вежливо упрекнул хозяина в чрезмерно грубом обращении со своим сторожем.
Петр Кузьмич ответил:
— Детей и то наказывают за проступки. Лучше будет ценить хозяйское добро. Собака моя, я ее кормлю и как хочу, так и воспитываю.
Я развел руками и промолчал.
Вернулся пес домой через два дня исхудавший, взлохмаченный, в репьях. Видно было, что беспризорничество досталось ему нелегко. Хозяин посадил его на цепь, ссылаясь на то, что в бегах он мог подхватить какую-нибудь заразу, вроде бешенства. Мишутка поскучал, повыл немного, а потом стих — как будто бы смирился со своей неволей. А через несколько дней, ночью, каким-то образом скинул кожаный ошейник и исчез. Через сутки вернулся. Хозяин не стал наказывать его за самовольную отлучку, но учел ловкость пса и кожаный ошейник заменил железной цепочкой, при этом так плотно стянул ее вокруг мускулистой шеи, что чуть только пес натянет привязь, так и захрипит от удушья. Через несколько дней до крови натер себе шею. По моей убедительной просьбе и по настоянию Марии Ивановны Петр Кузьмич снял с Мишутки цепь, и несколько дней, пока я залечивал ему ранки, пес был тихим, покорным. На волю его не пускали, и он так стосковался, что ночью прорыл под забором лаз и убежал. А к утру вернулся и привел с собой беленькую подружку. Та попыталась было прошмыгнуть во двор за «кавалером», но Петр Кузьмич захлопнул калитку перед самым ее носом. Он побоялся пускать чужую собаку в свои владения, где много было всякой живности, но к молодому кобельку на сей раз отнесся сочувственно…
После жестокого наказания Мишутка стал так бояться хозяина, что, когда тот подзывал его строгим голосом к себе, ложился, вытягивался и медленно, с жуткой опаской в глазах, поскуливая, полз к хозяину на брюхе.
— Ага… — торжествовал в этих случаях Петр Кузьмич, — я научу тебя, сукин сын, ползать по-пластунски…
Я и Мария Ивановна не могли спокойно переносить собачью муштру.
— Ну к чему ты измываешься? — упрекала Мария Ивановна мужа.
И я поддерживал ее:
— Петр Кузьмич, зачем вы воспитываете в собаке раболепие и трусость! Она может отупеть и потерять свои сторожевые качества…
Убежденный в своей правоте, Петр Кузьмич отвечал нам обоим сразу:
— Ничего. Зато будет дисциплинированнее. Пусть чувствует, что мое хозяйское слово для него закон!
Его жестокость возымела свое действие на Мишутку…
Когда к нему в кормушку лезли куры или прожорливые утки, он отходил в сторонку, сглатывал набегавшую слюну и терпеливо, и как-то смущенно смотрел, как птицы выклевывали его пищу.
— Эх ты, дурачок, — журила его Мария Ивановна, отгоняя от кормушки настырных птиц. — Пуганул бы нахалок…
— Нет, он не дурачок, — поправил я хозяйку. — Это он помнит, что у хозяина рука тяжелая…
А Петр Кузьмич не только не раскаивался в своей жестокости к собаке, но даже гордился этим и преданно-хозяйственное поведение Мишутки относил на счет своего строгого воспитания.
Птиц Мишутка сторонился, а кролики вызывали у него какое-то особое ласковое любопытство. То ли он чувствовал их своими близкими родичами, то ли еще почему. Он подолгу стоял около кроличьих клеток и, глядя на чистеньких, гладеньких животных, помахивал хвостиком-бубликом, а иногда и взлаивал потихоньку — вроде вызывал их на волю поиграть с ним.
Удивительно было наблюдать, как Мишутка рьяно охранял хозяйскую живность. Если кролик или цыпленок пытались убежать со двора, подбираясь к щели в дощатом заборе, пес облаивал беглеца и, загнав в сарай, сторожил до тех пор, пока не появлялся кто-нибудь из хозяев.
В этих случаях Петр Кузьмич говорил:
— Вот видишь, Маня, пригодилась псу моя наука…
Мария Ивановна всячески поощряла пса за хорошее несение караульной службы и кормила его так сытно, добротно, что он стал словно литой, упитанно-сильный, с блестящей бархатистой шерстью. А я угощал его косточками с остатками на них мяса. Мишутка разгрызал их со сладостно-животным урчаньем и в этот момент никого к себе не подпускал: рычал и прятался в конуру.
«А сможет ли он подавить в себе пищевой инстинкт?» — подумал я и на глазах у хозяев дал ему необглоданную куриную ножку. Он жадно стиснул ее в зубах, а я, уцепившись пальцами за лодыжку, торчавшую изо рта собаки, потянул куриную ножку, приговаривая мягко, но повелительно: «Отдай, Мишутка, отдай». Жалобно поскуливая, пес то ослаблял прикус, то вдруг еще сильнее сжимал куриную ножку. Ох как мучительно было расставаться с лакомым куском! И все-таки, слегка прицапывая зубами, он выпустил изо рта куриную ножку и при этом даже не разозлился, не рычал. Подхватывая истекающую изо рта слюну и глядя то на куриную ножку, то мне в глаза, Мишутка будто умолял: «Чего ты меня мучаешь? Отдай!..» Я вернул ему куриную ножку, он осторожно взял ее из моей руки и унес в свою конуру.
Петр Кузьмич с удивлением покачал головой:
— Ну и ну… Вот этого я от пса не ожидал…
— А вот тебе бы, Петр, Мишутка не отдал лакомый кусок… — с усмешкой «подковырнула» мужа Мария Ивановна.
— Попробовал бы не отдать… — хмуро буркнул Петр Кузьмич.
Находясь по целым дням (да и ночь) во дворе, пес тосковал по воле. Утром и вечером я ходил на прогулку и брал его с собой. Как только, выйдя на крыльцо, я говорил «гулять», Мишутка выскакивал из конуры и, подбежав к калитке, бил в нее передними лапами. Выскочив со двора, он мчался впереди меня к реке — на мое любимое место.
У него явно стало проявляться какое-то охотничье чутье: наклонив голову, принюхивается к чему-то в траве, шарит, ищет, фыркает, петляет по какому-то зигзагообразному пути, а потом вдруг остановится около дерева и, подняв голову, визгливо взлаивает. Посмотрю вверх, там дятел долбит кору…
Когда же я купался в реке, пес спокойно сидел на берегу, охраняя мое белье, но как только я заплывал далеко, начинал метаться по берегу и громко взлаивать — будто опасался, что я утону. Воды он страшно боялся. Может быть, инстинктивно помнил, как его тащили топить?.. Я решил приучить его к воде: подхватил на руки и, зайдя в реку поглубже, пустил на воду. Фыркая, с вытаращенными глазами он быстро поплыл к берегу. Выплыл и, отряхиваясь от воды, отбежал подальше. С тех пор он не подходил близко к реке и на прогулках не давался мне в руки.
По воскресным дням ко мне на дачу приезжала жена. Она вообще боялась собак и к Мишутке относилась настороженно. А он к ней сдержанно. Но я не думал, что у него может вспыхнуть ревность.
Гуляя по берегу реки, мы с женой присели под березой. Огненно-алый закат отражался в воде, как и все небо с облаками. Казалось, что река бездонная, и в ней тоже небесный мир, заманчиво пленительный, влекущий к себе.
Мишутка, который ходил за нами по пятам, понурив голову, неласково-грустный, когда мы сели, полез ко мне с лаской и запачкал лапами светлые брюки. Я рассердился и грубо оттолкнул его: «Уйди! Надоел…» И обнял жену за плечи. Мишутка вдруг ощерился и схватил жену за ногу. Она вскрикнула и, отдернув ногу, прижалась ко мне. Я сильно ударил пса кулаком по загривку и сердито крикнул: «Нельзя! Пшел!» Мишутка отскочил, а потом распластался на брюхе и пополз к моим ногам, повизгивая, как бы прося прощения за свой дурной порыв.
С тех пор он терпеливо переносил соседство моей жены и даже принимал от нее пищу, но не ласкался к ней. При встрече вильнет хвостом раз-другой для вежливости и осклабится так, словно криво улыбнется.
На прогулках он от меня не отдалялся и был до безумия смел при встрече с собаками: первым дерзко бросался на них, как бы оберегая меня от опасности. За это однажды и поплатился: бросился на здоровенную овчарку, а та его схватила за позвоночник и так стиснула, что он присел и визгливо застонал. После этого несколько дней пролежал в конуре и плохо ел. А тут приключилась с ним новая беда, более тяжелая…
У моего хозяина был яблоневый сад. И вот как-то вечером, когда мы сидели у телевизора, подросток Федя решил полакомиться чужими яблоками. Перелез он через забор и… столкнулся с четвероногим сторожем. Мишутка залаял и бросился на воришку, а тот схватил стоявшую у забора железную лопату и ударил пса по ногам. Тот взвизгнул, присел и начал крутиться на месте, прихватывая зубами перебитую заднюю ногу. А Федька махнул через забор и был таков. Я знал этого мальчишку. Жил он без отца, с матерью, работавшей няней в доме инвалидов. Сильный, ловкий и смелый, Федька был «заводилой» среди подростков дачной округи. Он выше всех забирался на деревья, быстрее всех плавал и на крючок ловил не только окуньков, но и… домашних уток, за что ему не раз попадало от матери и от владельцев уток.
Перелом бедра у Мишутки оказался раздробленным, но, к счастью, закрытым. Когда я накладывал на ногу лубки, пес от боли стонал, скулил и временами слегка прихватывал мои руки зубами. Ночью сорвал зубами повязку. Пришлось лубки накладывать снова, а чтобы не сорвал, надеть намордник. Мария Ивановна прослезилась, а Петр Кузьмич погрозился «оторвать Федьке башку».
Ежедневно я поправлял, укреплял лубки, которые Мишутка пытался стаскивать передними лапами. Трудно было удержать собаку в покое, и хотя нога зажила, на месте перелома образовался ложный сустав. При ходьбе пес слегка прихрамывал, а при беге поврежденная нога подламывалась.
Тяжелая травма, нанесенная собаке подростком Федькой, так врезалась Мишутке в память, что если нам по пути попадались дети, он далеко обходил их стороной. Ну, а с Федькой пришлось ему еще раз встретиться…
Вот как это произошло.
В одну из зим, в первый день нового года, я поехал к Тарановым, чтобы побродить по заснеженно-тихому, притаенному лесу, подышать морозным воздухом. Зимний хвойный лес как-то особенно успокаивает душу и бодрит.
Дома оказалась только Мария Ивановна — Петр Кузьмич гостил у сына в Москве.
Не успел я снять пальто, как Мария Ивановна огорошила меня сообщением:
— А ведь у нас Мишутка чуть было не утонул…
— Где, как?
— А помните у бережка мостки, а перед ними прорубь? Спустилась я туда белье полоскать, а Мишутка за мной увязался. Я прицыкнула на него, прогнала. Как бы, думаю, в прорубь не свалился, обледенело там, скользко. Он и побежал на ту сторону реки. Смотрю, на той стороне ребятишки катаются на огромной собаке, запряженной в санки. Как бы, думаю, не стравили собак. Крикнула: «Мишутка, домой!» А он и ухом не повел. Добежал до середины реки. Тогда я уж еще громче крикнула: «Мишутка, мясо!» Остановился, повернул обратно и побежал ко мне напрямую. А на его пути полынья, припорошенная снегом. Я-то вижу, куда он бежит, закричала во весь голос: «Куда ты?! Назад! Назад!» И с того берега мальчишки что-то закричали, заулюлюкали. Он испугался и еще быстрее припустился ко мне. С разбегу и ухнул в полынью. Бросилась я к нему. Пробежала шагов десять, а дальше не могу. Лед тонкий еще, трещит подо мной, я-то грузная… Гибнет песик, а я ничем помочь не могу. И вдруг вижу, как с нашего крутого берега двое подростков — шмыг на лед. Один Федька, который перебил Мишутке ногу, а поменьше — Сережка, сосед. Скинули с ног лыжи и к полынье, а я кричу им: «Ложитесь, ложитесь, а то провалитесь!..» Плюхнулись они на лед и поползли: впереди Федька с лыжной палкой в руке, а за ним Сережка, ухватив Федьку за ногу. Мишутка уже захлебываться стал. Я уж теперь боюсь, как бы с ребятами чего-нибудь не случилось… Дополз Федька почти до самой полыньи и протягивает Мишутке палку, а тот — от него. Испугался. Да и не может собака ухватиться за палку. Федька отбросил палку в сторону, подполз поближе и протянул руку. Тут уж Мишутка подплыл к нему, и Федька выхватил его за лапу. И что вы думаете? Отряхнулся, отфыркался и побежал не ко мне, а домой…
Мария Ивановна умолкла, а потом, тяжело вздохнув, продолжала:
— Ох, что я тогда пережила… И песика жалко, на моих глазах погибал… А уж из-за ребят испугалась… Страшно вспомнить… К счастью, все обошлось. Сережка домой убежал, а промокшего Федьку я привела к себе, сушить и обогревать. Пришлось и Мишутку привести в дом, чтоб не заболел.
Пока Федька чаевничал, Мишутка довольно спокойно посматривал на своего спасителя, а как стал тот уходить из дома, бросился за ним и облаял. Отругала я его за неблагодарность, да, видно, вспомнил он, как Федька перебил ему ногу.
…Десять лет прожил Мишутка у Тарановых, неся караульную службу, и каждую весну встречал меня так, как встретил после первой длительной разлуки. Впрочем, не совсем так: если в первые свои молодые годы при встрече со мной он неистово прыгал вокруг меня, взлаивал, стараясь облапить, лизнуть, то потом, когда постарел, просто уткнет морду в колени и, закрыв глаза, тихо стонет нутром, временами вздрагивая.
Ко всем приходит старость. Пришла она и к Мишутке. Коротка собачья жизнь: уже через восемь лет он стал худеть, шерсть на нем пожухла, свалялась и плохо линяла весной. Он подолгу залеживался в конуре или под домом, где в жаркое время было прохладнее, много спал и не сторожил хозяйское добро, как раньше. Петр Кузьмич был недоволен, а тут еще, как на грех, хорек задушил несколько цыплят и двух уток кто-то поймал «на удочку». И хотя лески оборвались, но крючки засели где-то глубоко в зобу, и пришлось уток преждевременно прирезать. Правда, в этом случае пес был совершенно неповинен, но Петр Кузьмич и это поставил в вину своему сторожу: «Лежебока… Только жрать да дрыхнуть…» Мария Ивановна по-прежнему жалела Мишутку, кормила его хорошо, но, когда она уехала к сыну в Москву, Петр Кузьмич лишил пса мясного. И появилась на теле у собаки короста, вроде экземы. Петр Кузьмич испугался: как бы не заразил кроликов. Я в это время тоже был в отъезде. Воспользовавшись отлучкой «защитников», Петр Кузьмич решил по-своему судьбу пса: запихнул его в мешок, отнес далеко в лес, положил под кусты и, не развязав мешок, ушел…
Вернувшись из поездки и узнав от Марии Ивановны о судьбе собаки, я спросил хозяина:
— Петр Кузьмич, как это вы могли домашнего друга обречь на такую мучительную смерть?..
— Все равно ведь ему настало время умирать… — ответил хозяин и, как бы извиняясь за содеянное, добавил: — Рука не поднималась покончить сразу…
Когда же я сказал ему о том, что задумал написать о жизни Мишутки, Петр Кузьмич с какой-то жалкой полуулыбкой на худощавом, морщинистом лице попросил меня о том, чтобы я концовку рассказа придумал бы какую-нибудь другую:
— Ну, пусть Мишутка убежит со двора и… пропадет без вести. Писатели ведь все могут сделать, как захотят…
Нет, я не мог, не захотел изменять собачью судьбу и написал так, как было в жизни.
Виктор Пронин Хорошо бы собаку купить
Вынося эти слова в заголовок, хочу сказать, что речь в конце концов пойдет вовсе не о собаках. С собаками нынче, вроде, все стало на свои места. Осознана необходимость гуманного отношения к животным, по телевидению и по радио не перестают, к общему удовлетворению, раздаваться голоса, призывающие беречь животных, относиться к ним, как к братьям меньшим, а знаменитый Бим со своим не менее знаменитым черным ухом стал в свое время едва ли не самым популярным актером сезона. И не делим мы уже насекомых, морских обитателей, зверей на полезных и вредных, потому что поняли: вредных нет. Есть хищные и травоядные, далекие и близкие, экзотические и привычные. Даже показанная как-то на телеэкране прирученная гиена, зверь с ужасной репутацией, оказалась при ближайшем рассмотрении почти собакой — симпатичной, ласковой, отзывчивой.
Люди потянулись к зверю. Веяние времени? Или мода? А как знать, может быть, многие воспользовались этой модой, чтобы исполнить наконец мечту детства — завести, например, собаку.
Да, конечно, собака в доме требует от человека многих качеств, и все это, как на подбор, прекрасные качества — заботливость, участливость, умение быть великодушным, умение нести ответственность. Это те черты, увидеть которые в своем ребенке будет счастлив каждый родитель.
История первая. Джек
В нашем доме на втором этаже живет девочка Марина. Как-то летом все ее подруги разъехались — в пионерские лагеря, к бабушкам, к родным, и Марина осталась одна. Поскучав недели две-три, побродив возле опостылевших качелей, она случайно познакомилась с бездомным псом — громадным, лохматым, довольно пожилым, потерявшим где-то свой хвост. Вид у собаки был угрюмый и нелюдимый. Но при этом пес оказался доброты бесконечной. И людей отпугивал не нрав его, а вид. От ночевок под скамейками, в подвалах, на строительных площадках он был весь в колючках, в пыли, мусоре. Взгляд казался злобным, на тяжелые лапы нельзя было смотреть без опаски.
Но Марина сразу прониклась к собаке доверием. Надо сказать, доверие было взаимным. Уже через несколько дней пес запросто захаживал в наш двор, иногда поднимался на второй этаж, где жила девочка, робея, укладывался на коврик у ее двери. При приближении соседей Джек — Марина назвала собаку Джеком — демонстративно отворачивался, словно зная о своей устрашающей внешности…
С тех пор все дни девочки были посвящены собаке. Марина кормила ее, вычесывала шерсть, отмывала лапы, чтобы мама разрешила иногда заводить Джека в квартиру. Когда мама заговорила было о путевке в лагерь, Марина категорически отказалась. Какая путевка, какая может быть поездка! Кто будет кормить Джека? Где он будет ночевать? И Марина осталась. И на следующее лето тоже.
Не буду рассказывать о скандалах напуганных жильцов, о протестах почтальонов — собаки, как известно, не очень их любят, — о случаях, когда Джек буквально спускал с лестницы подвыпивших гостей. Было дело — даже подписи собрали под письмом в милицию, требовали убрать собаку…
Марина купила Джеку ошейник и поводок, сводила в ветлечебницу, зарегистрировала собаку на свое имя. Ей выдали официальное свидетельство, определили породу — какая-то неимоверная помесь кавказской овчарки и сибирской лайки.
Пес и сейчас живет в нашем подъезде. Но не о нем речь — о Марине. Она сильно изменилась. Среди подруг отличается серьезностью, чувством собственного достоинства. Знает все породы собак, их повадки, классификацию, методы дрессировки. Срисовывая в альбомы собак из журналов, газет, книг, Марина научилась неплохо рисовать, в школе была организована выставка ее рисунков. Она записалась в кружок любителей животных и сделала там доклад о собаках, об истории их приручения человеком.
Нет-нет, она не замкнулась на Джеке. У нее уйма подруг, она общительна и остроумна, но в тоже время ее отличает более зрелая духовная культура, нежели у сверстниц, воспитанность, выдержка.
Пытаюсь вообразить Марину, совершающую когда-нибудь в будущем поступок подлый, низкий, некрасивый. И не могу. Не могу себе представить Марину, бросающую человека в беде, мелко прикидывающую выгоду от того или иного хитрого хода, злобно завидующую чужому счастью, чужой удаче. А вот ее же поступок благородный, жест щедрый и великодушный, решение дерзкое представляю с легкостью. Потому что все это будет продолжением ее сегодняшних поступков и решений.
Не буду утверждать, что именно Джек, этакий благородный бездомный пес, так повлиял на девочку. Но я глубоко уверен, что на Марину повлияла сама ситуация, возможность проявить заботу, помочь тому, кто в ее помощи нуждается, не подвести того, кто на нее надеется. Ведь она не просто кормила собаку, не просто разрешала ей спать у своей двери — она спасла ее в самом полном смысле слова. И прекрасно понимает это. Другими словами, девочка проявила ту духовную щедрость, на которую — чего уж там — так часто не хватает нас, людей взрослых.
История вторая. Тимка
Эта история печальная. Произошла она на окраине большого города Днепропетровска.
На сей раз девочку звали Юлька. Вернувшись из школы, она вышла поиграть во двор с собакой-таксой по кличке Тимка. Юльку тут же окружила толпа подружек. Пройти мимо шаловливого пса, особенно когда тебе немногим больше десяти, просто невозможно. Устав от возни, Тимка обычно переворачивался на спину и поднимал лапы — все, дескать, больше не могу, делайте со мной, что хотите.
Игра была в самом разгаре, когда к детям подошел какой-то дядя. Разведя длинными руками толпу ребятишек, он молча взял Тимку за шиворот и пошел с ним прочь. Дети вначале подумали, что дядя шутит. Но дядя не шутил. Он был из тех, кого панически боятся все собаки. Подойдя к грузовой машине с крытым верхом, дядя открыл дверцу и бросил Тимку внутрь. И только тогда дети сообразили, что произошло. До сих пор, понимаете, до сих пор, хотя прошло уже больше года, они рассказывают об этом, как о самом ужасном, что им довелось увидеть в жизни: дядя сжал Тимке горло, оно хрустнуло, Тимка дернулся, и дети слышали и до сих пор слышат, как он бьется в предсмертных судорогах о железный пол.
Дети бросились к собачнику, стали перед машиной. Юлька стремглав кинулась домой. Из квартиры тут же выбежала вся семья. Машина еще стояла у двора, дети, рыдая, вцепились в прутья радиатора, и, казалось, никакая сила не может заставить их отступить. Через минуту машину уже окружили взрослые, кто-то пытался открыть дверцу кабины, кто-то прилаживал железный прут к запору кузова, но дядя, видимо, знал свое дело. Он резко дал задний ход, мотор взревел, машина вильнула в сторону и по газону выскочила на шоссе.
Механизированная колонна, к которой принадлежала машина, находилась недалеко. Мама Юльки была там через несколько минут и нашла ту машину. Водителя на месте не оказалось. Кто-то помог подкатить бочку, женщина взобралась на нее, заглянула через маленькое окошко и увидела мертвого Тимку.
— Это Виноградского работа, — объяснили ей. — Собак положено умерщвлять газом, но Виноградский любит это делать руками. И быстрее и чище.
Мне довелось поговорить с этим «любителем чистоты».
— А, — махнул он рукой, — помню я этот случай… Там такой шум поднялся, будто я у них ребенка уволок… Но они опоздали.
— Как же понимать, — спрашиваю, — ведь собака была не одна, вокруг были дети! На собаке ошейник, номерок, поводок — все, как положено.
— А! Номерок! Они на кого угодно номерок повесят… И нам разве до номерка бывает! Схватишь и бежишь! А то догонят и еще шею намылят.
Там же, в автоколонне, мне удалось выяснить кое-какие детали. Оказывается, собак положено подбирать рано утром. Но подниматься на рассвете хлопотно, и выезжают эти так называемые «собачьи будки» в восемь утра. А самая охота начинается к обеду, когда школьники возвращаются с занятий, когда больше всего вероятности встретить собаку, тем более что рядом с детьми они обычно теряют бдительность, осторожность. По правилам положено некоторое время держать животное взаперти — вдруг хозяин объявится. Но собачники неохотно идут на соблюдение правил: за каждого пса им выплачивается семьдесят копеек. Вот и торопятся побыстрее задушить добычу.
Но не о собаках речь. Речь о Юльке.
Она сразу перестала ходить в музыкальную школу. Какая там музыка… Учительница пригласила родителей и пожаловалась на пассивность девочки, ее вызывающий тон, равнодушное отношение к жизни класса, замкнутость. Спрашивала, не случилось ли чего. Ответили, что так, мол, и так, собаку убили. «Ну, тогда это пройдет», — успокоилась учительница. Она попробовала было заинтересовать Юльку работой в школьном живом уголке. Предложение та выслушала молча, но возле животных не появилась ни разу. Учительница перед всем классом пристыдила ее: дескать, кролики голодными остались, птичкам воды никто не налил. Юлька только усмехнулась, криво так, думая о чем-то своем уже недетском. Отец предложил ей купить другую собаку — она отказалась категорически. И от кошки отказалась. И вообще не хочет в доме никакой живности.
Конечно, вполне вероятно, что это ее состояние пройдет, она снова станет прежней Юлькой, опять попросит отца купить собаку, скорее всего, так и будет. Но вряд ли она забудет то, что произошло. И то, что поселилась в ней этакая жестокость, равнодушие, можно считать прямым следствием страстного желания ловца собак прибавить к своей зарплате еще семьдесят копеек. При том, что не так уж мала зарплата у того же Виноградского — двести — триста рублей в месяц получается…
Что сказать? Очевидно, его работа важна, необходима, заниматься ею кому-то надо. Главный инженер автоколонны пожаловался, что охотников до этого дела немного, администрация вынуждена переводить на такие машины водителей, которые в чем-то провинились. Но есть и те, кто занимается ею постоянно. Кстати, Виноградский из постоянных водителей «собачьей будки». И еще главный инженер пожаловался, что случай с Тимкой далеко не единственный, что хозяева часто приходят к нему в поисках своих собак — пойманных, украденных, отобранных. Мне дали прочитать жалобу старушки, у которой болонку сняли прямо с подоконника.
И за грустной улыбкой главного инженера, за какой-то безнадежностью в его голосе чувствовалось, что таким вот молчаливым согласием смотреть сквозь пальцы на эти нарушения администрация как бы расплачивается с водителями за их работу.
И вот результат: водители этих спецмашин даже мальчишек подряжают на охоту за собаками. Деловая хватка верно подсказывает им, что это очень удобный способ заработать — мальчишек собаки не боятся, мальчишкам они доверяют. И находятся юные представители рода человеческого, которые соглашаются за двугривенный сманить у соседа собаку и пустить ее в полном смысле слова на мыло. А отсюда совсем недалеко и до той истории, которая не столь давно потрясла жителей Днепропетровска, — там сколотилась тесная группка ребят, повадившихся в подвале одного из домов истязать животных. Спицы у них были для этого дела, зажигалки, проволочные петли… А когда один паренек не выдержал и отказался от такого времяпрепровождения, его избили до полусмерти. С применением тех же инструментов.
Собаки — ладно.
Но давайте прикинем, как выглядят при этом нормы нравственности, принятые в нашем обществе. Ведь, говоря о любви к животным, о необходимости помогать им, создавая уголки живой природы в школах и детских садах, всячески поощряя любовь к «братьям нашим меньшим», мы заботимся не только о животных и не столько о животных, сколько о морали, о тех убеждениях, которые усвоят наши дети и понесут дальше, в последующие поколения. И когда эту мораль попирают столь бесцеремонно и откровенно, мы должны отнестись к этому с большой серьезностью.
История третья. Рей
Для начала приведу документ. Называется он так: «Акт судебно-ветеринарной экспертизы».
«Мною, Теплоуховым Анатолием Тимофеевичем, врачом Томской ветеринарной клиники сельхозтехникума, имеющим высшее ветеринарное образование, стаж работы по специальности — 17 лет, в помещении клиники с 9 до 16 часов, на основании постановления следователя, в присутствии директора клиники и фельдшера произведено вскрытие трупа собаки. Порода — немецкая овчарка. Пол — кобель. Окрас — чепрачный. Кличка — Рей. Возраст — три года. Принадлежал Наташе Игнатовой. Насилие над собакой совершено 1 октября в 17 часов. Время умерщвления — 1 октября, 22 часа.
В результате патолого-анатомического вскрытия установлено…».
Не будем описывать все то, что установил, обнаружил и занес в документ врач. Тяжелое это занятие — читать описание ран, которые можно нанести с помощью топора, лопаты, кованых каблуков. Обращу только внимание на одну деталь: насилие над собакой совершено в пять часов вечера, а умерла она в 10 часов. То есть погибла собака в то самое время, когда дворы, улицы, скверы полны детворы, прохожих.
Так что же произошло? Я имею в виду: что произошло с людьми, которые вольно или невольно оказались втянутыми в историю гибели Рея?
Когда Наташа была в седьмом классе, ей подарили щенка. Причем хорошего щенка, породистого, с родословной. За три года пес вырос и превратился в шестидесятикилограммового красавца. Он участвовал в многочисленных выставках не только в Томске, но и в других городах. Последний его успех — второе место на состязаниях служебных собак.
Наташа отдавала своему другу все свободное время. Как-то, еще будучи щенком, Рей спугнул грабителя, который попытался влезть в квартиру Игнатовых. И брезентовая рукавица, оставленная преступником в спешном бегстве, долго еще служила предметом особой гордости Наташи. Уже когда собака погибла, клуб служебного собаководства выдал ее хозяйке справку, где подтверждалось, что Рей имеет диплом первой степени по дрессировке, экстерьерную оценку «отлично», даже цену указали заботливые товарищи из клуба — триста двадцать рублей.
Наташа так сильно привязалась к собаке, наверно, еще и потому, что атмосфера в семье была тяжелой. Мать часто выпивала и воспитание дочери понимала своеобразно — все время старалась поставить ее на место, уличить в чем-то, выговорить за проступок, мнимый или действительный. Сводный брат бывал лишь наездами и пьянство в обществе матери предпочитал всему остальному. Отец, судя по всему, не относился к сильным людям.
Отвлечемся немного. Вы, наверное, не раз замечали, как ограниченные, пустые люди болезненно воспринимают чужие увлечения, успехи, в чем бы эти успехи ни заключались. Даже, вроде бы, такой пустяк, как привязанность собаки, может вызвать зависть, неприязнь, ненависть в душе заскорузлой и никчемной. Очень уж не терпится таким людям утвердиться хотя бы в собственных глазах. Как угодно, любым способом. Причем чаще всего способом, наименее достойным. Разговаривал я как-то с типом, написавшим анонимку на своего соседа. И куда, кому, думаете, ее послал? В прокуратуру, в милицию, жене, начальнику? Ничего подобного. Послал анонимку человеку, с которым его сосед дружил. Дескать, поссорьтесь, разругайтесь, не встречайтесь — и мне будет легче жить. Тоже ведь философия, а?
А в нашем случае брат Наташи, Александр Аржанников, убил со своими собутыльниками собаку потому, что та была привязана к девушке, и потому, что его сестре было интересно жить. И переносить это брат просто не мог, это уязвляло его, заставляло ощущать собственную неполноценность. А ведь собаку продать можно было. Не продал, не позарился на такие деньги! Потому что наверняка знал: если собаку убить, сестре будет больнее. А цель была именно такая — сделать как можно больнее. Почти невероятно, но и мать Наташи приняла в убийстве самое непосредственное участие. Она сделала основное — надела на Рея намордник. Имела она странную блажь — после выпивки шла прогуливаться с Реем. Смотрите, дескать, люди добрые, какая у меня славная собака, как она меня слушается, и вообще, обратите внимание, какая я значительная особа… Такое вот было у нее тщеславие, вызванное той ограниченностью, бездуховностью, которая влечет за собой бездушие.
Решив убить собаку, брат Наташи со своими собутыльниками, к которым, куда деваться, приходится отнести и мать, первым делом надели на Рея намордник. Потом повели в сарай. Рей пошел, полагая, очевидно, что предстоит обычная прогулка. Наташа в это время была в клубе собаководства. Она ушла из дома, чтобы не видеть пьянеющих родственников, не слышать их удалого разгула. Заведя собаку в сарай, собутыльники несколько раз ударили ее топором по голове. Но то ли много выпили, то ли сарай был слишком тесным, только удары оказались не смертельными, и Рей вырвался, начал с воем бегать по двору, залитый кровью. Пьяные удальцы с гоготом гонялись за Реем — чего им бояться полуживой собаки да еще в наморднике! Накинув Рею на голову мешок из-под картошки, они снова затащили его в сарай и принялись по очереди бить лопатой по голове. Таксист, специально нанятый ими, чтобы увезти труп, сбежал, не вынеся зрелища. А три довольных собой парня, так и не добив собаку, притомились и ушли со двора. Где-то их ожидала выпивка.
— Пусть помучается! — заявил брат через несколько часов. А сказал он это, глядя на подыхающего пса.
Вот что пишет сосед Наташи — А. П. Лунин, работающий в медицинском институте: «Открыв дверь сарая, мы увидели собаку с натянутым на голову мешком. Еще один мешок был натянут на задние ноги. Сдернув мешки, мы увидели, что на собаке надет намордник, а шея ее стянута веревочной петлей. Рей с трудом поднялся на ноги и пошел нам навстречу. Трудно представить себе более жуткую картину, нежели вид огромного пса, с изрубленной головы которого текла кровь. По-видимому, на последнем дыхании Рей проделал путь в сотню метров и поднялся на площадку второго этажа. Здесь силы оставили собаку, и она упала. Трагизм создавшегося положения усугубился тем; что возле умирающей собаки находилась ее семнадцатилетняя хозяйка — Наташа Игнатова. Ее страдания я не могу описать, но с уверенностью говорю, что моральную, психическую травму она получила слишком большую. Буквально силой ее удалось завести в квартиру и уложить на кровать. Вызванные врачи после осмотра собаки заявили, что их помощь уже бесполезна. При содействии начальницы клуба собаководства и представителя милиции был вызван гарнизонный патруль, которого с большим трудом удалось уговорить пристрелить собаку — не было человеческих сил смотреть на страдания Наташи и из гуманности к изуродованному псу.
Я сам солдат в прошлом. Закончил войну на Эльбе. И хочу сказать вот что. Несмотря на то, что фашизм принес нашему народу невероятнейшие страдания и горе, несмотря на то, что у многих из нас родственники, дети, друзья убиты или замучены фашистами, наши солдаты никогда не переносили своей ненависти к врагу не только на мирное население, но и на животных. Жестокость войны не сделала нас садистами. Все солдаты, прошедшие войну, могут рассказать о многочисленных случаях, когда, остановившись на недолгий отдых, они кормили, поили, ухаживали за беззащитными, ни в чем не повинными животными…»
А вот слова Наташи: «В тот же день я ушла из квартиры моей матери и больше туда не вернусь. Живу у бабушки вместе с отцом, который тоже ушел от матери».
Вот такие дела.
Собака — ладно. Ее не вернешь. Наверно, и мать для Наташи тоже уже не вернешь. Кто знает, возможно, когда-нибудь они снова будут жить под одной крышей, но никогда, никогда их отношения не станут дружескими, теплыми отношениями матери и дочери. Навсегда у Наташи останется ощущение, что мать — это тот человек, который в состоянии предать, обмануть, совершить за спиной подлость. Не буду утверждать, что все случилось из-за собаки, что собака стала причиной семейного разлада или, уж если говорить откровенно, семейного краха.
Так уж получилось, что в этой семье собрались люди разные. Наверно, их разлад рано или поздно был неизбежен. И этот трагический случай обнажил их отношения друг к другу… Качества, которые в каждодневном общении были не очень-то видны, вдруг высветились, и сразу стало понятно, кто есть кто. И самоотверженность, духовная щедрость дочери сделались вдруг настолько очевидными, что о ней заговорил весь город, и о дурацком садизме ее брата тоже говорил весь город, и о пьянстве, бездушии матери тоже было сказано немало даже теми, кто никогда о ней ничего не слышал. И все, кто узнал об этой истории, усвоили вполне определенный урок нравственности, вынесли свой приговор.
Заканчивая эту историю, хочется согласиться с Буниным: в самом деле, «хорошо бы собаку купить». Но нельзя забывать и того, что мы всегда в ответе за всех, кого приручили, в чью жизнь вошли, будь это собака, соседский мальчишка или близкий тебе человек. И если сегодня мы внесли в нашу Конституцию статью об охране природы, о защите ее растительного и животного мира, то, право же, за этим прежде всего стоит наша мораль, гуманная и великодушная ко всему живому. И то, как мы относимся к собакам и березам, является прямым продолжением нашего отношения друг к другу…
Ну вот, казалось бы, сказал все, что хотел, вроде и точку пора ставить, да только не выходит из головы один печальный случай, происшедший в Запорожье, — двенадцатилетний мальчик повесился на собачьем поводке после того, как его мать выбросила щенка с балкона четвертого этажа. И мысль о том, что наше отношение к природе является продолжением отношения друг к другу, обретает вдруг смысл трагический и жестокий. Может быть, мать не жалела ни сил, ни средств, чтобы одеть сына, накормить, но вряд ли она видела, понимала, ценила его духовную жизнь, напряженную и бесхитростную, вряд ли…
Рената Яковец Старик на болоте
Зимой 1977 года я почти каждый день ходила на прогулку с собакой на болото. Нам с Рикой нравилось продираться сквозь заросли ивняка и осоки, раскатываться на выметенной ветром глади чистого льда на озерцах, шагать по узкой, извилистой тропинке, утонувшей глубоко в снегу, идти туда, куда она выведет. Над болотами воздух был удивительно чистый, сюда не доползал городской смог. И тишина.
Более километра нас сопровождали «дачи» — огороженные высоченными глухими заборами индивидуальные участочки; они жадно, кусками, отхватывали землю и прятали ее под себя, подминали.
Последняя дача стояла на отшибе, у самого болота. У нее было большое отличие от остальных: во-первых, огораживала домик, слепленный из тарной дощечки, прозрачная штакетная изгородь; во-вторых, по карнизу домика тянулась незамысловатая деревянная резьба, и от этого домик глядел весело; в-третьих, хозяин домика и усадьбы был всегда при ней. Во дворике стоял стожок сена, бегала собака, овчарка. Хозяин, высокий костистый старик, все время что-то делал, мастерил, ладил, как муравей возле муравейника. Он прихрамывал на одну ногу, как-то подволакивал ее, и рука одна была неподвижно полусогнута. Иногда рядом с ним работала женщина, видимо, его жена.
Я ходила мимо, и мне волей-неволей приходилось обращать внимание на эту усадьбу, потому что Рика неслась к изгороди, ее встречала овчарка старика, они свирепо лаяли друг на друга и неслись рядом, вдоль изгороди по обе ее стороны. Старика не возмущало поведение собак, свирепый лай его не раздражал; он усмехался и следил за собаками внимательным, спокойным взглядом.
Потом мы стали здороваться, как давно знакомые люди.
Однажды старик с овчаркой пришел к нам в клуб — зарегистрировать собаку. Так я узнала, что это Вознесенский Вадим Демьянович, а собаку его зовут Астра. Как обычно, зашла беседа. Вадим Демьянович рассказал, что купил собаку в городе, потому что его на садовом участке одолели мальчишки: лазают в усадьбу, ломают кусты, безобразничают в домике. Купил собаку, молодая еще, не знает, как надо караулить. К упряжке приучает — ничего, тащит санки.
Мы пригласили старика прийти еще несколько раз, чтобы привить злобность собаке. Он пришел. Уговорились, что он будет «прогуливаться» с Астрой, а на него из-за угла нападет «злоумышленник» в халате. Так и сделали. Этот прием верный. Если напасть на собаку, она может и отступить. Но когда нападают на любимого хозяина, собака всегда встает на защиту его. И Астра тоже. Всего два занятия потребовалось, чтобы она усвоила, что надо делать, если нападают на хозяина. Она была смелой и недоверчивой собакой и терзала халат на совесть.
Позднее старик взял у нас шлейку для собак, чтобы снять с нее копию. Теперь он собаку запрягал в шлейку, а с боков приладил постромки. Прошел еще год, и теперь возмужавшая Астра сильно тянута постромки, перевозя грузы из городского дома на дачу, зимой — на санках, летом — на тележке, специально сконструированной для этого. Старик грузил доски, гвозди, инструменты, еду на день и ковылял рядом с повозкой каждое утро. На даче у него были кролики. Он ухаживал за ними, плотничал, работал в саду. Каждый раз, идя на болото, я подходила к усадьбе и замечала что-нибудь новое: то изгородь взамен развалившейся, то теплицу, приткнувшуюся к домику. Почва, на которой стояла усадьба, была сплошной торф. Огромного труда стоило что-либо на ней вырастить. И все же летом в теплице зрели огурцы и помидоры, на кустах чернела смородина, зеленели грядки, цвели цветы. Когда ни подойдешь, старик — все на участке, все постукивает молотком или строгает рубанком. Собаки наши теперь уже встречались молча и неслись вдоль забора наперегонки, а мы со стариком все чаще беседовали, больше об огородничестве или о собаках.
Старик рассуждал мудро, рассказывал спокойно, но с юмором, щуря зеленоватые глаза на загорелом, иссеченном морщинами лице; из-под кепки выбивались на висках седые всклокоченные волосы.
— Колочусь помаленьку одной рукой, — говорил он. — Я посмотрю: сейчас молодые, сильные не знают, как время убить, напьются и безобразничают. Один меня встретил возле самого дома, за грудки схватил, тряхнул. Я ему: «Что ж ты меня схватил, я же инвалид, старый…» А он мне: «Вот и хорошо, сопротивляться не будешь». Ладно, сыновья выскочили, наподдали ему. А вы знаете, Астра теперь издалека увидит, кто посторонний идет, — лает свирепо. Я уже знаю, что кто-то чужой. Уж теперь не выпускаю, боюсь: вдруг покусает. Мальчишки далеко стороной обходят.
Поговорим так-то, и я иду дальше, а старик опять берется за дело. И как-то само собой стало получаться, что я уж мимо не шла, все заверну к домику. Но заходить мне на участок не приходилось, не могла собаку бросить снаружи, а зайти с ней — подерутся с Астрой. Так и беседовали по разные стороны изгороди.
Потом, летом как-то, и с женой Вадима Демьяновича познакомилась. Была она, несмотря на возраст, стройная, легкая, высокая. Лицо доброе, с живыми черными глазами, обаятельной улыбкой. И, наверно, из-за всего этого я стала называть ее просто Лидой.
От нее я многое узнала об этой семье. Она так живо рассказывала, что я постоянно сопереживала с ней. Разговаривали мы не подолгу, поскольку я все же была «мимоходом», самое большое — полчаса, но в эти полчаса она укладывала добрую «академическую» житейскую лекцию.
Однажды, когда мы с ней были вдвоем, а старик находился в доме, она рассказала мне его историю, потрясающую историю фронта, плена, ранения, побега. Много дней я переживала этот рассказ. Потом задумала написать о Вадиме Демьяновиче в газету, да все как-то за житейскими делами откладывалось. Старик был скромный, незаметный, неброский внешне человек, больше в его наружности было от страданий, чем героического. Да и разговаривали мы с ним все на определенные темы: где найти жениха для Астры, как распорядиться ее щенками, чем лечить радикулит, как смастерить мостик таким образом, чтобы вода не хлюпала. О своей трудной военной судьбе старик сам не говорил, а мне расспрашивать его было неловко.
Последний наш разговор с ним был уже поздней осенью. В усадьбе бегали уже две овчарки: Астра и ее сын, рослый, красивый кобель Барс. Я пришла специально уговорить старика сдать Барса пограничникам, как только они приедут. Убеждала, что двух собак держать трудно, да и зимой две — зачем они? А к весне Астра ощенится еще, и на будущее лето снова можно оставить щенка. Уговорила.
Больше мне не пришлось ходить на болото: то заболела, то хозяйственных хлопот накопилось. Проявила снимок, где старик на тележке, запряженной Астрой…
Приближались ноябрьские праздники. За праздничным столом, когда уже все сидящие «кучковались» и разговаривали кто о чем и все вместе, муж сказал:
— Умер старик, который на собаке ездил. Завтра хоронить будут.
— Вознесенский!..
Умер… Вот и не пришлось поговорить с ним о его трудных военных дорогах… Надо бы пойти проститься, надо. Но кто я ему? Люди будут недоумевать, да еще, если заплачу, а я могу и не удержаться… Лучше потом зайду.
Так вот и получается, что лучшие свои намерения мы хороним в глубине себя, а нелепости так и прут наружу.
Пришла через две недели. Мы сидели с женой старика. Она ощипывала пухового кролика, грустная, печальная, рассказывала, как он умер. Потом — как они встретились, поженились, какой он был добрый и заботливый муж.
Она рассказывала, иногда вздыхая со всхлипом, иногда смахивая слезу. Я исподволь задавала вопросы, и, наконец, мне удалось подвести разговор скова к той теме, к тем страшным дням…
Перед войной Вадим Вознесенский окончил десятилетку и военное училище. Его отправили на западную границу. Нападение Германии было неожиданным и стремительным. Наши части, разбитые и разрозненные, с боями отступали. Над отступающими проносились бомбардировщики, сбрасывая свой дьявольский груз.
В одну из бомбежек под Белостоком Вознесенский был оглушен взрывом и потерял сознание. Когда очнулся, почувствовал боль во всем теле. Взглянул: нижней половины тела с ногами — нет… Ужас охватил его, и он заплакал. Подошли свои бойцы, откопали. Нет, ноги оказались целы. Только левая ничего не чувствовала, и в спине — боль, словно ножом истыкана. В груди жжет. После выяснилось, что была разбита коленная чашечка, осколками изрешечена спина и поясница, в груди ранение сквозное. Увезли в Минск, в госпиталь. А вскоре и Минск, и госпиталь захватили фашисты. Раненых выволокли, тяжелых тут же пристрелили, кто мог идти — погнали. И начались страшные скитания военнопленного. В каких только лагерях не был молодой советский боец! Был и в Бухенвальде, царстве смерти. Но смерть в своей дикой пляске обходила его. Крематорий жадно поглощал свои жертвы. На плацу выстраивали военнопленных, каждый пятый был обречен. Вознесенский не попадал в пятые. Лежал в тифозном бараке. Выжил. Как ни был он голоден, но не ел траву, не подбирал очистки, отбросы. В конце войны уже перебросили его с группой других пленных в Чехословакию. Но советские войска были уже близко, и в самой Чехословакии где-то сражались партизаны.
Враги уничтожали пленных, заметая следы кровавых преступлений. Из лагеря, где был Вознесенский, пленных тоже спешно погнали на расстрел, ночью, под дождем. Вознесенский и еще один русский по уговору исчезли в придорожной канаве, заполненной весенней талой водой с грязью. Лежать пришлось долго, пока прогнали пленных. Затем беглецы побежали прочь от дороги. Спрятались в сарае чешского крестьянина. В сарае размещался скот, а над ним сеновал, здесь горами лежали спрессованные тюки сена. Беглецы нащупали тюк послабее, распаковали, зарылись. Хозяин не подозревал о незваных гостях. Вскоре зашли на хутор фашисты с целым обозом, в усадьбу вошли, стали говорить с хозяином. Тот спокоен: «Нету никого». Не поверили, штыками сено кололи. Однако не добрались. Уехали с обозом.
У беглецов дырка в стене — видно, что на дворе делается. Дочка или работница несет ведро свиньям; зашла в хлев, вылила корм в корыто. Вознесенский слез, горстями набрал свиной мешанки в пилотку, товарищу принес — тот простыл в воде, заболел. Так и делились кормом со свиньями. Раз девушка вылила мешанку, ушла. Вознесенский слез, наелся, товарищу взял, съели. Но тут жадность одолела. Спустился опять в хлев, а девушка возьми да и вернись! Как она закричит и бросилась бежать. Через минуту вернулась с хозяином, кое-как объяснились, где — на пальцах, где — по-немецки. Хозяин повел их во флигель, дал по мягкому колобку и по чашке кофе. «Больше, — говорит, — нельзя». Покормил несколько дней, потом отвел к чешским партизанам. Там они и войну кончали, и своих встречали.
После войны работал на строительстве железнодорожной ветки Абакан — Тайшет. Там они встретились и поженились. Ей было девятнадцать лет, ему — двадцать семь. Всю оставшуюся жизнь болели раны Вадима Демьяновича, давал знать себя осколок. А под конец парализовало руку и ногу. Но до самого пенсионного возраста работал. О льготах не хлопотал.
На этом бы и закончилась история моего знакомства с усадьбой на болоте и ее обитателями, если бы…
Хрустит снег под ногами на тропинке, что вьется промеж кочек, мимо усадьбы на болоте, дальше, к заросшим осокой и ивняком озеркам. Я иду по тропинке за своей овчаркой Рикой и, проходя мимо дачи Вознесенских, поворачиваю голову влево… Из трубы осиротевшего домика не вьется дымок, не стучит молоток, и становится невыносимо грустно. Ушел Вадим Демьянович — «старик на болоте» — за ту черту, из-за которой не возвращаются, за которую многие живые протянули бы руку, чтобы вернуть дорогих им людей. Но такое невозможно.
За изгородью возникают две собачьи фигуры, и две огромные овчарки кладут лапы на нее. Стоя на задних лапах, молча смотрят на нас с Рикой. На меня они не лают. Мы — добрые знакомые. Без фамильярности. Это Астра и ее сын Барс, намного ее переросший. Барса мы сдадим в армию. Он ждет своего «призыва».
В усадьбе собаки живут одни, охраняя домик и кроликов. Я приветствую собак, Рика пробегает с ними традиционный маршрут — вдоль забора по разные его стороны, и мы с ней идем дальше. Иногда в усадьбе бывает Лида, и тогда мы с ней разговариваем.
…Соседка моя вытащила меня на лыжную прогулку. День выдался солнечный и теплый, ушли мы далеко на Байкал по льду, занесенному ровной пеленой снега. Возвращались в полдень через болота, мокрые от пота, заиндевевшие и красные от морозца. Шли мимо усадьбы Вознесенских. Я далеко отстала, соседка шла впереди. Вот она пошла мимо домика, и в моих мыслях мелькнуло: «Сейчас на нее залают собаки» и тут же: «Странно, никто не залаял…».
Поравнялась и я: собак не было. Я резко свернула к усадьбе, постучала по железному листу, крикнула:
— Лида!
…Было тихо. Странно, что я всегда смотрела только на собак, видела их и за ними домик, а что было дальше — не видела. А тут вдруг взгляд словно провалился в молчание, и я увидела за домиком сарайчик, дверь его почему-то была распахнута. Тревога перечеркнула всю прелесть лыжной прогулки. Я поспешила домой, переоделась и побежала к Лиде узнать, не увели ли они собак домой. Нет, не уводили. Лида встревожилась, сказала, что сейчас приготовит собакам еду и пойдет к ним, а вечером заглянет ко мне и все скажет. Но я уже почти уверена была, что собак убили. Потому что «охота» за крупными собаками приняла уже форму промысла, потому что овчарок доставали крючками за ошейник из-за забора дач, потому что в моду вошли унты и шапки из собачьего меха, потому что на «барахолке» в Иркутске такая шапка стоит сто рублей, а унты — сто пятьдесят. Вот сколько весомых доводов!
Вечером пришла ко мне Лида. Она пришла как тень, как человек, из которого вынули жизненный стержень. Она не плакала, ока просто как-то изнутри горела тоской и болью. Она говорила, но все понятно было и без слов. Собак убили и утащили. Мне стало больно вместе с ней, но она нуждалась в поддержке, и я попросила ее завтра пойти со мной по следу. Она на все была согласна, кивала и только восклицала: «Сколько крови! Сколько крови! Бедная!» Это об Астре.
Она ушла, и я не могла оставаться дома, хотя было уже поздно, пошла к дочери. Вернулась поздно. Муж говорит: «Ты только ушла, приехал парень, сказал, что одну собаку нашел».
Наутро я зашла за Лидой, и мы с ней пошли на дачу. Там уже были ее сыновья, Володя и Борис. Вчера они обыскали все вокруг и прошли по следу до автодороги, там они его потеряли. Я впервые зашла в усадьбу Вознесенских. До чего же она оказалась крохотной! И вся в крови. Там, где обычно над забором поднимались собаки, валялись клочья шерсти и картонные пыжи от ружья шестнадцатого калибра с вмятинками от мелкой картечи. На одном пыже четко написано «км» — картечь мелкая. Два выстрела. Затем… затем началась бойня. Раненые, обезумевшие от боли собаки, брызгая кровью, забегали в сарай, прятались в алюминиевую лодку, их добивали спешно, как попало, лишь бы прекратить вой… Лодка пробита, кровь всюду, возле входа в домик кровь специально присыпана снегом.
Перед уходом на дачу мы с Лидой осмотрели труп Барса, который накануне нашли и привезли ее сыновья. Ухо и пасть его были залиты кровью, язык прикушен, как от сильного удара по голове.
Из усадьбы те двое — один в унтах, другой в валенках — выволокли собак через заднюю калитку и, протащив с полсотни метров в реденький березничек, стали разделывать. Основательно, по-хозяйски. Срезали два сучка на березе, подвесили Астру, сняли шкуру, выбросили внутренности, отрезали голову. Голова и внутренности валялись тут же. Тут что-то произошло. Или какой-то прохожий замаячил вблизи, или время их торопило. Двое подхватили тушу и шкуру Астры, труп Барса и быстро подались к озеркам. В унтах пошел по тропинке, тот, что в валенках, понес Барса в другой березничек и там, на прогалине, закопал в снег, чтобы заняться им в другой раз. Поток он огромными шагами, видно, высокий был, по глубокому снегу вышел на тропу, и дальше двое пошли вместе, вытирая снегом окровавленные руки и стряхивая его бурые клочья. С мешка, очевидно вещевого, потому что его несли всю дорогу на себе и ни разу не ставили наземь, все время падали комочки кровавого налипшего снега. По этим комочкам мы шли долго — Лида, Володя, Борис и я. Тропа вышла на дорогу, по которой любители рыбалки ездят на озерки добывать бормаша. И по этой дороге нас вели кровавые комочки и отпечатки унтов на микропоре, прошитых дратвой по кромке. Но когда эта дорога взбежала на насыпь грунтовой дороги, след потерялся. Мы остановились.
— Вот ведь тащили! И ни разу не поставили! — воскликнула я. — Если их ждала машина, то она могла бы на озера за ними проехать, чем мучить их с такой тяжелой ношей. Ведь овчарка весит сорок килограммов. Значит, своей машины у них не было. А на чужую с такой кровавой ношей не сядешь. Идти по дороге тоже опасно. Днем люди ходят. А убили они утром. Накануне я уже на заходе солнца ходила с Рикой на болото — собаки были на месте. Уже темнело. В потемках собак не обдерешь. А обдирали их обстоятельно, острым ножом, аккуратно, чтобы шкуру не попортить. Барса начали обдирать по всем правилам, да кто-то помешал или припозднились уже… — И тут я срываюсь: — Вот сволочи! Как на медведя шли, до зубов вооружились: ружье, топор, нож, мешок запасли! Нет, не шли они дорогой. Влево от дороги надо искать.
Мы рассыпались в поисках следов. Все были возбуждены и напряжены. Я чувствовала себя, как, наверное, чувствует себя овчарка на следу врага, люто ненавидимого. Вероятно, это был тот момент, когда человек может побывать «в собачьей шкуре».
Наконец, с берега речки Похабихи Борис призывно махнул рукой, и мы ринулись к нему. Кровь, кровавые комочки. И прошитые дратвой унты пошли вдоль берега по тропинке. Они возвращались домой, к своей исходной точке, обойдя с тяжелой ношей семь километров, — когда-то я по этому маршруту проходила с шагомером. Дойдя по льду речки до того места, где начинаются первые дачи, унты исчезли. На чистом снежке, на гладком льду унты вдруг исчезли, оставив последнюю каплю крови, словно вознеслись на воздух. А валенки потерялись давно. Мы кружили вокруг и, наконец, увидели след мопеда. Мопед подъехал навстречу унтам, сделал разворот и пошел обратно. Да, унты вознеслись на мопед. И если сюда мопед пришел с красивым узким отпечатком шины, то обратно он пошел с сильно приплюснутой шиной — ведь он вез двоих да еще собаку. Мы пошли по этому следу, и метров через тридцать он пересек автодорогу и привел нас к воротам ближайшей дачи. Здесь они — унты и мопед — обронили последние крошки кровавого снега и исчезли. И унты и мопед. За забором дачи бегали два лохматых щенка и не тявкали на нас. Они очень хотели выйти на улицу и с надеждой поглядывали на людей, которые смотрели на них сверху и в щели забора. На воротах висел большой замок. Замок напоминал о неприкосновенности личной собственности граждан. Дальше нам путь был закрыт. Нам могла помочь только милиция.
Юрий Лушин Выгода
— Убивал-то как? — переспросил Василий А. и охотно, даже увлеченно стал рассказывать: — Я их вешал. Головенку в петлю, раз — и готово. А шкурки потом уже снимал.
— На глазах у детей?
— Я их не звал.
— Что же, и Венеру, мать щенков, тоже на шапку?
— Ну какая с Венерки выгода, мех старый, и вообще собака никудышная — добрая. А в собаке самое главное — злость. — И он показал на свирепого Мухтара, ощерившегося у конуры.
— И шкурки?
— Ну да, — согласился он и, любовно поглаживая мех, продолжал: — Хорошие шапки получатся. Волос невысокий, но пушистый, а на конце, видите, как бы расщепляется. Потому и пушистость. Я это сразу углядел, когда щенки появились. Кстати, у людей тоже иногда такой волос бывает. Не замечали?
— Ребятишки рассказывали, что Венера даже улыбаться умела — такая собака- была.
— Не замечал. В тот самый день я приказал Борьке, сыну своему, отвести ее куда подальше да привязать, чтобы дорогу обратно не нашла…
— И чтобы шкуры сдирать не мешала с братьев наших меньших?
— Да что вы все заладили — братья да братья. Собаки такие же животные, как овца или теленок, однако их мы убиваем и едим. И никто не возмущается. Нашли тоже мне братьев. Смешно.
Ему было смешно после всего сделанного, мне — страшно. Мы не могли понять друг друга, мы говорили на разных языках. Ему бесполезно было рассказывать о древней дружбе, связавшей человека и собаку, о верной собачьей службе, просто о радости, которую доставляет общение с собакой, о памятниках, сооруженных людьми в честь выдающихся собак, например, в Альпах или под Ленинградом. «Мое животное, что хочу, то с ним и сделаю», — твердил он. Бесполезно было цитировать знаменитую «Песнь о собаке» Сергея Есенина.
Нет, он не понимал. Все это было ему смешно. Один из создателей этологии, науки о поведении животных, выдающийся ученый Конрад Лоренц, так писал в книге «Человек находит друга»: «Изучение гармонического согласия, царящего между хозяином и собакой, дает чрезвычайно много для понимания психологии как людей, так и животных… Выбор собаки уже говорит о многом, а еще больше можно узнать из отношений, складывающихся затем между человеком и его подопечным». В нашем случае о гармонии говорить не приходится, хотя Василий А. утверждал, что собачек любит. Злость в них любит и еще кое-что. Рассказывал: «Была у нас на Алтае собака Пиявка. Натравлю ее на теленка, так она всеми зубами в него вцепится — не оторвешь. Ножом зубы разжимал. А теленок орет от боли — умора… С этими животными вообще чудеса. Заставил однажды кошку щенка выкармливать вместо котят. Выкормила. Котята куда делись? А убил я их…» Такая вот «любовь». В пушистых комочках слепых щенков она помогла разглядеть ему будущие шапки, и он полюбил щенков… ровно на три месяца (дольше гармония длиться не могла, потому что мех не улучшился бы). Выгода, грошовая выгода ослепила его душу. Есть ли у него душа и нужна ли она ему?
Вместо нее и тут убогий принцип — все на продажу. Это удобно — освобождает от нравственных переживаний, предает забвению совесть. Это и выгодно — приносит какой-никакой доход, меха нынче в цене всякие.
При этом он в присутствии сына-школьника вполне серьезно рассуждал, что подобное отношение к животным, пусть на первый взгляд и жестокое, воспитывает у детей… гуманность. Я не думаю, что он лицемерил, он действительно был в этом уверен. И это страшно… Прошлым летом в Киргизии, на берегу чистой горной реки я видел, как молодой парень сдирал шкуру с живого ужонка. Меня это потрясло, а он, смеясь, объяснял, что во Фрунзе пошла мода на ремешки для часов из кожи ужей и змей, подсчитывал, сколько заработает. По странному совпадению, а скорее по внутренней логике, он тоже рассуждал о гуманном отношении к природе (уничтожает, дескать, никому не нужных тварей). Как же нам быть с такими «гуманистами»?
…Василий приканчивал шестого щенка. Устал. Жертвы визжали. Те, до кого очередь еще не дошла, пытались с ним играть. Через забор заглядывали соседские дети, иногда взрослые, что-то кричали ему. Какой-то женщине от увиденного стало плохо, вызвали «Скорую помощь». Он ничего не слышал, увлекся, да и некогда было. Потом позвала жена: «Обедать, Вася». Он ополоснул красные руки, сел за стол. Вовремя. Прибежали с улицы младший его сын Вадим и соседская девочка Оля. Они знали об участи щенков (Василий не скрывал этого с самого начала), но просили оставить в живых своих любимцев — Рыжика и Куклу. Эти двое как раз бегали теперь по двору. Дети обрадовались… По странному стечению обстоятельств, по телевизору показывали цирковых собачек. Они прыгали сквозь обруч или друг через друга, ходили на задних лапах, играли в мяч, а совсем маленькие изображали жокеев, сидя на спинах мощных боксеров. За столом все веселились, Василий одобрительно приговаривал: «Ай да молодцы!» Но ему и в голову не пришло, что так же радовать могут и Рыжик с Куклой и другие щенки, которых у него просили окрестные ребятишки, а он не отдал. Передача кончилась, дети ушли на улицу. Тогда он встал, чтобы добить оставшихся в живых. Борис, его любимец, помог поймать щенков, потом сказал:
— Сбегаю, пожалуй, в зоопарк, предложу щенячье мясо на корм зверям, авось купят…
— Молодец, — похвалил отец, — все выгода будет.
Выгоды, однако, не получилось, от трупов щенков в зоопарке отказались. Когда вернулся младший сын, двор был пуст, и Вадька заплакал, повизгивая по-щенячьи…
Вот и вся история. Кто, какие обстоятельства сделали Василия А. таким, какой он есть? Ведь ничто на земле не проходит бесследно. Может быть, первым толчком был случай, когда Пират, пастушеская собака, спас его в детстве от волка, с трудом оправился от полученных в схватке ран, но тут же был обменен с большой выгодой, как считал отец, на нужную в хозяйстве вещь? Не тогда ли ему, мальчишке, дали понять, что главная ценность в жизни — выгода? Не тогда ли начала глохнуть и черстветь его душа? А теперь вот как это откликнулось. Мне страшны равнодушие и жестокость Василия А. Мне страшно за будущее его детей. Но мне страшно также равнодушие его соседей, людей, которые знали о готовящемся убийстве, а если даже и не знали, то, увидев его начало (а ведь видели, видели), ничем ему не помешали. Ни словом, ни делом. А на деле-то как раз и вышло, что они оказались союзниками шкуродера, потому что все происходило с их молчаливого согласия. Теперь возмущаются. Утверждают, что и в тот страшный день возмущались… про себя, но нашему Васе их возмущение было, как говорится, до лампочки. Сейчас, впрочем, тоже…
* * *
Я не называю фамилий действующих лиц (имена подлинные) не потому, что мне их жалко, а потому, что у них есть дети. И, несмотря ни на что, я хочу верить: дети станут все-таки настоящими людьми.
Инна Руденко Мишень
Утро. Парк. Тишина. Скамейка. Все позади, и можно, спрятав блокнот, молча посидеть, вдыхая запах первой травы и влажного, после ночного дождя, камня. Напротив скамейки — памятник. Лихому кавалеристу — рыжий, белоногий конь здесь неподалеку, печально заржал, вернувшись к своим без хозяина. Легендарной меткости стрелку — враг, ставший его мишенью, живым не уходил никогда.
На памятнике надпись, слова наркома Клима Ворошилова — о нем, лихом и метком. Я читаю эти слова, и тишина во мне внезапно взрывается — все, что осталось там, позади, за этой тишиной, в днях командировки, и что было пока лишь смесью фактов, лиц, вдруг выстраивается, нанизываясь на четкий стержень простых, но таких знаменательных слов: «Это был лев с сердцем милого ребенка».
— Вам спеть?
Светлые волосы в две косички. По-детски припухлые губы. И радостная готовность глаз. Люда уже в пятом классе, но кажется совсем ребенком.
— Вы — за опытом?
Темная крупная голова. Крепко сбитая фигура. Обветренное лицо. Это Степан Ефимович. Учитель. Ему чуть больше сорока, но что-то, на первый взгляд неуловимое, делает его старше.
Оба они решили, что я приехала в школу за чем-то хорошим…
Люда спела мне. Потом. Под бандуру. Бандура большая, Люда к ней прижалась доверчиво, как к кому-то живому и старшему, тронула струны и с готовностью затянула: «Тыхо над ричкою, ниченька тэмная, спыть зачарованный лис». В лесу она и живет — с мамой, сторожем в пионерском лагере, папой трактористом и годовалым братиком Тарасиком, который знаменит пока лишь тем, что очень не любит одеваться. И тогда они с мамой — действует безотказно — говорят: «Ты что? Тебя ведь Тарзан ждет».
И Степан Ефимович, как хотел, опытом своим поделился. Двадцать лет в этой школе, председатель методического объединения военруков. Но главное не это, главное то, что школа, ничем до сих пор не блиставшая, недавно заняла первое место в районе. По стрельбе.
Но и Люду, и Степана Ефимовича мне сразу — по-разному — приходится огорчить: не из-за звонкого Людиного голоса и не из-за опыта Степана Ефимовича приехала я в их школу. А из-за собаки. Рыжей и белоногой, большой, но по-щенячьи ласковой, встречи с которой так ждал маленький Тарасик и которая два года, почти всю свою собачью жизнь, провожала Люду из леса до школы.
И которую Степан Ефимович убил.
Так, во всяком случае, было написано в письме в редакцию.
Из анкеты
«У меня дома живут кролики, кошка и собака. Я их очень люблю. Кролики такие маленькие и пушистые. Я им рву траву и даю кушать. Собака сторожит наш дом, а еще может найти след врага. А кошка ловит мышей, и зовут ее Мурчик».
«У меня нет собаки. Но я очень хочу ее иметь, Я уже наперед сделал ей будку».
«Я люблю животных, потому что як не було б зверей, то не було б и доброго урожая».
— Из Москвы и из-за собаки? — этот вопрос часто задавали мне. По-разному задавали. Одни — с желанием понять. Другие — со спокойным недоумением: «Да у нас тут этих собак… троекуровская псарня прямо». Третьи — со снисходительной иронией. И только Степан Ефимович к причине моего приезда сразу отнесся очень серьезно: «Это снова действуют мои враги».
Желваки заиграли на его скулах, он стал быстро ходить из угла в угол в классе, где мы разговаривали, спотыкаясь о нарты, — метался, будто лев в клетке. Пытаясь успокоить его, я сказала, что разберемся, все вместе и внимательно: правда всегда, хоть часто с трудом, выходит наружу. Но он яростно, крутнул головой: «Вы наших людей не знаете!» Человек он — принципиальный и прямой — вот и нажил врагов. Надо же, — стукнул он кулаком по старенькой парте, — каких только собак на него не вешали, а теперь еще и эту, настоящую! Да у него дома целых три собаки, вся школа знает! Можно ли допустить, чтоб он — и стрелял? Да еще в пса своей ученицы? Его вообще в тот день в школе не было!
Остывая от разговора о своих врагах, объяснил, как отмахнулся от чего-то несущественного: да, Людину собаку нашли мертвой, в школьном тире, наверное, поэтому начались разговоры о нем, его вызвал директор, он ему сказал то, что говорил сейчас и будет говорить, если понадобится, всю жизнь: «Никакого отношения к той собаке не имеет. Был в городе». — «А кто же ее тогда?..» — спросил директор. «Да пацаны — кто», — ответил он. Может, и нехорошо пацанов выдавать, но не мог соврать — у них директор хоть и новый, а сразу понятно: совесть школы. Кто именно с тем псом разделался, он, конечно, не знает, но… Тут Степан Ефимович снова оживился: ему-то лично узнать ничего не стоит. Только сказать пацану: «Выясни, а я за это тебе дам пострелять».
Дам пострелять?..
В письме в редакцию рядом с фамилией военрука упоминались еще три — ребят из 10-го «А». Рослые, крепкие парни, скупясь на детали, но спокойно объяснили мне, что да, вышла осечка: они хотели напугать хоть одну из собак, что в их тир лазят, поставили капкан, попалась эта, ну с такой красивой шерстью. И, дурная, удавилась. И все? «И все», — сказали они, глядя мне прямо в глаза, и только один, Саша, отвернул лицо в сторону. Сказали и замолчали, но не ушли, а сидели, будто дожидались какого-то главного вопроса. А не дождавшись, добавили: «Учтите — военрук тут ни при чем». И глаза их были туго-непроницаемы.
Так, на бумаге, наш разговор выглядит коротко. А был он длинным, — «со мной только два урока вы разговаривали», — скажет потом Саша, — и не один разговор был, а несколько, и вместе, и по отдельности, — так хотелось до них достучаться, так хотелось пробиться сквозь эту непроницаемость глаз, так не хотелось, чтоб эти, только начинающие самостоятельную жизнь парни начинали ее со лжи.
Еще в первые часы командировки нашла я узкую улочку, на ней старенький дом, по ветхим ступеням поднялась в комнату, едва обставленную, и седенький бледный дидусь вынес мне шкуру. Рыжая, белоногая собака — вернее, то, что от нее осталось, — была натянута на широкую изогнутую доску, которую запекшаяся кровь превращала в подобие какого-то орудия пытки. Но это было всего-навсего приспособление для выделки шкур. Дидусь сказал, что шкуру еще горячей привез ему на велосипеде внук Ленька, он удивился, время еще было школьное, но Ленька его успокоил, сказал, что с урока труда его отпросили хлопцы из 10-го «А», они только что «слупили» эту собаку и просили деда, единственного в округе специалиста, выделать шкуру. Бабка еще, помнится, руками всплеснула, будто почуяла неладное: «Людоньки добри, так це ж цилэ тэля, не собака! Не берись, диду». Но он взялся, и не из-за пяти рублей, хотя ему, больному и старому, и копейка дорога: Ленька сказал, что шкуру-то ему дали хлопцы, но предупредили, что она учителя. Как тут откажешь? У него в школе пятеро внуков.
Из анкеты
«Если бы при мне мучили собаку, я бы посмотрела на нее и сказала, что это моя собака. И взяла бы себе. Собака помогает на заставе в охране Родины».
«Если бы при мне человек мучил животное, я отобрал бы его у него и отпихнул бы в сторону. А на второй день сообщил бы своему классному руководителю».
Так они и сделали.
Шестиклассники — на уроке труда занимались обрезкой деревьев и сносили ветви к тиру — задыхаясь, прибежали к Владимиру Несторовичу: «Там собака убитая лежит!» — «Так закопайте», — ответил тот.
Пятиклассники — были уже на «продленке», носились весело — наступила весна — вокруг школы, только Люда играла на бандуре — ворвались в класс с расширенными от ужаса глазами: «Ольга Андреевна, скорей идите посмотрите — в тире Людина собака голая лежит!» Та закрыла глаза: «Что вы, дети, не могу. И вы не смотрите…» Но Люда ринулась — две белые косицы вразлет — и увидела своего защитника, своего верного провожатого, своего красавца друга без его желтой, с белыми отметинами, шерсти… «Люда очень плакала, и мы все тоже», — было написано в письме в редакцию детским почерком.
Драма на уроке — не на охоте. На следующий день школа гудела, как улей. И уроки вести было невозможно, и в учительской обменивались возмущенными репликами: «Неужели — на шапку? Так измельчать!» Но состоялся тот короткий разговор в кабинете директора, и обычная школьная жизнь снова покатилась по своим рельсам. Драма прошла бесследно?
Нет, конечно. Следы остались. В том числе и в самом прямом смысле этого слова.
Тир — зеленый ров за школой у самого леса, маленький домик, щиты на высоких столбах. И мишень. У мишени гомонится стая мальчишек, что-то выискивая в траве, и только заметив нас с директором, стая мгновенно снимается с места и исчезает. «Гильзы ищут. Что сделаешь — мальчишки, им только пострелять…» — понимающе улыбается директор. Вдруг стая, сначала робко, а потом не таясь, возвращается. И нам доверяют страшную тайну: в местах, одним им известных, хранятся доказательства жестокой расправы. Они приносят жесткий жгут окровавленной проволоки и тонкую, заостренную на конце пилку со следами рыжей шерсти на зубцах. Долго ищется окровавленный белый носовой платок.
Следопыты… Они все — кроме одного совсем маленького, в большом, явно с чужого плеча, пиджаке, — в красных галстуках. Пятый, шестой классы. Месяц прошел с того дня! В этом возрасте — целая жизнь, А они все дожидались того часа, когда спрятанное ими наконец кому-то окажется необходимым. На лицах совсем уже нет того азарта, с каким возились они у мишени. «Он убил ее тремя выстрелами, — говорит тот, самый маленький. Очень тихо и очень печально говорит. — Сюда, сюда и сюда». Он тычет пальчиком в свою голову. Мальчик смотрит на меня, как маленький старичок.
Из анкеты
«Жестокий человек — это человек, который может набить меньше себя. Он не чувствует, как ему болит».
«Мужество — это когда человек ничего не боится. Жестокость — это когда человек ничего не жалеет».
И вот мы снова со Степаном Ефимовичем в пустом классе. И молча смотрим друг на друга. Ну, это ваши враги? Вот эти мальчики в красных галстуках? Люда с ее песнями и любовью к музыке? Или собака, повинная лишь в том, что выросла с шерстью, похожей на лисью?
Я не успеваю задать этого вопроса. Спрашивает он.
Тяжело, твердо смотрит мне в глаза и с напором спрашивает:
— Скажите, что, эта собака занесена в «Красную книгу»?
И, не дожидаясь ответа, с таким же напором продолжает: Да в чем вы копаетесь? Мне все известно: к деду пошли, в тир полезли, пацанов выслушиваете — и из-за чего? Из-за собачьей шкуры? Вы бы делом поинтересовались. Тут военрук был, и что? Педант. Не мог он на это смотреть: детям нужна романтика, подъем, их надо уметь организовать, повести за собой. И он из физруков перешел в военруки и так за год развернулся, что в этом стареньком тире даже девчонок-очкариков научил 100 из 100 выбивать!
Это — правда. Разговаривала я с одной из таких девочек. Она сказала, что, да, стрелять военрук ее научил, он кого хочешь этому научить может, и поднять, и повести за собой тоже, но лично она «в разведку бы с ним не пошла».
— Собака… — продолжает свой монолог Степан Ефимович, — да тут в соседней школе ученика убили, и то никто из Москвы не приезжал!
Из Москвы не приезжали, верно. Из Москвы тогда приезжают, когда на месте меры вовремя не принимаются. Но статья была — как раз за десять дней до происшествия. В областной газете: «Отчего плачут матери…» О том, как трое парней жестоко расправились с ни в чем не повинным подростком.
Сейчас нередко пишут о детской жестокости, пытаясь докопаться до ее корней. Как отмечала газета, этим трем с детства, с колыбели «не заронили в детские души священную любовь ко всему живому».
— Да этих собак у нас около школы столько болтается! Я давно директору предлагал перестрелять всех. А он: «На то есть специальная служба». Да где эта служба?
— И вы…
— Нет, не я, — быстро перебивает меня Степан Ефимович, — деду шкуру для выделки я давал, но козьи — это не преступление. Ребята что хочешь наболтать могут — это не доказательство.
До чего же отвратительное занятие — уличать человека. Учителя, отца троих детей… Но существуют авторы письма, существует Люда, и есть еще Людина мама.
Молодая ясноглазая женщина с крапинками белого мела на лице — белила свою сторожку, когда мы пришли, тут они все и живут — взяла Тарасика на руки, прижала к себе. Тарзана, сказала, они взяли вот таким же маленьким, она его, как Тарасика, кормила из соски, вырос он очень большим и очень веселым. Сколько ей было от этой собаки радости, целый день одна тут, в лесу, а он так звонко лаял! Лаять-то лаял, а вот кусаться не умел — так его муж приучил: «кругом же дети»… Они и увидели его первый раз на «весильи», на свадьбе значит, хотели заплатить хозяйке, порода-то ценная, но та все отказывалась — щедрых людей больше, чем жадных.
Когда Люда ей сказала, она, не помня себя, схватила палку и побежала. А потом опомнилась и вернулась — она мать, на нее дети смотрят. Но когда Степан Ефимович к ним пришел и винился, и что только не предлагал, чтоб они молчали, или там сказали, что сами ему собаку отдали, она как мыла полы, так к нему и не повернулась. И только, когда он ей сказал: «Хочешь, я тебе свою собаку подарю?», не выдержала: «Неужели вы думаете, что я захочу каждый день вас перед собой видеть? Мне вас жаль: душевно бидна вы людына». А собака у них есть. Нашли себе щеночка. Живет в маленькой будке. Ту, большую, она попросила мужа убрать — без слез не могла на нее смотреть.
— …Послушайте! — не выдерживая, почти кричу я тут, в классе. — Мне мама Люды… Да будьте же вы наконец мужчиной!
— А… — говорит он. — Сикстинская мадонна…
В голосе его нет, как это можно было бы предположить, иронии, какая-то раздумчивость слышится. Некое удивление даже: есть же, оказывается, на свете совсем иная порода людей: мягкие, тихие, как младенцы, но даже ему с ними не справиться.
Сикстинская мадонна…
— Ну ладно, — говорит он устало, — сдаюсь. Вошла мне эта собака в душу, понимаете? И давно. Просил их поменяться — отказали. Ну, я… В общем, беру все на себя.
— Что «ладно»? Что за «беру на себя»? А истина?
— Да зачем, зачем вам истина? — снова с гневом и недоумением повышает он голос, — Двадцать пять лет безупречной работы — и псу под хвост? Только за то, чтоб вам знать истину?
Знаю я, что имеется в виду — не погладят его по головке. Еще и старое вспомянут — строгое взыскание за беспринципное поведение — а не за прямоту и принципиальность, о которых он все толковал. И детей его жалко — такое об отце читать… Но если учителя будут спрашивать, зачем нам истина, то придется в «Красную книгу» записывать не только собак…
Истину до конца раскрывают ребята: «Сегодня он сказал: „Запираться уже бесполезно“». Дал разрешение, и они заговорили. Еще зимой, в тире, подхваливая их за то, как точно они бьют по мишени: «Настоящие мужчины!», Степан Ефимович вдруг спросил: «Ну, а кто из вас сможет слупить собаку?» Это был не просто вопрос. Это была проверка — им казалось, на смелость. На настоящих мужчин. Василь промолчал. Саша тоже — он и кролика дома ободрать не мог. А Юра, эдак ухмыляясь, эта его ухмылка всем в школе хорошо известна, пробасил: «А что, могу». Потом показал, какую именно собаку надо поймать. Собака оказалась большой, как теленок, очень красивой и с ошейником, они удивились, но как отступить? Храбрились — уже друг перед другом. И однажды поймали ее — проводив Люду, Тарзан собирался вернуться домой, — но Степан Ефимович сказал, что ему очень некогда, собирается ехать в областной центр, и подробно объяснил, что надо сделать. И они вместо ошейника натянули собаке вокруг шеи проволоку, концы привязали к столбам щита, высоко привязали, чтобы удобно было стрелять. Собака не стояла на задних лапах, почти висела. Долго висела. Пока не пришел военрук, не взял ружье, не спустился в тир и не выстрелил. Три раза. В эту, так удобно ему приготовленную живую мишень.
И ушел. А они стали сдирать с Тарзана шкуру. Саша, сославшись на то, что надо копать огород, сразу ушел, и Юра вряд ли ухмылялся, дома потом и обедать не мог, а Василь сказал, что, когда собака висела на проволоке, ему стало так ее жалко, что на переменке он принес ей из школьной столовой пряник.
Да, и пряник есть в этой истории, не только кнут. Ведь это, боясь Степана Ефимовича, ребята так долго и усиленно подтверждали разработанную учителем версию.
— Почему боялись? — удивился Саша. — Просто не хотели выдавать.
А он их — выдал. Поручил простое дело — не смогли сделать. Тихо, в лесу, без свидетелей — кретины!
И его, такого, они защищали. За что?
— Он научил нас стрелять, — сказал Саша.
Из анкеты
«Мужество и жестокость — это большая разница. Мужество — это когда, например, пожарные едут на пожар спасать и ничего не боятся. А жестокость, это когда не спасают, а делают какую-нибудь пакость. Я очень презираю таких людей».
Анкета из трех вопросов была проведена сначала в пятом и шестом классах — ответы этих ребят и процитированы. А потом в 10-м «А». В ответах и здесь было много правильных слов, все ли искренние, правда, — судить трудно. Но главное даже не это. В двух анкетах на вопрос: «В чем разница между мужеством и жестокостью?» — было написано: «Не знаю». В семнадцать лет. После десяти лет школы. На пороге зрелости.
А, возможно, меткие стрелки!..
Парк. Памятник. Олеко Дундич. Один из первых командиров зарождающейся Красной Армии. Львиной храбрости и детской чистоты человек похоронен здесь. Было это в 20-м, и не наша в том вина, что и сегодня мы не можем спрятать в чехлы винтовки, что даже девочки-книжницы хотят научиться стрелять. Но грош цена тому умению, при котором не важно, в какую мишень бить, кого держать на мушке и что защищать.
…Запах первой чистой травы и омытого дождем камня. Как хорошо, что можно молча сидеть и думать не о жестокости, а о мужестве.
Татьяна Тэсс Девочка и Найда
Этот дом называли «сердитым». Так его называл и начальник жэка и многие другие, кто когда-либо имел к нему касательство.
Из «сердитого дома» непрестанно поступали жалобы и заявления, жильцы жаловались друг на друга, придираясь к любой мелочи, многие давно и прочно рассорились и, проходя по двору, не здоровались ни с кем. Дом был старый, плотно заселенный, — одно из тех давным-давно построенных зданий, что еще сохранились кое-где в московских переулках. В просторном дворе росли прекрасные тенистые деревья, но под ними никто никогда не сидел.
Ссорились не только взрослые со взрослыми. Доставалось от взрослых и детям, которым запрещалось кататься по двору на велосипеде, играть в мяч, гонять шайбу. Едва собиралась ребятня, как немедленно из окна высовывался очередной блюститель порядка и раздраженно кричал:
— А ну марш отсюда! Играйте каждый у своего подъезда! А то, видишь, привычку взяли — всем во дворе собираться…
Уходить детям было неохота — куда интереснее играть вместе. Но сердитый дядя или тетя, не поленившись, выходили во двор и наводили порядок. Стая ребят разлеталась, во дворе наступала тишина.
Но больше всего взбудоражило «сердитый дом» происшедшее в нем чрезвычайное событие: девочка Катя завела собаку.
Когда Катя принесла за пазухой щенка, бабушка была больна. Воркотню ее девочка выслушала молча и стала поить щенка из соски. «Это Найда, овчарка. У меня есть на нее документы», — сказала Катя с гордостью. У самой Кати паспорта еще не было, ей недавно исполнилось пятнадцать лет.
Растила Катя своего питомца по всем правилам, и Найда с ошеломляющей быстротой превратилась из слабого, еле стоящего на лапах щенка в общительную и веселую молодую собаку.
Когда Катя впервые появилась с Найдой во дворе, дом замер, как перед началом сражения. До этой поры ни у кого из жильцов собак не водилось, и то, что ее завел не кто-нибудь, а Катя, соседи спокойно перенести не могли. Возмущение Катиной дерзостью было столь велико, что даже жильцы, давно не здоровавшиеся друг с другом, позабыли о прежних раздорах и оживленно советовались, что надо предпринять, чтобы добиться немедленного изгнания собаки.
Страсти подогревались еще одним обстоятельством: у девочки была в доме отдельная комната. У бабушки своя, а у Кати в другом подъезде — своя. Комната осталась Кате после смерти матери: на предприятии, где работала мать, помогли закрепить жилплощадь за сиротой. Жила девочка, естественно, с бабушкой, но за комнату исправно вносилась квартплата, и Катя иногда готовила там уроки.
Отдельная комната девочки не давала соседям покоя. Странным образом они забывали, что Катя из подростка скоро превратится в молодую девушку, выйдет замуж, обзаведется семьей… С появлением Найды страсти разгорелись пуще: теперь у девочки была не только своя комната, но и своя собака. И жильцы «сердитого дома» объявили Кате войну.
Справедливости ради надо добавить, что нашлись в нем и обыкновенные добрые люди: они-то и позвонили мне, чтобы рассказать эту историю. Потом в редакцию пришла Катя. Она оказалась худенькой светловолосой девочкой, аккуратно и просто одетой. Училась она в вечерней школе, а днем работала как ученица в школе-магазине. Катя показала мне все полагающиеся на Найду справки и, кроме того, четыре повестки: ее и бабушку четыре раза вызывали в товарищеский суд. Пойти туда они не могли: бабушка по болезни, а Катя из-за того, что вечерами занималась в школе.
Секретарем товарищеского суда была немолодая говорливая женщина с резким голосом. Она привычно разложила передо мною заведенное на Катю «дело». Там было три листка, в каждом из которых указывалось, когда именно щенок вел себя невоспитанно на лестнице: один раз в апреле, один раз в мае и один — в июне. Катя тут же привела в порядок лестницу, но в «дело» Найдину оплошность занесли. Был и главный документ: заявление соседей, возражающих «против наличия собаки, производящей шум».
— И вообще — это порочная девочка! — твердо сказала секретарь суда. — Она гуляет с собакой по двору в одиннадцать часов вечера. В такой поздний час! И с ней иногда мальчик. Тоже, представьте, с собакой. Нет, мы передадим дело о девочке в комиссию по делам несовершеннолетних. Пусть примут меры. Кроме того, мы сигнализировали в отдел народного образования о лишении бабушки прав опекунства, она не умеет руководить воспитанием девочки. Мы обязаны дать сигнал, соседка написала, что девочка грубит.
— Позвольте, — сказала я. — А вы поинтересовались, в чем именно заключалась эта грубость? Знаете ли вы хоть немного о Катиной жизни, о том, что отец бросил семью, когда Кате было шесть лет, а мать умерла, когда Кате едва исполнилось десять? Знаете, где и как девочка учится, кем хочет быть? Знаете хоть что-нибудь о бабушке, о ее здоровье, о том, что она сорок лет проработала у трепальной машины на ткацкой фабрике? Что вы можете рассказать о двух людях до того, как их судить?
Нет, ничего моя собеседница о них не знала и знать не хотела. Но сдавать позиции тем не менее не собиралась. А я, слушая ее жесткий голос, думала, что ей неизвестна еще одна подробность: я уже побывала у Кати дома.
Ох, эти путешествия в чужую жизнь — сколько их у меня уже было… Вот подъезд, в который надобно войти, вот и лестница с крутыми каменными ступенями… Откуда-то сверху доносится шум, громкие выкрики, что-то с грохотом падает, и, поднявшись, я вижу, как из двери, продолжая кричать и ругаться, вываливается на площадку вдребезги пьяный человек. Бабушкина квартира находится рядом. Я звоню, слышен короткий настороженный лай, потом старческий голос: «Тихо, Найда!» Лап умолкает, дверь открывается.
Бабушку зовут Феламида Кондратьевна, имя ей дали когда-то по святцам в деревушке, откуда она родом. Это щуплая, легкая в движениях старушка, говор у нее неспешный, со старыми русскими оборотами. Найда, обнюхав меня, вильнула хвостом и легла. Вышла в коридор соседка — разбитная веселая блондинка в пестром халатике. На все вопросы она беспечно отвечала: «Пож-жалуйста!»
— А что мне, если тут собака! Пож-жалуйста! — говорила она, поводя полным плечиком. — Я и заявление написала, что не возражаю, пож-жалуйста! Это в Катиной квартире возражают, хотя Найда туда и не заходит. А по мне пусть и в коридоре спит, от нее шума нет. Шум вот у кого… — Она показала на соседнюю квартиру. — Но это в счет не ставят, это им пож-жалуйста…
Как выяснилось, у бабушки никто из членов товарищеского суда ни разу не был. И когда секретарь суда продолжала громко перечислять мне бабушкины и Катины прегрешения, я была просто не в силах ее слушать.
Посудите сами: взрослые люди заседают в суде, который называется товарищеским, и толкуют о том, что могут отнять у девочки-сироты, а не о том, чем могут ей помочь. Они хотят лишить опекунства бабушку, забывая, что это единственный родной человек у сироты. Они всерьез, с горячностью говорят о том, что девочке незаконно передали на воспитание служебную собаку, но им и в голову не приходит обсудить, чем сами они могут по-доброму помочь воспитанию той же девочки, что могут для нее сделать, кроме вызова в суд со штампом на повестке: «Явка обязательна…»
Мне хотелось поговорить на эту тему и с председателем товарищеского суда, но секретарь сухо ответила, что связаться с ним очень трудно. Тем не менее вскоре поздно вечером раздался телефонный звонок: председатель позвонил мне сам.
— Мы тут собрались в рабочем порядке, все по поводу того же вопроса, — рокотал в трубке бодрый басок. — Вы где сейчас находитесь? Я мог бы быстренько подъехать и сразу все с вами обсудить. Мы уже подготовили решение в ветнадзор об изъятии собаки, и задерживать передачу решения не хотелось бы… Какой ваш адрес?
И тут, сознаюсь откровенно, я вдруг потеряла самообладание. Меня словно прорвало: я высказала председателю все, что думала по этому поводу. Бодрый басок озадаченно умолк. Некоторые из доводов поколебали моего собеседника. Но все же остановиться на этом было нельзя. И я решила отправиться на предприятие, где когда-то работала покойная мать Кати.
Комсомольским секретарем на предприятии была высокая, как баскетболистка, девушка в красном свитере, из рукавов которого высовывались длинные мальчишеские руки. Волосы у нее были подстрижены по моде, на ногтях блестел лак. Она выслушала меня, помолчала, потом попросила дать ей Катин адрес. Я ушла, несколько озадаченная неопределенным итогом этой краткой беседы. На всякий случай заручилась обещанием, что о ходе событий мне сообщат.
Время шло, а никаких сообщений не было. И вдруг секретарь комитета появилась в редакции сама.
Поначалу я ее даже не сразу узнала, и не потому, что она была в нарядном платье, а из-за общего изменившегося облика: веселая, оживленная, она производила впечатление человека, которому не терпится рассказать о своих новостях.
Оказалось, что за это время она и другие комсомольцы побывали не только у Кати, но и в школе, где девочка учится, а также в школе-магазине: были и в жэке, были у членов товарищеского суда, говорили со многими жильцами, даже ходили с Катей на пустырь, куда она выводит Найду. В Катиной школе, как выяснилось, бабушка ни разу не была — стеснялась своей малограмотности, но теперь туда в случае надобности будет ходить одна из комсомолок.
— Девочка Катя хорошая, но все-таки нуждается в присмотре, — серьезно сказала моя посетительница. — Теперь Катя знает, что мы всегда придем на помощь. А если сама провинится… — Девушка неожиданно засмеялась. — Тогда и отругаем, как заслужит. По справедливости.
Наступила пауза. Моя посетительница оперлась подбородком на свою длинную руку.
— И знаете что? — сказала она решительно. — Главное обменять им комнаты, чтобы из этого дома выехали. У меня уже есть один вариант. В общей квартире.
— А животных там любят? — не удержавшись, спросила я.
— У соседей черепаха и еж, — торжествующе сообщила моя посетительница и встала.
Я снова подивилась ее росту и прекрасной девичьей стати, но улыбка у нее была совсем детская, и можно было легко представить, как эта высокая, сильная, решительная девушка выглядела в возрасте Кати, в котором, кстати, она была не так давно.
Есть ли права у друга?
«Об упорядочении содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР» — так называется постановление Совета Министров РСФСР от 23 сентября 1980 года, № 449. В постановлении говорится о недопустимости жестоких, аморальных действий в обращении с животными, о необходимости усиления разъяснительной работы среди населения по этому вопросу. Собака охраняется законом, у нее есть права, с которыми нужно считаться. Об этом — диалог, который ведут начальник юридического управления Министерства сельского хозяйства РСФСР Юрий Михайлович Шупляков и член Центрального совета Всероссийского общества охраны природы, писатель Б. С. Рябинин.
Б. Рябинин. С незапамятных времен человек держит домашних животных, тысячи лет они живут бок о бок с нами, без них поистине немыслимо было бы наше существование. Возьмите, к примеру, лошадь, которая, по меткому выражению ученых-социологов, перевезла на себе всю человеческую историю! Большие заслуги и у собаки. Превосходно сказано в «Атласе пород собак», изданном Пражским обществом охраны животных: «Собака — старейшее домашнее животное. Много тысячелетий тому назад оно добровольно связало свою жизнь с человеком и с тех пор является его другом, помощником и защитником. Человек видит в собаке больше, чем только домашнее животное и, таким образом, между человеком и собакой образовалась социологически интересная связь, которая по сравнению с другими животными не имеет себе равной…»
Исстари собака — символ верности и дружбы. Но, пожалуй, на нее-то больше всего и валится шишек. Как ни странно, мы до сих пор никак не можем отрегулировать наши отношения с этим животным. Отсюда бесконечные тяжбы, жалобы одних граждан на других, недостойные выходки, которые в конечном счете отражаются на людях.
Недавно у нас в Свердловске в суде разбирался безобразный случай. Девочка повела выгуливать собаку, шотландскую овчарку, колли Фери. Та, опередив свою юную хозяйку, сбежала этажом ниже, и в ту же минуту раздался раздирающий душу вой: оказалось, сосед успел угостить ее такими пинками в живот, что на следующий день бедняжки Фери не стало. Владельцы подали в суд о взыскании с виновного иска — стоимости убитого животного. Но что меня поразило больше всего, судья — молодая женщина — явно растерялась: какой вынести приговор? Нанесен ущерб, колли — собака добрая, ласковая, никого не трогала, весь подъезд знал ее как безобидное существо, кажется, все ясно… ан нет! Суд переносили несколько раз… Более того, суды крайне неохотно заводят такие дела. Дело об убийстве Фери было возбуждено только после вмешательства прокурора.
Ю. Шупляков. Это неправильно. Должны судить Необходимо судить. Безнаказанность порождает новые преступления.
Б. Рябинин. Значит, вы считаете убийство Фери преступлением?
Ю. Шупляков. Безусловно. Какие бы там ни были обстоятельства, уничтожение личной собственности — преступление. А собака — личная собственность советского гражданина и охраняется законом. Кроме того, здесь наличествует оскорбление нравственности в присутствии несовершеннолетнего лица. А это статья 206 Уголовного кодекса РСФСР.
Б. Рябинин. Очевидно, уместно поговорить и об отлове.
В постановлении Совета Министров РСФСР от 23 сентября 1980 года о содержании домашних животных прямо говорится: никаких безнравственных действий по отношению к ним. К сожалению, на практике такие действия все еще имеют место. Приведу два свидетельства. Первое из города Красновишерска Пермской области. «Мы учим детей любить животных, — пишет его житель, — а в городе такая картина: едет машина-мусоровозка, в кабине сидит работник милиции, старший лейтенант по званию, и стреляет в пробегающих собак. На глазах у всего населения он ежемесячно уничтожает собак, конечно, по распоряжению исполкома…» Указана и фамилия стрелявшего. «Я, конечно, — замечает автор письма, — против того, чтобы собаки бегали по улицам без хозяина, но можно ли так?» Думается, он прав.
Другое письмо из Калуги. Тут такой факт: в санатории «Воробьеве», когда отдыхающие шли в столовую на обед, на одной из центральных аллей парка появилась группа парней с ломами и ружьем, возглавляемая пожилой женщиной (как выяснилось потом, заместителем главного врача по хозяйственной части). На вопрос отдыхающих, что случилось, последовал ответ: «Идем убивать бродячих собак». Вскоре послышались визг и вопли жертв расправы. Автор письма, заслуженный зоотехник РСФСР В. В. Муринова, справедливо возмущается увиденным.
Ю. Шупляков. Стрельба в населенных пунктах всегда была запрещена. С появлением постановления СМ РСФСР от 23 сентября 1980 года все предыдущие утратили силу, значит, отменяется и отстрел, который раньше допускался в порядке исключения. Отлов, а тем более отстрел, на территории санатория, как и на глазах детей недопустим. Он может производиться только с соблюдением всех правил (ранние утренние часы, отсутствие прохожих и т. д.). В приведенных фактах присутствует еще один момент: животное сразу уничтожается, а ведь отловленное должно выдерживаться трое суток и лишь после этого, если не объявился хозяин, поступать в утилизацию. Ловцы, нарушающие установленный порядок, обычно отделываются порицанием; а ведь убитое животное, возможно, имело владельца, возникает опять ситуация, о которой уже говорилось: уничтожение личной собственности…
Б. Рябинин. В последнее время появилось и стало стремительно нарастать еще одно зло — «промысел шапок», отлов и убийство собак ради шкуры.
Ю. Шупляков. Прежде всего, хотел бы сказать, что купивший такую шапку рискует получить заболевание, зачастую тяжелое. Ибо шкура, обработанная в домашних условиях, мех неизвестной собаки всегда могут содержать что-либо непредвиденное. Подобные «изделия» оставляют желать много лучшего. Отсюда — ясно: наказывать следует, во-первых, за нарушение правил торговли, а во-вторых, очень часто — это кража и даже грабеж (у ребенка, у старой женщины отняли собаку)…
Б. Рябинин. «Собака погибла, но остаются люди, убитые горем, — написала мне В. Г. Смирных, жительница Нижнего Тагила. — И нигде никакой защиты… Почему раньше меньше кричали о защите природы, а больше было человечности?!».
Ю. Шупляков. Последняя фраза письма далеко не объективна, она продиктована личными чувствами, но то, что мириться с подобными явлениями нельзя, — не подлежит сомнению. Безусловно, юридические органы, органы надзора не должны оставлять их без внимания.
Б. Рябинин. К несчастью, этот промысел поощряется организованным порядком. Имеется немало примеров, когда райзаготконторы и местное охотобщество дают охотникам «план»: отстрелять столько-то собак, наравне с другими пушными зверями. Имеются в виду одичавшие, в лесу, а на поверку оказываются городские, часто имеющие хозяев. А в Прокопьевске (Кемеровская область) даже додумались провести конкурс на звание «Лучший сдатчик шкурок собак», с выдачей денежных премий «победителям соревнования».
Ю. Шупляков. Это типичное беззаконие и верхоглядство.
…Но главное все же, я считаю, сами владельцы животных, их поведение. Если хозяин перестанет выставлять своего пса за дверь, будет лучше следить за ним, исчезнет бродяжничество, местным властям не потребуется ломать голову, как избавиться от лающей, воющей по ночам беспризорной братии, исчезнет прецедент для принятия всяких чрезвычайных мер. Необходимо воспитывать людей, здесь корень всех бед. Кстати, упомянутое постановление нацеливает на это.
Б. Рябинин. Многие спрашивают, какую собаку считать бродячей. Некоторые жалуются: на моей собаке был ошейник, жетон с номером, а ее поймали. По этому поводу уже было когда-то разъяснение Прокуратуры СССР, интересно знать ваше мнение.
Ю. Шупляков. Критерий один. Если собака находится на улице без сопровождающего лица, будь на ней хоть десять жетонов и медалей, она считается беспризорной и подлежит вылову. Собака при хозяине, даже без поводка и ошейника, бродячей считаться не может. Выводить собаку надо на поводке или в наморднике. «Или», а не «и», как пишется в некоторых постановлениях на местах. Об этом уже говорилось не раз. Намордник необходим для особо злых собак.
Б. Рябинин. Как же нам все-таки воздействовать на неразумных хозяев, бороться с разбрасыванием животных — собак, щенят, кошек, котят? В ряде стран существует закон — наказание за такое разбрасывание, уголовная ответственность. Раньше, когда мы поднимали этот вопрос, нам возражали: а как проверить? Действительно, проверить было невозможно. Сейчас — обязательная регистрация собак. Значит, все значительно упрощается: нет собаки — куда девалась? Если умерла, должна быть снята с учета.
Ю. Шупляков. Целесообразно было бы ввести за разбрасывание животных административную ответственность (штраф, например) и уголовную ответственность — за жестокое обращение с ними.
Б. Рябинин. Пожалуй, больше всего споров — где выгуливать собаку. Говорят, газоны — не для собак, они их «портят». По мнению других недругов четвероногих, надо вообще запретить показываться с собакой на улице. В Свердловске в парке имени Павлика Морозова запретили появляться с собаками — теперь вечером там раздолье для нарушителей общественного порядка. Как-то мне прислали правила, чуть ли не из Новгорода, в которых говорилось, что выгуливать собаку можно только за пределами городской черты. Я прочитал и сказал себе, что подписывали это постановление, не думая. Возможно ли в крупном городе выгуливать собаку за пределами городской черты? В печати такое явление уже получило название — правовая самодеятельность. Или где-то решили: гулять с собакой разрешается лишь достигшим восемнадцати лет. А мы хотим, чтобы подросток больше общался, с животным, это необходимо для его нравственного формирования. И в члены клуба принимают с четырнадцати лет.
Ю. Шупляков. Отрицать не приходится, на местах порой принимаются решения, не предусмотренные никакими постановлениями. Иногда устанавливается такое, что исполнить невозможно, не в силах. В итоге эти правила нарушаются, и создается впечатление, что можно нарушать и другие нормы, реально выполнимые. Очевидно, в каждом случае надо исходить из конкретной обстановки. Выгуливать лучше на малолюдных улицах, в переулках, где меньше движения и можно отпустить собаку свободно побегать. Конечно, злая собака должна выводиться на поводке и в наморднике, меньше будет нареканий. Повторяю, злая. Смешно нацеплять намордник на болонку или на добряка-пуделя, на ту же колли… Вообще-то, согласно постановлению, должны быть отведены специальные места для выгуливания.
Б. Рябинин. Таких отведенных мест, действительно пригодных для выгуливания собак, очень мало. В Челябинске отвели для такой площадки всего четыре квадратных метра, два на два, — как тут выгулять собаку? Ей ведь надо размяться. А если придет сразу несколько собак и среди них одна больная? Перезаразятся все. Такие выгулы, клетушки, — рассадник болезней. Кроме того, ученые-биологи, специалисты-кинологи выдвигают еще одно возражение. Собака обязательно должна пробежаться, понюхать травку, поднять ножку там и тут. Должна. Обязательно. Это входит в ее биологический цикл и необходимо ей. Как выразился один специалист, это ее личная жизнь: она же слышит (чует) то, о чем мы с вами даже не догадываемся. Не говорю о том, что движение — вообще условие жизни.
Ю. Шупляков. Возможно, надо создавать площадки на кооперативных началах, не только для выгула, но и для тренировки. Как устраиваются кооперативные гаражи, стоянки для личного транспорта… Там собака будет бегать. Приглашать инструкторов. Чтобы пес получил надлежащее воспитание и выучку. Ведь в условиях большого города затруднительно возить собак на занятия, проводимые клубами, особенно беспородных.
Б. Рябинин. Совершенно с вами согласен. Чем лучше будут воспитаны собаки и их владельцы, гем меньше будет конфликтов из-за собак. Собака не должна лаять и беспокоить тем самым соседей, не дело выгуливать ее в два часа ночи, содержать на балконе или в лоджии, выпускать бегать на детскую площадку, на территорию школы.
Считаю необходимым остановиться также вот на чем. Находятся умники, доказывающие, что собаководство — развлечение от скуки, занятие для бездельников и стариков. И вообще, оно, мол, ни к чему. Договариваются до чудовищных нелепостей. Мне приходилось держать в руках решения «о содержании собак, кошек и других хищных животных». Собака попала в хищники! Анекдот. Она происходит от хищника, это верно, но тому уже минули тысячи лет. А с некоторых пор кое-где стало мелькать выражение «непродуктивные животные». Это — опять про собаку и кошку. Буду говорить только о собаке, хотя и о кошке можно сказать немало добрых слов… Да, собака не дает ни молока, ни мяса, ни шерсти. Но вспомним миллионы жизней советских солдат и офицеров, спасенных в годы Великой Отечественной войны санитарно-ездовыми упряжками, четвероногими истребителями танков, собаками миннорозыскной службы, — это тоже «непродуктивное»?
Армия, граница нуждаются в собаках. Служебное собаководство — это и военно-патриотическое воспитание.
Передо мной письмо семьи Чуевых из Уссурийска. Процитирую несколько строк: «…Саша учится в 10-м классе и мечтает вместе с овчаркой Вильдой идти служить на границу… Мы с мужем не против, хотя будет и жалко с ней расставаться. Скоро у нашей Вильды будут щенки, и одного из них мы оставим для себя, так как у нас есть еще один сын Алеша, который учится в 8-м классе и тоже говорит, что пойдет служить на границу со своей собакой. Алеша хочет этого щенка воспитать сам…» Письмо патриотов!
Ю. Шупляков. Деление животных на продуктивных и непродуктивных совершенно необоснованно. А лебеди и утки, живущие на городских водоемах, которых мы оберегаем. Они тоже не продуктивны! А животные в зоопарке! Собака, кошка — частица живой природы в городе и пренебрегать ими никак не следует. Они нам нужны для души.
Б. Рябинин. Последний вопрос. Сейчас много разговоров о налоге на собак. В народе заявляют: лучше брали бы больше за автомобиль, вот уж что действительно портит окружающую среду… Процитирую письмо из Кувасая, Узбекской ССР. Пишет ученица 10-го класса. Лена, как видно, ярая защитница и сторонница дружбы человека и животного. «Почему издали такой закон, — пишет она, — за собаку надо платить 40 рублей в год. А если у тебя их две-три! Собака ведь не вещь, а живое существо!!! Так может и прекратиться существование какой-нибудь породы, их ведь будут истреблять, если не заплатишь. Для кого-то, конечно, эти 40 рублей пустяк, а для других — деньги; но не в деньгах дело. Я заплачу, а другой не сможет, значит, он лишится своей собаки, своего друга! Помогите, пожалуйста! Спасите наших друзей!» Мне кажется, права эта девочка.
Ю. Шупляков. Наше правительство всегда придерживалось курса — минимум налогов с населения. Кстати, как показывает опыт других стран, введение налога на собак отнюдь не способствовало наведению порядка и разрешению всех проблем. Скорее наоборот, увеличивало неразбериху. У нас в РСФСР «собачья плата» — 15 рублей в год за коммунальные услуги (очистка двора, пользование водой, газом и прочее), но и эта плата может варьироваться: за служебные, охотничьи породы — меньше, люди с малым достатком (например, с небольшой пенсией) могут освобождаться совсем. На Украине плата за собак — рубль в месяц. Введению этой платы предшествовало долгое обсуждение, надо или не надо, советовались с общественностью и в конце концов пришли к заключению, что надо. Надо прежде всего потому, что эта плата узаконивает определенные права собаководов.
Б. Рябинин. Я того же мнения. Но есть маленький нюанс. Пошли жалобы, что в квартиры без конца наведываются разные санитарные и другие комиссии, члены жэка. Приходят в неурочное время, беспокоят семью. Нарушение статьи 55 Конституции. А в результате, устав от этой нервотрепки, люди опять начинают выбрасывать собак на улицу.
Ю. Шупляков. Контроль нужен, мы уж говорили. Но здесь тоже должен быть разумный предел. Известно: излишнее усердие не ведет к добру. В крайних случаях не заказан путь к прокурору. Он примет меры.
Б. Рябинин. В моей практике было: получил ряд жалоб на стрельбу среди бела дня. Пришлось обратиться к прокурору. Помогло. Очень трудно унять ненавистников животных. О бессмысленных оскорблениях, которые сыплются на головы владельцев собак, пишут многие.
Ю. Шупляков. Да, но если что случается, виновата будет собака. Так что давайте будем соблюдать все правила. Мы вовсе не сторонники тех граждан, которые нарушают правила. Но нетерпимо и злопыхательское отношение со стороны отдельных граждан к владельцам животных. Я думаю, когда будут ясны права собаковода, легче будет и навести порядок.
Б. Рябинин. Таким образом, как мы должны ответить на вопрос: есть ли права у четвероногого друга?
Ю. Шупляков. Да, есть. И с ними должны считаться.
Б. Рябинин. Спасибо от лица всех любящих животных, а их, к счастью, куда больше, чем нелюбящих.
В. Бульванкер Вожаку Болто
Пурга в январе на Аляске — это не шутка! Доктору Куртису Уэлчу, единственному доктору единственной больницы города Ном на берегу залива Нортон, не хотелось выходить из теплого дома, но работа есть работа.
Больной жаловался на боль в горле при глотании, его жена тоже жалуется. Серый налет на миндалинах… Дифтерия! Неужели начинается эпидемия? Эскимосы называют эту болезнь «черной смертью». А противодифтерийной сыворотки в городе больше нет.
Выяснилось, что противодифтерийная сыворотка есть в городе Фербенксе, но летчики не могли доставить ее из-за урагана. Порекомендовали обратиться в город Ненана — там есть и сыворотка и, что самое главное, упряжка хороших собак с опытным каюром. Собаки! Вот выход из положения. Правда, каюры говорят, что путь от Ненана до Нома проделать на собаках можно лишь за девять суток. Но другого выхода нет.
И вот по всему долгому пути назначены места для смены собачьих упряжек: контейнер с сывороткой повезут эстафетой.
Большая часть пути по рекам Танана и Юкон прошла довольно гладко. Эстафета прибыла на берег залива Нортон, по которому предстояло продолжить путь. Но ураган взломал лед у берега. Объехать залив по суше — это лишние сотни километров пути. И каюр Сеппала пошел на риск — начал переправу по дрейфующим льдинам.
Последний отрезок эстафеты предстояло пройти каюру Гуннару Кессону. Ураганной ночью спустился Гуннар на лед залива. Он спокоен. У него в упряжке тринадцать собак с вожаком Болто во главе. О, этот Болто! Он знаменит на всю Аляску. Он вывезет!
Собаки бежали бодро. Но вот замерзающий Гуннар в полудреме почувствовал, что нарты остановились. Собаки повизгивали. Гуннар с трудом добрался до них. Их лапы кровоточили: острые льдинки, застрявшие между пальцев, в кровь резали кожу. Каюр попытался, не снимая рукавиц, очистить собакам лапы. Ничего не вышло. Он стал выгрызать льдинки… И снова вперед. Обессиливший Гуннар рухнул на нарты, предоставив Болто самому вести упряжку…
Никто не мог объяснить, что подсказало Болто в нужный момент свернуть направо и подняться в гору, но на рассвете 2 февраля 1925 года нарты Гуннара Кессона, полузамерзшего и полуослепшего, ворвались в Ном… Весь путь от Ненана до Нома в сложнейших условиях собачьи упряжки преодолели не за девять, а за пять с половиной суток. Немедленно разбудили доктора, и он начал прививки. Город был спасен от эпидемии.
На следующий день многие американские газеты поместили сообщения о героической эстафете на Аляске. А в конце 1925 года в Нью-Йорке, в одном из парков, был открыт памятник Болто.
В. Бульванкер Трагедия в Антарктиде
Участники японской 2-й антарктической экспедиции готовились сняться со станции Сёва. Вертолет двумя рейсами переправил на корабль людей. Пятнадцать ездовых собак, привязанных к столбу, чтобы не разбежались, предполагали снять третьим рейсом. Но разыгравшийся шторм помешал их забрать. Корабль ушел без них…
Сообщение начальника экспедиции об этом факте было встречено в Японии с возмущением. Ему угрожали судом. Председатель Общества охраны животных Хирокичи Сайто выступил с предложением о сооружении памятника погибшим собакам. Были собраны средства, и в 1958 году в Токио, в парке Сиба, появился памятник: пятнадцать мраморных собак — на огражденной площадке.
Через год, в 1959 году, на базу Сёва высадилась японская 3-я антарктическая экспедиция. В ней принимали участие и те, кто был в предыдущей. Удивлению и восторгу прибывших не было конца: их встретили две собаки из числа оставшихся на льду — Таро и Дзиро.
В прошедшую зиму в Антарктике были очень сильные морозы, и, видимо, кожа, из которой были сделаны ошейники, стала хрупкой и ломкой, что и позволило собакам освободиться от привязи. От морозов они спасались в укрытиях, вырытых ими в снегу, а питались яйцами пингвинов и замерзающими пингвинятами.
Весть о том, что две собаки остались живы, вызвала ликование в Японии. В 1960 году на территории питомника в городе Вакканай, где выросли эти собаки, была воздвигнута скульптура — ездовая собака в упряжке. В этом же городе в память о погибших собаках соорудили каменную пирамиду с барельефом собаки. Живой Таро присутствовал на церемонии открытия этого памятника.
ЛЮБИТЬ — ЗНАЧИТ ВОСПИТЫВАТЬ
Собака в городе
Проблема содержания животных в городе сейчас волнует многих. Это и понятно: живем мы в городе, как говорится, плотно, задевая друг друга локтями, а если еще вдобавок появилась собака… Конечно, это затрагивает многих!
Более того. Домашние животные — спутники человека тысячи лет; смогла ли бы так развиваться человеческая цивилизация, стали ли бы мы тем, кем стали, если бы гомо сапиенс был единственным представителем живых существ на планете? Можно с уверенностью ответить: нет. «Мы в ответе за тех, кого приручили». Но почему-то человек нередко забывает это, как забывается и то, чем мы обязаны животным. Урбанизация породила много проблем, и в том числе — проблему «человек и животное». Каковы же должны быть наши взаимоотношения впредь? Что нужно для того, чтобы они развивались и дальше так же, как сотни лет назад, а может быть, еще лучше, разумнее? Раздумьями об этом делятся ветеринарный врач, ординатор-хирург клиники Свердловского сельскохозяйственного института Л. Г. Белоглазова и писатель Б. С. Рябинин.
Б. Рябинин. Люди любят животных. Любили и будут их любить, это внутренняя потребность человека. Однако такая любовь накладывает и определенные обязательства, особенно в наш сложный и многомерный век. Мы же вынуждены часто сталкиваться с тем, что большинство не знает простейших элементарных вещей. Например, берут щенка, а что с ним делать дальше не представляют… Таскать на руках — это не воспитание. Собака — живое существо, чувствующее, воспринимающее, и к нему нужно относиться, как к живому…
Л. Белоглазова. Тот, кто хочет обзавестись четвероногим другом, обязан знать хоть немного физиологию, то есть циклы развития собаки, а такжё, безусловно, ее психику. А то иногда от маленького щенка требуют такого, что порой и взрослому животному не под силу. А иногда, наоборот, ничего не требуют, растет как сорняк в поле… Другая крайность.
Б. Рябинин. Чтобы воспитывать, надо быть воспитанным самому. Это первое и обязательное требование.
Л. Белоглазова. И обладать хотя бы элементарными знаниями. Знать и выполнять общие правила содержания. Травмы, болезни часто происходят по вине владельцев. Попал щенок под машину — кто виноват? По моим наблюдениям, чаще повинны в нарушениях хозяева собак комнатно-декоративных пород, хотя и к владельцам служебных, охотничьих собак тоже можно предъявить немало претензий.
Каждый последний вторник месяца в клубе «Дружок» я провожу беседы, твержу всякий раз: нельзя выпускать собаку из поля зрения, нельзя, чтобы она гуляла одна. И все тщетно…
Б. Рябинин. У себя во дворе я постоянно наблюдаю, как спаниель из соседнего подъезда бегает один, без присмотра. Собака добрая, конечно, никого не трогает, но дело ведь не только в этом. Сделаешь замечание, смотрят на тебя как на ворчуна.
Л. Белоглазова. Вы совершенно правы. Такая гуляющая без присмотра собака, с точки зрения ветеринарии, небезопасна, она может принести в дом, что угодно. У таких собак чаще всего появляются очень неприятные болезни, и это вполне естественно: недогляд.
Для собаки обязателен не только присмотр, но и дрессировка, обучение. Большая или маленькая, породистая или нет — ее обязательно нужно приучать к повиновению! Причем так, чтобы собака подчинялась охотно, чтобы она доверяла хозяину, знала, что он плохого ей не сделает. Чтобы можно было делать стрижку, применять расческу, ножницы. Одна женщина привела к нам болонку. У той уже чуть ли не гангрена лапы, холодная, отекла, а что случилось? На лапе шерсть так свалялась, что перетянула нервы и сосуды, как наручник. Собака могла погибнуть, а все почему: хозяйка не могла ее обстричь. Собака ей не доверяет, не дается. Когда собака доверяет хозяину, то хотя ей и больно, хотя и неприятно, она все ему позволяет — делай, пожалуйста!..
Я считаю, что те, кто хочет завести собаку, должны соблюдать главные правила: первое — не брать щенка без предварительной консультации со специалистами, клубом; второе — правильно его воспитывать; третье — не отпускать бегать одного. И четвертое — заведя животное, нести ответственность не только за его воспитание, здоровье, но и за судьбу его потомства. Надо пресечь само появление бездомных собак и кошек, тогда отпадет нужда в отлове, не будут разыгрываться душераздирающие сцены на улицах — а это дело не кого-нибудь, а самих владельцев животных. В частности: если собака произвела на свет щенков, которых никто не возьмет, их всех следует как можно быстрее ликвидировать, не дав отсосать молока матери. Так будет гуманнее и — безопаснее. Ликвидация должна делаться быстро, как можно безболезненнее, без мучений для животных.
Что касается болезней домашних животных, то я хочу подчеркнуть: очень часто в том, что животное заболело, виноват сам хозяин. Не досмотрел, поленился сделать, что требуется. Хватился, да поздно. Бывает, родители возьмут щенка для ребенка, и больше никакой заботы. Так не годится. Если уж завели собаку в доме, то надо не только любить ее, но и охранять ее жизнь и учить этому своего ребенка.
Б. Рябинин. Хотел бы спросить о прививках. Скажу откровенно, отношусь к ним с опасением. Разве мало случаев, когда собака или щенок после прививки погибали…
Л. Белоглазова. Повинны не прививки, а опять же владельцы. В какой-то степени прививки (в частности, от чумы) психологически сказываются на поведении владельца. Он перестает заботиться о собаке, оберегать ее — прививка сделана, что еще надо?! Кроме того, на прививки ведут, не учитывая состояние собаки (щенка). Прививку можно делать только абсолютно здоровым животным. Поэтому следует до нее дней пять измерять у собаки температуру, следить, каково ее общее состояние, аппетит (нормальная температура у собаки от 38 до 39 градусов). Иммунитет к болезни сохраняется около года. Через год прививку надо повторять. Абсолютно необходимы прививки от бешенства.
Б. Рябинин. А это почему? Как показывает практика, бешенство сейчас приходит из дикой природы…
Л. Белоглазова. Вот именно. Вы идете в лес, берете собаку с собой и там можете даже не заметить, что она встретилась с больной лисицей. Так что лучше не рисковать.
Б. Рябинин. Лену Королеву из Усть-Каменогорска тревожит такой вопрос: «Говорят, что после чумы собака считается потерянной. Ну, экстерьер — это да, а рабочие качества? Может моя собака работать не хуже другой? Я выбрала для нее службу связи и подноску легких грузов…» Я думаю, Лена зря тревожится: если собака благополучно перенесла чуму, причин для разных сомнений и опасений не должно быть…
Л. Белоглазова. Бывают осложнения, но в данном случае, по-моему, речь не о том. Я согласна с вами.
Б. Рябинин. Я всегда стоял за спартанское воспитание собак. Не баловать их сладостями (они собаке вредны), подачками. Больше гулять, при любой погоде, поменьше носить на руках. Тогда вырастет собака крепкая, здоровая, менее восприимчивая к болезням, жизнерадостная и, замечу, послушная.
Я держал собак всю жизнь, самых разных, от дога до пуделя и фокса, и ни одной не потерял от чумы; даже не знаю, болели ли они чумой. Помню, у пуделя Блямки появились какие-то подозрительные симптомы (отказ от корма, вялость, теплый сухой нос, температура). Посоветовались с врачом, тот назначил инъекции гамма-глобулина, и все прошло. Так же поступил с ризеншнауцером, которого сейчас держу. Главное — не проглядеть болезнь, захватить ее в самом начале. Правильно я говорю?
Л. Белоглазова. Совершенно правильно.
Б. Рябинин. Но тут возникает вот какой вопрос. Передо мной письмо девочки, Лены Гавришевой. Письмо издалека: из Камчатской области. Лена безумно любит животных. «Вот уже три года, — пишет она, — как мы живем на Камчатке. Мы с папой решили взять щенка. Мама была сначала против, но потом согласилась». Вышло так, что вскоре щенок заболел. «Тогда я понесла Тайгушку к ветеринару, но он сказал, что у него нет нужных лекарств и нужны три ампулы гамма-глобулина. Я кинулась на розыски. Но этих ампул нигде не было…» Короче, когда Лена нашла лекарство, собаки уже не стало. Девочка, конечно, переживает. «Тайга умерла у меня на руках, успев только лизнуть меня. Я стояла около ветлечебницы и плакала. Потом зашла туда и отдала ампулы врачу, они пригодились для других собак». Хорошая девочка. Но почему так получается? Правда, я уже говорил, письмо с Камчатки, возможно, там свои порядки…
Л. Белоглазова. К сожалению, есть такие факты. В аптеке нередко не дают лекарство для собак, берегут для людей, но погибает животное — люди тоже страдают. Аптекарские работники бывают разные. Так что ветврачам иногда приходится выписывать рецепты так, чтоб они походили на «человеческие», я встречалась с такими случаями. У ветврача (как у всех врачей) своя печать, но иной раз поставишь ее и только испортишь все дело. Конечно, это неправильно.
Б. Рябинин. Уж коли заговорили об отрицательных моментах, не могу умолчать еще об одном… К сожалению, к величайшему сожалению, появились ветврачи, не любящие животных. Странно, но — факт. Не раз слышал жалобы: приводишь больное животное в ветеринарную лечебницу, а там тебе говорят — усыпить. В этом смысле в нашем городе Свердловске особенно много нареканий на лечебницу на улице Репина. Но для того чтобы убивать, не обязательно было учиться в институте. А если полечить? Рабочие на мясокомбинате рассказывали: скот привезли на бойню, лежит ослабевший, приходят студенты и начинают пинать ногами животных. Какие из них будут ветеринарные врачи?!
Л. Белоглазова. Все это лишний раз подтверждает, сколь необходимы ветеринарному врачу совесть, сочувствие к слабому, жалость. Ведь животное не может пожаловаться.
Б. Рябинин. Еще одно свидетельство. Мария Добриевская из Омска пишет: «Джульку подарили мне подруги в день рождения. Тогда она была маленьким, смешным и забавным щенком. Шли годы. Она росла, я переходила из класса в класс, мы жили весело и дружно. За три года ни разу не болела. Но тут… В начале февраля появился внезапный кашель, температура. Причем кашель был какой-то непонятный и странный. Мы поспешили в ветеринарную лечебницу. Собака еле-еле дошла до лечебницы, а там… врач наотрез отказалась ее смотреть, так как налог был не оплачен. После долгих споров она нехотя, даже не осмотрев Джульку, выписала стрептоцид и отправила нас домой. С каждым днем Джульке становилось все хуже и хуже. Так в мучениях прошли две недели. Однажды днем она закричала неестественным голосом, мы выскочили из комнаты. Она была жива, но сидела в луже крови, посередине которой лежала куриная косточка (мы никогда ей не давали костей). Потом я позвонила в лечебницу, но голос того же врача-женщины ответил: „Я что, в пасть ей заглядывать буду“. На следующий день моя Джульетта умерла… Она погибла по вине врача, которая обязана была ей помочь. Собаке было всего 3,5 года, она могла, еще могла жить, а врач отняла у нее самое дорогое — жизнь. Я до сих пор не могу смириться с этим. Немного позже я позвонила в лечебницу, но врач наотрез отказалась сказать свою фамилию. Узнав про Джульку, она сказала: „У нас каждый день сотнями гибнут“. Значит, чувствует свою вину перед Джулькой…»
Откровенно говоря, я не верю, что она чувствует свою вину, иначе просто не сделала бы того, что сделала, — не допустила смерти Джульки…
Л. Белоглазова. Я тоже так думаю. Это не врач. Такое отношение к больному животному бросает тень на всех ветработников.
Б. Рябинин. Хочу остановиться на таком моменте. «Мы никогда не давали ей костей». Мне эта деталь говорит о многом. Считаю, что именно поэтому куриное перо оказалось для Джульки роковым. Здесь уже недоработка в выращивании. Почему-то с некоторых пор владельцам собак усиленно внушается: костей собаке давать нельзя. Никаких! Почему? У меня получали их и дог Джери, и овчарка Джекки, эрдельтерьер Сники и пудель Блямка (Блэкки-Блэм), фоксик Антошка и получает сейчас ризеншнауцер Норс… Ни с одним ни разу — повторяю, ни разу! — ничего не случилось. Ни один не подавился, не страдал расстройством пищеварения, не испортил зубов (чем пугают некоторые кинологи). Наоборот! Аппетит у всех был отличный, устойчивый, и пищеварительные органы в полнейшем порядке. Конечно, приучать к костям необходимо постепенно, еще с щенячества. Давать только после того, как съеден основной рацион, в качестве лакомства. Считаю, что если не давать собаке костей, то в конце концов она потеряет зубы. А какая собака без зубов! Это ее оружие.
Л. Белоглазова. Вы еще не сказали, что переваренная кость формирует крепкий костяк.
Б. Рябинин. Что меня еще заботит последнее время, так это увлечение при воспитании собак злобностью. Парнишка взял щенка колли и злобит битьем. Колли — они, мол, слишком добрые. А зачем брал? Для каких боев ее готовишь? Еще не умеет играть, а кусаться научилась. А была бы это немецкая овчарка — с нею потом вообще не сладишь! Надо осторожно воспитывать.
Смелую, умную, здоровую. Хочешь иметь надежную личную охрану? Правильно воспитанная собака всегда защитит хозяина.
Или еще хуже. Видел, как девочка стравливает своего питомца с другими псами. Было явно, что это не впервые. У пса под шерстью уже болячки, гнойники по всему телу…
Л. Белоглазова. Это признаки лейкоза. Ослабел, белокровие. Знаю такие случаи. Это результат подобного нездорового увлечения со стороны его хозяйки.
Б. Рябинин. Но, я надеюсь, вы не против того, чтобы дети и животные жили рядом?
Л. Белоглазова. Разумеется, нет! В известном смысле это даже нужно, чтобы у человека с малолетства вырабатывался правильный взгляд на окружающий его мир живой природы. Но в этом случае как раз особенно важна пропаганда правильного воспитания собаки, роль ветеринарной службы.
Б. Рябинин. Вы, конечно, знаете поговорку: врач лечит человека, ветеринария лечит человечество. Иными словами, роль и значение ветеринарии значительно больше, чем мы обычно представляем…
Л. Белоглазова. Выражение это принадлежит нашему замечательному ученому, академику Константину Ивановичу Скрябину. И уж коли мы упомянули имя, то следует напомнить, что Скрябин говорил: животное — друг человека, необходимое звено нашей жизни; уничтожить живое — значит, уничтожить жизнь. Эту мысль он настойчиво внушал и студентам, будущим врачам. Это был истинный педагог-гуманист, и он стремился к тому, чтобы будущий специалист имел не только знания, но также обладал и высокой человеческой моралью.
Б. Рябинин. Припоминаю заявление для печати профессора В. Д. Данилевского, руководителя одной из кафедр Московской ветеринарной академии имени К. И. Скрябина. Он говорил, что ветеринарный специалист должен не только лечить животных и предупреждать заболевания, опасные для человека или могущие нанести урон сельскому хозяйству, но должен быть просветителем, педагогом; особенно это важно в деревне. И привел слова из присяги, которую, подобно клятве Гиппократа, обязательной для врача-медика, приносят их выпускники: «…Проявлять заботу об охране природы, здоровье людей, воспитывать чувство гуманного отношения к животным». Прекрасная традиция: этой клятвой ветеринарный врач облекается высокой ответственностью перед родной страной и обществом.
А вообще, мне кажется, нужно поднимать авторитет врача-ветеринара. Необходимейшая специальность! На ветеринарном факультете, безусловно, следует возродить в полном объеме преподавание курса клиники мелких животных, что диктует время. Кстати, от своих юных читателей я получаю немало писем, в которых они высказывают горячее желание пойти учиться на ветфельдшера, на ветврача, чтобы лечить животных, и это очень радует. Призвание — великий дар человеку!
Л. Белоглазова. Я помню, вы как-то спрашивали меня: как создать атмосферу здорового отношения к животным. Думаю, так: строгим соблюдением правил содержания владельцами животных и путем настойчивого целеустремленного воспитания остального населения. Человек обязан быть другом животного или, на худой конец, хотя бы терпимо относиться к нему.
Б. Рябинин. Любовь — это прежде всего забота, вот что хотелось бы напомнить всем, кто держит животных. Ну, а отдача, она, поверьте, не замедлит проявиться.
Светлана Гладыш Синий крест спешит на помощь
Клыки у тебя по-боксерски остры,
И мышцы под тонкою шкурой упруги,
Но чувствуешь: руки врача и сестры
Желают добра. Ты лизнул эти руки.
Степан Щипачев— Что же это вы, сударыня, так неаккуратно себя ведете. В вашем возрасте пора бы остепениться. Да-да, можете не косить глазом и не рычите — сами виноваты. Придется потерпеть. — Человек в белом халате ворчливо переговаривается с собакой, а его руки тем временем бережно ощупывают ребра пациентки. В полумраке рентгеновского кабинета поблескивают острые зрачки, подрагивают треугольные ушки и слегка морщится седая морда — все-таки больно. — Так, давайте ее сюда, на этот стол, и чтобы не двигалась, пока буду снимать. Сумеете удержать? Все. Теперь подождите в коридоре, проявится снимок, я вас приглашу.
Беру собаку на руки и выхожу в приемную, где исстрадалась хозяйка (она же — моя соседка) Анна Ивановна. Утром она пришла ко мне в слезах:
— Капелька ввязалась в драку с боксершей, вся изодранная, потрепанная…
Старушка так расстроилась, что не в состоянии была что-либо сообразить. Мне-то стало ясно — прощай свободный день: надо везти Анну Ивановну и Капельку в лечебницу на улицу Юннатов. И вот сейчас, когда одна часть дела сделана, утешаю:
— Сам Петр Петрович рентген делал, сам снимок посмотрит. Обойдется.
— Только бы обошлось, кроме Капельки у меня никого, ты знаешь.
Анна Ивановна солдатская вдова, детей нет — всю жизнь одна прожила. Когда уходила на пенсию, товарки-ткачихи подарили ей щенка — «от душевного одиночества». И стала ей Капелька отрадой на старости лет.
Сидим, ждем. К Капельке заинтересованно тянется лобастая конопатая морда сенбернара.
— А у вас что? — соболезнует Анна Ивановна.
— Какой-то мерзавец «жигуленком» двинул в бок Граю и был таков. — Голос пожилого человека дрожит от возмущения и горечи.
— Номер, номер надо было записать, — всколыхнулась очередь.
— У меня в глазах потемнело, а вы говорите — номер, — вздыхает хозяин Грая.
Рядом на коленях у девочки полосатый кот, правая лапка вяло и безжизненно болтается.
— Соседский Жорка грозился: выпустишь своего поганого кота в коридор — изувечу, — глотает слезы девочка. — Вот и… — Говорить она больше не в силах.
Степа не поганый, а очень даже симпатичный кот, но встретился на его пути жестокий мальчик. (Кто-то встретится Жорке, когда он подрастет?) От отчаянного детского горя всем делается как-то не по себе: словно все мы виноваты, что растет садистом некто Жорка.
— А я сама, ох беду устроила, — кается бабуля с болонкой в спортивной сумке. — Отпустила с поводка, а… Ох будет мне от всех наших.
— А сколько их, ваших? — весело интересуется молодой парень с овчаркой.
— Дочка с зятем, ребят трое, да мы с Тяпой — семь душ, — охотно отвечает бабуля.
Присмиревшие, серьезные сидят всегдашние враги! собаки и кошки, задиры и забияки. И драться никому не хочется: сейчас им всем нужна помощь.
— С Капелькой, зайдите, — приглашают в кабинет. Сколько я знаю Петра Петровича Отто, он не меняется — неистовый оптимист. Ветеран ветеринарной службы столицы, справивший в марте 1983 года полувековой юбилей своей работы, Петр Петрович по-прежнему подтянут и энергичен. Он не любит лишних слов, но доброе — отыщет всегда.
— Перелом у вашей склочницы, надо оперировать. Да не бледнейте вы заранее! — ворчит он на хозяйку. — Держите направление в Нагатино и не переживайте — хирурги там отличные, починят вашу Капельку.
Пробираемся на выход по узенькому коридору, прощаемся с новыми знакомыми. Тесновато на улице Юннатов. Эта клиника — одна из старейших в Москве — когда-то казалась просторной, а теперь едва вмещает самые необходимые кабинеты. Скоро она поменяет адрес: у метро «Речной вокзал» выстроена великолепная, отвечающая всем современным требованиям лечебница. Там же будет и стационар, и хирургия, и процедурная. А пока мы едем в Нагатино. От улицы Юннатов до Нагатино — путь не близкий, другой конец Москвы. Укладываем Капельку на дно хозяйственной сумки, наполовину затягиваем молнию и спускаемся в вестибюль станции метро «Аэропорт». Да простят нам начальники метрополитена, но пенсия у Анны Ивановны семьдесят рублей и ей не по карману такси, поэтому мы нарушили правила — ничуть, впрочем, не нарушив общественного порядка в поезде. Почему-то птицу в клетке можно провести, хомячка или аквариум с рыбками — пожалуйста, а вот собаку или котенка в сумке — не положено. Непонятно. Пока мы ехали, Анна Ивановна вдруг вспомнила:
— А про какого Петровича толковали в очереди, в коридоре. Мол, плохо без Петровича, вот если бы Петрович. Еще что ли есть Петрович там?
Виктор Петрович Безухов… Вспоминаю первую встречу. В кабинете интересный высокий мужчина, врач, выговаривал молоденькой девушке, видимо, практикантке:
— Как вы могли сказать такое: «Усыпите, чего возиться!» Так вы сказали?
— Но, Виктор Петрович, ведь все равно саркома, запущенная, ну сколько там еще…
— Дело в словах, — еле сдерживаясь, чеканил врач. — Другие слова вы были обязаны найти для этих людей, понимаете? Посмотрите, что вы наделали, будущий исцелитель!
…Пожилая пара. Морской офицер, на кителе три ряда орденских ленточек — воевал. Жена держит на поводочке спаниеля с громадной шишкой на задней лапе. Самая бодрая в этой группе — собака. Люди выглядят так, словно на них обрушился страшной силы удар, причем ударили из-за угла, неожиданно. Виктор Петрович вышел к ним:
— Извините, пожалуйста, возьмите собаку и пройдите ко мне, все вместе. — Усадив супругов и поглаживая собаку, он сказал: — Что же делать, если собачий век впятеро короче нашего. И это следует помнить с первого дня, когда наш друг попал к нам крохотным щенком. Сколько лет вашей Мальте? Двенадцать? Что же — восемьдесят наших… Она ведь могла и не заболеть, верно?
Мальта пала через два месяца, но ее хозяева и по сегодняшний день благодарны врачу за слова участия. За неиссякаемую доброту и любовь к тому, что он делал, выделяли Безухова владельцы больных животных. Ни тени брезгливости к самому что ни на есть ледащему коту.
— Клещ, голубушка. Что делать будем?
— Убивать не дам! — заявляет владелица, запуганная невежественными любителями гигиены и профилактики.
— Лечить станете, — улыбается врач. — Купите в аптеке вот это, а это — надо заказать. И ни в коем случае не выпускайте кота на улицу!
Насколько была велика любовь Виктора Петровича к тому, что он делал, настолько сильна была нетерпимость к тем, кто шел в лечебницу, не любя животных. Борьба с такими требовала нервов и напряжения не очень здорового сердца. Виктор Петрович никогда уже больше не войдет в свой кабинет, не оглядит разномастную очередь, пророкотав своим бархатным голосом: «Ого, сколько народцу сегодня». Он ушел из жизни полный творческих сил и энергии, но остались ученики, друзья и тысячи людей, благодарных его сердцу и рукам.
— Во вред себе работал, — заключила Анна Ивановна. — С хорошими людьми это бывает.
В Нагатино нас направили к Сергею Олеговичу Зимину, но пришлось подождать — он оперировал одну «прыгунью». Немецкая овчарка Ферри по недомыслию юности спрыгнула в овражек и сломала ногу.
— Вот на такусеньком лоскуточке лапа висела, — рассказывали очевидцы. — Ну, прямо, совсем отдельно от всей ноги. А хозяин, вот он, в уголочке сидит, видите? Валерьянку пьет, ему врач дал.
— Неужто на трех ногах останется? — испугалась Анна Ивановна.
— А хоть на костылях пускай ходит, но только чтобы жила, — с тоской произнес хозяин.
Не понадобятся ей костыли, ходить и даже бегать впоследствии станет. Молодой человек, почти юноша, появился в дверях операционной. По лицу его было видно, что устал Сергей Олегович изрядно: почти полтора часа трудился он над лапой легкомысленной Ферри, но работой своей, кажется, доволен.
— Придет в себя после наркоза — и забирайте свою Ферри. Через восемь дней посмотрим швы, если будет плохо — немедленно звоните.
Феррин хозяин уставился на него бессмысленно счастливыми глазами и ринулся в операционную.
Ветеринарная клиника Пролетарского и Москворецкого районов Москвы, в просторечии Нагатинская клиника, — хирургический ветеринарный центр столицы. (Ветеринарная академия — само собой.) Каждый год здесь делается полторы тысячи полостных операций. Есть стационар на двадцать четыре места: шесть палат-боксов на четырех больных каждая. Со строгим режимом посещений, а к некоторым больным вообще не разрешают приходить: уйдет хозяин, а пациент скулит, не ест, какое уж тут выздоровление.
Уход?
— Мы прооперировали — половину дела сделали, другую санитарки наши делают, — говорят здесь врачи. — У таких как Нина Алексеевна Якушина просто нельзя не поправиться.
Капельке было обещано, что она может вернуться через недели три к прежней жизни, при условии соблюдения правил поведения (соответственно возрасту).
— Слушай, а если ночью что случится? — пугается Анна Ивановна. — Куда звонить-то тогда?
— И ночью помогут — не волнуйтесь.
Когда затихает движение на улицах нашего города, в редком потоке машин можно заметить скромный «газик» с синим крестом на дверцах — скорая ветеринарная помощь. Она спешит, потому что где-то в этот поздний час не спит человек.
Человек… Почему же мы все время вспоминаем человека, когда речь идет о помощи животному? Вероятно потому, что сегодня их судьбы находятся порой в определенной взаимозависимости. Горожанин, оторванный от основной природы, стремится иметь хоть какой-то ее кусочек в доме: он приобретает птичку, хомяка, рыбок, кошку. Чаще — собаку. Потому что ни одно домашнее животное не сочетает в себе так самобытности диких предков и преданности верного друга. Первая международная конференция, посвященная изучению взаимоотношений между людьми и домашними животными, пришла к выводу, что контакт с животными необходим современному человеку для сохранения душевного и физического здоровья. Например, установлено, что общение с ними способствует снижению артериального давления. Люди, у которых есть птицы, кошки и собаки, вряд ли об этом думают и знают. Они просто любят своих друзей. А ветеринарные врачи помнят об этом всегда. И поэтому порой решают совсем неврачебные проблемы.
— Доктор, прошу вас, поговорите с моей женой! — умоляет врача пожилой мужчина. — «Выбрасывайте вашего Джоя», — кричит супруга. А чем собака виновата, что заболела? И ведь на поправку идет. Петька ночи не спит, второй месяц. Грозится: сделаете что с собакой — уйду из дома! Доктор, вы же знаете наши обстоятельства, помогите ради бога.
Джой, немецкая овчарка, болен чумкой. Болеет тяжко, и хозяевам пришлось трудно. А Петька, который «ночи не спит», — парень восемнадцати годов. В свое время он успел приобрести некоторую сомнительную славу и в шестнадцать лет был своим человеком в детской комнате милиции. От былых дел и старых дружков оттянула подростка собака. Петр ходил с Джоем на дрессировочную площадку, мечтал попасть на границу. Школу окончил неплохо и пока работает на заводе. Нельзя выбрасывать Джоя. Все это понимает врач и вечером отправляется в семью Н., уговаривает, убеждает. «Дорог ли вам сын?» — вот как ставит вопрос ветеринарный врач.
А бывает, когда в его руках — спасение, продление жизни человеку. Как в этом доме… Врач вошел в комнату, и старая собака приветствует знакомого — поколачивает хвостом об пол, приподнимает все еще красивую благородную голову, умные глаза смотрят мудро и печально. Когда-то он был сильным красавцем-псом, бравшим призы и медали на состязаниях и выставках. Женщина, не очень старая, но какая-то угасшая, молча вытирает сухие выплаканные глаза. Шесть лет назад погиб ее сын, любивший жизнь, работу, друзей и своего несравненного Альтея, которого сам вырастил, взяв месячным щенком. И вот оборвалась жизнь человека. Он не успел оставить матери внуков, и для этой женщины, единственная живая ниточка, связывающая ее и сына, — Альтей. Все годы, пока пес был бодр и полон сил, он в определенное время подходил к окну — встречать хозяина. Потом приползал на слабых ногах и ждал, и не перестает ждать. Собака очень одряхлела, сколько она протянет на уколах — кто знает… Но его любил Коля, с ним работал Коля, его ласкал и трепал Коля. Женщине кажется, что собака хранит тепло сыновних рук. Врач понимает: когда не станет собаки, ей придется еще раз прощаться с сыном. Так пусть этот момент наступит не скоро…
Можно было, конечно, рассказать и о научной работе московских ветеринаров, о десятках разработанных методик операций и методов лечения различных заболеваний. Все это есть — на достаточно высоком уровне.
Но хотелось поговорить о самом главном, без чего невозможно работать в этой области. О доброте, о понимании той роли, какую играют животные в нашей жизни и переоценить которую невозможно. И, разумеется, о прекрасной и поучительной любви к животным, «которая порождается любовью ко всякой жизни и в основе которой должна лежать любовь к людям».
Светлана Гладыш Собаки клуба «Дружок»
Каждый год бывает в столице этот непохожий на другие смотр. Тысячи москвичей, больших и маленьких, ждут его открытия — открытия выставки, которую проводит Московское городское общество любителей собаководства. Этот день полон неожиданных событий и встреч. Скажем, любой мальчишка, если у него есть собака, может подойти к космонавту Виталию Севастьянову и как доброго знакомого спросить: «Как ваш?», и Виталий Иванович, поглаживая малютку Икара, ответит ему как давнему знакомому. И оба они озабоченно глянут на небо: подозрительная тучка повисла над стадионом. Здесь можно видеть, как известный академик выкладывает на регистрационный столик бесчисленные собачьи документы и справки о прививках. И где еще представитель уголовного розыска МВД СССР мог вручить народному артисту СССР Юрию Владимировичу Никулину и его жене Татьяне Николаевне грамоты за задержание опасного преступника? А главный участник операции, ризеншнауцер Дан, получил специальную медаль. При этом его бородатая физиономия выражала: «Я постараюсь…»
В 1983 году выставка располагалась на территории Олимпийского спортивного комплекса в Битцах. Отечественное собаководство было представлено почти сорока породами. Среди них такие широко известные как дог, доберман-пинчер, боксер, а также редкие, ранее в стране не выводившиеся: бигль, чи-хуа-хуа, афганская борзая. На международных выставках наши представители получали призовые места, даже звания кандидатов в чемпионы мира. Однако здесь хочется поговорить не о племенном собаководстве, а познакомить вас с клубом, который появился не так давно, но с самого первого дня пользуется необыкновенной популярностью. Минуя многочисленные ринги, найдем плакат-табло с надписью «Дружок».
Идет общий показ собак. Оказывается, не такое простое дело — пройти по кругу вдвоем с хозяином. Огромный лохматый пес неизвестного происхождения с длинными висячими ушами категорически отказывается сдвинуться с места. Девочка Аня, сама чуть выше питомца, ласково почесывает ему спину: «Не бойся, Зайчик!» (Ничего себе — зайчик!) «Понимаешь, — объясняет девочка соседу, — он первый раз на ринге и волнуется». Восьмилетний Володя, как и положено мужчине, ободряет: «Привыкнет». Рядом с мальчиком смешной желтый комочек, поджимающий лапку. Глаза-бусинки и острые ушки ловят каждый взгляд, каждый вздох хозяина. «Его зовут Тайфун. Лапка отморожена — мы с мамой подобрали Тайфунчика прошлой зимой в мусорном ящике…»
А шоколадная спаниелька освоилась вполне и пытается кокетничать с черной взъерошенной личностью (такое чудо генетики встретишь не часто: уши вроде бы сеттера, голова вроде бы боксера, хвост вроде бы…). Спрашиваем у десятилетней Алены: «Кто это?» Девочка отвечает коротко: «Это — Нигри, мой друг. Я его воспитываю».
Клуб «Дружок» принимает любых собак: беспородных; породных, но без родословной; с родословной, но с недостатками экстерьера. В общем, любое животное, относящееся к виду собак. Созданный по доброй инициативе ветеринарного отдела Мосгорисполкома, «Дружок» объединил людей, любящих просто собаку. Потому что интеллект, верность и преданность не зависят от числа кровных предков и безупречной формы ушей. В центре внимания клуба все, что может интересовать любителя, — от правил содержания до истории и теории собаководства. И — работа, работа, работа. Непременное условие, если хочешь получить медаль и приз. Рассчитывать на знаменитых элитных родителей не приходится. Выполнение программы, которую показывают юные дрессировщики (большинство членов клуба — дети), требует завидного терпения, упорства и мастерства.
Лиля приехала на выставку из Риги. Ее шоколадная спаниелька была жестко выбракована экспертами охотничьего клуба за «непородность». Девочка не стала от этого любить Дану меньше, и, когда та подросла, начали заниматься.
…Вот собачка усаживается и берет в зубы палочку. Лиля кидает колечки, а Дана старается их не упустить. Молодец, собака! Не уронила ни одного колечка — все пять на палочке. Математические способности лопоухой рижанки вызвали восторг зрителей, и бумажки с номером участника как град посыпались в специальный ящичек, выставленный судьями. Лиля (вместе с Даной) получила медаль, приз и грамоту. Грамоту — только Лиля, за трудолюбие.
Еще два человека причастны к успеху девочки. Родители. Они не разделяют увлечения Лили. Мама — врач и папа — научный работник предпочли бы, чтобы девочка увлекалась чем-нибудь более рациональным. Но Лиля примерная дочь, отлично учится, и с этим приходится считаться. Сколько же педагогической мудрости, любви, уважения к подростку в основе такой терпимости! От непоправимой ошибки уберегла родительская чуткость. Запрети они держать собаку или, хуже того, выброси — какой бедой обернулось бы все для семьи…
«Ох, — сокрушается пожилая женщина, глядя на ребенка, прикрывающего своей курточкой собачку от дождя. — Все они добрые, пока маленькие. Вырастут, откуда что возьмется — станут жестокими, равнодушными».
Эти дети — никогда такими не станут! Почти все собаки клуба — собаки, спасенные от злых рук, собаки подобранные, наконец, купленные у прежнего владельца, которого не устраивали экстерьерные качества. Подросток, ухаживая за такой собакой, знает, что ни почестей, ни славы в кинологическом мире она ему не принесет. Он любит в ней просто живую душу. Дети наделены удивительной способностью проникать в подлинное существо предмета. Непривлекательные для поверхностного взгляда Бобики, Найды и Зайчики — прекрасны. Друг не может быть уродлив. С возрастом у многих теряется этот чудесный дар. И, может, стоит иногда приглядеться к нашим детям, чтобы вернуть и себе хотя бы частицу этого волшебного зрения.
Наверное, это «что-то» разом подняло всех на трибунах стадиона, когда в парадном шествии появился клуб «Дружок». Комментатор рассказывал о службе беспородных собак на фронтах войны — вместе со своими высокородными братьями они работали в санитарных упряжках, связистами, миноискателями; об их роли в освоении космоса, о вечном долге человека перед собакой. А многочисленный стадион стоя грохотал аплодисментами, заглушая комментатора, пока совершали круг почета представители славного четвероногого племени, которых сопровождали дети.
Наши дети.
И. Попов Человек — друг собаки
С некоторых пор мы являемся свидетелями острой полемики: как нам относиться к домашним животным — собакам, кошкам. Нужны они нам или привязанность к ним стала чем-то вроде досадного анахронизма, пережитка, причиняющего одни неудобства? Друзья или враги? Союзники или антагонисты?
И все-таки, что бы ни говорили и ни писали, люди любили и будут любить животных, так как это естественная потребность, заложенная в нас родительницей-природой. Значит, разумнее научить людей правильному уходу за животными.
К сожалению, некоторые работники, профессионально осуществляющие различные профилактические мероприятия, встали на неверный путь, видя в животных только источник всяческих бед. Нельзя закрывать глаза и на то, что частенько и сами владельцы животных бывают повинны во многих грехах. Как бывший артист цирка, имевший дело с животными (и сейчас у меня три собачки и две кошки), я тоже возмущаюсь беззаботностью тех хозяев, которые распускают своих четвероногих, тоже негодую, когда вижу, как, вместо того, чтобы сделать из собаки нужное, полезное, приятное существо, друга, превращают ее в прихоть или, наоборот, в безнадзорное, забытое существо.
Абсолютная истина: в круг навыков культурного человека должно входить и умение обращаться с животными — нашими проверенными тысячелетней близостью бессловесными друзьями. Общеизвестно, что общение с животными способствует выработке определенных моральных качеств. Своеобразная эстафета добра, чуткости, внимания, заботливости (то есть именно тех черт, которые мы хотим видеть в наших детях) начинается от плюшевого мишки, резиновой собачки, а после переходит к собачке живой, а оттуда невидимые прочные нити протягиваются к…человеку.
Да, человек, скверно обращающийся с животными, нередко бывает плох и с людьми. По этому поводу можно найти немало высказываний у Льва Толстого, Чехова, Монтеня, у многих и многих великих мыслителей и писателей.
Мне довелось встречать в печати ссылки на Чехова в том смысле, что-де и Антон Павлович — врач — тоже был против собак, потому что однажды увидел умирающего от бешенства человека и тогда проклял на веки вечные всех собак и собачников.
Антон Павлович был эмоциональный, чувствительный человек. Мог ли он отнестись к этому иначе? И вообще, кого не потрясет зрелище гибнущего в муках человека.
Но почему не вспомнить другое его высказывание: «В воспитании и в жизни детей домашние животные играют… несомненно благотворную роль. Кто из нас не помнит сильных, но великодушных псов, дармоедок-болонок, птиц, умирающих в неволе, тупоумных, но надменных индюков, кротких старушек-кошек, прощавших нам, когда мы ради забавы наступали им на хвосты и причиняли им мучительную боль. Мне даже иногда кажется, что терпение, верность, всепрощение и искренность, какие присущи нашим домашним тварям, действуют на ум ребенка гораздо сильнее и положительнее, чем длинные нотации…»
Роковая ошибка — делить жизнь на изолированные отсеки: вот санитария и гигиена, чистота телесная, а вот мораль, нравственность, отзывчивость и все такое прочее. Нет. Жизнь не помещение на корабле, разделенное водонепроницаемыми перегородками, в ней все тесно переплетено, взаимосвязано — и так тесно, что порой не разобрать, где кончается одно и начинается другое.
Иные думают: от собаки грязь, от кошки шерсть…
Да ну их. А что мы теряем, изгоняя животных. Кто посчитал?
Любовь к животному, стремление иметь около себя птицу, четвероногое надо поощрять, но при одном условии — животному должен быть обеспечен необходимый уход. Это не игрушка, позабавился — бросил!
Короче: гигиена, необходимая каждому из нас в личном быту, в той же мере необходима и нашим домашним друзьям.
Как поступить, если ваша дочка или сынишка подобрали на улице котенка, щенка. Первым долгом похвалите, скажите: «Правильно поступил, что пожалел бездомного».
Людей воспитывают не проповедями, нравоучениями, а примерами. Как раз, быть может, в эти минуты в душе маленького человека зазвучали тонкие, нежные струны. Не рвите их. Не затопчите живой росток добра. Так человек учится самому драгоценному — понимать чужую боль, учится сочувствию. И в подобных ситуациях каждый — воспитатель, отец, мать — должен быть в первую очередь психологом и, если угодно, философом.
Забывать о психогигиене, как о гигиене, не вправе ни один из нас, ибо это тоже здоровье, здоровье нравственное, духовное.
Друзей не боятся — их любят. А раз любят — ухаживают. Очень правильно заметил один из специалистов-медиков: любить надо разумно — ради жизни самого животного, не делая зла людям и делая добро животным.
Но, может быть, я выступаю апологетом старого, отжившего, защищаю ненужные, перечеркнутые временем понятия и запросы — любование и наслаждение красотой животного, чувство родственной связи с ним. Быть может, пора прислушаться к тем, кто трубит, что животным не место в городах в наш атомный век?
Все обстоит как раз наоборот. Именно сейчас нам особенно они нужны… Один из неутомимых исследователей фауны земного шара, профессор Б. Гржимек писал: «Впервые с тех пор, как на земном шаре появились люди, такое множество из них живет совершенно изолированно от природы. Именно поэтому они все больше начинают интересоваться животными, которых теперь почти не видят».
В. Бульванкер По проекту академика И. П. Павлова
В 1935 году в Ленинграде состоялся XV Международный конгресс физиологов. За несколько дней до открытия конгресса в саду Института экспериментальной медицины, которым руководил И. П. Павлов, в присутствии академика и сотрудников института был открыт памятник собаке скульптора И. Беспалова, сооруженный по инициативе и по проекту, утвержденному академиком. На цоколе памятника надпись: «Пусть собака, помощница и друг человека с доисторических времен, приносится в жертву науке, но наше достоинство обязывает нас, чтобы происходило это непременно и всегда без ненужного мучительства. И. Павлов».
В. Бульванкер Фидо
…Тусклый свет велосипедного фонарика высветил что-то белое на обочине дороги, по которой рабочий Карло Сориани возвращался домой в Луко ди Муджелло. Карло остановился. Перед ним лежал дрожащий от холода малюсенький щенок. Карло сунул его за пазуху и поехал дальше.
Утром семья Сориани «знакомилась» с найденышем: беспородный, типичный дворняга, белый с черными пятнами по телу, с черными ушами. Когда Карло пошел на работу, песик кинулся за ним. Тут и появилась у него кличка Фидо — верный.
Когда Фидо подрос, он стал не только провожать Карло каждое утро до автобуса, но и встречать его.
Сильные взрывы бомб заставили содрогнуться жителей Луко 30 декабря 1943 года. Шла война, и самолеты фашистов бомбили леса на склонах Апеннинских гор, где скрывались бойцы сопротивления. С тревогой в сердце вышли жители встречать сильно опаздывающий в этот вечер автобус. Автобус пришел, но не тот, старый и знакомый, а другой. Один за другим выходили из него люди, уцелевшие от бомбежки. Фидо ждал. Когда все вышли, он вскочил в автобус, обнюхал все места… Знакомого запаха не было. Хозяин не вернулся. Понуря голову, поплелся Фидо домой. На следующее утро пес остался дома — провожать было некого. Но встречать! Это было его право, в этом была его надежда! И Фидо отправился к автобусной остановке. Четырнадцать лет ходил он туда и ждал…
В декабре 1957 года в городе Борго-Сан-Лоренцо состоялось открытие бронзового памятника Фидо. На открытие вдова Сориани привезла собаку. Через два года Фидо не стало. Остался памятник с короткой надписью на пьедестале: «Фидо. Образец преданности».
В. Бульванкер Пограничная собака Дойра
В Н-ской воинской части долго служила восточно-европейская овчарка Дойра. Это была заслуженная пограничная собака.
У Дойры было необыкновенное чутье. Если обычная, хорошо подготовленная розыскная собака обнаруживала и прорабатывала запаховый след под снегом на глубине 10–15 сантиметров, то Дойра чуяла его на глубине более 30 сантиметров. Она была способна обнаруживать и прорабатывать запаховые следы многочасовой давности. И еще одним качеством обладала Дойра. Собаки обычно идут по следу зигзагом, а Дойра шла по нему прямо, а значит, быстрее настигала нарушителя.
Дойру очень любили пограничники. Однажды в часть приехали два студента-художника. Они сделали зарисовки и с Дойры. Пограничники попросили вылепить скульптурный портрет собаки, и художники выполнили просьбу.
Когда в 1971 году Дойры не стало, ей было тогда пятнадцать лет, пограничники решили поставить ей памятник. Тут и пригодился гипсовый барельеф. Комсомольцы завода, с которым у воинской части были шефские связи, отлили его в бронзе.
Память о Дойре по-прежнему жива, о ней с гордостью рассказывают в части и пограничники-ветераны, и молодежь.
ТОЛЬКО ФАКТЫ
В народном хозяйстве нашей страны используется около 700 тысяч собак — служебных, охотничьих и пастушеских, что дает государству экономический эффект около 100 миллионов рублей в год. Каждого второго нарушителя границы задерживают с помощью собак. Только по Министерству путей сообщения благодаря применению собак экономия на зарплате проводников охраны составляет более 1,5 миллиона рублей в год.
По данным Главного управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР, в 1980 году в городах и сельской местности было зарегистрировано и привито против бешенства 7973 тысячи собак. В пятнадцати крупнейших городах нашей страны (Москва, Ленинград, Киев, Волгоград и др.) в 1980 году зарегистрировано более 523,5 тысячи собак — в среднем двадцать на тысячу жителей. В ряде других промышленно развитых стран число собак на тысячу жителей в три — пять раз больше, чем в СССР.
В Москве в 1980 году владельцев собак было примерно 150 тысяч — вдвое меньше, чем владельцев автомашин. В Ленинграде немногим более 100 тысяч, в Киеве — 55 тысяч. В пятнадцати крупнейших городах нашей страны число собак с 1970 по 1980 год увеличилось в 1,4 раза. При этом численность населения возросла в 1,2 раза, реальные доходы на душу населения — в 1,46 раза, более 40 процентов населения переселилось из коммунальных квартир в отдельные, то есть рост числа собак отражает рост благосостояния населения.
Крупные города — это центры селекционной и грамотно поставленной работы с породистыми собаками. В Москве породистые собаки составляют 15,9 процента от числа зарегистрированных, в Ленинграде — 12,3 процента, в Киеве — около 5 процентов, в среднем же в городах — 3,7 процента, в целом по СССР — около 2 процентов (в США — также около 2 процентов).
В 1981 году из Москвы и области в промысловые районы вывезено более 2 тысяч лаек, закупленных у любителей. Примерно такое же число собак за десять лет закупили промысловики в Новосибирском питомнике.
Клубы и общества собаководов обеспечивают 70–80 процентов потребностей народного хозяйства в служебных и около 95 процентов — в охотничьих собаках.
Себестоимость 1—3-летней охотничьей собаки, выращенной в питомнике, составляет около 1500 рублей, служебной — 1800–1900 рублей, причем в питомниках практически невозможно вырастить собаку с хорошими качествами. Закупочные цены на охотничьих собак доходят до 300 рублей, на служебных — до 130 рублей. Из сказанного следует, что возможность использования собак для нужд государства во многом определяется уровнем организованного любительского собаководства.
Несмотря на рост числа собак, число покусов ими людей не возрастает.
По данным Минздрава СССР, собаки оказывают положительное влияние на здоровье людей, вынуждая владельцев быть на воздухе в любую погоду.

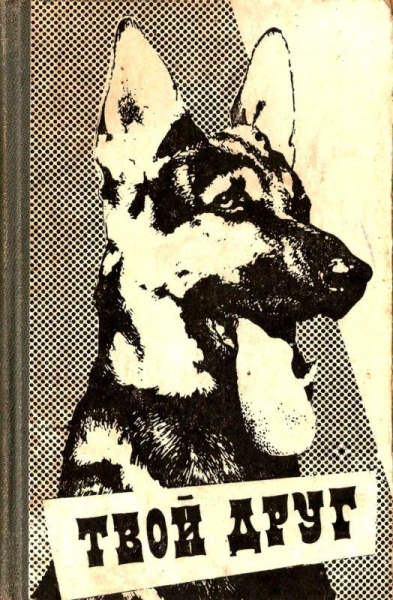



Комментарии к книге «Твой друг. Сборник по собаководству. Выпуск 3», Борис Степанович Рябинин
Всего 0 комментариев