Я, автор этих строк, наблюдал поведение 10-месячной самки динго в подмосковном лесу, где в ловле июньских хрущей и в скорости бега она несопоставимо превосходила свою сверстницу, оленегонную лайку. Но, убежав в лесу от напугавшего её велосипедиста и как бы «потерявшись», она через неделю нашла путь к дому.
Отданная 11-месячной в Московский зоопарк, при встрече через 11 лет, под конец своей жизни, она вспомнила мой подзыв. Её радость от встречи со мной вызвала у меня слёзы.
В 70-х годах XX в. динго вошёл в моду в ГДР, но вскоре из-за вирусных эпизоотий, уносивших жизнь этим псам, его разведение сошло на нет.
Процветание динго, продолжавшееся в Австралии более 10 тыс. лет, 200 лет назад прервали европейские колонисты-овцеводы, став смертельными врагами этой замечательной собаки-парии [3]. Антропофобия, конвергентный признак всех высших позвоночных, развившаяся и у динго в ответ на гонение человеком, препятствует теперь его лёгкому в недавнем прошлом возвращению в домашнее состояние [38, 196]. Сейчас дикого динго от домашнего, ещё сохранившегося у аборигенов Австралии под названием «варригала» можно отличить по степени закрученности хвоста. У дикого динго он закручивается слабее.
Пример возврата межпородных метисов к собаке-парииВ один из октябрьских дней середины 60-х годов мне, охотоведу-кинологу Центрального Совета Всеармейского Военно-Охотничьего Общества (ЦСВВОО), автору этих строк, будучи в командировке в Юрьевецком охотхозяйстве ВВОО, довелось наблюдать за охотой пары местных «дворняжек», в которых ещё угадывалось их метисное происхождение от лайки и русской гончей.
Не испытав в охотхозяйстве тотальных гонений, они пребывали в состоянии приобщения к полу-вольной жизни собак-парий и, оставаясь лояльными ко всем людям, «кормильцами человека».
Они показали незатейливую охоту на зайца-беляка с разделением своих функций на гонца и ловца, положивших в историческое время породогенеза у домашней собаки начало древнейшим породам: борзых и гончих.
«Патронаж», популяции зайца-беляка волчьей семьёй, сохранившейся в этой части охотничьего хозяйства, не охотящейся на него вблизи своего логова, но не позволявшей этого и сородичам, так повысил в хозяйстве плотность этого зайца, что она стала притягивать к волчьим угодьям местных собак полакомиться зайчатиной. Но находиться в угодьях, охраняемых волками, псы могли только с людьми, поэтому они ненавязчиво сопровождали всех, кто шёл за чем-либо в лес.


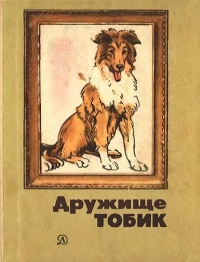
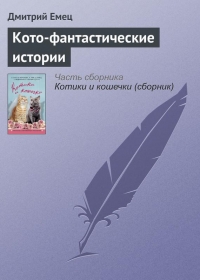

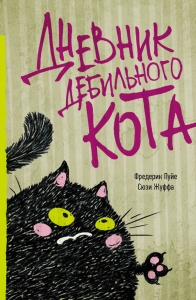
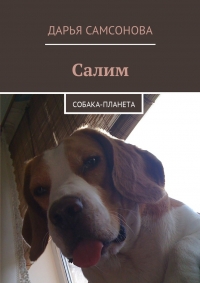

Комментарии к книге «Культура отечественного собаководства XX–XXI вв. (комментарии, реплики, размышления)», Клим Тимофеевич Сулимов
Всего 0 комментариев