Листки с электронной стены 2014—2016 гг. Сергей Николаевич Зенкин
© Сергей Николаевич Зенкин, 2016
Редактор Екатерина Алексеевна Пластун
Корректор Юлия Александровна Добина
Верстка, дизайн Алёна Игоревна Тарасова
Автор иллюстраций Александра Счастливая
Кампания продвижения Александр Михайлович Скрыльников
ISBN 978-5-4483-4142-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Тексты, собранные в этой книге, по большей части публиковались автором в сети Facebook; воспроизводятся также несколько публикаций из прессы, бумажной и электронной. Материалы в основном размещены в хронологическом порядке, с несколькими отступлениями от него; добавлены многие заголовки, исключены почти все ссылки и прямые цитаты из чужих высказываний в социальной сети. События и дискуссии последних лет не поясняются задним числом: тот, кому сегодня они не памятны, легко может сам навести справки в Интернете по ключевым словам.
Тренажер 8.01.2015
(Вместо предисловия)
Что мне нравится в Фейсбуке — это возможность упражняться в молчании.
С одной стороны, тебя тут постоянно приглашают вступать в беседу, высказываться по всяким поводам. С другой стороны, тебя никто не торопит, ты можешь среагировать сию минуту, а можешь через час, через день, через неделю — ничего страшного, лента сохранит все. Здесь нет понятия esprit de l’escalier, запоздалая реплика ничем не хуже немедленной (ну, разве что в промежутке случатся какие-нибудь новые события, меняющие все дело).
Поэтому в FB-дискуссии можно подержать паузу, поразмыслить, посомневаться. Конечно, мы и в обычном разговоре критически следим за собой — как минимум стараемся не ляпнуть глупость, не совершить какой-нибудь faux pas. Но разговор — это словно шахматная партия блиц, а Фейсбук — партия по переписке, и не по электронной, как сейчас, а по медленной бумажной переписке, как в былые времена. Успеваешь задуматься еще и о том, а стоит ли обращаться именно с этим именно к этим людям? готовы ли они тебя понять? о том ли вообще у них разговор? не будешь ли ты навязчив со своими идеями, бытовыми заметками, картинками? не собираешься ли сказать трюизм, который прекрасно скажет вместо тебя кто-нибудь другой (и действительно, обычно кто-нибудь да скажет…)? И не лучше ли вообще промолчать, подождать более подходящего случая — тогда, глядишь, и мысль твоя лучше созреет? Потом хоть не будешь, отматывая ленту назад, хвататься за голову: чего же это я наговорил… В нашей торопливой жизни Фейсбук — уникальная точка, где можно оставаться в гуще споров и вместе с тем высказываться не спеша и рассудительно.
Я по природе импульсивный тугодум: знаю, что первая реакция почти всегда неадекватна, надо ждать второй. А Фейсбук — это такой тренажер, позволяющий тренировать выдержку, проверять и уточнять свою мысль и слово. При верном использовании (что не всегда, конечно, удается!) это бесценный ресурс морального самовоспитания.
Интересно, многие ли об этом догадываются?
FacebookЛогика любви к отечеству 3.02.2014
Есть непочтительное выражение «патриотический угар» — наподобие пьяного угара. И действительно, патриотизм кое в чем подобен алкоголю. Он воодушевляет, вызывает радостный экстаз, побуждает к смелым воинственным поступкам, даже к настоящим подвигам (фронтовые «сто грамм» и призывы «За родину, за Сталина!» служили одной и той же цели); но он же подавляет в человеке здравый рассудок, внушает ему абсурдные идеи, вплоть до агрессивного бреда. Эти разные функции часто распределяются в зависимости от характера людей — одни пьют, чтобы повеселиться, другие чтобы подраться, одни патриоты от любви к своим, другие назло чужим, — но они могут и совмещаться, чередоваться в одном и том же индивиде. Такого индивида, охваченного патриотическим восторгом или возмущением, бесполезно в чем-то переубеждать — надо ждать, пока он протрезвеет.
Само понятие патриотизма противится логике, при попытке его определить получается порочный круг. Патриотизм — это любовь к родине. Но что такое родина? Это не территория страны, которая может сильно меняться (русские считают своей исторической родиной Киевскую Русь, а она сегодня находится в другом государстве), не население, которое меняется еще сильнее (просто в силу смены поколений, а также миграции, скрещения этносов и рас, присоединения или отпадения областей). Переменчиво даже ее имя: Русь — Московское царство — Российская империя — Советский Союз… Говорят, что родина — это некое духовное единство, традиции, ценности; каковы же, например, традиционные ценности русского народа? Первым ответом непременно оказывается «любовь к родине»: с чего начинали, к тому и приехали.
Конечно же, патриотизм — не фикция, не пустая иллюзия, но это один из фактов нашего опыта, которые всеми сильно переживаются, но плохо поддаются рациональному осмыслению. Как писал Августин о другом таком факте, времени: если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что это такое; вздумай я объяснить спрашивающему — тогда не знаю. Приходится как-то искусственно его схематизировать, чтобы ввести в пространство смысла.
Политики и пропагандисты иногда пытаются связать патриотизм с каким-нибудь другим, чуть более определенным понятием: «наша советская родина», «наше социалистическое отечество». Получается плохо — прибавленное понятие можно вычеркнуть или заключить в скобки, оно легко забывается, а патриотизм остается. Родину любят не за то, что она такая или этакая, а за то, что она наша, — однако местоимение «наша», как и все местоимения, не обладает объективным значением, и множество «нас» нельзя точно описать. Кто такие «мы» — входят ли в это «воображаемое сообщество» уехавшие из страны эмигранты? или понаехавшие в нее гастарбайтеры? или, скажем, геи (разве они не могут быть патриотами?)? или просто те, кто вот сейчас категорически не согласен со мной и считает меня отщепенцем?
Имея дело с такими зыбкими множествами и смутными понятиями, наше сознание обычно прибегает к так называемым «хорошим примерам»: вместо целого берется элемент, который всеми надежно опознается как его часть. Так и патриотизм персонифицируется, любовь к родине проецируется на фигуры каких-то конкретных людей — уж в них-то мы не ошибемся, они-то точно воплощают собой наше отечество. В качестве таких людей-символов патриоту требуются вожди, герои, артисты, спортсмены.
Но вот святые плохо годятся на роль «хорошего примера». Существуют национальные, патриотические религии, и русское православие безусловно из их числа, в нем есть национальные святые, но никто не говорит, что они лучше всех на свете, а «русский бог» — это вообще ироническое понятие (как в известных стихах Вяземского). Легко гордиться Дмитрием Донским — наш был князь, орду побил, — а с Сергием Радонежским, который его на это благословил, уже сложнее. Патриотически присваивать его себе — «наш святой» — будет неблагочестивым панибратством: он все-таки прежде всего не «наш», а божий. Святость всегда чем-то не удовлетворяет патриота: зачем это Борис и Глеб дали себя убить? надо было самим всех порвать…
С другой стороны, оказывается, что и не все артисты равно подходят для создания патриотических символов. Поэт, художник, музыкант годятся хорошо, а, скажем, актер — хуже. Его могут страстно любить, но все-таки не включают в национальный список канонических фигур: поэт — Пушкин, композитор — Чайковский, живописец — Репин, а лицедей — кто? Место не занято.
Так же и циркачи. Не в обиду им сказать, но в нашем сознании цирк — низкое, площадное искусство («что за цирк!» — говорим мы о чем-либо с недовольством), в нем реальные подвиги силы и ловкости соседствуют с фокусами иллюзионистов и кривлянием клоунов. В старину цирковые борцы славились своими «договорными» поединками; сегодня они вообще вывелись, уступив место спортивной борьбе — она, как считают, честнее. Вообще, хотя некоторые виды спорта имеют прямых родственников на цирковой арене, спорт неизмеримо патриотичнее цирка: во-первых, спорт состязателен, в нем нужно за кого-то болеть, то есть выделять «нашего»; а во-вторых, цирк, подобно театру или кино, слишком явно демонстрирует свою искусственную, иллюзорно-зрелищную природу, тогда как спорт, при всех своих условных правилах, кажется более подлинным. Совсем искусственные зрелища в нем маргинальны (открытие и закрытие олимпийских игр) и могут стать поводом для патриотических эмоций лишь силой его отраженного света.
Итак, логическая проблема патриотизма — на самом деле онтологическая, бытийная. Ему не по плечу слишком высокое, слишком безусловное бытие святости, его вожди и герои не выдерживают сравнения с мистически-нездешним, сверхпатриотическим авторитетом. Но, с другой стороны, он не доверяет и художественной условности (отсюда ревнивое отношение к патриотическим памятникам: это не образы искусства, а непосредственное воплощение «наших героев» и «наших ценностей», не смейте их хулить!); он охотнее ищет себе опору в трагической реальности павших героев и жертв, в телесной наглядности соревнующихся атлетов.
При всей интенсивности связанных с ним чувств, патриотизм внутренне неустойчив, не уверен в себе. Он смутно помнит, что его воображаемые сообщества непрочны и не вечны — так распался в одночасье «советский народ» на разные, не всегда дружелюбные друг к другу нации. В патриотическом одушевлении нельзя жить постоянно, обыкновенно мы гордимся не родиной, а чем-то более конкретным — собственными успехами, своими друзьями и близкими — и оскорбляемся не покушениями на национальные символы, а нарушениями наших прав. За самоупоением нации неизбежно следует трезвая ответственность личности.
на сайте «Новой газеты»Заиграно 11.03.2014
Много лет назад коллега по службе, пожилой и добродушный дамский угодник, рассказывал мне, как однажды вздумал сделать комплимент некоей сотруднице нашего учреждения: «Какая у вас красивая старинная брошка!» — «Да, — ответила она, — это еще дедушка с погрома принес». С тех пор он старался обходить ее стороной.
Меня всегда занимала психология этой незнакомой мне женщины. Она наверняка понимала, что погром — нехорошо, но это не мешало ей не просто пользоваться награбленным добром, а даже с гордостью сообщать о его происхождении (нет чтобы ответить уклончиво — дескать, «от дедушки с бабушкой осталась…»). Если бы задать ей прямой вопрос — не стыдно ли? — она, должно быть, стала бы оправдываться тем, что дела, мол, давние, она за деда не отвечает и вообще эти, которых громили, сами были не без греха. В общем, нарушение правил было, но заиграно, как выражаются в дворовом футболе.
Подобные самооправдания типичны — человек перекладывает ответственность за дурные дела на других, подчеркивает их удаленность во времени или пространстве. Когда-то в нашей стране истребляли индейцев или же морили голодом украинских (и не только украинских) крестьян — а мы здесь при чем? Где-то там, в заморских колониях или колымских лагерях, творятся беззакония, а я всего лишь пользуюсь кое-какими благами, не заботясь о том, как одно связано с другим. Когда-то Шатобриан и Бальзак во Франции придумали знаменитый пример с китайским мандарином — согласился бы ты, если бы мог, убить его одним лишь своим желанием там, в Китае, и благодаря этому обогатиться? Достоевский вспоминал этот казус в «Преступлении и наказании», а скорее всего подразумевал и в «Братьях Карамазовых», в рассуждении Ивана о всеобщем счастье людей, купленном слезами какого-то безвестного ребенка. Многие готовы «убить мандарина». Самое странное и озадачивающее — это то, что прямо или косвенно ответственный за преступление не забывает его, не «вытесняет» по-фрейдовски, а умудряется как-то жить с ним, не раскаиваясь и не переживая противоречия.
Жан-Поль Сартр описал что-то подобное под названием «криводушие», mauvaise foi. При таком странном самообмане человек вполне осознанно — ничего бессознательного! — разделяет себя на две части, словно два несообщающихся сосуда: «фактичность» и «трансцендентность». Проще говоря, по-актерски делит себя на свободное сознание и роль, исполняемую для других. И заигрывает, перебрасывает туда-сюда через эту границу неприятные факты.
написано для «Новой газеты»Экспансия бесформенности 22.03.2014
Общие философские категории трудно применять для объяснения конкретных исторических процессов — то есть они слишком легко применяются и слишком легко заменяются одна другой. Можно, например, толковать территориальную экспансию России как выбор в пользу пространства против времени (вместо ускоренного движения в будущее будем распространяться вширь в настоящем), но можно и как предпочтение количества качеству (пусть лучше страна будет больше, чем лучше). С такой оговоркой можно заметить, что современное состояние хорошо описывается категориями субстанции и формы.
Сегодня Россия производит главным образом бесформенные субстанции — нефть, газ, металл, водку, коррупционные деньги, — а сложно оформленные, структурированные объекты импортирует. В этом смысле и Крым для нее «родной», соприродный: его присоединили к России не как упорядоченное общество с заслуженными лидерами, партиями, с традициями освободительной борьбы, а как голую территорию с массой единодушно голосующих (а в самой России, как предполагается, единодушно ликующих) людей, во главе со случайно попавшимся под руку криминальным субъектом. Для российского общественного сознания Крым обладает формой разве что в прошлом: это места военно-патриотической памяти, форма скорее воображаемая, чем реальная.
Такому характеру объекта соответствует и способ его присвоения — вооруженный захват, пусть пока и без большого кровопролития. Приобретая структурированный объект (не обязательно страны или людей — даже любую бытовую машину), приходится адаптироваться к нему, учитывать его собственные законы, вступать в партнерские отношения. Еще три месяца назад Россия примерно так вела себя с Украиной — пыталась купить ее за 15 миллиардов, и сделка совсем было состоялась. Теперь же нет и речи о покупке Крыма, о каких-либо уступках и компенсациях; Крым просто торопливо, без рассмотрения и без разговоров, загребли, словно лопатой кучу песка.
Что это дает? По большому счету, крымский трофей — всего лишь утешительный приз за потерю всей Украины (и множество других потерь в экономике и внешней политике), но зато его приобретение можно отпраздновать с победным салютом. По эмоциональному переживанию даже самый скромный военный триумф безмерно превосходит удовлетворение от удачной торгово-политической сделки.
Вообще, социокультурный смысл нынешнего поворота в российской политике — переход власти в праздничный, эпический режим сакрального законопреступления (трансгрессии), противоположный профанно-прозаической законности будней. Следует особо подчеркнуть роль зимней олимпиады как события, готовившего и стимулировавшего крымскую авантюру; причем важна не столько победа национальной сборной, одержанная (как предполагается) по строгим спортивным правилам, сколько праздничное возбуждение молодечества, вообще говоря не признающего никаких пределов и законов. В таком возбуждении общество забывает о своей сложной структуре и само сливается в сплошную торжествующую массу «своих», «наших». А государство, устроившее праздник, может воспользоваться энергией этого социального «кипения» (как выражался Эмиль Дюркгейм), чтобы сделаться на внешней арене сплоченным и не признающим законов государством-опричником, государством-хищником.
В старину все государства были более или менее хищниками. Если одно из них пыталось вести себя миролюбиво, на него нападали другие и вынуждали-таки точить когти и показывать зубы. Но в современную, и особенно постколониальную эпоху, ситуация изменилась: благодаря глобальному капитализму злато взяло верх над булатом, экспорт капитала стал эффективнее, чем экспорт насилия. Государства-хищники, государства-изгои не исчезли вовсе, они необходимы для мирового порядка как точка отсчета (так в концлагерном социуме внесистемной точкой отсчета служит опустившийся доходяга, а в современной капиталистической экономике — бесправный нелегальный иммигрант), но, во-первых, их теперь мало, а во-вторых, они вынуждены периодически подтверждать свою «крутость» и беззаконность, опасаясь уже не агрессии извне, а внутреннего перерождения. Без повторяющихся время от времени авантюр однородно-праздничное общество начинает вновь расслаиваться на составляющие его группы, интересы которых можно согласовать только законами; собственно, они никуда и не девались, просто какое-то время о них не думали, упиваясь чувством патриотического единодушия. Стремясь предотвратить такое охлаждение умов, поддерживая в народе «кипение», Гитлер не мог бы, даже если бы захотел, остановиться после первых, довоенных территориальных приобретений. Праздники и воинственные шабаши быстро забываются, их приходится повторять.
Исторические аналогии — столь же шаткое объяснение событий, как и философские категории, и все-таки стоит провести одну параллель, хоть она и отсылает к эпохе до глобального капитализма и не содержит мотивов праздника и бесформенных субстанций. Во Франции в XIX веке правил император Наполеон III — красавец мужчина с волевым характером, не чуждый и авантюризму. Он пришел к власти на честных выборах в стране, испуганной революционными потрясениями, быстро превратился из конституционного президента в коронованного лидера нации, задавил оппозицию и заткнул рот тогдашним СМИ. На парламентских и местных выборах он назначал «правительственных кандидатов» (они так и именовались официально), чтобы народ знал, за кого голосовать. Пользуясь промышленным подъемом и ростом валового дохода, он развел беспримерную коррупцию в своем ближнем кругу. И через каждые 5—6 лет он воевал — в отсутствие реальных угроз для своей страны, просто из имперской удали. Он побил русских (между прочим, в Крыму), побил австрияков в Италии, послал войска даже в далекую Мексику (правда, эта экспедиция не имела успеха, и французского ставленника расстреляли местные республиканцы), а в конце концов, рассорившись по случайному поводу с прусским королем, начал войну против всей объединяющейся Германии. Францию охватило патриотическое воодушевление, по столичным бульварам ходили толпы с криками «На Берлин! На Берлин!». Прошло около полутора месяцев, и Наполеон III был разбит и пленен при Седане, а уже через день в Париже произошла новая революция.
Кстати, именно к этому человеку относится знаменитая острота Маркса о том, что история повторяется, но, так сказать, с понижением в чине. С такой поправкой можно сказать, что исторические аналогии все-таки иногда работают.
Gefter.ru (доклад на конференции «Пути России 2014», круглый стол «Российское пространство экспансии»)Кому не быть братьями 10.04.2014
Стихотворение молодой украинской поэтессы Анастасии Дмитрук «Никогда мы не будем братьями» стало хитом Интернета, было положено на музыку в Литве и вызвало множество возмущенных откликов в России, даже несколько стихотворных отповедей, одни — профессионально складные, другие — наивно безграмотные.
Резкость реакции объяснима. Во-первых, в стихах Дмитрук поставлен под вопрос вековой миф о «братстве» русских и украинцев, констатируется его провал в ходе последних политических событий: отъем Крыма от Украины можно оправдывать с разных точек зрения, но только не во имя русско-украинского братства — с братьями так, конечно же, не поступают. Дмитрук указывает на неравный характер этого «братства», как мыслят его в России: «вы себя окрестили „старшими“ — нам бы младшими, да не вашими». Забавно, что ее оппоненты, декларативно отрицая это неравенство, сами же его воспроизводят, толкуя свысока о «молодой дурочке», «глупой девочке», «украинской девочке Насте Дмитрук» и т. д. Разговор на равных между двумя уважающими друг друга народами оказывается невозможен, можно только по-семейному учить жить несмышленыша на правах старшего брата. Но «девочка» -то явно требует иного, взрослого разговора, и, не в силах его вести, поучающие нервничают.
Во-вторых, заявляя о расторжении братских уз, Дмитрук апеллирует к настоящему, а не к прошлому. Ее противники все время ссылаются на предание, на «правду Истории», на память «предков», а у нее все происходит здесь и сейчас, в разгар киевской революции: «а у нас тут огни восстания». Она не пытается сводить старые счеты — дескать, вы с нами поступали нехорошо, ужо теперь поквитаемся, — не осуждает даже теперешние действия российского государства, а его подданных упрекает не в несправедливости, а в другом грехе — малодушии: «духа нет у вас быть свободными», «воля — слово вам незнакомое». Это суровые слова, и на них трудно возражать другими словами. О делах минувших дней можно вести бесконечную перебранку (и ведут), о справедливости тоже можно долго судить да рядить, а на обвинение в трусости полагается отвечать делами, к чему, похоже, мало кто готов. Поэтому опять-таки нервничают.
Наконец, в-третьих, Дмитрук никогда не уточняет, с кем именно «мы не будем братьями». Желающие могут, конечно, подставить под ее «вы» — просто «русских», но сама она от этого воздерживается. Более того, свои якобы антирусские стихи она пишет на хорошем русском языке, и в ее тексте нет ни одного специфически «украинского» мотива. Поэтому можно понимать ее местоимения в неэтническом, ненациональном смысле: «мы» — герои демократической революции, а «вы» — раболепные холопы своего «царя». И дальше каждому предлагается сделать свой выбор, к какой из этих двух категорий себя относить. Отвергая сомнительное «братство», Дмитрук предлагает всем людям доброй воли — в России, на Украине — новую, товарищескую солидарность. Так часто поступает революция — учреждает новое коллективное «мы», в которое кооптирует даже чужих, казалось бы, людей. Но, конечно, принять такое приглашение трудно, проще его не замечать и обижаться, замыкаясь в своем старом, традиционном «мы». Вот и обижаются — и опять-таки нервничают, чувствуя, что получается не совсем искренне.
Разумеется, все авторы отповедей дружно объявляют стихи Анастасии Дмитрук «плохонькими»; по выражению одного из них, «поэтическая составляющая никуда не годится» (до сих пор говорили только «коррупционная составляющая» — оговорка по Фрейду?). Спорить тут бессмысленно, но очевидно, сколь многих эти стихи задели за живое, — а это, как ни крути, признак художественной удачи. Два года назад точно так же, примерно по тем же причинам многих в России задели за живое Pussy Riot, разница лишь в том, что их украинская сверстница держится спокойнее, не кричит, а чеканит слова. Ей придает уверенности чувство единства со своим народом, говоря «мы», она обращается от его имени, от имени революции. Таким ломким и гордым голосом заявляет о себе в поэзии История.
* * *
Если бы эти стихи не были такими «горячими», не вызывали с ходу сразу так много нелитературных эмоций, я бы разбирал их со студентами как пример перформативного действия текста. Текст не только что-то значит, он еще и что-то делает по отношению к нам — что же именно? В данном случае это не инвектива, не обличение, а вызов, провокация (я недаром вспоминал PR): а слабо вам? слабо тоже быть свободными, героическими, демократичными? Этот вызов можно принять — то есть постараться действительно такими стать (и тогда никакой обиды не будет), а можно не принять, отругиваться от чужих, вместо того чтобы обратиться на себя (и тогда, конечно, текст читается как тупое оскорбление). То есть все зависит от доброй воли читателя: дверь открыта, нигде не сказано, что «мы» — это одни лишь украинцы, «вы» можете перестать быть «вами» и стать «как мы», одними из «нас».
Если еще более филологически углубиться в текст, то я бы заметил, что автор, по-видимому, начитан в русской литературе — оттого и язык у нее, по крайней мере в некоторых строках, богатый и энергичный. Должно быть, читала она и «Скифов» Блока — а в них та же враждебная оппозиция «мы/вы», та же уклончивость в определении «вас», а для «нас» заведомо неточное, метафорическое определение «скифы, азиаты». Или сравните: «Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы» и «Вы огромные — мы великие» (с обратным распределением атрибутов). Только ведь «Скифы» — тоже вызов, обращенный к врагам, чтобы призвать их к дружбе и даже… братству: «Пока не поздно — старый меч в ножны. Товарищи! мы станем — братья!«Если иметь в виду блоковский интертекст (кстати, и политически актуальный сегодня в контексте «обиды России на Запад»), то в стихах Дмитрук можно прочитать даже возможность нового, переучрежденного братства русских и украинцев, основанного уже не на традициях крови и почвы («ни по родине, ни по матери»), а на моральной и политической солидарности. Братства модернизированного, в соответствии с модернизирующей направленностью украинской революции. Братства через товарищество, как у Блока.
Я, конечно, не могу ручаться, что сама Анастасия Дмитрук согласилась бы с таким прочтением. Но текст часто выходит из-под власти собственного автора. Объективно ее стихотворение дает возможность для таких интерпретаций; и смею предполагать, что его взрывная популярность обусловлена именно сложностью, двойственностью задаваемой им установки. Подобно «Скифам» Блока, его можно прочитать как чисто националистическую поэзию вражды, а можно — как поэтическое же преодоление вражды. Еще раз, все зависит от нас, от нашей собственной позиции в литературе и жизни.
FacebookСовершенствование ума 2.07.2014
В поликлинике какой-то пенсионер и, вероятно, отставной военный, выйдя из кабинета после обследования, восхищается сложностью медицинских приборов: «Как же совершенствуется человеческий ум!» Пауза в две-три секунды — и продолжает: «Что Порошенко-то делает! Освобождать, видите ли, хочет территорию! Да его четвертовать надо!», и т. д.
В этой сценке интересна пауза, момент перехода и ассоциации идей, на первый взгляд комически нелогичной. Какая связь между успехами медицины и заявлением президента Порошенко (где он действительно обещал освободить — разумеется, не «территорию», а свою «страну»)?
Эта пауза обозначает смену ситуаций. В кабинете врачи проверяли здоровье пациента, могли обнаружить что-то жизненно серьезное. Собственно, и его спонтанная радость была, видимо, вызвана благополучным исходом исследования: ничего опасного не нашлось. Как бы то ни было, ему пришлось пережить ответственный момент, но ответственность носила интимный, почти домашний характер: здоровье и уход за своим организмом — типичные темы семейного общения. В коридоре же, куда он вышел, сидят уже чужие люди, не посвященные в его медицинские проблемы, возможно другие военные (поликлиника ведомственная). Общение с ними — тоже ответственный момент, но здесь ответственность уже публичная, и ответ приходится держать не телом, а словом. Здесь нужно уметь себя вести, выказывать правильную жизненную позицию, разделять верную идеологию.
Кажется, произошло вот что: восхитившись было человеческим умом, говорящий тут же вспомнил, что совершенствуется этот ум скорее не у нас, а в других странах — там, где делают сложные приборы. Еще недавно это можно было открыто признать с сокрушенным жестом патриота — дескать, умеют же люди, а вот у нас… Но теперь-то времена изменились, патриотизм стал воинственным, теперь расслабиться и расчувствоваться опасно — могут, как некогда, обвинить в низкопоклонстве перед Западом. И человек прикусывает язык, спешно блокирует свою мысль и, чтобы загладить оплошность, демонстративно отрабатывает жест ненависти к «чужим». Направить этот жест по истинному назначению — скажем, против американцев — было бы тоже неосмотрительно (вдруг выяснится, что именно они изобрели чудо-технику?), зато под рукой есть заместительная жертва — «хохлы», на которых и обрушивается патриотический гнев.
Французский философ и писатель-моралист Ален в 1922 году разбирал уловки подобных «дрессированных крокодилов», опираясь на свой опыт фронтовика Первой мировой войны:
«…Не очень-то мне верится, когда читаю о чистых душах, что среди жестоких испытаний войны искали и не могли найти правду. Кто ищет правду, тот быстро ее найдет. Но если искать ее опасно или же твои интересы связаны с неправдой, тогда всяк облачается в этакий политический панцирь, наглухо застегивается и зорко следит за каждой щелкой. Заметьте, что это требует весьма тонкого ума — ведь наши крокодилы в мыслях своих останавливаются задолго до того, как доберутся до узкого места. Как скряга за версту видит, что у него идут попросить взаймы, так и они за версту чуют, что их хотят в чем-то убедить, и ловко уклоняются от встречи либо захлопывают и запирают двери своего ума».
Их незачем психоанализировать: дело происходит в ясном сознании, которое цензурирует себя само, без всяких «оно» или «сверх-я». Человек не перестает видеть правду — он отворачивается от нее, прекрасно помня о ней, но изображая дело так, будто ее не ведает. У него есть на то интерес — хорошо выглядеть в глазах общества, соответствовать его требованиям, как он их себе представляет. И вот мирный пенсионер, раньше добродушно беседовавший с окружающими о нейтральных предметах, случайно сболтнув нечто потенциально политическое, внезапно приходит в боевое неистовство и выказывает преувеличенную кровожадность («четвертовать»). Тут нет никакой психической патологии — это нормальная комедия конформизма.
Конформистский ум внимателен и «тонок», по словам Алена. Он умеет считать вперед, предвидеть развитие ситуации. Собственно, именно временем, текущим моментом он и озабочен. Никто еще не успел ни в чем упрекнуть неосторожного, никто, кажется, и не имел такого намерения — чего привязываться к пожилому человеку, да и за что, собственно? — однако жест самозащиты делается превентивно, ввиду еще только возможных последствий.
Конформистский ум даже по-своему историчен. Герой нашей сценки помнит и советскую нетерпимость к врагам социалистического государства, и сменившую ее эпоху «общечеловеческих ценностей». Именно такие ценности невольно выразились в его восхищении свободным, никакому государству не принадлежащим человеческим умом. А дальше, как и в реальной истории, случился обратный разворот к «нашим традиционным ценностям», о которых никто не знает, в чем они точно заключаются, но каждый чувствует, что они «у нас» совсем иные, чем «у них». Скорость разворота — всего двух-трехсекундная пауза в речи человека, всего несколько лет или даже месяцев в жизни страны — свидетельствует о том, что оба стереотипа вполне присутствуют в памяти, хранятся наготове, словно полезные инструменты, которые всегда могут пригодиться. Стоит обстановке измениться, как с такой же быстротой произойдет и новый разворот. А она вполне может измениться, пожалуй еще при жизни этого ветерана, — глядишь, опять придется переориентироваться, гонясь за временем.
В общем, человеческий ум, даже неусовершенствованный, совсем не глуп, он все или по крайней мере многое понимает, просто умеет остановиться и подать назад, когда его мысль принимает нежелательный оборот. Так и работает массовое политическое сознание, превращая ответственность гражданина в безответственность флюгера, почти мгновенно «отворачивающегося» от опасного вопроса и заодно от самого себя: ибо наш ветеран был самим собой в момент наивно-непосредственного восторга перед техническим прогрессом. Видимая алогичность его реакции — не личное недомыслие, а симптом общественного состояния. О степени свободы или несвободы, в которой живут люди, можно судить по последовательности или непоследовательности их речей. В несвободном обществе ценится умение не додумывать свои мысли до конца.
«Новая газета»Космополиты и туземцы 15.07.2014
Коллега-литературовед, активно участвующая в зарубежных научных проектах, пожаловалась, что ей, русской, часто пытаются поручить работу над какой-нибудь темой, связанной с Россией, хотя сама она специалист по другой стране: «Это же обидно, тебя считают поставщиком сырого материала!» Вполне сочувствуя ей (сам много лет с этим сталкиваюсь), я ответил, что с этим надо бороться, ставить себя наравне с другими, без «национальной специфики», и добавил, что «в этом заключается верно понятый патриотизм».
В самом деле — продолжаю размышлять, — от американского ученого, включившегося в европейский коллективный проект, никто не станет ожидать исследований именно об Америке; немцу, приглашенному на конференцию в Америку, вряд ли станут предлагать рассказать публике о Германии или Австрии. А вот со странами вроде России дело обстоит иначе. Постколониальная ситуация, в которой они находятся (хотя Россию вроде бы никто не колонизировал), заставляет их уроженцев на мировом интеллектуальном рынке выбирать одну из двух ролей: либо космополита, трактующего «свои» проблемы наравне с «чужими», либо туземца, поставляющего свой местный«сырой материал» (сырьевая держава!), чтобы его перерабатывали чужие. В этом втором, наиболее распространенном случае, по выражению другой ученой дамы, на тебя смотрят не как на коллегу, а как на информанта, источник сведений для специалистов. Это действительно обидно, и понятно, что более патриотичной, более выгодной для «национальной гордости» является первая позиция, когда ты отказываешься эксплуатировать свою природную связь с отечеством на уровне сведений, которые ты о нем имеешь как местный житель, «носитель языка и культуры», и пытаешься утвердить свою репутацию на более высоком уровне, плодами собственной интеллектуальной работы. Получается, что космополитизм — не противоположность патриотизма, а его особая, высокоразвитая форма.
А какую же тогда позицию занимают агрессивные патриоты-реваншисты? Разумеется, вторую — позицию экспортера местных товаров, только товар у них самый тухлый и мало кому нужный в мире: зависть и ненависть. Их амплуа — не любезный туземец, а злобный туземец.
FacebookФеноменология лжи 2.08.2014
Ложь и обман присутствуют в нашей жизни в разных формах.
Во-первых, парадоксальным образом даже в свое отсутствие — как ожидание обмана, как подозрительность к чужим словам, в которых изначально ищут некий тайный умысел. Это преувеличенное внимание к интенции высказывания, к его функции в «языковой игре», которую Витгенштейн отграничивал от прямого значения слов. В основе своей это довольно здравый подход, но он может быть патологически извращен вплоть до комизма — когда человек вообще не слышит смысла слов, а вместо этого торопливо соображает, «чего от меня хотят» и «на чем меня пытаются развести». Такое бывает с людьми разных народов: вспоминается эпизод из Пруста, где Сван корит Одетту за дурное поведение, а она знай пытается понять — любит он ее или не любит…
Во-вторых, как деловая необязательность, безответственные и лживые обещания, которые раздаются тем более легкомысленно, чем хаотичнее общественная жизнь, чем больше в ней реальных или искусственно создаваемых факторов форс-мажора, позволяющих не держать слово. В нашей стране их, видимо, особенно много, или, по крайней мере, они имеют некую специфику. Здесь приходится сравнивать уже не только слова, а действия — например, процессы, ведущие к банкротству, и поведение в ситуации банкротства в разных странах.
В-третьих, как бытовое вранье, которое может служить защитным рефлексом. Оно объясняется не только страхом советских людей перед репрессиями, но и их массовой депрофессионализацией, низкой квалификацией — особенно среди работающих в сфере администрации, где чаще всего приходится объясняться и делать ответственные заявления. Для человека, занимающего не свое место, говорить правду значит быстро разоблачить собственную некомпетентность. А ложь дает ему иллюзорную свободу — можно выбирать, что соврать, тогда как правда всегда одна, и ей приходится подчиняться. Такие люди лгут не только тогда, когда нет прямой необходимости в правде, но порой даже тогда, когда она есть, когда правда была бы им выгодна, — лгут просто по животному инстинкту заметания следов. Как говорил один современный публицист, «люмпен считает, что от всего можно отовраться», а люмпен — это как раз и есть непрофессионал.
И, в-четвертых, как политический цинизм, когда всех «чужих» изначально считают (по собственному образу и подобию) беспринципными лжецами и тем легче, легковернее сплачиваются вокруг «своей» власти, о недобросовестности которой тоже вообще-то хорошо знают. Это, очевидно, самый злокачественный по своим последствиям тип общественной лжи — архаизация политического сознания, непонимание и неприятие просветительского универсализма и «общечеловеческих ценностей». Это даже не «реальная политика» в духе XIX века, это еще более примитивное состояние, где нет и сколько-нибудь ясного представления о собственных ценностях, собственной идеологии, которую можно было бы распространять и навязывать другим (будь то, скажем, то же Просвещение, коммунизм или ислам). Все лгут, потому что правды вообще нет, и если мы сражаемся с «чужими», то не за правду, а всего лишь за «своих». Реальная борьба за действительные интересы рассматривается при этом как игра в «геополитику» на диване у телевизора, и это оборачивается беспрецедентным, вероятно никогда не существовавшим в истории варварством, бескультурьем.
FacebookПсихоанализ по Хичкоку 16.10.2014
Осталось, наверно, уже немного фильмов Хичкока, которые я не видел, но иногда все еще бывают радостные открытия. Вот, например, фильм 1945 года «Зачарованный» (The Spellbound).
По сюжету — довольно обычный для Хичкока детектив, когда расследующий сам становится (как в «39 ступенях») объектом полицейского преследования. Но в этом фильме все расследование идет в форме психоанализа, вплоть до разоблачения убийцы, который тоже психиатр.
И это очень любопытный психоанализ. Он лишь отчасти серьезен, над ним весело подшучивают: «зачем начинающий психоаналитик должен сам пройти курс психоанализа? — чтобы проверить, в своем ли он уме…» Его ведут два профессионала — симпатичная барышня в очках для солидности (Ингрид Бергман) и ее учитель, смешной встрепанный доктор Брюллов, чья фамилия отсылает одновременно к Германии и к России: как можно догадаться, он эмигрировал, спасаясь от нацистов подобно Фрейду, а играет его русский актер Михаил Чехов. В этих двух докторах все слегка двоится, не совсем соответствует собственному стереотипу.
В хичкоковском психоанализе нет тяжко-фатальных объяснительных моделей, придуманных Фрейдом и применимых ко всем и каждому словно первородный грех, — никакого родительского коитуса, никакого эдипова комплекса. Главный герой, объект анализа (Грегори Пек), страдает неврозом из-за случайных, совсем не фатальных душевных травм: в детстве по неосторожности стал причиной гибели своего брата; на войне еле спасся из горящего самолета; проходя психоанализ, оказался свидетелем убийства своего аналитика и в результате переноса взял на себя не только убийство, но и личность самого убитого, отправившись вместо него руководить психиатрической клиникой…
Психоанализ по Хичкоку — какой-то«легкий» психоанализ, в нем нет роковой сексуальности, и развивается он тоже легко. Как часто в детективах Хичкока, не столь важна мрачная истина (иногда убийца известен с самого начала, как в«Веревке»), сколь увлекательная игра ассоциаций и метафорических подмен, которыми она зашифрована. Ее расшифровка подобна плетению художественной ткани, то есть детективная тема фильма однородна системе его визуальных мотивов. Расследование сродни искусству, а психоанализ — сюрреалистической поэзии. Что сны главного героя декорированы картинами Сальвадора Дали — это очевидно, да еще и специально отмечено в титрах; но не все, возможно, замечают, что сцена, где героиня спускается в гостиную и видит своего учителя, безжизненно распростертого в кресле, — реминисценция из сюрреалистического фильма «Полуденные сети» (1943) украинской эмигрантки Майи Дерен: у Дерен в кресле был настоящий труп, а у Хичкока человек, оказывается, всего лишь задремал.
Такова освобождающая сила этого поэтического психоанализа: конфликты разряжаются, ужасные подозрения рассеиваются, и даже финальным катарсисом становится не столько самоубийство разоблаченного преступника, сколько обрамляющие его сцены любовного единения двух главных героев. Их любовь уже никакому психоанализу не подвергается — чего там анализировать?
FacebookГлядя из Парижа 29.11.2014
В Париже вышел на экраны новый фильм Мишеля Хазанавичюса — «The Search» (так, по-английски, — возможно, потому, что это ремейк старого голливудского фильма о послевоенной Германии).
По сравнению с изобретательным «Артистом» того же режиссера этот фильм визуально скуден, и жанр совсем другой — вместо ностальгической комедии про Голливуд 30-х годов мрачная история недавних времен, второй чеченской войны 1999 года. Основное действие, в котором сотрудницы гуманитарных организаций из Европы, работающие в Ингушетии, помогают найти друг друга двум чеченским беженцам — мальчику и его сестре, — недостаточно драматично, и его пришлось дополнить почти не связанной с ним по сюжету историей русского солдата, жертвы и орудия военного насилия. Насилие показано детально и беспросветно, оно одновременно и бессмысленно и организованно, спускается вниз по команде, и несколько раз названо имя человека, стоящего наверху этой лестницы, — в тот момент новоназначенного премьер-министра России.
Смотря фильм, инстинктивно ловишь мелкие ошибки — скажем, солдаты, отдавая честь командиру, снимают головной убор. Или не совсем безобидные исторические умолчания: сообщая об обстоятельствах войны, титры не упоминают поход Басаева на Дагестан, с которого начались боевые действия. Зато русский мат воспроизведен обильно и правдоподобно.
Для русского зрителя фильм, конечно, тягостен, а хуже всего сознавать, что его художественные недостатки перекрыты и едва ли не оправданы дальнейшим развитием нашей политики, которое еще никто не предвидел осенью прошлого года, когда Хазанавичюс снимал свой фильм в Грузии. Не нам теперь его судить — лучше на себя обратиться.
Вообще, встречи с французскими друзьями и коллегами оставляют непривычное впечатление: люди осмотрительно избегают говорить о политике, опасаясь неадекватной реакции с твоей стороны, зато, убедившись, что реакция адекватная, сразу резко оживляются, начинают травить анекдоты про того бывшего премьер-министра и так далее. Некоторые, правда, пытаются входить в положение, брать на себя часть вины — это мы, мол, недоглядели, позволили вам дойти до такого…
Не радует все это. Разговаривая со старой знакомой, говорю ей: «Чувствую себя приехавшим из зачумленной страны». — «Да, ее теперь никто не любит», — подтверждает она.
FacebookСтатус русского языка 1.01.2015
Давно собирался рассказать о своем разговоре с украинской коллегой, состоявшемся не «у нас» и не «у них», а в третьей стране. Обычно я избегаю высказываться публично об украинских делах (только о российской политике в отношении Украины), потому что наблюдаю за ними слишком издалека; но один эпизод разговора запал в память и не дает покоя.
Моя знакомая осуждает российскую агрессию, однако украинский национализм ей тоже антипатичен и раздражает. Скажем, в ее вузе не только преподавание ведется исключительно на украинском языке, но даже в нерабочей обстановке нельзя было говорить по-русски, могли настучать начальству. «Теперь, конечно, этого больше нет». — «Теперь — значит после революции?» — уточняю я. — «Ну да», — подтверждает она и продолжает говорить о чем-то другом.
Подчеркиваю: моя собеседница сама не придала значения своему свидетельству, высказала его между делом, ненамеренно — и тем оно важнее. В стране, совершившей национальную революцию с целью (помимо прочего) отмежеваться от России, в стране, ведущей с нею войну, отношение к русскому языку не ухудшилось, а улучшилось, стало более терпимым. По-видимому, там в самом деле формируется современная политическая нация, независимая от этнической и языковой принадлежности людей.
Это свидетельство — конечно, лишь один частный факт, но факт достоверный, и мне кажется нужным его сообщить.
FacebookМы врем 16.01.2015
В русском языке есть два синонимичных глагола — «лгать» и «врать». Обозначают они одно и то же действие — «сообщать неправду», — но различаются иерархически. «Лгать» (и однокоренные слова) относится к сравнительно узкой сфере ответственного общественного бытия, «врать» — к широкому кругу повседневно-бытовых ситуаций и поступков. Одно дело «заведомо ложные измышления» (статья уголовного кодекса), «детектор лжи» (серьезная проверка для серьезных людей), «ложь во спасение» (предмет моральной рефлексии) — а другое дело пустые «враки», коими занимаются комические «врали» и при этом часто «завираются», «привирают», «перевирают»: сама продуктивность корня, легко обрастающего суффиксами и приставками, говорит о его разговорной обиходности. Одним словом выражается нечто важное, другим — что-то низкое и заурядное. Враги могут «облыжно охаивать» чьи-то идеологические ценности — а вот Хлестаков в «Ревизоре» разыгрывает «сцену вранья». Лжет — взрослый (мошенник, шпион), врет — ребенок (школьник, не выучивший урока).
Ложь абсолютна, она или есть, или нет. Ее не терпят, и сказать «ты лжешь» — конец разговора, за этим может последовать ссора, драка. Вранье относительно, его можно измерять и дозировать, допускать в известных пределах: «ври-ври, да не завирайся». Ложь созвучна с логикой (хотя филологи и не усматривают родства между этими словами), она определяется в строгих абстрактных терминах «ложная предпосылка», «ложное умозаключение», а вранье — это мелкие уловки повседневной практики, их теорией никто не занимается.
В логике есть так называемый «парадокс лжеца», вот, например, одна из его формулировок: высказывание «я лгу» внутренне противоречиво, не может быть ни ложным, ни истинным. Потому что если я лгу и сообщаю об этом, значит, хотя бы этими словами говорю правду, а если правдиво признаю, что вот сейчас лгу, — значит, все-таки лгу… И язык отдает себе отчет в этом противоречии: сказать «я лгу» по-русски можно разве что с возмущенным отрицанием («это я-то лгу?») или, еще лучше, с властной угрозой (как басенный волк ягненку: «Поэтому я лгу?..»).
А вот сказать «я вру» ничего не стоит. Это может звучать как легкая гипербола вместо «ошибаюсь»: «Ой, нет, вру, на самом деле не так…» Один из персонажей Достоевского заявлял: «Я люблю, когда врут! Вранье есть единственная человеческая привилегия перед всеми организмами. Соврешь — до правды дойдешь! Потому я и человек, что вру». То есть мы запросто сознаемся в своем «вранье» и не видим тут ни морального греха, ни логического противоречия с истиной («соврешь — до правды дойдешь»). Человек до последней возможности отпирается от обвинений во «лжи», тем более никогда он не применит к себе совсем низкого, грубо-животного синонима «брехать» — а вот «врать» кажется ему и окружающим чем-то простительным и чуть ли не нормальным.
Дело в том, что вранье, в отличие от лжи, не связано жестко с обманом, не обязательно предполагает, что кто-то кого-то дурачит. Солгать можно только с целью ввести партнера в заблуждение, а соврать — и по взаимному согласию, даже зная, что он тебе не верит. Соответственно вранье заразительно, в нем легко соучаствовать в роли слушателя: сам никакой неправды не говоришь, но молчаливо поддерживаешь тех, кто врет. Так образуется сообщество, вранье становится коллективным делом, предметом консенсуса. Лжец, вообще говоря, одинок и тревожно ждет разоблачения, а врущий живет с комфортом среди других непойманных воров: главное — сговариваться между собой, не противоречить друг другу. Лжет всегда некое конкретное «я», а вранье умеет размазываться понемногу на неопределенных, анонимных «нас».
И тут открываются интересные возможности для власти. Она широко прибегает к обману и, чтобы скрыть его, любит говорить «мы». Когда-то этим словом она чванно именовала сама себя: «мы, император и самодержец…» Сегодня она чаще играет на составном характере того множества, которое обозначается местоимением «мы», — на самом деле это ведь «я плюс вы». Один из ее приемов (мне когда-то уже приходилось о нем писать) — фразы типа «нам такая демократия не нужна». В начальственных устах это значит: мне не нужна (естественно!), а вы должны меня слушаться. Составное «мы» — это как раз такая форма демократии, где некоторые животные равнее других.
Еще чаще подобное «мы» формируется как бы само собой, без прямой речи начальника. Присоединенное к спускаемой сверху лжи, оно умножает, тиражирует ее и превращает в нечто всеобщее и само собой разумеющееся — на самом деле, конечно, в совместное вранье. «Мы взяли Крым» — это высказывание, как часто бывает, обманывает своими умолчаниями, например обходя вопрос «у кого?». Но его убедительность обеспечивается прежде всего иллюзорной солидарностью собеседников: мы же с вами разговариваем, значит, мы — это «мы», одна компания, а раз я чего-то там взял (или хотя бы одобряю это), то и вы, выходит, где-то рядом стояли…
Так обобществленное вранье из частного бытового порока становится государствообразующим принципом. Словно порченая монета настоящую, оно вытесняет из сознания людей понятие о лжи и, соответственно, о правде: вместо «они лгут» у нас говорят «все врут», у оппонентов и разоблачителей лжи тоже есть своя компания и свой интерес, и если здесь врут, то, значит, там тоже… Так подрывается в своей основе общественное согласие, потому что повторять-то вранье повторяют (порой даже с криком и истерикой), но верить в него не верят; с заведомым враньем нельзя соглашаться, ему можно разве что поддакивать. Властная ложь избавляется от комплексов, прячась за массовой безответственностью вранья, зато слово правды обречено на неуверенность одиночки, обращающегося к одинокому же собеседнику. В этой прямоте общения лицом к лицу, вопреки сомнительным очевидностям коллектива, — его единственная опора.
Нам лгут. Мы врем.
Я пытаюсь сказать тебе правду.
«Новая газета»Как работает «Левиафан» 19.01.2015
О «Левиафане» уже очень много наговорено — разумного и нет, — и я бы не стал вступать в дискуссию о нем, если бы из этой дискуссии у меня не складывалось впечатление, что я как-то совсем иначе, чем все, смотрю кино. Неужели правда не по-людски?
Мне не очень интересно спорить, все ли в фильме правда, — в основном-то, мы понимаем, да, Россия как Россия. И мне совсем не интересно расшифровывать его символический смысл. Кино не шарада, его не надо разгадывать, его надо смотреть, и режиссер — такая у него работа — хотел не «сказать» нам что-то, а заставить нас нечто увидеть и пережить. Следует понять, что именно.
В фильме разговаривают на живом, верно воссозданном русском языке — от бытовой матерщины (вполне уместной) до начальственной и церковной риторики. Есть даже совсем локальные, труднопереводимые черты: например, шутливо-эвфемистическое употребление слова «фаберже» или киноцитатная фраза, которую мальчик говорит мачехе, — «Не мать ты мне»: надо помнить знаменитый российский фильм с такой же репликой, где вместо «матери» был «брат». С этой национальной окраской диалогов контрастирует сюжетная история, хоть и происходящая в России, но не специфически русская, «общечеловеческая». Режиссера Андрея Звягинцева ругают: дескать, снимал для зарубежных фестивалей. Да нет, почему же только для фестивалей и только для зарубежных? для зрителей во всем мире, а не у себя лишь на родине, и это совершенно естественно в нашей глобальной цивилизации. Правда, это может быть одной из причин психологического дискомфорта для кого-то из наших соотечественников: фильм не стремится как-либо особенно понравиться именно им, он адресован не им специально, а вообще всем на свете. Этим он может раздражать, словно холодная красавица, не пытающаяся ни с кем заигрывать.
Когда сюжет обобщенный, не привязанный плотно к местной реальности, его приходится читать, исходя из знакомых художественных схем. И тут выясняется, что они в фильме присутствуют, но не работают, систематически дают сбои. Одна из писавших в Интернете о «Левиафане» наговорила о нем много злых и малоосмысленных слов, обозвала его «подлым», но при этом, как ни странно, сделала верное наблюдение: в фильме совмещены две сюжетные схемы, которые обычно эксплуатируются по отдельности в мировом, например голливудском, кино. Одно из двух: либо герой борется с внешними врагами (бандитами и т.п.), но за спиной у него прочная, надежная опора-семья, либо в семье у него происходит разлад, но тогда уже никакие враги не требуются. Здесь же враг у автомеханика Николая налицо, но главная катастрофа настигает его в семье, без прямого вмешательства противников. Зрителю трудно справиться с этим расхождением сюжетных линий, он бессознательно пытается сшить их вместе — и вот благожелательные к фильму люди начинают уверенно утверждать, что жена Николая не сама бросилась или упала с обрыва, а ее убили по приказу мэра-гангстера, дабы потом обвинить в этом самого Николая. Версия такая же абсурдная, как и версия следствия об убийстве жены Николаем, зато она дает иллюзию единого удобопонятного сюжета.
А сюжет фильма именно что не един, и это, несомненно, не изъян, а прием, это так задумано. (Вообще, можно понять каннское жюри, присудившее Андрею Звягинцеву и Олегу Негину приз за лучший сценарий.) Нам постоянно внушаются некоторые ожидания, и эти ожидания так же постоянно обманываются. В начале фильма вводится мрачный вроде бы персонаж — полицейский Степаныч, который «двух жен свел в могилу». Ждем от него новых злодеяний — но нет, Степаныч выглядит скорее забавно, отпускает рискованные шутки по поводу «нынешних» правителей, а в конце хоть и дает следствию показания на Николая, но в них всего лишь подтверждает реальный факт его ссоры с женой, то есть остается нейтрален. В эпизоде той ссоры два мальчика спускаются по крутому, опасному скалистому склону, младший из них даже боится идти дальше — зритель тревожно ждет несчастного случая, смертельного падения, как в «Возвращении» (у Звягинцева это автоцитата). Нет, дети всего лишь застигают в неподходящий момент двух любовников и разглашают их тайну, вместо трагедии получается адюльтерный фарс. Самый очевидный пример — ружье, за которое раз за разом хватается разгневанный Николай; это нам навязчиво напоминают хрестоматийное правило Чехова — «если в первом акте на стене висит ружье…» Но нет, ружье так и не выстреливает — то есть выстреливает лишь однажды для забавы, по пустой бутылке. Драма все время опрокидывается в мелочи быта: вот Николай на машине приезжает за женой на фабрику и от ее подруги узнает, что она не вышла на работу, — это первая весть о ее гибели. Муж встревожен, а между тем практичная подруга тут же спешит воспользоваться попутным транспортом: «Ты не подвезешь меня?»
История противостояния Николая с мэром — одно большое обманутое ожидание. Голливудские фильмы приучили нас, что мирный вообще-то человек, если его довести, однажды выходит на тропу войны и дает отпор врагам; Андрей Звягинцев сам позаботился напомнить нам об этом, заранее рассказав, что сюжет навеян реальным случаем в Америке, когда обиженный властями бульдозерист переоборудовал свой бульдозер в танк и снес полгородка. Однако герой «Левиафана» так и не восстает против мэра, остается пассивной жертвой, как и главные герои других фильмов Звягинцева («Возвращение», «Елена»). Он грозится, бранится, строит свирепое лицо, устраивает мелкий и бессмысленный скандал в полиции, но так и не совершает ничего решительного; вместо этого он пьет водку в товарных количествах, да еще избивает за кадром свою неверную жену и друга-предателя. Активной борьбой занимается вместо него тот самый друг — адвокат Дмитрий; в конце концов он уезжает из поселка побежденный — потому что его запугали мэр с его бандитами, как получалось бы в сюжете о борьбе с врагами? Нет, скорее потому, что он потерял доверие своего клиента и друга, ему некого уже больше защищать, да и любовный роман его кончился ничем.
Сходный механизм работает и в сцене разговора Николая со священником. Мы ждем, что тот как-то вмешается в конфликт: например, объяснит Николаю, что на месте его отнятого дома будут строить не чьи-то частные хоромы, а божий храм; или, наоборот, попытается как-нибудь заступиться за него перед властями. Нет, все не так: сюжетная роль священника остается нулевой, он ничего не делает и лишь наскоро проговаривает в наставление страдальцу кое-какие хорошо известные вещи из Библии — о Левиафане, об истории Иова. Слова его не очень убедительны (героя фильма они и не очень убеждают), но они и предназначены не прямому собеседнику, а пытливому зрителю — нате вот, толкуйте в свое удовольствие эти религиозные притчи, спорьте, какой духовный смысл в них заключен… Зато сам священник тут же символически снижен, скомпрометирован: Николай помогает ему дотащить до дома тяжелый мешок с буханками хлеба, но оказывается, что хлеб закуплен не людям, не беднякам каким-нибудь, а на корм свиньям.
Если уж говорить о Левиафане и прочих морских чудовищах, то для зрительского восприятия фильма важны не столько их туманные духовные смыслы, сколько визуальные рифмы. Все заметили сходство между выброшенным на берег китовым скелетом и гниющими остовами заброшенных кораблей; но точно так же на берег выброшен и труп жены Николая, — ее гибель и способ этой гибели заранее предсказаны образной перекличкой. Таких перекличек вообще много в фильме. Алексей Тютькин, написавший подробный структурный разбор «Левиафана», указал в нем на многочисленные парные повторы: два церковника, два судебных приговора, два выхода к морю… Некоторые из таких повторов отражают двойственную структуру сюжета, то есть разнесены по разным сюжетным контурам — «семейному» и «вражескому». Например, показаны две церкви — в одной, разрушенной, тусуется с приятелями сын героя, другую строят на месте его снесенного дома враги-мафиози. Адвокат Дмитрий дважды подряд избит — сначала своим ревнивым другом, потом подручными мэра (тот даже упрекает их — «зачем по лицу-то били?» — а по лицу били не они).
Повторы служат для того, чтобы расстраивать, нарушать повествовательную связь событий, вместо причин и следствий отвлекать наше внимание на сходства и переклички. Если восстанавливать причинно-следственную цепь, в ней обнаруживается множество прорех (на что указывал, например, Дмитрий Быков), но смотрим мы не на нее, а на что-то другое. События не вытекают одно из другого, в принципе все могло бы быть и иначе, они происходят сами собой, странно отзываясь одно в другом: так создается чувство фатальности.
Фатальность — это не причины и следствия, это судьба, которая глубже причинности. Если бы в фильме разыгрывалась одна более или менее связная история, мы бы не переживали так сильно за судьбу героя, которую в общих чертах представляли бы себе заранее. Другое дело, когда сталкиваются разные истории, перебивающие одна другую. Тогда в любой момент может случиться что угодно, нет единой понятной закономерности, и однако же все это ведет — непонятно почему, по воле судьбы — к неизбежному трагическому концу. Любое действие оборачивается противодействием, любой успех — поражением. Адвокату Дмитрию удалось было припугнуть, «нагнуть» мэра — зато он внес роковой раздор в семью своего друга. Николай помирился было с женой-изменщицей — зато этого не вынес сын, ревнующий его к мачехе, а вслед за ним и сама мачеха. Ее смертельный уход тоже ничего не разрешает, а приносит еще новые несчастья: на убитого горем мужа доносят как на возможного преступника, стоит ему пообещать перестать пить, как к нему приходят с арестом. Образные переклички делают события не объясненными, а предрешенными: жена Николая, еще задолго до того как погибнуть в море, моет в нем руки — ее словно тянет к этой воде; адвокат Дмитрий возвращается в Москву, и в коридоре поезда на него с женским любопытством поглядывает девочка-попутчица — символическая, неполноценная замена утраченной женщины, которой он предлагал уехать вместе.
Фатальность заложена и в пространственной структуре фильма, где нет мирно-человеческого ландшафта, а вместо него чередуются и встречаются бескрайние плоскости и крутые вертикали. Плоскости — это не только поверхность моря, но и городская площадь с длинными тенями от низкого северного солнца, по которой долго уезжает вдаль машина. А вертикали — это скалы и утесы, среди которых происходит злосчастный пикник, сквозь которые ведет дорога на рыбную фабрику (проезд по ней повторен дважды); у подножья горы стоит и дом героя, придавленный ее массой. Фатальность читается в сменяющих друг друга картинах жилища — сначала это обжитой, гостеприимный дом, потом пустая квартира с ободранными стенами, где уединяется с подругой жена Николая (видимо, в какой-то такой халупе им придется жить после потери дома), потом опять дом, из которого вывозят и выносят вещи, наконец впечатляющий кадр, где его стены проламывает ковш экскаватора, причем показано это изнутри, прямо из веранды с остатками мебели и посуды: между прочим, визуальная цитата из «Репетиции оркестра» Феллини. Опять вместо последовательной сцепки происшествий — рифмы да реминисценции: поэзия, а не повесть.
А что же все это значит? А что хотел сказать режиссер? А какой образ России он создает? А как жить человеку в такой стране? И стоит ли? На эти вопросы может отвечать только зритель — пусть он сам себе их задает и сам ищет ответа. Дело создателей фильма — взбудоражить его, представив сильную, правдоподобную, но замкнутую в себе, лишенную явного смысла трагедию рока. Дело зрителя — пережить ее и разомкнуть обратно, в свою реальную жизнь, спроецировать на свою историческую, не-роковую ситуацию. Не следует ждать от искусства объяснений и тем более наставлений, искусство ничего нам не сообщает — искусство есть сила, действующая на нас и побуждающая думать и договариваться самим. Для начала — по поводу вот этого произведения.
* * *
28.01.2015
Просматривая в «Фейсбуке» одну из дискуссий о «Левиафане» (как же их много! и как это симптоматично!), наткнулся на такую возмущенную оценку:
«За что премии? Какие премии? Фигня на постном масле. Фильм ничего не дает ни уму, ни сердцу, а только искусственно бередит! А зачем? А для чего?»
Я умилился сердцем: ведь написавший — написавшая — невольно для себя сформулировала самую суть искусства. Оно именно и должно нас «искусственно бередить» и не объяснять, «зачем» и «для чего»: пусть мы сами понапрягаем мозги и попробуем осмыслить собственное чувство. И вот именно за это люди его ругают!
А ведь об этом писал еще Пушкин:
И толковала чернь тупая: «Зачем так звучно он поет? Напрасно ухо поражая, К какой он цели нас ведет? О чем бренчит? чему нас учит? Зачем сердца волнует, мучит, Как своенравный чародей?..»Вечная проблема — что два столетия назад, что теперь.
Facebook«Дурак», или «Левиафан-87» 3.02.2015
Фильм Юрия Быкова «Дурак», который часто сравнивают с «Левиафаном» Звягинцева, действительно сходен с ним по тематике: современная провинциальная Россия, системная коррупция власти (точнее и детальнее изображенная у Быкова), одинокий герой, противостоящий социальному злу. Но между ними есть важное различие в культурном фоне.
Кинофильмы всегда повторяют и цитируют друг друга; это нормально, иначе нам было бы трудно их понимать, словно фразу, составленную из новых, никогда не слыханных слов. Так вот, Звягинцев использует для цитат мировую киноклассику от Феллини до Тарковского, в саундтреке у него музыка современного американского классика Филипа Гласса. А у Быкова культурная подкладка фильма — вся из позднесоветской эпохи, особенно из популярного кино 70—80-х годов; соответственно и главная музыкальная тема у него — не какой-нибудь Гласс, а Виктор Цой, который для кинозрителя ассоциируется с «Ассой» Сергея Соловьева (1987).
Основные сюжетные мотивы «Дурака» — из фильмов тех же лет, творчески преобразованные в соответствии с новой эпохой. Например, главный визуальный символ — трещина, образовавшаяся в здании и грозящая похоронить под обломками его обитателей (она, разумеется, недвусмысленно обозначает общее неблагополучие в стране), — уже был в комедии Эльдара Шенгелая «Голубые горы, или Неправдоподобная история» (1983). Правда, у Шенгелая в рушащемся здании помещалось некое издательство с нелепо-абсурдными, но в общем человечными сотрудниками, а у Быкова — жуткое люмпенское общежитие с пьяницами и наркоманами.
Человеком, который обнаружил близящуюся катастрофу и пытается бить тревогу, выступает сантехник — едва ли не главный герой советской подцензурной сатиры и юмора, от карикатур и эстрадных реприз до фильма Георгия Данелия «Афоня» (1975). Юрий Быков по контрасту переосмысливает эту стандартную фигуру: его герой не слесарь-забулдыга, а положительный молодой бригадир, он учится на инженера-строителя, умеет рассчитывать устойчивость зданий, и в своей борьбе за жизнь незнакомых людей он не комичен, а драматичен.
Главный сюжетный эпизод «Дурака» — экстренное совещание ответственных руководящих товарищей, которые большую часть времени сидят в закрытом помещении и пытаются как-то реагировать на неприятную правду, раскрытую бригадиром-сантехником, а попутно сами раскрывают свои характеры, проблемы и пороки, — опять-таки взят из знаменитого в свое время фильма «Премия» Сергея Микаэляна (1974), экранизации пьесы «Протокол одного заседания» Александра Гельмана (который в свою очередь, похоже, знал фильм Сиднея Люмета «Двенадцать сердитых», 1957, — но это отдельная история). В обоих сюжетах возмутителем спокойствия служит бригадир (в «Премии» — заводской), младший руководитель, требующий от высшего начальства вспомнить свой долг и посмотреть в глаза правде. Как и символика трещины, эта советская коллизия перекрашена в более мрачные тона: у Гельмана был оптимистический соцреалистический конфликт лучшего с хорошим, а у Быкова — безнадежное противостояние нормального человека и сплоченной чиновничьей мафии.
Наконец, по сравнению с «Левиафаном» особенно ясно бросается в глаза одна странная для наших дней лакуна в изображаемой жизни — полное отсутствие религии. Не заметно ни церкви где-нибудь на городской улице, ни попа среди руководящей элиты, ни крестика или иконки в домашнем быту людей; никто не поминает бога, даже случайно, всуе. Такая секулярность тоже приводит на память прошлое — не столько реальное советское общество, где религия в разных формах существовала, сколько массовое советское кино, которое ее систематически игнорировало.
Откуда такая ретро-окраска современного и злободневного фильма? Юрий Быков родился в 1981 году, в момент крушения СССР ему было всего десять лет, то есть советская кинокультура вряд ли составляет для него часть непосредственной юношеской памяти; скорее она искусственно реконструирована режиссером по старым фильмам, и множественность отсылок к ней говорит о том, что реконструкция была сознательной, последовательной. Зачем же она нужна?
В кинематографе бывает, что фильм снимают для определенной группы зрителей — подростков, пенсионеров, домохозяек. Можно было бы предположить, что и «Дурак» намеренно рассчитан на возрастную категорию людей, которые помнят советскую эпоху: они, в отличие от более молодых, способны опознавать в нем атмосферу тогдашнего кино, условную картину мира своей юности, хотя им и не требуется для этого точно вспоминать источники каждого мотива. Но тогда в фильме должны были бы быть персонажи, которые сами принадлежали бы к данной группе и с которыми зритель мог бы себя отождествлять. В «Дураке» фигурирует по крайней мере один такой человек — отец главного героя, честный и порядочный заводской крановщик пенсионного возраста (причем без всякой ностальгии по советским временам; можно предполагать, что некогда он был за «перестройку»). Он почти не участвует в действии, зато он, единственный из всех персонажей, с пониманием относится к принципиальности сына. Он годился бы на роль «образа зрителя», если бы чаще появлялся в кадре и занимал в фильме более значительное место.
Если же «Дурак» все-таки не был предназначен специально тем, кому за 50, тогда возвращение к мотивам, схемам и символам позднесоветского кино объясняется просто нехваткой какой-либо другой художественной традиции, которую можно было бы ныне использовать для критики общества. Впечатление такое, что два с половиной десятилетия постсоветского развития оказались бесплодными для социально-обличительного кино, и поэтому режиссер, снимающий фильм в таком жанре, вынужден черпать образный материал либо из мирового, «космополитического» культурного фонда, как Звягинцев, либо из популярных отечественных источников брежневской и горбачевской эпохи, как Быков. То есть «Дурак», несмотря на свою вполне сегодняшнюю, современную обстановку, — это фильм, который мог бы появиться году в 1987-м, с патетической песней Цоя про ожидание перемен.
FacebookТелесный низ 13.02.2015
«Оплевывать». «Обсирать». «Очернять». «Забрасывать грязью». «Мазать дерьмом». «Марать черной краской». «Наложили кучу». «Хочется блевать». Эти расхожие выражения — метафоры, по большей части грубо-телесные, всевозможных покушений на высшие ценности, — сегодня не просто массированно применяются в полемике, но все прочнее связываются со словарем одной из партий — и всем известно какой. Теперь это что-то вроде лозунгов. Встретив в речи или в тексте одно из таких опознавательных речений, можно с высокой вероятностью догадаться обо всем остальном содержании, они резюмируют целую идеологию. Неосведомленному человеку современная общественно-политическая жизнь может показаться борьбой высокого и низкого, духа и плоти, где чистую духовность изо всех сил защищают от телесной скверны.
Что на самом деле неверно. Да и телесность и плоть жалко — они того не заслуживают.
FacebookГосконтрафакт 17.02.2015
Думская акция «Я Кобзон» могла поразить цинизмом своей параллели. Возмутительно несопоставимы пострадавшие, с которыми предлагается солидаризироваться: с одной стороны, погибшие жертвы террористов из журнала «Charlie Hebdo», с другой — ставший невыездным преуспевающий певец-депутат. Но поражаться тут нечего — это так и было задумано, и это вообще образец современной государственной политики: передразнивать Запад (и собственных национал-предателей, да и вообще хоть все человечество), не смущаясь фальшью пародии. Вы митингуете на Болотной — мы тоже будем митинговать на Поклонной. Они отторгли Косово — мы отожмем Крым. Они возили нам гуманитарку — мы тоже будем ее возить в Донбасс. А что на Поклонной митингуют бюджетники по разнарядке, что в Крыму депутатов силой согнали для принятия судьбоносного решения, что в гуманитарных конвоях не только помощь мирному населению — это всем очевидно, а нам и наплевать: так мы их всех троллим и всех переигрываем.
Все время сравниваешь их с большевиками. Те троллингом не увлекались, притязали построить свой небывалый новый мир. А эта обезьянская власть ничего своего придумать не умеет, знай корчит рожи, передразнивая старших и высших по развитию. На философском языке это называется борьбой мимесиса с логосом — злого клоуна с мировым разумом. А по-французски «передразнивать» и «подделывать» обозначаются одним глаголом contrefaire — отсюда наш «контрафакт». Такая вот контрафактная политика.
FacebookЯзык сопротивления 2.03.2015
По свежим следам вчерашнего московского траурного марша говорили о его особом «политическом языке». Метафора «языка» действительно удачна, и важно понять, что вообще можно сказать на этом языке, как он устроен.
Не исключено, что сказать уже мало что удастся. У Анны Зегерс в романе «Мертвые остаются молодыми» есть эпизод последней — и тоже необычно массовой — антифашистской демонстрации в Берлине в 1933 году, уже после прихода к власти нацистов и незадолго до поджога рейхстага: ее участники «всем народом хоронили свободу». Может статься, что таким был и вчерашний марш, и некоторые его участники сами признаются в чувстве растерянности и безнадежности.
И все же новый язык, новый способ политического отношения к миру возникает. Я бы назвал его языком сопротивления. Даже, может быть, Сопротивления с заглавной буквы.
На шествии несли множество российских флагов. Впервые это пытались делать еще на несогласованных акциях год назад; в этот раз их приготовили для другого марша, в Марьине, и в отличие от прочей наглядной агитации они не устарели после гибели Бориса Немцова. Это очень важный политический жест: национальный флаг поднимают не претенденты на власть, а защитники своей страны, не те, кто желает ей понравиться, а те, кто сам себя с нею отождествляет. Не бунтари, а законные граждане. Вместо задорного самоуправства революционного меньшинства: «мы здесь власть!» — положительное самоутверждение морального (не статистического) большинства: «мы и есть Россия». Как писал другой германский поэт-антифашист (их опытом не стоит пренебрегать, даже если они были коммунистами): «Я — немец. Пусть позволено глупцам / Меня лишать гражданства в озлобленье. / Я прав своих гражданских не отдам…» То же, по сути, означают и нынешние триколоры: «мы, многонациональный народ России…», — сколько бы нынешние глупцы ни твердили о «национал-предателях», заимствуя термин у тех самых немецких глупцов. Сопротивление — это борьба даже не за благополучие своей страны и не за конкретный ее политический выбор (скажем, «европейский», как на Украине), а за ее свободу и честь. Его участникам стыдно, «обидно за державу», которая унижена оккупантами или же сама ведет себя недостойно, — и этим они раздражают своих противников, требующих от них «убираться вон из страны». Это ведь действительно неуютно — жить рядом с людьми, которым за тебя стыдно.
Сопротивление — не то же, что революция (даже демократическая), хотя может включить ее в себя или, точнее, повлечь ее за собой. Это скорее оборона, чем наступление, причем не самооборона теснимой противниками партии, а оборона всей страны ее гражданами, порой против внутренних оккупантов; на такую патриотическую борьбу и идут под государственным флагом. В отличие от партии, здесь может не быть лидеров, а потеря крупного лидера болезненна, но не фатальна. Здесь слабее выражена агрессия, и оттого, скажем, мстительный лозунг «не забудем, не простим», хотя и виднелся у кого-то на шествии, но вряд ли еще долго останется в ходу. Культура хлестких и остроумных политических оскорблений исчерпала себя, растворившись в тупой брани троллей и ботов. Вообще, в сопротивлении не нужно распалять себя боевитыми или даже «добрыми» призывами, и правильно, что «весенние» кричалки, которых напридумывали устроители марьинского марша, остались невостребованными. Сопротивление по большей части тихая, сосредоточенная работа, и поэтому — а не только из-за скорбного повода — московское шествие двигалось почти молча. В сопротивлении можно обходиться минималистскими лозунгами, и они преобладали в колонне над плакатами крупными и многословными; в пределе это был просто листок с надписью «Нет слов» в траурной рамке — трагическая вариация анекдота про листовки без текста, когда «и так все ясно». Анекдот — из эпохи диссидентства, чей опыт по-прежнему актуален.
Судя по московскому маршу, оппозиционное движение в России переходит в режим сопротивления — политического, морального, интеллектуального. Пожалуй, так ему теперь и предстоит работать, даже если вчерашняя демонстрация, не дай бог, действительно окажется последней.
FacebookПузырь лжи 8.03.2015
Политологи и экономисты говорят о близящемся крахе российской экономики, но мало обращают внимание на другой процесс: в обществе набирается критическая масса лжи, которая грозит взрывом. И не просто лжи, а лжи открытой, общеизвестной, которая циркулирует подобно инфляционным деньгам и дутым акциям — ими пользуются, но им никто не верит, кроме последних «лохов». Самый очевидный пример, конечно, интервенция на Украине: о ней не принято говорить вслух (хотя многие все равно говорят, и не только ее противники), она считается военной тайной, но на самом деле это секрет Полишинеля, которым давно никого не обманешь. Правильно указывают, что повторение такой лжи может служить проверкой на лояльность, все равно как в преступной шайке новичка заставляют что-нибудь украсть или кого-нибудь убить в порядке вступительного экзамена. Но ложь имеет свойство накапливаться, она становится все более несуразной, все больше путается в противоречиях и опровергается общеизвестными фактами. Рано или поздно придется от нее отказаться — а как? Может быть, это сделают потихоньку, убрав-таки войска с Украины, — но однажды содеянное все равно уже так просто не забыть. Или, может быть, устроят coming-out, провозгласят во всеуслышание: «Да, Россия воюет с Украиной! Россия всегда воевала с Украиной!» — но что будет потом? все радостно закричат «ура»? Вряд ли: до сих пор поддерживающим власть было жить удобно, за них отвечало и отвиралось в ООН начальство, а им достаточно было тихо ему поддакивать, хлебая бесплатное пропагандистское пойло из телевизора; теперь же надо будет всерьез обсуждать это дело, брать на себя какую-то гражданскую ответственность, а это сильная ломка. Неизвестно, что натворят такие граждане, не получив однажды ежедневную дозу лжи; не потому ли начальство боится открыть правду? Как бы не пришлось их успокаивать другой, еще большей ложью, затевать новую, еще более крупную авантюру, из-за которой станет уже не до того, что было раньше. Надеюсь, такое решение все-таки увлекает немногих.
Уменьшенной, не столь грозной моделью того же процесса может служить история с фальшивыми диссертациями. Научное сообщество годами врало само себе, закрывая глаза на их массовое производство, — и вот настает момент, когда вранья накопилось сверх всякой меры и коллективная совесть больше не выдерживает. Публикуются во множестве разоблачительные сведения, некоторых плагиаторов лишают степеней, некоторые коррумпированные советы распускают — но что же дальше? Может быть, рассчитывают и здесь спустить дело на тормозах — кое-кого демонстративно наказать, а дальше все само образуется, наглые плагиаторы постепенно выйдут на пенсию, уступив место другим, лучше маскирующимся. Или дело зашло так далеко, что все-таки неизбежен скандал и взрыв — например, массовый отказ от степеней, который прогнозируют некоторые участники Диссернета? На сегодня второй вариант кажется вероятнее. Скандала можно было бы избежать, разве что срочно учредив какую-то иную, альтернативную науку, которая перекрыла бы нынешнюю, — в принципе такое осуществимо, только кто будет ракеты запускать? Идущая в обществе деградация заставляет искать аналогии в истории то ли итальянского, то ли германского фашизма; но что-то в этих аналогиях не сходится, что-то в этой истории не так. Если это фашизм, то какой-то невиданный инфляционный фашизм, надувающийся как пузырь нескрываемой лжи. И мне почему-то приходят в голову аналогии с дефолтом 1998 года, о котором заранее знали, которого ждали во всем мире (меня, например, предупреждали заграничные друзья за два месяца), но спекулянты до последнего дня продолжали перепродавать пустышки-ГКО. Не знаю, как в экономике, но в общественной морали пузырь должен лопнуть.
FacebookКлассификация божьих тварей 18.03.2015
В чужой ветке Фейсбука идет нервная дискуссия о смертной казни. Экзальтированная дама пишет, что она бы охотно казнила «живодеров», которые мучают и убивают для потехи собак и кошек. Ее пытаются урезонить, объяснить, что это психически неуравновешенные люди, которые нуждаются в лечении, что они-де тоже «божьи твари», — а она возражает: «И фашисты, которые бежали на русских с автоматами, были такими же божьими тварями».
Вот пример общественной (именно общественной, а не только личной) патологии, когда слепая ненависть связана с блокировкой рационального мышления и рациональной самоидентификации. Дама не замечает алогизма своей фразы: кого бы ни подразумевать под «фашистами» — настоящих нацистов, с которыми воевали семьдесят лет назад, или тех, которых пропаганда ищет теперь на Украине, — все равно они «бежали с автоматами» не только на «русских» (еще на украинцев, на бурятов…), и не все, кто бежал с автоматами на «русских», были «фашистами» (были ведь и аполитичные призывники). В голове этой женщины логические параметры перемешаны: мир иррациональным образом делится на «русских» (национальная категория) и «фашистов» (политическая категория) — все равно как делить предметы на круглые и зеленые. И себя, и врага определяют по случайным, не соответствующим друг другу понятиям. Как следствие, не удается помыслить — то есть помыслить ответственно, вложив в него какое-либо существенное содержание — и обобщающее понятие, которое включало бы в себя и тех и других; а таковым было бы, конечно, понятие «люди» (вместо них определение «божьи твари», повторяемое в презрительно-саркастическом тоне). В том-то и дело, что слепая, неосмысленная ненависть в потенции обращена на всех людей: тот, кто сегодня считается «русским», завтра легко может стать «фашистом» — критериев-то нет, сегодня наш враг живодеры, а завтра еще кого назначат. Единственным применением для не-абсурдных и не-враждебных чувств остается жалость к животным — именно потому, что они не люди, а все люди суть потенциальные «фашисты».
Умиление перед зверюшками, собачками и котиками может быть вполне опасным симптомом, им компенсируются недоверие и ненависть к людям. У Пушкина в «Дубровском» есть знаменитая сцена, где мужики сжигают живьем запертых в доме судейских чиновников — на тот момент это для них «фашисты», — но один из них лезет на горящую крышу, чтобы снять с нее кошку. Анимализм вместо гуманизма.
FacebookМистраль 31.03.2015
В ответ на мое сравнение холодного ветра, который уже пятый день свищет в Москве, с французским мистралем, мне напомнили позднее, 1952 года, стихотворение Бунина на эту тему:
Ночь Ледяная ночь, мистраль, (Он еще не стих). Вижу в окна блеск и даль Гор, холмов нагих. Золотой недвижный свет До постели лег. Никого в подлунной нет, Только я да Бог. Знает только Он мою Мертвую печаль, Ту, что я от всех таю… Холод, блеск, мистраль.У этих стихов богатая интертекстуальная предыстория. Тематически они восходят к русской медитативной лирике XIX века — «Выхожу один я на дорогу…» Лермонтова, а еще более того к Тютчеву, например:
Как хорошо ты, о море ночное, — Здесь лучезарно, там сизо-темно… В лунном сиянии, словно живое, Ходит, и дышит, и блещет оно… На бесконечном, на вольном просторе Блеск и движенье, грохот и гром… Тусклым сияньем облитое море, Как хорошо ты в безлюдье ночном! Зыбь ты великая, зыбь ты морская, Чей это праздник так празднуешь ты? Волны несутся, гремя и сверкая, Чуткие звезды глядят с высоты. В этом волнении, в этом сиянье, Весь, как во сне, я потерян стою — О, как охотно бы в их обаянье Всю потопил бы я душу свою… Январь 1865Повторяются важные смысловые мотивы: ночь, простор, стихийное движение в мире (у Лермонтова его нет, там все неподвижно), блеск небесных светил, тревожно-стесненное чувство поэта, переживающего свою отчужденность от природного мира (у Лермонтова этого опять-таки нет, зато есть, как и у Бунина, контакт с божеством). Между прочим, Тютчев и Бунин писали свои тексты хоть и с разницей почти в столетие, но географически недалеко друг от друга — один в Ницце, другой в Грассе.
Вот еще параллель из американского современника Тютчева — Генри Лонгфелло, которого Бунин переводил на русский язык (правда, не эти стихи, а поэму «Песнь о Гайавате»):
FOUR BY THE CLOCK Four by the clock! and yet not day; But the great world rolls and wheels away, With its cities on land, and its ships at sea, Into the dawn that is to be! Only the lamp in the anchored bark Sends its glimmer across the dark, And the heavy breathing of the sea Is the only sound that comes to me. September 8, 1880 ЧЕТЫРЕ ЧАСА УТРА Четвертый час… Во тьме ночной Летит в пространство шар земной. Несет он земли и моря Туда, где встретит их заря. И лишь фонарь на корабле Мерцает мне в прохладной мгле… И лишь доносится ко мне Дыханье моря в тишине. 8 сентября 1880 года, перевод Б. ТомашевскогоЛонгфелло сдержаннее в душевных излияниях, прячет их в описании внешнего мира, а основные мотивы все те же: движение, происходящее в огромном мироздании, слабое мерцание в ночи (фонаря, а не луны или звезд), предчувствие чего-то неизвестного впереди.
Итак, тематика бунинских стихов — из поэзии XIX века. А вот формальная организация — из двадцатого века. В первую очередь это, конечно, Блок:
Ночь, улица, фонарь, аптека, Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века — Все будет так. Исхода нет. Умрешь — начнешь опять сначала И повторится все, как встарь: Ночь, ледяная рябь канала, Аптека, улица, фонарь. 1912Ряд тематических мотивов повторяется и здесь: ночь, холод, тусклый свет, тоскливое чувство отчужденного мира (возможно, при взгляде из окна, как и у Бунина); нет, правда, никакого движения, кроме бессмысленного повторения времени. Зато бросается в глаза синтаксический параллелизм — окольцовывающий повтор назывных конструкций, которые описывают внешнюю среду: «Ночь, улица, фонарь, аптека… Аптека, улица, фонарь» — «Ледяная ночь, мистраль… Холод, блеск, мистраль»).
И наконец, своей метрикой стихи Бунина заставляют вспомнить Константина Симонова:
Жди меня, и я вернусь. Только очень жди, Жди, когда наводят грусть Желтые дожди, Жди, когда снега метут, Жди, когда жара, Жди, когда других не ждут, Позабыв вчера…Здесь также кое-что сходно в тематике — одиночество и тревога героя, проецируемые на природные процессы (дожди, снега…), а ритм совпадает стопроцентно. Известно, правда, что «Жди меня» (1941) — это запоздалый отклик Симонова на стихи Гумилева («Жди меня. Я не вернусь / это выше сил…»), но у Бунина отсутствуют какие-либо смысловые переклички с Гумилевым. Знал ли эмигрант Бунин знаменитое стихотворение официального советского поэта? Мог знать.
Мне неизвестно, отмечались ли в критике эти интертексты.
FacebookВеликодержавность 4.04.2015
Внешняя политика России постыдна и недостойна великой державы.
Великая держава не может обижаться. Обиженная держава — нонсенс, комическое противоречие. Уверять себя и других, что «нас никто не любит», что «наши западные партнеры» не считаются с нашим мнением и строят нам козни, что «если бы не было Украины, они нашли бы другой повод», — значит пренебрегать державным достоинством и вставать в позу мелкого скандалиста, который сам ищет, к кому привязаться и чем оскорбиться.
Великая держава не может руководствоваться одними лишь «национальными интересами». Ее величие определяется именно способностью подняться над эгоистическим интересом и следовать требованиям чести и долга. Это значит до конца выполнять закон и собственные обязательства, даже если кажется, что другие их нарушают. Это значит помнить о своем долге перед человечеством — заботиться о его безопасности, не разжигать конфликтов ради политического самоутверждения, не подавать своими действиями опасных примеров другим. Так называемая «реальная политика», утверждающая, будто закона нет, каждый за себя и все дозволено, — это политика не державная, а жлобская.
Великая держава не может лгать в глаза всему миру. Она должна уметь признавать свои ошибки и даже преступления, тем более если они уже сами вышли на свет. Отрицать очевидное для всех, рассчитывая таким образом кого-то «переиграть» и что-то выгадать, — это поведение не уважающей себя державы, а наглого жулика или хулигана, которому наплевать на свою репутацию.
Хулигана опасаются, но не уважают — точнее, его могут уважать только другие хулиганы. Хулиган или жулик никогда не может быть велик.
FacebookНа конкурсе лжецов 7.04.2015
Объясняю французским коллегам, что происходит в России. Не обхожусь, конечно, без клеветы на отечество: много, мол, в нем говорится злобного вранья, в частности о «Западе».
— Ну, — самокритично отвечают французы, — у нас тут тоже не меньше всяких глупостей говорят про Россию.
— Нет! — решительно возражаю я. — Такого быть не может. В этом виде спорта чемпионы только мы. Для нас это вопрос национального престижа.
То есть иногда я тоже болею за своих.
FacebookЗабыть войну 8.05.2015
У Поля Рикера есть книга «Память, история, забвение»: для него это три разных формы коллективной работы с прошлым. Меня всегда интриговала третья часть рикеровской формулы. С памятью и историей все более или менее понятно: история (наука) проверяет память людей, систематизирует ее, дополняет знанием о том, что было, но чего никто не помнит. А забвение? неужели оно тоже необходимо обществу? Да, говорит Рикер: например, без забвения нельзя помириться с бывшим врагом.
Я снова думал об этом, гуляя по Берлину — городу, исковерканному историей — не наукой, конечно, а сначала столетней имперской авантюрой, потом пятьюдесятью годами социализма за колючей проволокой. Городу, где на каждом шагу сознательно расставлены знаки памяти, — чего стоит хотя бы контур Берлинской стены, тянущийся вдоль улиц и набережных. Такое множество памятных знаков (самых благородных по намерениям и смыслу) говорит о том, что живой памяти людей не хватает, ее приходится подпирать знаками. И рано или поздно наступит момент, когда знаки перестанут работать, и тогда то, что было памятью, придется аккуратно забывать, сдавать в архив историкам: уж больно тяжелая это память, трудно выносимая для народного сознания.
У нас в России проблема стоит почти так же. Живой памяти о Второй мировой войне остается все меньше и меньше — у немногих живых ветеранов и, уже в иной, измененной форме, у их ближайших потомков (я тоже — сын участника войны, но не претендую на достоверную память о ней). Есть еще исторические знания о войне — выверенные, научно систематизированные, но ими может владеть лишь меньшинство. Большинство же людей войну и не помнит, и не знает — они знают и помнят только популярные книжки, фильмы и телепередачи о ней, разноречивые, подчиненные переменчивым политическим нуждам: позавчерашним, вчерашним, сегодняшним… Смутная, хаотическая память, которая из них образуется, невыносима для целостного переживания, слишком много в ней кричащих и ужасных противоречий; пытаясь ее понять, легко сорваться в истерику. Сознание людей непроизвольно пытается привести ее в порядок — но не научно-объективно, как делают историки, а просто как-нибудь так, чтобы можно было ее удерживать и не мучиться в каждый момент от ее разорванности. И, конечно, чаще всего выбирают упрощенно-положительную версию: мы победили, защитили правое дело, завоевали себе славу, а другим свободу… Не требуется даже корыстной пропаганды, чтобы все остальное, что не укладывается в эту схему, отбрасывалось; таков естественный душевный порыв или, если угодно, соблазн.
И вот я думаю, что Вторую мировую войну (или как там ее у нас называют, намеренно упрощая ее суть) пора забывать. Ничего ужасного в этом нет: у нас же нет живой национальной памяти о Первой мировой войне или о войнах с Наполеоном — и мы не видим здесь никакого кощунства и оскорбления предков. Конечно, те немногие из нас, у кого есть живая память или же научное знание о войне, пусть хранят их и дальше. Но всех остальных бессмысленно «просвещать», искусственно напоминать им то, чего они не могут помнить, — пусть лучше забывают то, что они принимали за реальную память. Пусть эта война будет заархивирована, и сведения о ней останутся в архиве. Архив — это уже не память в строгом смысле слова, потому что это ничья память, никем не ощущаемая как своя. Попав в архив, она в буквальном смысле «принадлежит истории», науке, ее больше не помнят, не переживают, а лишь изучают. И прав Рикер: не сумев так сознательно, уважительно (да-да!) забыть войну, не удается помириться не то что с былыми врагами, но и с былыми союзниками — и даже с былыми «братскими народами», о чем напомнил нам прошедший год.
FacebookПрочь от своих могил 10.05.2015
Среди одобрительных и даже восхищенных отзывов о марше «бессмертного полка» диссонансом прозвучалислова одного из моих друзей, увидевшего в этом марше «неожиданный зомби-эффект». Я, в отличие от него, не видел шествие своими глазами, но на фотографиях оно действительно производит странное, тревожное впечатление. Идет многотысячная толпа без лиц — их не видно за портретами предков, которые все несут над собой, заслоняясь ими словно масками.
Конечно, этот марш, как и всякий факт культуры, сверхдетерминирован — объясняется разными причинами и несет разные смыслы сразу. Здесь и советская привычка к массовым демонстрациям и гуляниям на майские праздники, которую в кои-то веки удалось освободить от коммунистической идеологии; и еще более старинная традиция крестных ходов, когда над головами несут хоругви с ликами святых. Само название «бессмертный полк» сегодня звучит в пику украинской «небесной сотне», хотя было придумано еще до Майдана. Придумано не начальством, но и не в гуще народа, а креативщиками с томского телеканала (как георгиевская ленточка — креативщиками из РИА Новости), которых потом безжалостно раскулачили — не только конфисковали перспективную идею в пользу государства, но еще и отняли лицензию на телевещание, чтобы их совсем тут не было. Кроме того, это название — цитата из песни Булата Окуджавы «Кузнечик», где речь шла вовсе не о солдатах, а о «стихотворной когорте» поэтов и певцов; у Окуджавы была условная метафора, здесь же она буквализирована и ремилитаризирована. В общем, все сделано из каких-то чужих, насильственно перехваченных и кое-как переозначенных слов, идей и ритуалов.
Не так важно, кто как переживает массовое шествие, — наверняка разные люди переживают по-разному, и многим кажется, что они просто чтят память своих погибших на войне родственников. Все дело в том, что у нас ведь есть обычные, стандартные формы поминовения усопших. Главная из них — посещение кладбища (или памятников, символически заменяющих могилы). Здесь же все наоборот: марш «бессмертного полка» — это такая анти-пасха (вскоре после настоящей), когда не живые направляются к могилам мертвых, а сами мертвые сходят со своих могильных изображений и плотной колонной шествуют по городу. Зомби не зомби, но это кладбище, вышедшее на улицы.
У древних греков были особые неблагоприятные дни в году — «апофрадес», когда люди старались сидеть дома и не предпринимать ничего серьезного. Считалось, что в такие дни по городу разгуливают восставшие мертвецы, а это существа небезобидные, даже если принадлежат твоему собственному роду. Также и разнообразные игрища с масками (карнавалы и т.д.) обычно связаны с культом мертвых — их участники одержимы духами покойников и более или менее серьезно пугают друг друга.
В эту традицию неожиданно вписывается и шествие «бессмертного полка», само название которого заключает мысль о смерти. Оно мотивируется памятью о войне, но уже сейчас на нем можно было нести портреты не только тех, кто непосредственно воевал, а если акция будет повторяться, следует ожидать и дальнейшего расширения их круга. Здесь же и маскарад, вообще широко распространенный в современной политической культуре России (казаки, военные реконструкторы и т.д.): носят не только портреты, но и военную форму времен Второй мировой, бутафорские награды и тому подобное.
В традиционных обществах подобные ритуалы выражают тайный страх людей перед прошлым, которое не отпускает их, не хочет уходить — мертвый хватает живого, поэтому его стараются почтить и задобрить. И если вполне благонамеренные авторы затеи с «бессмертным полком», пытаясь придумать новый поминальный обряд, не нашли ничего лучшего, чем наводнить наши города изображениями мертвых, превращая «главный народный праздник» в «апофрадес», значит, неладно что-то в национальной памяти и самосознании. А в нынешней обстановке вялотекущей войны и новых военных угроз приходит на память, что культ мертвых часто используют для воодушевления бойцов — пусть они отождествляют себя с погибшими и идут в бой как бы уже мертвыми, то есть бессмертными. В годы Первой мировой войны прославились своим нечаянным символизмом слова французского офицера (распубликованные писателем-патриотом Морисом Барресом), который поднимал в атаку своих то ли уставших, то ли оробевших солдат: «Вставайте, мертвые!» Иногда они встают.
Мне, конечно, возразят: ничем-то на вас не угодишь. Когда годовщину победы празднуют с ликованием и гордостью — это вам плохо, когда со скорбью и памятью о погибших — опять не так… Но, повторяю, дело не в чувствах, они часто нас обманывают, дело в объективной логике обрядов, которая идет из глубокой древности и работает независимо от наших сознательных намерений. Обряд бывает сильнее идеологии.
И вообще, давайте задумаемся: многие ли из нас хотели бы, чтобы после смерти их портрет нацепили на палку и таскали по улицам? Наши мертвые, наши предки действительно были бы рады такому поминовению?
FacebookМинуты роковые 1.06.2015
Коллега написала, что по сравнению с прошлым годом происходящие вокруг печальные события больше не вызывают желания их обсуждать — разве что вздыхать и стонать. Я возразил, что обсуждать-то по-прежнему интересно — но уже не (только) друг с другом, а с чужими: с иностранными людьми, с будущим, с высшим собеседником, у кого он есть.
Потом пришло в голову, что именно это и есть историческое самосознание: переживать современность как исторический процесс, подчиненный не вполне ясной нам судьбе и тем более важный не только для прямых «заинтересованных лиц», но и для других, — пусть они извлекают уроки из происходящего с нами, а наше дело им в этом помочь. Для участников процесса в таком осознанном причащении к истории есть даже своеобразная честь: о ней писал Тютчев в «Цицероне» (как ни странно, в сравнительно спокойную, застойную эпоху).
FacebookВойна и ложь 18.06.2015
Что первично — война или ложь? Вопрос не схоластический, не спор о курице и яйце. В нашей жизни скопилась опасная масса того и другого, и хорошо бы определить, с какого конца эту массу разгребать, чтобы в ней не утонуть.
С одной стороны, война способствует лжи, оправдывает ее. На войне лгать — правильно и похвально, это называется военной хитростью. На войне есть враг, и обмануть его не грех. А дезинформируя врага, командование охотно дезинформирует и своих сограждан, ставших теперь бойцами: рассказывает им небылицы о вражьих зверствах, скрывает свои неудачи и потери, придумывает якобы одержанные победы. Ложь «во спасение» (во чье?) из мелкого частного прегрешения становится социальным институтом, скрепой общества, извиняюсь за выражение.
С другой стороны, война вспыхивает тогда, когда люди не могут договориться, — а это случается не из-за абсолютно непримиримых интересов (таких не бывает, интересы всегда можно как-то уравновесить и обменять), а из-за абсолютной утраты доверия. В словах и поступках друг друга люди и целые народы начинают видеть не просто недружественные выпады, а ложь и предательство, против которых уговоры и договоры бесполезны — надо отвечать насилием… а также ответной ложью и предательством. Самый страшный и самый ненавистный персонаж на войне — не просто враг, а шпион, изменник, враг-лжец. С врагом можно примириться, с изменником нет; их ищут и находят, их становится все больше, снежный ком лжи катится и разрастается, и ничто не может его остановить, пока он не растает, пока не сгорят в военном огне сами участники процесса.
Получается, что ложь все-таки первичнее: ее немало и в мирное время, но до поры она находится в рассеянном состоянии, а в какой-то момент сгущается до критической массы и запускает цепную реакцию войны (горячей, холодной, гражданской, «гибридной»…), которая уже в свою очередь в неограниченных масштабах производит новую ложь.
Такое катастрофическое сгущение происходит тогда, когда открыто, в глаза всему свету начинает лгать государство. Оно и вообще-то склонно подвирать, как и многие из нас; но однажды, еще до начала реальной войны, оно осознает себя живущим по законам военного времени и не стесняется больше выглядеть бесчестным в чужих глазах. Большая, всем видная государственная ложь подхватывается и разменивается в бесчисленном частном вранье. Если власть может лгать из своего государственного интереса — то чем хуже другие, у которых тоже есть свой частный интерес: партия, фирма, команда, семья, да и отдельный человек, в конце концов? За государством признают исключительное право на насилие, но не на ложь — такой госмонополии не бывает.
Если так, то в каждом встречном человеке я должен видеть потенциального лжеца — не согражданина, не конкурента, а обманщика и предателя. Он, может быть, еще ничего реально и не соврал, но я от него этого жду. Во всяком случае, так приходится смотреть на сторонника лгущего государства: он может быть даже симпатичным, но раз он сделал выбор в пользу лжи, значит и сам неизбежно должен будет лгать. Более того: от оправдания лжи несложен логический переход к допустимости большинства других преступлений, вплоть до убийства; стало быть, я должен смотреть на этого человека как на своего потенциального убийцу. И это не столь абсурдно, как может показаться: в истории, в том числе отечественной, много примеров того, как безобидные, приятные люди соучаствовали в убийствах, и даже в массовых.
Когда сегодня сетуют — чаще всего почему-то именно государственные мужи и их сторонники — на «атмосферу вражды», на «конфронтацию» и «гражданскую войну», распространившуюся в обществе, надо понимать, что это лишь следствие. Беда не в том, что люди с разными мнениями издеваются друг над другом, обзываются срамными словами и время от времени зовут на помощь городового (который охотнее вступается за тех, кто на стороне «власти»). Главное, что в их перебранке сделалась привычной наглая ложь. Градус вражды резко снизился бы, если бы противники условились избегать — не то чтобы добросовестных ошибок, преувеличений, умолчаний, тенденциозных оценок, а хотя бы прямого, сознательного вранья. И договорились бы публично осуждать всех тех — включая собственных союзников! — кто такое вранье себе позволяет. К сожалению, одной из сторон пришлось бы тогда осудить государственную власть — а они ее по определению поддерживают; оттого делавшиеся когда-то попытки заключить пакт о законах и обычаях политической борьбы не дали результата даже на уровне профессионалов, партийных функционеров и журналистов. Может быть, такого соглашения (которое и называется «гражданским согласием») удастся постепенно достичь снизу, на уровне собственно общественном. Это единственная надежда, иначе остается ждать, пока растает снежный ком.
FacebookЗапретное станет главным 28.06.2015
На конференции Вольного исторического общества несколько десятков человек — многих знаю как классных специалистов — не пожалели целого выходного дня, обсуждая программу действий общества. Предполагается открыть сайт исторической информации, провести аналитическое исследование о том, как в сегодняшней России представляют себе прошлое, вести то ли один, то ли два исторических журнала. Амбициозная программа; если хватит настойчивости в ее осуществлении, то через какое-то время ВИО может превратиться в Российскую историческую академию. В условиях разгрома и упадка РАН такое не совсем невероятно.
В кулуарах с коллегой (как и я, не совсем историком по специальности) разговаривал о том, что в большинстве других гуманитарных наук независимые профессиональные ассоциации уже есть, историки запоздали. Почему? видимо, в нормальном состоянии они склонны разбегаться по своим дисциплинарным углам, кто чем занимается; но сейчас, столкнувшись с валом агрессивного невежества, который стал захлестывать их профессиональное поле, волей-неволей начали сплачиваться, сбиваться в кучу, думать о сопротивлении. Интересно, когда настанет очередь филологов?
Хотя на сегодня в деятельности ВИО будет преобладать санитарная функция — чистка замусоренного поля, — но многие выступавшие говорили о «позитивном» научном действии: популярно-просветительском, экспертном, отчасти и исследовательском. Это будет работой на будущее, результаты которой не сразу скажутся. Важно иметь в виду такую перспективу. Один из старших членов общества напомнил слова своего учителя, сказанные в опасном 1949 году: «Надо заниматься не только тем, что разрешает начальство, но и тем, что оно категорически запрещает, — потому что завтра это и окажется главным». Это относится не только к истории и не только к науке.
Facebook«Бегущая по волнам» 30.06.2015
Недавно перечитал, отчасти по профессиональной надобности, «Бегущую по волнам» Александра Грина и даже посмотрел обе экранизации — бутафорскую халтуру 2007 года и значительно более стильный советско-болгарский фильм Павла Любимова 1967 года, с хорошими актерами (Ролан Быков, Маргарита Терехова, Олег Жаков) и по сценарию Александра Галича, который еще и исполнял за кадром несколько песенок. Когда-то в этом фильме я впервые услышал его голос, еще совсем не зная, кто это такой.
Литературные источники гриновского письма очень отчетливы: морской приключенческий роман и символизм, Джозеф Конрад и Александр Блок. С Конрадом имелся помимо прочего биографический параллелизм: и Юзеф Коженевский, и Александр Гриневский были поляками по происхождению, но стали писателями-маринистами в других странах, на других языках (правда, для Грина русский был уже родным). А от Блока идет мистика Несбывшегося, грезы о Прекрасной Даме, смутно прозреваемой в облике реальных «незнакомок».
«Бегущая по волнам» особенно любопытна тем, как эти облики множатся, рассеивая и ослабляя любовное влечение. В романе целых три привлекательных девушки, каждая из которых могла бы стать его исключительной героиней; в неоплатоническом духе они расставлены по ступеням бытийной иерархии — идеально-призрачная Фрэзи, таинственная, но в конце концов выясняемая Биче и инженю Дэзи, которая вся здесь, налицо, тогда как две первых умножаются в искусственных образах-портретах (фотография Биче, статуя Фрэзи) и отражаются одна в другой. Самая сложная партия в этом трио — у средней девушки, Биче, которая не проста, но и не идеальна. (В обеих экранизациях именно с ее изображением справляются хуже всего, она слипается с одной или двумя другими женскими персонажами, вместе с которыми ее даже играет одна и та же актриса). У Грина она выделена простым «реалистическим» мотивом: Биче — собственница. При первом появлении она, сойдя на берег с корабля, сидит на чемоданах со своим багажом (имущество!) и деловито торгуется с гостиничными зазывалами. А потом выясняется, что у нее есть наследство — яхта, которую мошеннически отняли у ее отца и которую она пытается вернуть. Сама она переживает эту яхту мистически, надеясь воссоединиться с нею как с собственной сущностью; когда же при визите на судно выясняется, что оно успело стать ей чужим, то на этом кончается и ее таинственность, и ее завязавшийся было роман с рассказчиком (в эпилоге он бесстрастно встречает ее вновь, уже замужней дамой). Собственность и сущность несовместимы еще более, чем идеал и действительность.
Вообще, в «Бегущей по волнам» часто — особенно для «фантастического» романа — упоминаются деньги, и не магические деньги-сокровище (как, скажем, в другом романе Грина «Золотая цепь»), а вполне прозаическое платежное средство: упоминается о переводах, получаемых героем от своего поверенного, о плате за билет, о цене фрахта или контрабанды, о покупке маскарадных платьев, о продаже судна; даже нешуточные, не совсем карнавальные баталии вокруг памятника Бегущей по волнам отчасти, конечно, символичны, но отчасти и мотивируются грубо-коммерческими интересами земельных собственников и девелоперов. В таком трезво-деловом взгляде на морские (и сухопутные) приключения Грин ближе всего к Конраду.
При его чтении бросается в глаза неправильный, нередко просто корявый язык. Рука тянется к карандашу, чтобы исправить неловкие фразы и выражения, — как будто читаешь несовершенный перевод. Чувствуется, что автор — самоучка, выгнанный из гимназии, да еще и все-таки не совсем русский по происхождению; но в известной мере такой «переводной» эффект оправдан сюжетом — произведения Грина принадлежат к модному в русской литературе 1920-х годов жанру псевдопереводного романа, действие которого происходит где-то за границей, а персонажи носят иноземные, в основном англоязычные имена.
Почему этот писатель стал культовым в пору оттепели? Грина ценили (и ценят) как «мечтателя» — но только это не символистское воспарение над реальностью (он как раз внимателен к реальности, даже материально-денежной), а рассеянность, несконцентрированность личных интенций. У героя «Бегущей по волнам» нет единственной возлюбленной, нет какого-либо сосредоточенного интереса, нет стесняющих и фиксирующих его обстоятельств; он странствует с места на место, и даже его финансовые дела «детерриториализированы» — денег у него хоть и не много, но он не зарабатывает их (вплоть до конца романа), а регулярно получает откуда-то издалека. По ходу действия он неоднократно встревает в опасные конфликты (всякий раз из благородных побуждений — заступаясь за женщин), но они продолжаются недолго и остаются без последствий. Он не местный житель, а путешественник, внешний зритель в чужой стране. Такая слегка отстраненная позиция (другой ее вариант — многие герои Стругацких), не предполагающая драматической вовлеченности и ответственности за происходящее и благоприятствующая наблюдению, размышлению, иронии, а иногда и мечтам, оказалась особенно востребованной в 60-е годы — уникальную эпоху, когда Россия ненадолго вздохнула свободно.
FacebookПамять о подвигах 12.07.2015
Скандал, поднявшийся после разоблачения легенды о «28 панфиловцах» (впрочем, независимые исследователи критиковали ее уже давно), показывает всю фантастичность того, что у нас называется «памятью о войне».
В самом деле, чем была лжива эта легенда, обнародованная в «Красной звезде» в ноябре 1941 года? В ней не так уж мало правды. Дивизия генерала Панфилова действительно обороняла Москву против немецкого наступления, ее бойцы действительно сражались и погибали. Ее оборона подготавливала декабрьское контрнаступление советских войск. Если описанный в газете бой произошел не совсем в том месте, его участников было больше и некоторые из них, названные погибшими, на самом деле остались живы, то это можно было бы списать на добросовестные ошибки корреспондентов, которые в боевой обстановке не успели выверить всех подробностей, но главный смысл событий не исказили.
Настоящая ложь, намеренное извращение сути дела были в другом — в том, как излагался результат боя. По версии газеты, отряд из 28 пехотинцев (неполный взвод) без долговременных укреплений, без артиллерийской поддержки сумел отбить атаку 54 немецких танков (неполный танковый батальон) и уничтожить 18 из них. Такая эффективность обороны была невозможна — просто по соотношению сил, по вооружению тогдашней пехоты, и это должно было быть понятно всем мало-мальски опытным людям. Получив сообщение о столь невероятном исходе боя, журналисты обязаны были трижды его проверить, чтобы не печатать откровенный вздор. Но они ничего не проверяли — они сами сочинили этот рассказ, многократно занизив свои и завысив чужие потери и объявив об отбитой атаке, когда на самом деле советский полк вынужден был отступить. Смысл события они заменили на противоположный: где в действительности было тактическое поражение, они «нарисовали» победу — ибо с точки зрения холодной тактики результаты «боя 28 панфиловцев», будь они правдой, считались бы несомненным успехом, добытым ценой серьезных, но приемлемых потерь.
В литературной критике и риторике традиционно различается изображение «возможного» и «фантастического». Изображение возможного (пусть и не обязательно реально имевшего место) называют «правдоподобием» или «реализмом». Легенда о 28 панфиловцах, придуманная в «Красной звезде», была явно неправдоподобной и антиреалистической — она рассказывала о том, чего не просто не было, но и не могло быть. При этом она все же маскировалась под правду, только не фактическими подробностями, а аффективным настроем. От дешевых пропагандистских агиток ее отличала трагическая тональность рассказа: победа далась нелегко, герои-панфиловцы победили, но сами погибли в бою (оттого, кстати, и некого из них было расспросить, проверить рассказ). Этим она хорошо подошла на роль символа, была удостоверена государством (в указе о награждении) и увековечена в официальной культуре. Ее критика до сих пор воспринимается многими как очернение исторической памяти народа. Приходится признать, что эта память не может жить без фантастического символа, о правдоподобии которого — о правдоподобии, не просто о правдивости! — недопустимо задумываться и в котором реальный трагизм поражения заслоняется гордостью за вымышленный успех.
Собственно, так же сегодня и со всей исторической памятью России: положено не столько скорбеть и ужасаться потерям, понесенным страной (на войне и не только), сколько торжествовать по поводу одержанных побед. А если где-то и когда-то реальных побед не хватало, то их можно выдумать — и потом гордиться ими хоть целый век.
* * *
13.07.2015
Предыдущий текст отчасти задумывался как социологический эксперимент, то есть я знал, что придется написать еще раз по итогам обсуждения, изучив аргументы за и особенно против.
В отрицательных и недоброжелательных комментариях повторяется один и тот же набор аргументов: 1) ну да, этот подвиг — вымысел, и что из того? это условный собирательный образ реального народного героизма; 2) историческая память во всех странах основана на мифах, иначе не может быть, 3) журналисты из «Красной звезды» придумали подвиг 28 панфиловцев — и правильно сделали, так было надо в то время для подъема патриотизма; 4) то же самое и теперь — «зачем развенчивать подвиг в то время, когда стране особенно нужны герои?» (так высказался где-то режиссер, снимающий фильм «28 панфиловцев»). Итак, практически никто не спорит, что имела место фальсификация, но ее разными способами оправдывают, а ее разоблачение осуждают как подрыв духовных устоев.
Отвечу по порядку, начиная с конца.
Кинорежиссеру, выдвинувшему аргумент 4, можно было бы напомнить слова Брехта: «горе стране, которая нуждается в героях», — но он вряд ли их оценит, что это вообще за Брехт такой? Зато показательна его незатейливая коммерческая логика: если в стране (предположим) есть спрос на героизм, то неважно, настоящий это будет товар или контрафактный. Какая разница, что продавать — паленые айфоны или вымышленные подвиги? И зачем разоблачать подделку, сбивать на нее цену? дайте людям заработать.
Аргумент 3, насчет «подъема патриотизма», требует выяснить, как конкретно воздействовали публикации типа «28 панфиловцев» на своих читателей, и особенно на солдат-фронтовиков, которых они вроде бы и должны были вдохновлять на подвиги. Это в тылу люди еще могли не знать (или не хотеть знать) правду, а солдат на передовой прекрасно понимал, что взвод пехоты не может выдержать атаку танкового батальона; как же ему верить в такие россказни? Не сочиняли ли их пропагандисты с целью «поднять патриотизм» собственного начальства — попросту говоря, угодить ему?
Аргумент 2 сегодня особенно востребован в политической полемике: да, мы врем — но и все врут; да, мы подлые — но и весь мир подлый. Перефразируя старую остроту, «плагиатор считал, что пишет на уровне мировых стандартов». На самом деле героические мифы, конечно, создавались и создаются в разных странах; но в некоторых не самых отсталых странах эти мифы еще и разоблачаются. Один из коллег уместно напомнил мне фильм Клинта Иствуда «Флаги наших отцов» — печальную историю «назначенных» героев с прославленного, но фальсифицированного, постановочного военного снимка; сила фильма именно в критическом отталкивании от мифа, хотя этот миф все-таки опирался на реально одержанную, а не вымышленную победу. Идеальным типом тех фальсификаций, о которых идет речь у нас, был другой пропагандистский образ — геройский «товарищ Огилви», полностью выдуманный сотрудником Министерства правды в романе Оруэлла и, подобно «28 панфиловцам», удостоверенный самим Большим Братом. Пример Иствуда или Оруэлла показывает, как культура — история, литература, кино — работает не только на мифологизацию, но и на демифологизацию. Если быть как все, то надо ведь подражать и этому тоже, не так ли?
Аргумент 1 вроде бы затрагивает самую глубинную суть дела. Допустим, для исторической памяти нужны «собирательные образы», и неважно, стоит ли за ними конкретная реальность. Будем чтить мифы как условные знаки — в конце концов какая-то идея ими всегда обозначается («народный героизм», «ВОВ»). Тут, однако, открывается огромная серая зона исторической памяти, масса логически неразрешимых вопросов. Какие именно мифы следует чтить? даже если брать безусловно патриотические — скажем, разве Добрыня Никитич и Илья Муромец для нас столь же священные фигуры, как 28 панфиловцев? Их князю Красному Солнышку собираются ставить памятник — а почему не им тоже? может, вводить градацию мифов по степени святости — святость первого, второго разряда?.. Или другая проблема: вот есть конкретные герои, с именами и фамилиями, но что именно они сделали — лучше не выяснять, потому что обнаружится, что все было не так. То есть историческая память говорит одними именами без глаголов, подлежащие есть, а сказуемые замалчиваются, зажевываются, — и как же такую речь выборматывать? Или еще: миф о панфиловцах мы помним, а историю этого мифа — то, как другие люди конструировали и аранжировали их подвиг, — забываем; но разве и то и другое не есть предмет для памяти? Если бы открыто признать мифы мифами, чистым продуктом художественного вымысла, то с ними не было бы никакой проблемы, но на самом деле это мутное смешение вымысла с реальностью, а фильтровать эту муть, отделять правду от выдумки почему-то объявляют вредным. Мы охотно (хоть и чуть-чуть понарошку) чтим древние предания; но тут перед нами исторический новодел, на наших глазах фабрикуемый ловкими руками фальсификаторов, — как же принимать всерьез такие подделки (ср. аргумент 4)?
В споре о героях-панфиловцах историческому, критическому сознанию противостоит магический культ. Это именно магия, а даже не религия, потому что проработку духовного опыта (например, в христианском смысле) она подменяет поклонением идолам, отдельным священным предметам и легендам — не смущаясь даже их перепроизводством и инфляцией. Как говорил один литературный герой, щепок от креста господня, выставленных в церквах по всему свету, хватило бы не на крест, а на целый забор; но что до того идолопоклоннику, припадающему вот к этой конкретной святыне? Другое дело, что история все-таки существует, и не только в сознании, но и в реальности: то есть времена действительно меняются, а мифы, которые не желают признавать себя вымыслом, все более обесцениваются. В какой-то момент (как было у нас четверть века назад) изолгавшееся и изверившееся общество просто распадается — и тогда идолопоклонники начинают ныть, возмущаться и кивать на злые силы, «развалившие великую страну». Да никто ее не разваливал, кроме вас самих: потому что не желали знать правду, соглашались жить в мутной лжи. А во лжи никакая страна долго не устоит, даже великая.
* * *
14.07.2015
Хорошо было бы сдать легенды о войне в архив. Не то чтобы совсем забыть — организованное забвение вообще сложнейшая проблема современного общества, о чем, кстати, свидетельствует только что принятый (мягко говоря, несовершенный) российский закон на эту тему, — но дезактивировать их, отключить от сети идеологического напряжения, вывести из обращения, словно устаревшие, да часто еще и фальшивые монеты: пусть себе лежат безвредно под стеклом, и пусть ими любуются нумизматы.
К сожалению, это все легко сказать и пожелать — а как конкретно, какими действиями осуществить? Вот элементарный пример: недалеко от моего дома находится улица Героев Панфиловцев. Что с ней делать? Панфиловцы действительно существовали, среди них и правда были герои, и если переименовывать улицу, то вроде бы получится неуважение к их памяти. Но ясно же, что улицу назвали еще и в честь того конкретного — мы теперь знаем, вымышленного — подвига: как же изъять из символики названия этот злокачественный элемент, как хирургически вырезать его, не тронув остального?
Можно, конечно, издать книгу (толстую!) под названием «Пропагандистские легенды» — с тщательным их изложением, учеными комментариями и т.д., — но, боюсь, архивного спокойствия за этим не воспоследует. Скорее, наоборот, патриотическая общественность в очередной раз взорвется возмущением: опять ворошат прошлое, переписывают историю, оскорбляют нашу память! ничего святого у них не осталось…
С другой стороны, объявить мифы советской истории (военные и не только) частью «литературы» тоже не очень-то получится. Рассказ о панфиловцах — еще сравнительно невинный, но ведь вместе с ним в «архив» неизбежно попадут и такие нарративы, как, скажем, «Краткий курс истории ВКП (б)», погромные статьи в тогдашних газетах, протоколы судов над «врагами народа»… Вымысла в них не меньше, а то и больше — но все-таки не литературного, а какого-то другого, из того разряда, который в советском же уголовном кодексе назывался «заведомо ложными измышлениями».
Я не знаю общего решения этой проблемы, хотя думать о ней необходимо. Иногда — парадоксальная диалектика, — чтобы миф можно было сдать в архив, его надо творчески переработать. Выше уже заходила речь о фильме Клинта Иствуда «Флаги наших отцов». Если бы и у нас режиссер (писатель, поэт) такого же класса так же честно и тактично пересмотрел заново, с современной точки зрения, старый героический миф, — это пожалуй, было бы действенным средством, чтобы оставить его позади, преодолеть силой искусства. Один любимый мною теоретик писал, что мифы можно критиковать, а можно переигрывать (как бы выбивать клин клином): следует иметь в виду оба решения.
FacebookИ еще об исторической памяти 23.07.2015
Войны вокруг исторической памяти, в которых мы волей-неволей участвуем, приводят к мысли, что в искусстве или литературе больше нельзя «просто» повествовать о событиях прошлого. Любая, даже самая добросовестная попытка напрямую изобразить was ist eigentlich gewesen станет выглядеть повторением тех или иных мифов, более или менее яркой бутафорией. Изображая прошлое, нужно обязательно показывать не только события, но и — может быть, даже в первую очередь — сам процесс их мифологизации, то есть образование исторической памяти о них. Все время напоминать, что в истории участвуют не только цари, герои, злодеи, «простой народ» и т.д., но еще и такие специфические персонажи, как певцы-сказители, клеветники, пиарщики, телерепортеры, читатели газет и тому подобная публика — производители и распространители идеологических смыслов. Переносить центр тяжести с происшедшего на то, что следовало за ним, на то, как оно усваивалось и откладывалось в коллективной памяти. Собственно, именно так — не в качестве исторического зрелища, которое можно безответственно потреблять, а в качестве актуального, дошедшего до нас сплетения правды и выдумки, которое требуется тяжело распутывать, — в такой форме оно и может давать нам какое-то важное знание и моральный пример (положительный или отрицательный).
Показывать не то, как все было, а то, как оно запоминалось и забывалось, — трудное дело, это должна быть новая форма исторического повествования, которая пока мало утвердилась в искусстве. В кино, например, с нею сближаются некоторые фильмы Анджея Вайды — «Человек из мрамора», посвященный расследованию пропагандистского мифа социалистической эпохи, и «Катынь», где историческое преступление само по себе показано кратко, главное же — история подавления памяти о нем и попыток этому сопротивляться. Сходную задачу решает и другой польский фильм — «Ида» Павла Павликовского, история выяснения и переработки исторической травмы; правда, и в ней, и в «Катыни» показано хранение и восстановление памяти, а не ее искажение и мифологизация. А вот, скажем, «Шрам» Фатиха Акина построен уже не так: здесь тоже половина фильма рассказывает о «том, что было после» (геноцида армян), но не о складывании или же уничтожении коллективной памяти, а об индивидуальном преодолении травмы: уцелевший в катастрофе пытается по всему свету разыскивать своих детей. Замысел гуманный и смелый (первый фильм о геноциде, снятый турецким режиссером, пусть и в Германии), но все-таки судьба отдельного человека не связана с общей судьбой людей, которым следовало бы помнить о случившемся — а они (мы), конечно, чаще всего склонны забывать или просто не знать.
FacebookУчтивость как разговорчивость 27.07.2015
Посылал письмо французскому коллеге с изложением проблемы, возникшей в ходе совместной работы. Проблема непростая, и излагать пришлось длинно. Получаю короткий ответ — «решай сам, полагаюсь на тебя», — а за ним длинный, не имеющий отношения к делу и даже не особенно интересный для меня рассказ о собственных занятиях коллеги. Такое многословие — не от болтливости и тем более не от нарциссизма, а из учтивости. Ответить на большое письмо в двух словах значило бы не проявить должного внимания к адресату; это было бы примерно то, что мы называем «отпиской», — не потому, что человек снимает с себя ответственность (проблема была такова, что я в ней действительно компетентнее), а потому, что спешит отделаться от собеседника. Ответ должен быть сравнимым с вопросом по объему, по затраченному автором времени.
И вот еще близкое наблюдение: у Ролана Барта есть любопытное определение деликатности. Быть деликатным — значит все время сопровождать свои действия словами и знаками («позвольте-ка я сделаю то-то и то-то…»), настойчиво дублировать природу культурой, облекать грубо-физические желания и движения пеленой смыслов. Не забывать семиотизировать и социализировать себя. Напротив, грубость, в конечном счете, бессловесна — она умеет говорить разве что «а ну отвали».
FacebookВинительный предлог 5.08.2015
Филология, как и история, — рискованная наука, ее проблемы легко политизируются и становятся оружием в современных конфликтах. Сегодня так случилось с невинным, казалось бы, вопросом о предлогах при слове «Украина» в винительном и предложном падежах. Одни утверждают, что «на Украину» и «на Украине» — оскорбительные великодержавные выражения, а следует говорить «в Украину» и «в Украине»; другие возражают, что в украинском языке, может быть, и так, а в русском правила другие и ничего менять не нужно.
Ссылка на «правила русского языка» выглядит не совсем очевидной, потому что перед нами вроде бы скорее исключение, чем правило. «Украина» — кажется, единственное название континентального государства, употребляемое по-русски с предлогом «на» (так говорится еще о нескольких островных государствах — «на Кубе», «на Мальте», — но они не в счет, потому что Украина-то не остров). Вспомним, однако, что мы, русские, даже о своей собственной стране говорим с разными предлогами: «в России», но «на Руси». Та же двойственность с некоторыми названиями регионов, российских и украинских: «в Смоленской области» — но «на Смоленщине», «в Ставропольском крае» — но «на Ставрополье», «в Черниговской области» — но «на Черниговщине», «в Тамбовской губернии» — но «на Тамбовщине». То есть современные государственно-административные названия требуют предлога «в», а старинные и неофициальные (многие из которых еще и заканчиваются на «-ина») — предлога «на». Относя «Украину» ко второй категории, мы признаем древность и поэтическую окрашенность этого слова: ничего оскорбительного, наоборот, особый знак уважения.
И все-таки участники споров о языке не зря тревожатся. Они чутко улавливают болезненную проблему, только, как бывает с физической болью, неверно определяют ее источник. Проблема скрыта не в предлогах, а рядом с ними — в образном значении самого слова «Украина». Оно очевидно родственно слову «окраина», хотя тут тоже нет ничего худого: многие люди и целые страны (Англия…) живут «с краю», и никто не обижается. В любом случае замена предлога ничего не изменит: если мы будем говорить «в окраине» вместо «на окраине», то смысл останется точно таким же, только выражение сделается менее грамотным. Однако в случае с Украиной имеется в виду не какая-то городская окраина, а окраина целого мира — не хочется называть его «русским миром», слишком уж это сегодня нехорошее, скомпрометированное понятие. Необычный предлог указывает именно на мировой масштаб картины — на то, в каком важном и ответственном ряду грамматически родственных слов стоит данное название: мы говорим «на родине», «на чужбине»… и «на Украине».
Вот она, настоящая чувствительная точка, которую редко обсуждают в спорах о языке. Для русского языкового сознания, в его воображаемой географии Украина — уже не родина, но еще не совсем чужбина, она на краю между ними. А это при желании можно истолковать так: Украина — не самостоятельная страна, но промежуточная пограничная («крайняя») зона, и на границе вполне естественно воевать, защищая «родину» от супостатов с «чужбины». Это очень опасный и очень сильный миф — его возможность заложена в устройстве самого языка, — и сегодня он эксплуатируется в идеологии российского империализма для оправдания военной интервенции.
Что с ним делать? Еще раз: политкорректная замена предлогов ничего не даст, слово «Украина» с любым предлогом будет значить то, что оно значит. Чтобы искоренить миф, пришлось бы разве что радикально переименовать страну… Однако мифы вообще незачем искоренять — их нужно осознавать, выводить на свет разума, чтобы они не толкали нас под руку из темной глубины бессознательного. А осознав, их можно и переосмыслить — наш язык гибок и позволяет это делать. Для русской культуры важно и ценно, что понятию «родина» противостоит не только абстрактная и неведомая «чужбина», но и близкая, хорошо знакомая «Украина»: «свое иное», как выражаются философы. Нельзя только видеть в ней территорию для самовольного хозяйничанья — пусть это будет, например, зеркало для познания нас самих. Или даже кое в чем пример для подражания. И, конечно, в любом случае равный нам сосед и партнер, который вправе по-своему смотреть на вещи, в том числе и на себя самого.
По сравнению с этой главной проблемой вопрос о предлогах — пустяковый, легко разрешимый: достаточно признать, что оба они допустимы в современном русском языке. Да, еще недавно норма была только одна — но язык развивается, и в нем могут сосуществовать равноправные варианты нормы. Чтобы не ходить далеко за примерами: мы говорим то «укрАинский», то «украИнский», и между этими вариантами произношения нет сколько-нибудь заметной ценностной разницы. Лично мне, как филологу (хоть и не русисту), ближе и интереснее более сложный, более богатый смыслом вариант «на Украине»; но я вполне пойму и тех, кто по каким-то причинам — хотя бы просто из-за близости к украинскому языку — предпочитает говорить «в Украине». Не надо политизировать этот выбор. Предлоги не виноваты, ни в предложном падеже, ни в винительном.
«Новая газета»Вторая и единственная 11.08.2015
Этот текст — главным образом для выпускников московской Второй физико-математической школы и зрителей фильма о ней, показанного по каналу «Культура». Фильм хороший, правдивый и подробный; он заставляет, между прочим, осознать, как много важного я сам, четыре года учившийся во Второй школе в 1968—1972 годах, не знал тогда о происходивших в ней событиях. Увидеть отчасти свою собственную историю чужими глазами всегда очень поучительно. Попробую наметить несколько проблем, которые в фильме по разным причинам обозначены, но не до конца проговорены и которые важны для понимания этой блестящей истории.
Во-первых, это роль математики во Второй школе. О ней в фильме сказано парадоксально мало, хоть и понятно почему: абстрактные математические идеи трудно излагать для широкой публики. Между тем математика (вообще точные науки) образовывала в школе особую среду, общий язык, который оказывал влияние на всех, включая гуманитариев. Здесь учитель литературы на вопрос ученицы «А почему…» (в литературе так-то и так-то), мог ответить коротко «По определению», и это принималось не как насмешка — дескать, отвяжись со своими глупостями, — а как серьезный и удовлетворительный ответ по существу: мы все привыкли к таким аргументам на уроках математики. Там мы получали навыки абстрактного, формализованного, критического мышления, мышления как конструирования задач и понятий; конечно, не все в равной мере научались активно применять этот язык в собственно математической области (я, например, был не из лучших по этой части), но пассивно им владели все, иначе в школе просто нельзя было задержаться. В то же время собственно языковая, лингвистическая и риторическая, применимость этого мышления осознавалась мало; и выпускники Второй школы почти не поступали, например, на отделение структурной и прикладной лингвистики филфака МГУ, где их математическая подготовка в принципе оказалась бы очень кстати. Это была странная слепая точка в интеллектуальной культуре школы: литература, поэзия вдохновляла многих, а вот язык воспринимался скорее как нейтральное орудие общения, чем как объект познания.
Во-вторых, в фильме правильно сказано о «сословном», то есть элитарном характере школы. Тут только надо помнить, что в Москве существовали тогда и другие элитарные школы — прежде всего «языковые» (с усиленным изучением иностранных языков). Это были два разных образовательных канала, предполагавших две модели карьерного успеха: в одном случае установка делалась прежде всего на интеллектуальную работу с реальностью (физической, технической), в другом случае на практическую «работу с людьми» (включая чиновничью или хозяйственную карьеру, где, на известном уровне, придется иметь дело с другими странами). Математическая школа одновременно и дистанцировалась от этой второй элитарной сети, и брала оттуда часть своих учеников, которые приходили в нее, уже поучившись в языковых школах. В результате среди второшкольников образовывалась как бы «элита в элите», имевшая опыт сразу двух «сословных» образовательных систем. Любопытно (помимо прочего), как это обстоятельство могло в дальнейшем отразиться в массовой эмиграции выпускников?
В-третьих, Вторая школа, конечно, была костью в горле советской идеологической системы. В фильме подчеркивается, что в ней работали не «антисоветчики» (слово, впрочем, довольно бессмысленное), а сторонники «социализма с человеческим лицом», и после 1968 года этого было довольно, чтобы ее разгромить; история разгрома рассказана подробно и адекватно. Вместе с тем школа и сама являлась продуктом советской системы, была включена в ее проект технократической модернизации, запущенный после смерти Сталина и заглохший в брежневские годы. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что и до, и после 1971 года часть выпускников неблагонадежной школы регулярно приглашали поступать в Высшую школу КГБ, чтобы работать потом на инженерных и аналитических должностях в этой системе. Отбирали их по анкетным данным и по рекомендации комитета комсомола, на заседаниях которого товарищи, бывало, недвусмысленно напутствовали их: «Ты, когда будешь меня там допрашивать, не забудь, кто тебе характеристику давал…»
В-четвертых, можно согласиться с авторами фильма, что Вторая школа не смогла (не успела?) стать полноценным аналогом Царскосельского лицея, воспитать более или менее сплоченную и эффективную элиту, которая бы оказала в дальнейшем значительное влияние на развитие страны. Историческое время шло для ее выпускников одновременно слишком медленно и слишком быстро: в застойной брежневской системе они с трудом продвигались по карьерной лестнице, а в итоге слом этой системы случился для них преждевременно, когда они еще не успели закрепиться на влиятельных институциональных постах. Исключения тут редки (а в фильме некоторые из них еще и искусственно затушеваны), и многим второшкольникам пришлось пройти через длительную профессиональную недореализованность, географическое рассеяние, более или менее вынужденную переквалификацию; не все смогли это пережить. «Послешкольная жизнь» выпускников очень выборочно отражена в фильме, но хорошо уже и это. Хотелось бы, уже не в рамках фильма, дальнейшего размышления о возможных пробелах в тех знаниях и опыте, которые — при всем огромном уважении к ней — давала Вторая школа, о том, чего в них могло недоставать для профессионального и гражданского самоосуществления.
Это был бы, может быть, самый важный критический итог нашей общей биографии 60—70-х годов, которую мы сегодня склонны вспоминать с естественной ностальгией по юности.
* * *
9.09.2015
Продолжается обсуждение фильма о Второй школе «Вторая и единственная». Сегодня обсуждали его в самой школе, с участием авторов. Излагаю свое собственное выступление, местами в чуть расширенном виде:
Фильм снят не о школе как таковой и тем более не о сегодняшней Второй школе, которой дай бог всяческих благ, — он о нашей истории, и в нем фиксируется (а в дискуссии о нем — обсуждается) историческая память, во всей своей сложности и изменчивости: разные люди помнят разное, вчера помнили одно, сегодня вдруг вспомнили совсем другое. Создание фильма растянулось на несколько лет, за которые состояние общества, включая его память о прошлом, серьезно переменилось, и в несогласии оценок фильма отражаются превращения и деформации этой памяти.
Многие участники дискуссии (в Фейсбуке, в «Троицком варианте» и в самой школе сегодня вечером) выражали недовольство темой эмиграции выпускников школы, особенно эмиграции в Америку. Судя по всему, никто не имеет ничего против самих эмигрантов — они наши товарищи, друзья, иногда даже братья. Но подробный рассказ об этом в фильме кажется неуместным, компрометирующим школу, подрывающим ее репутацию в прошлом и настоящем: кто-то может подумать, что знаменитая школа готовила будущих вражеских граждан… Этот упрек вряд ли прозвучал бы так отчетливо два-три года назад — мы же помирились с Америкой, почему бы кому-то туда и не уехать; но теперь, когда Океания опять всегда воевала с Евразией и Соединенные Штаты у нас открыто объявляют врагом, люди искренне боятся, что упоминание об эмиграции в эту страну повредит школе. Психологически объяснимая реакция, хотя вообще-то ясно, что беречь и прикрывать кого-либо в художественном произведении, тем более ретроспективно, — бессмысленно; дело искусства, включая документальное кино, говорить правду.
Фильм рассказывает о разгроме школы в 1971 году как о типичном и самоочевидном факте. Опять-таки еще несколько лет назад примерно все бы это поняли, но сегодня советское время представляют у нас потерянным раем, и далеко не все уже помнят или знают, что идеологическое давление, доносы и административный разгром всего живого и разумного были не частным случаем Второй школы, а постоянной и повсеместной практикой советской власти. Теперь это тоже надо объяснять и доказывать.
Еще одна особая область памяти в фильме отражена, но мало: трудности и проблемы учеников Второй школы 60—70-х годов. Не учителей или директора (о них говорится внятно), но самих школьников, которые ныне, через много лет, склонны вспоминать свою юность скорее в розовом свете. А проблемы-то у них были — специфические, характерные именно для Второй школы. Например, как тяжело было учить математику: вроде бы за нею сюда и пришли, но сколько страданий она, окаянная, доставляла! Или как мало в школе было девочек — и как эта гендерная нехватка фрустрировала юношеские чувства (а вместе с тем и неуловимо меняла весь моральный климат). Или как из соседней школы приходили хулиганы — бить и грабить очкариков-математиков. Или еще такая серьезная, по-настоящему социальная проблема: во Второй школе надо было осваиваться с ситуацией, когда многие твои товарищи — абсолютно свои ребята, которых и в голову не придет сторониться, — оказывается, люди «проблемные», с нехорошей записью в анкете, которая помешает им поступать в университет и от которой они пытаются избавиться, кто меняя фамилию, а кто даже думая о переезде в другую страну. Приходилось учиться политкорректности (тогда, конечно, никто еще не знал этого слова), вырабатывать навыки честного, достойного поведения с теми, кого общество назначает «чужими» (если, конечно, ты сам не из их числа — а впрочем, это дело наживное). Этому тоже учила Вторая школа, это был тоже важный моральный и гражданский опыт, и сегодня это тоже небесполезная часть нашей исторической памяти.
FacebookЦензурный погром 16.08.2015
После погрома в Манеже скульптур Вадима Сидура зазвучали предсказуемые сравнения его со знаменитой акцией Pussy Riot: дескать, получили то же самое «оскорбление чувств» с другой стороны.
Может быть, напавшие на выставку и имели в виду собезьянничать (это сегодня типичный прием общественной борьбы), но надеюсь, что всем ясны различия между оригиналом и пародией. Во-первых, танцевавшие в храме не пытались уничтожить или повредить что-либо ценное. А во-вторых, и это главное, они в своей акции выступали против власти (за что и были, собственно, наказаны, а вовсе не за «оскорбление чувств верующих»), тогда как «православные активисты» пытались, наоборот, явочным порядком осуществлять власть, запрещая другим выставлять «неблагочестивые» изображения. В одном случае имела место самовольная выходка, в другом — самоуправная цензура. В одном случае — протест, в другом — репрессия.
FacebookПолитическая ответственность
1.09.2015
Читая, как украинские журналисты и блогеры ожесточенно спорят, на ком лежит политическая — именно политическая, а не только уголовная! — ответственность за вчерашнюю провокацию в Киеве, с недоумением ловишь себя на мысли, что у нас, случись что, такой спор невозможен: понятие политической ответственности давно забылось и стало бессмысленным. У нас ближайший политик, лично отвечающий за все неприятности, живет в Вашингтоне, а внутри страны всем правят «они», которые называют себя «мы», — не партия, не семья, даже не кооператив, а безличная система, где каждый, вплоть до главного начальника, делает то, чего хочет население. И какой же с них спрос?
В этой системе бывает вина, но не ответственность. Когда безликие чиновники сажают в тюрьму или, наоборот, выпускают на волю случайно попавших к ним людей — то поэтессу из Министерства обороны, то кинорежиссера из «нашего» Крыма, — мы еще можем вяло спорить о виновности осужденных, но никому и в голову не придет считать их ответственными за какие-то реальные, касающиеся нас события. И если система начнет предъявлять нам виновных в срыве хлебозаготовок, убийстве Кирова или разгроме Западного фронта — возложить на них ответственность все равно не получится, и потому виновных придется непрерывно менять, выявляя все новых врагов народа. И даже когда система объявит, что отец и гений оказался не отцом, а сукою, — отвечать ему будет не перед кем: может, он в чем и был виноват, но кто мы такие, чтобы его судить? Мы люди маленькие, мы лучше израильскую военщину к ответу потребуем. Или ту же киевскую хунту.
Это с трудом укладывается в голове, но украинцы, у которых в стране война и кровь льется даже в столице у дверей парламента, в каком-то смысле живут нормальнее нас — потому что в этих своих делах они ищут не только виноватых, но и ответственных, за плохое и за хорошее. То есть судят о политике как граждане, а не как маленькие люди.
FacebookЧто забыто в 90-х 21.09.2015
Если без шуток комментировать разгоревшийся спор о 90-х годах (немного похожий на массовый кризис среднего возраста), то я бы обратил внимание вот на что. В злобных воспоминаниях о «лихих годах», которые мне пришлось читать, никогда не упоминалось одно реальное бедствие тех лет — две чеченских войны. Эта демонстрация государственной свирепости стала шоком для тех, кто поддерживал тогдашнюю власть (в самой России и за рубежом — я наблюдал это своими глазами), и, конечно, способствовала перерождению самой власти: еще в политическом конфликте 1993 года начальство все время искало и спрашивало народного согласия (два референдума в одном году — последние в истории страны), а дальше это как-то уже больше не требовалось. И даже если оставить в стороне политику: просто в тысяче километров от столицы гибли десятки тысяч людей, многие из них были гражданскими, — а теперь, оказывается, все это исчезло из коллективной памяти.
Отчего такое вытеснение? На политическом уровне дело, возможно, в том, что вторая война была уже при нынешнем начальстве, то есть сваливать ответственность не на кого. Но опять-таки есть и неполитический, чисто моральный аспект: далекая война не была пережита так интенсивно, как близкие бытовые лишения, воспринималась как неизбежное стихийное бедствие, которое, слава богу, не коснулось лично меня. Отсюда, конечно, согласие общества на следующие войны: Грузия, Украина, теперь Сирия… далее везде?
FacebookАэропорт 22.09.2015
Любой отъезд, по французской пословице, — немного смерть, но на разных видах транспорта эту экзистенциальную угрозу по-разному скрадывают, заклинают. В автомобиле, который опаснее всех прочих средств передвижения, — болтовней с водителем (таксистом), позволяющей не чувствовать себя одиноко; в поезде — тоже коллективностью, общением (хотя бы визуальным) в купе. На воздушном транспорте, и в частности в аэропорту, главное средство утешения другое — дисциплинарная нормализация отъезжающего. Его заставляют удалиться от города — но не в деревню, а в какой-то фильтрационный или тренировочный лагерь, — и последовательно проходить там разные процедуры, выполнять ряд строгих правил: иметь такие-то документы, столько-то багажа, пиджак снять, руки поднять, одного не брать, другое выключить, третье сложить в прозрачный пакетик, бутылочку с водой выкинуть. Послушным доставляют мелкие удовольствия, за плату и без: вот тебе чашечка кофе, вот ватерклозет, вот дьюти-фри, вот (российская специфика) часовенка помолиться, вот (российская специфика) майка с президентом, если в него веришь, а дальше будет тебе и бутерброд в зубы, и наушники с музычкой, может, даже вина нальют, чтоб не слишком боялся. Сиди и не рыпайся, тобой займутся. Аэропорт, его сложные коридоры с односторонним движением и последовательные пункты контроля — это большой конвейер, где вольно шатающегося человека последовательно обтесывают до состояния стандартного пассажира с биркой на сумке. Для него в этой игре есть свое удовольствие — притвориться чайником, отречься от личной инициативы, отдаться в заботливые руки системы; так легче пережить волнительный миг расставания если не с жизнью вообще (не надо все же преувеличивать), то с устойчивой жизнью на прежнем месте.
Из других знакомых мне дисциплинарных процедур на аэропортовскую более всего походит теснее связанная с потенциальной угрозой для жизни больничная подготовка к операции: заполнить бумаги (включая дисклеймер о неблагоприятном исходе), сдать анализы, провериться на разнообразной аппаратуре, помыться, переодеться… лечь и заснуть, чтобы с тобой легче было справиться.
FacebookЮбилей Барта 1.10.2015
Сижу на конференции о Ролане Барте в Лондоне — явно одной из лучших юбилейных конференций этого года (100 лет со дня рождения). Доклады в целом очень серьезные, некоторые дают настоящую пищу для размышлений. Но я развлекаюсь еще и тем, что слежу: произнесет ли кто-то, говоря о Барте, слово «знак»? За весь сегодняшний день его произнес только один докладчик из восьми — и то случайно, в большой цитате из Барта, приведенной по другому поводу. Когда-то Барта ценили прежде всего за теорию знаковых процессов; теперь он кто угодно — писатель, философ, учитель жизни, представитель гей-сообщества и т.д., — но только не семиотик. Полная дис (пере) квалификация.
* * *
12.11.2015
Посидел полдня на конференции о Ролане Барте на философском факультете МГУ — ради уважения к памяти сегодняшнего юбиляра. Послушал, как ученые люди сообщают о нем странные вещи.
Одна дама дважды убежденно повторила, что у Барта «рождение читателя оплаКивается смертью автора». Другая тоже очень настойчиво утверждала, что реальный пейзаж из романа Флобера — на самом деле нарисованный и висит на стенке. Третий специалист пенял покойнику за недооценку реализма: в самом деле, сейчас-то все снова интересуются мимесисом, а значит и реализмом, разве не так? Заглянувший ненадолго начальник поделился своим общим опытом с РОланом (sic) Бартом: тот анализировал стриптиз — я тоже насмотрелся всякого такого, тот писал о вине и молоке — мы вот тоже с коллегой съездили в Париж, похлебали того и другого. Упомянутый коллега (также руководящий товарищ) в своем выступлении критиковал перевод одной статьи Барта, тщательно избегая, во-первых, предлагать какие-либо свои варианты, а во-вторых, называть имя напортачившего переводчика; эта анонимность странно контрастировала с его общей возвышенной концепцией, согласно которой переводчики — художники, ибо мыслят образами.
В данном случае «художником» являлся я сам, хотя образами мыслю не больше других. Сидя в зале неузнанным шпионом, я уже наслушался к тому времени, как исследователи цитируют мои переводы из Барта, нещадно их перевирая («оплакивается» вместо «оплачивается») и забывая указать не то что переводчика, но даже название текста: «Барт говорил…» и все тут. А что? он ведь всегда писал одно и то же — всегда был «постструктуралистом», даже в 50-е годы, всегда был против психологизма, даже когда в специальной книге анализировал собственную личность. Пожалуй, он бы и сам не очень-то узнал себя в этих толкованиях, а уж в его компании и мне не след обижаться.
Последний слышанный мною докладчик — расхристанный любомудр, втершийся выступать сверх программы, — скоренько, за три минуты уличил юбиляра в злодейском «убийстве автора», которое-де завело в тупик всю западную культуру, а заодно в «отмене полового дуализма, чем теперь и живет вся Франция». При этих намеках я поймал себя на греховной мысли: вообще убивать авторов, конечно, нехорошо, но иногда, кое-где, кое-кого — хочется. От греха подальше ушел вон.
FacebookХудожественные аттракционы 4.10.2015
Год назад в Париже открылся новый музей современного искусства — Fondation Louis Vuitton. Самое впечатляющее в нем (кроме фантастического здания в форме многопалубного корабля, который плавает в искусственной заводи, выкопанной рядом с Булонским лесом) — художественные аттракционы, которые не просто показывают вам что-то, а заставляют пережить какой-то необычный психофизиологический опыт.
Например, в инсталляции Кристиана Марклея предлагается попасть под ураганный «перекрестный огонь» (название произведения), который ведут с четырех киноэкранов, по четырем стенам зала, персонажи разных голливудских фильмов — солдаты, полицейские, гангстеры, ковбои. Или вас приглашают потеряться в темном зале-лабиринте, перегороженном экранами, на которых отражаются не только проецируемые сцены, но и силуэты самих посетителей; зрители бродят впотьмах, натыкаются друг на друга, отражаются в огромных полуосвещенных зеркалах, смутно ищут Минотавра; а Дедала, построившего этот лабиринт, зовут Дуглас Гордон. Или еще вам разрешают самостоятельно запустить в работу целую батарею музыкальных шкатулок, настроенных Джоном Кейджем; тут, правда, обман — драгоценные машинки мэтра неподвижно красуются в витрине, а их «голоса» звучат в записи, с каких-то более современных носителей. Или же можно просто полежать в шезлонге, уставившись на мерно постукивающий метроном; этот умиротворяющий психотерапевтический сеанс придумала Марина Абрамович, словно для реабилитации травмированных зрителей, помнящих ее жуткие перформансы.
По совести говоря, «художественность» таких музейных аттракционов, отличающая их от обычных ярмарочных, заключается в претензии на многосмысленность: сопроводительная легенда к ним непременно содержит какую-нибудь глубокомысленную лабуду типа «подумайте о чем-то великом». На самом деле думать о великом вовсе не хочется; как выражался грибоедовский герой, «я езжу к женщинам, да только не за этим». Умные мысли найдутся в умных книгах, а в искусстве мы ищем эффектов, и этим оно все-таки сродни площадным увеселениям.
FacebookБлеск и нищета 6.10.2015
Еще из парижских художественных впечатлений.
В музее Орсе работает большая выставка с завлекательным названием «Блеск и нищета: Образы проституции, 1850—1910». По-моему, очень приличная (по крайней мере, в переносном значении слова), особенно та ее часть, где собраны относительно «реалистические» картины парижской проституции второй половины XIX века. Позднейшие работы, даже больших мастеров (ван Донгена, Пикассо) — это самодовлеющие, внеконтекстные эротические образы, а вот более ранняя живопись и графика отражают действительно богатую и причудливую парижскую субкультуру позапрошлого века, служившую универсальной метафорой жизни для многих художников и писателей (например, Мопассан все человеческие отношения истолковывает через модель проституции; да и название выставки, понятное дело, — цитата из Бальзака). Пусть не обижаются феминистки, но эта субкультура даже сыграла свою роль в освобождении женщины: она впервые предъявила искусству реальную, массовую, опознаваемую фигуру самостоятельной, self-made женщины, которая хоть и продается мужчине, но при этом на равных противостоит ему, а то и господствует над ним. Конечно, то было и крайнее отчуждение женщины, но так часто бывает в истории — в каком-то смысле только отчужденный человек и историчен…
Самые сильные художники, представленные на выставке, — это, как легко ожидать, Тулуз-Лотрек и менее известный у нас Фелисьен Ропс. Они лучше других «чувствовали тему», их картины и акварели по-настоящему стильные. Тулуз-Лотрека собрали из многих коллекций, на одной стене висят пять-шесть картин, которые никогда больше не увидишь вместе — они приехали из Детройта, Праги, Чикаго, Будапешта… и образуют мощную стилистически единую серию. Акварели и рисунки Ропса почему-то разбросали по разным залам, по одному-два, их приходится высматривать, но когда найдешь, то потом уже глаз не отвести, настолько они завораживают. Хочется как-нибудь попасть в бельгийский город Намюр, там находится персональный музей Фелисьена Ропса.
Ну и напоследок моральное наблюдение. Из песни слова не выкинешь, и устроители выставки не могли обойти вниманием специфический разряд визуальных изображений на данную тему — порнографию. Эти поблекшие открытки и прочие картинки малого формата и музейной сохранности собраны в двух специальных залах, вход в которые занавешен портьерами с надписью «дети до 18 лет не допускаются». И вот в одном из этих залов я услышал русскую речь. Вообще ее в Париже стало меньше прежнего, и большинство из тех, от кого ее слышишь, опознаются как более или менее постоянные местные жители (мамаши с младенцами и т.п.). Русские туристы куда-то схлынули; но вот в зале «запретных образов» они таки нашлись. Ухоженная пара средних лет шла вон с возмущением, и дама громко бурчала что-то вроде «если мы понимаем, то как же им не понятно…»; в ее лице духовность вопияла против безнравственности. А ведь люди наверняка знали, куда идут и что придется увидеть; не нравится — сидели бы дома, смотрели бы по телевизору что-нибудь более благолепное; вообще бы не ездили в эту Европу проклятую. Так нет же — идут специально, чтобы возмутиться, чтобы растравить в себе оскорбленные чувства. Недаром было написано как раз в этом городе: «Чесатели корост, читатели газет».
FacebookЛогика меньшего зла 10.10.2015
Я всегда терпеть не мог глупости. Как Флобер, которому она мерещилась во всяких «прописных истинах». Или как Буало, язвивший, что на всякого глупца найдется еще худший глупец, который станет им восхищаться. Или как наш Щедрин, описавший историю государства российского фразой «несть глупости горшия, яко глупость». С такими предшественниками легко стать мизантропом, который ходит и цепляет критическим крючком чужие умственные слабости. Люди это хорошо чувствуют и держатся от него подальше, боясь быть пойманными на какой-нибудь глупости, — а кто же из нас не бывает глуп хотя бы время от времени?
Однако в последние годы — наверное, это признак умудренности — начинаю думать, что есть горесть еще горше, чем глупость: это безумие. Не так страшно, когда человек бессмысленно хлопает глазами или даже по-дурацки смеется над тем, чего не понимает; хуже, когда он с остановившимся взглядом несет какой-нибудь истерический или параноидальный бред, от которого никто и ничто не может его отвлечь.
Это особенно заметно, когда по собственному опыту сравниваешь «Россию и Запад». Потому что по глупости у нас с Западом, можно сказать, стратегический паритет — хватает с обеих сторон, — зато запасы безумия у нас неисчерпаемые. Не обязательно буйного безумия, но и его тоже — хоть боеголовки начиняй. Или по трубам перегоняй, если найдутся покупатели.
Остается укреплять себя диалектикой: напоминать себе, что безумие — это такая усугубленная, пассионарная форма глупости, глупость в квадрате, глупость, ставшая страстью. Пламенная и непримиримая вражда к уму, прежде всего к своему собственному (который вообще-то есть у всех, хотя бы время от времени). Недомыслие, которое пытается стать сверхидеей, небытие, притязающее на онтический статус. А интеллектуалы и вообще мало-мальски умные люди должны не признавать этих претензий, помнить, что при всем своем пафосе безумие — это в основе своей просто неповоротливость и сбивчивость ума. Не folie, а bêtise и sottise. То есть надо редуцировать безумие к глупости и по возможности доказывать это другим.
…Вот и поди-ка это кому докажи, хоть бы даже себе самому.
(Отчасти навеяно громким разговором русских туристов за соседним столом в ресторане гостиницы при парижском аэропорте.)
FacebookАнгажированность 24.10.2015
В последнее время, выступая на конференциях в незнакомой среде, за границей, почти рефлекторно стараюсь обозначить, хотя бы в ходе дискуссии, свои политические взгляды. Раньше считал это дурным тоном, отступлением от нейтральности научного дискурса; да и теперь делаю это максимально сдержанно, коротким намеком. Но теперь это необходимо, чтобы люди вокруг не беспокоились, чего ждать от этого русского. По-моему, это вопрос учтивости.
FacebookЧетверть века спустя 26.10.2015
В Вильнюсе ноги сами собой понесли меня туда же, куда в первый приезд двадцать пять лет назад, — к зданию парламента. Тогда, летом 1990-го, борьба за независимость Литвы была уже в разгаре, но оставалось еще полгода до критического момента, до вооруженного противостояния в январе 1991-го. Вокруг парламента еще не громоздились баррикады, да и людей почти не было, и только на площадке перед зданием за раскладным столиком сидела девушка и собирала подписи под воззванием, призывающим вывести из Литвы оккупационные советские войска. Помню, как она расцвела от радости, поняв, что мы — русские, москвичи — тоже хотим подписать это воззвание.
Сейчас вокруг парламента снова было безлюдно; рядом построили памятный павильон, где выставлены фрагменты баррикад 91-го и фотографии погибших в те дни защитников независимости.
За несколько сот метров, на том же проспекте Гедиминаса, находится другое место памяти — мрачно знаменитое здание, где при советской власти располагалось НКВД-МГБ-КГБ, а в промежутке также и гестапо. Теперь часть здания занимает музей, который на туристической схеме обозначен как «музей КГБ», а официальное его название — «Музей жертв геноцида»: красноречивая двуименность.
Музей впечатляющий: можно осмотреть настоящую подвальную тюрьму, включая расстрельную камеру, собрано много предметов, оставшихся от литовских ссыльных в Сибири, от партизанской войны в самой Литве, от деятельности советской тайной полиции (обмундирование, оружие, аппаратура для прослушки и т.д.). Множество личных документов — писем, фотографий, лиц. Меня почему-то больше всего поразила стена, целиком занятая сотрудниками литовского КГБ — просто галерея портретов с именами и должностями, без всяких комментариев. Десятки, если не сотни маленьких снимков, то ли из личных дел, то ли с доски почета, на них обычные с виду дядьки, некоторые с русскими фамилиями, большинство с литовскими. Многие даже не сильно отличаются от героев сопротивления 1991 года, из мемориального павильона у парламента, — впрочем, так и должно было быть, от них же требовалось агентурное проникновение.
Называется это, как уже сказано, «музеем жертв геноцида», жертвой которого, по логике экспозиции, является литовский народ, страдавший от советского и нацистского режимов. Старый вопрос: чем геноцид отличается от оккупации, порабощения, тирании и массовых политических репрессий? О нем нельзя не задуматься, потому что во время немецкой оккупации на территории Литвы происходил настоящий, бесспорный геноцид — поголовное истребление людей по этническому признаку. Музей не замалчивает эту тему: в нескольких местах экспозиции рассказывается об убийстве евреев и цыган, на экране постоянно крутится фильм об участии в этом литовской айнзацкоманды (100 человек, потом численность сократили до 50, после войны поймано и наказано 20); в статистике потерь четко обозначено: «в 1941—1944 годах убито 240 тысяч человек, из них около 200 тысяч евреев». И все же обо всем этом сообщается кратко, почти без конкретных лиц и имен, без подлинных предметов и документов, кроме нацистских, — и, кстати, эта скудость экспонатов как раз и показывает отличие геноцида от тирании: от него сохраняется гораздо меньше следов, главным образом те, что оставлены палачами.
Музей невольно напоминает о том, какая эгоцентрическая это штука — коллективная память. Она жестко привязана к «нашему» здесь и сейчас, и потому самый худший враг для нее — последний по времени (о нем память свежее), самая худшая беда — своя собственная, и никакие самые сильные выражения не будут лишними для ее наименования (если кто-то от них воздержится, их непременно скажут другие рядом с ним). Не надо только объяснять это всякими ложными сущностями вроде «национализма»: ненациональная коллективная память, имперская или локальная, работает точно так же.
И, конечно, все это не отменяет и не обесценивает моей собственной памяти о том, как я двадцать пять лет назад подписывал петиции и ходил на митинги в поддержку литовской независимости. Мне довольно той счастливой улыбки девушки у парламента.
FacebookНовости дня 27.10.2015
Пригласили выступить на радио «Маяк», в литературной передаче. Во время эфира пришлось дважды подряд, с интервалом в полчаса, прослушать выпуск новостей — его читал диктор, сидя в соседнем кресле.
Новости были такие: министерство иностранных дел дало отповедь премьер-министру Черногории за то, что «этот деятель» в чем-то упрекнул Россию; министерство обороны отвергло претензии Саудовской Аравии по поводу боевых действий России в Сирии; некая поп-знаменитость (неохота вспоминать имя) угодила в полицию за езду по встречке; на Дальнем Востоке арестовали партию контрабандной икры, которую перевозили на катафалке. Все. Точка. Прогноз погоды.
То есть, согласно этим новостям, страна занимается тем, что воюет, отругивается от всего света, нарушает, ловит нарушителей. Она ничего не создает, не открывает, не достигает ни с кем соглашения (хотя бы внутри себя) — сплошное хаотическое насилие, война всех против всех. Да, еще над этим кошмаром возвышается российский президент, который что-то регулирует в расчетах за энергоносители: единственное упорядочивающее начало в макаберном мире, где даже икру развозят в гробах.
Сказал об этом сотрудникам радио. Они разводят руками — такая политика партии, мы сами стараемся это не слушать.
FacebookШарли не они 16.09.2015
Опять вспыхнул шумный спор о журнале «Charlie Hebdo», из-за карикатур с изображением утонувшего мальчика-беженца. Как и всегда в таких случаях, дискуссия не отличается эстетической культурой. Никто из тех, кого я читал, не вспомнил слов «черный юмор» — а ведь перед нами он самый, в чистом виде, старое проверенное средство художественного шока. Причем употребленное здесь не ради поэтического самовыражения (как у Маяковского: «Я люблю смотреть, как умирают дети», — видите, у нас такое тоже бывает), а ради конкретной и гуманной общественной цели, против ханжества и лицемерия; для такого обличения часто требуется шок. В современной французской карикатуре — не только из «Charlie Hebdo» — черный юмор самый расхожий прием, просто не всегда его темой служат именно дети. В любом случае карикатура из «Шарли», разумеется, не «на мертвого ребенка», а «с использованием мотива мертвого ребенка» (потому что никто не предлагает смеяться над ним, да и вообще черный юмор по определению не смешной); и это не образ реального несчастного мальчика — образом были фотоснимки, а это знак образа, вторичный абстрактный знак наподобие слова. Если бы об этом травматичном образе напомнили не рисунком, а словами, разве кто-то стал бы так возмущаться?
А раз все-таки возмущаются, то это свидетельствует о двух чертах нашего сознания — говоря «нашего», я имею в виду российское общество и, похоже, еще другие страны третьего мира. Во-первых (это, в общем, хорошо известно), визуальный образ для нас сакрален — с ним непозволительно делать то, что может сойти на словах. Слово для нас — условный знак, а образ — это уже почти как реальность, может быть даже сверх-реальность, и не дай бог его «осквернить». То есть возмущение карикатурами (и этими, и другими) — не только из-за ребенка, или из-за мусульманского пророка, или из-за кого-то еще, но и из-за визуальной формы как таковой, которую нельзя трогать непочтительным карандашом.
Во-вторых, ребенок для нас тоже сакрален: изображение погибшего взрослого опять-таки не вызвало бы такой реакции. Дети воспринимаются не как подрастающие люди, со своими — и, в общем, нашими, общечеловеческими — проблемами, а как совершенно отдельный класс существ, обладающий абсолютной ценностью и наполняемый сильной аффективной энергией. Мы их, конечно, любим, но экзальтированно, как любят не человека, а идола. А дальше — все типичные сценарии обращения с сакральным: защита священного палладиума от злодеев (помните, еще недавно всюду боялись педофилов — которые потом, как уже было подмечено, все разом исчезли, стоило появиться на горизонте киевским бандеровцам? понятно, народу двух партий не прокормить, а двух страшилок сразу не забояться); инструментализация священного капитала (от банально-бытового «пропустите с ребенком» до самых ужасных приемов терроризма, когда детей демонстративно приносят в жертву); перенос на идола собственных несбыточных надежд («все лучшее детям», пусть у них будет счастье, которого нам не достичь) и собственного недовольства собой (детей у нас ругают и бьют — так дикари поступают со своими фетишами и тотемами, если они не приносят удачи). И, конечно, истерическое негодование, если кто-то пытается говорить, думать, рисовать иначе — неважно, зачем, — профанируя неприкосновенность младенческого образа.
В общем, те, кто бранит непочтительных парижских карикатуристов, переживают не за погибшего мальчика. Они отстаивают социальные границы сакрального, которое — в очередной раз убеждаешься — совсем не обязательно связано с религией и может существовать независимо от всякой веры в богов.
* * *
7.11.2015
В ходе споров возник новый клич — «Je ne suis pas Charlie». Учитывая исходный контекст, перевод получается такой: «Не стреляйте в меня, дяденьки террористы, — это они плохие, а я хороший».
Если же без шуток, то эта новая истерика вокруг одного журнала нужна для того, чтобы вытеснять из сознания две вещи: во-первых, не думать о настоящей политике и вместо этого возмущаться каким-нибудь новым «кощунством»; во-вторых, ни в коем случае не верить в солидарность — то есть в то, что можно поддерживать чужих, может быть даже несимпатичных людей, просто потому, что они тоже люди и обладают равными с тобой правами. Поддерживать можно разве что своих, близких, а с остальными делайте, пожалуйста, что хотите.
По-ученому это называется «антипросветительская реакция». По-простому — жлобство.
FacebookТурки сбили самолет 3.12.2015
Среди заявок, присланных для участия в конференции, которая состоится в понедельник в Петербурге, была одна заявка от турецкого исследователя. Тогда, полгода назад, мы ее отклонили, по чисто научным соображениям: нашлись заявки более подходящие по теме, а наши возможности приглашать иностранных участников были ограниченными. Теперь я с ужасом думаю, что произошло бы, если бы мы приняли эту заявку. Турецкого коллегу, скорее всего, не впустили бы в Россию, завернули в аэропорту, а сотрудники университета, готовившие его приезд, могли бы получить нагоняй за то, что не предвидели, с каким следующим соседом поссорится наше государство. Вроде бы и повезло, что всего этого не случилось, — но на душе скверно, хотя винить себя и не в чем.
FacebookПараллельный взгляд 15.12.2015
Давно замечал: внешние впечатления — от пейзажей, интерьеров и т. д. — лучше всего фиксируются в памяти, если получены в присутствии других людей: чужой взгляд дает стереоскопию, чужое лицо и слово как бы покрывают картину лаком, делая ее запечатленной раз навсегда. Так, например, выставку или фильм всегда хорошо смотреть в компании, сообразовывая свои собственные впечатления с впечатлениями спутника.
Вот и вчера, прощаясь уже не в первый раз с Лозанной, возвращался домой в компании московских литераторов Л.Р. и Н.А., с которыми пересеклись в этом городе; и безлюдные ночные улицы, нарядно украшенные перед праздниками, врезались в память ностальгическим очарованием, хоть я и много раз видел их раньше. Спасибо моим спутникам за этот мой момент видения, которого сами они, быть может, и не заметили.
FacebookСезонная депрессия 23.12.2015
За последние дни от нескольких человек — разного возраста и положения, заведомо не знакомых друг с другом, — слышал одно и то же признание: «нет ощущения, что скоро Новый год». Я, конечно, понимаю, что у каждого на то свои причины — кого гнетут дела, кого болезни и т. д. И все же обычно люди хотя бы на время забывают это ради праздника — на то он и существует. Если в этом году иначе, значит, какая-то общая сила, осознанная или нет, тревожит и отбивает вкус у зимнего поворота времени, пусть даже праздничные увеселения и идут своим чередом. Время движется, но его движение не радует. Опять-таки понятно, что переживают и объясняют это все по-разному, но общая равнодействующая получается такой. Интересно, много ли в стране людей, которые всерьез ждут чего-то хорошего в будущем году?
Присоединяться к этому хору — маловысокохудожественно. Радоваться, может, и нечему, зато это повод не преувеличивать свои собственные проблемы. Которые тоже, конечно, есть.
Ситуация привычная; между прочим, о ней дважды сказано в песнях Окуджавы — по-разному в ранней и в поздней. Первый раз:
Хватило бы улыбки, Когда под ребра бьют, —и второй раз:
Нам не стоит этой темени бояться, Но счастливыми не будем притворяться.Мне всегда больше нравилась вторая формулировка.
FacebookЛом и прием 25.12.2015
На прошлой неделе, проезжая станцию Домодедово, увидел на каком-то строении большую вывеску: «ПРИЕМ ЛОМА».
Сразу вспомнился стишок, из которого обычно цитируют только первую строку:
Против лома нет приема, Если нет другого лома. Против лома есть прием — Против лома нужен лом!С тех пор думаю о нечаянном интертекстуальном смысле этой вывески.
То ли родительный падеж в ней субъективный и у лома объявился собственный прием — то есть ему мало своей натуральной убойной силы, он еще и какие-то финты выделывает.
То ли, наоборот, родительный падеж все-таки объективный и лом здесь принимают и складируют; а при необходимости, пожалуй, можно и самому им разжиться, то есть, как сказано у безымянного стихотворца, завести себе прием против лома — альтернативный лом, противолом.
На моем месте поэт Лев Рубинштейн, наверно, придумал бы для этой скромной надписи какое-нибудь более изощренное истолкование. Но я не Рубинштейн и даже не поэт, а потому просто переписываю ее на своем собственном заборе.
И пусть, кто умеет, интерпретирует лучше.
FacebookЦеховая солидарность 30.12.2015
Оживленная дискуссия вокруг разоблаченной Диссернетом фальшивой филологической диссертации из РУДН (хорошо, что откликнулось так много народу, — эту информацию надо распространять в профессиональной среде) напомнила мне случай, когда я сам едва не стал жертвой/сообщником плагиата. Несколько лет назад, когда я немного преподавал в МГУ, студентка подсунула мне дипломную работу, последняя глава которой копировала чужую статью. Я, каюсь, сам не заметил подлога (первые главы, читанные мною раньше, были хоть и не бог весть какого качества, но написаны самостоятельно) — заметила сотрудница кафедры, занимавшаяся проверкой; спасибо ей за то, что уберегла меня от еще худшего стыда… Пришлось в последний момент, чуть ли не накануне защиты диплома, со скандалом прогнать студентку вон — плагиат является дисквалифицирующим обстоятельством, и она обманула мое доверие, — хотя потом ее все-таки выпустили без меня, замяв скандал. Это я рассказываю к тому, что при массовом распространении и безнаказанности такого рода коррупции ее невольным соучастником может оказаться любой преподаватель, опасность запачкаться грозит всем. Поэтому нужна взаимная поддержка — как меня выручила коллега с кафедры и как мы должны поступать все вместе, обращая внимание на подобные случаи и держа их в коллективной памяти. Между прочим, та студентка приехала из Севастополя, тогда еще не отнятого у Украины, и как русская патриотка очень стыдилась своего украинского гражданства — упоминала о нем буквально сквозь зубы. Обмануть преподавателей и подделать аттестационную работу ей стыдно не было. Сегодня в этом видится что-то символическое.
FacebookБродячая словесность 29.01.2016
Филология и зарубежные путешествия — два родственных занятия. Не только потому, что за границей каждый человек практически и порой болезненно сталкивается с филологической проблемой множественности языков и трудности понимания между ними. Но еще и потому, что работа филолога — прослеживать историю слов и текстов, а они постоянно перемещаются по свету: заимствуются, пересылаются в письмах и рукописях, переводятся и перевираются, публикуются в тамиздатах, оседают в чужестранных словарях, архивах, библиотеках и головах. Слова и тексты — прирожденные мигранты, и изучающий их филолог тоже уподобляется им, даже если физически сидит на месте. А если он сам пускается в путь, то естественно, по профессиональному навыку, ощущает себя не то чтобы гражданином мира, которому всюду равно и едино, а скорее именно мировым мигрантом — почти текстом, письмом, которое помнит свой путь, зафиксированный в штемпелях на конверте и на визах в паспорте. Испытывает ностальгию не по одной, а сразу по нескольким странам; с любопытством ловит в речи и печати аборигенов слова, мыслительные ходы, грамматические ошибки из чужих языков; переживает за друзей и коллег, живущих не у него на родине и не там, куда он попал сегодня, а в какой-то третьей стране.
Интернет и глобализация сулят нам вовсе упразднить различие между родиной и чужбиной, а для филолога оно только усложняется: для него разные чужбины по-разному родные, они перекликаются издали (между собой, не только с родиной), у них у каждой своя история, которой он не наследник, а исследователь: ищет ее следы, тянущиеся из страны в страну, — слова, которыми мы говорим, тексты, которые мы читаем, слушаем, поем.
FacebookРоссия есть Россия 5.02.2016
Что национальная идея России есть патриотизм — это никакая не идея, а пустая тавтология, и от породивших ее государственных мозгов ничего лучшего и не ожидалось (они уже много лет с нею возятся). Это значит «наша идея в том, чтобы быть нами»: А равно А, Родина в лице своих патриотов любит сама себя. Торжество Того же самого, как выражаются философы, отказ от всякого отличия.
Между тем вообще-то национальная идея — именно о несходстве. Она бывает только у некоторых наций, которые уже в силу этого не такие как все. Нередко она возникает в ходе революций (во Франции, Америке), когда нация обновляется и осознает себя иной, чем прежде. В любом случае это то, чем нация отличает себя от других, а патриотизм для такого отличия не годится: какой же народ не патриотичен? И такая идея не может быть направлена на сам народ как данность — она должна его превосходить, указывать ему идеал, миссию, проект, долг.
Это вообще основная проблема, от которой зависят любые амбициозные политические идеи: следует ли стране, нации руководствоваться одними лишь своими «интересами» или же высшим долгом (перед собственным будущим, перед другими народами, перед человечеством)? Есть патриотический долг гражданина перед своей страной, но у нее самой тоже есть долг — в том числе и по отношению к своим гражданам, с которыми она далеко не всегда поступает как должно. Соответственно и долг патриота — не слепо принимать свою страну, какая она ни есть, right or wrong, но разуметь и разделять ее истинный долг. И не только гордиться и торжествовать, когда она ему следует, но и стыдиться и протестовать, когда она от него отступает ради шкурного «национального интереса».
Государственным мозгам такие сложности невнятны, в качестве национальной идеи они могут самое большее сочинить какую-нибудь тоталитарную утопию, чаще же всего просто топчутся в тавтологиях: «движение Наши» («мы движемся к нам»), «партия Единая Россия» («мы объединились ради единства»). Казенный патриотизм — это абстрактный, бессодержательный патриотизм, он всегда так убог именно потому, что патриотизма-то в нем меньше всего.
FacebookРедактура 8.02.2016
В профессиональной редакторской среде есть такая забава, на мой взгляд странная и нездоровая: коллекционировать и пересказывать друг другу смешные описки и опечатки. Внешне невинная, эта игра на самом деле служит цеховым самоутверждением, дает иллюзорное чувство господства над чужим словом и мыслью, возможность задешево посмеяться над ними.
Редактор натаскан искать ошибки. В тексте — а значит, и в человеке, его написавшем, — он видит прежде всего слабости, и это вредно для его собственного морального состояния. Словно лакей, для которого его господин сводится к своим бытовым грешкам, он незаметно усваивает себе своеобразное высокомерие снизу, с позиции не умудренного и понимающего читателя, философа или критика, а мелочного буквоеда, который в любом тексте найдет к чему придраться. Для него даже самый талантливый пишущий человек — это прежде всего генератор ошибок: такая особенность профессионального зрения.
Учитель, священник, психиатр, даже следователь и гаишник тоже все время имеют дело с ошибками, а то и с пороками людей, но они все-таки общаются с самим человеком, вступают с ним в ответственные отношения. А редактор — технократ, для него живой автор заслонен мертвым текстом, общение же с ним (в принципе лестное, но порой и не лишенное садизма: автора приятно бывает поставить на место, потыкать носом в его собственные ляпсусы) служит лишь необязательным призом за утомительную работу.
Редактора ни в коем случае нельзя назначать руководителем — он все будет знать лучше своих подчиненных (они же ошибаются!), и это плохо кончится для всех. В любом случае ему нужна поддерживающая терапия, профилактика от мизантропической мегаломании: заниматься чем-нибудь рискованным, где легко наделать ошибок и тем восстановить здравое представление о себе. Например, самому писать какие-нибудь сложные тексты.
Надеюсь, все поняли, каким делом сейчас занят автор этих размышлений? (Разгадка в заголовке).
FacebookОтложенный долг 13.02.2016
Российских демократов иногда призывают покаяться за агрессию России против Украины, а они отмалчиваются или глухо сопротивляются. В самом деле, каяться или нет?
Да, агрессия была и есть. Да, за нее отвечают, хотя бы косвенно, все граждане России, не сумевшие или не захотевшие ее предотвратить или остановить. Да, за нее стыдно, и этот стыд нельзя все время держать в себе, он должен выражаться вовне — в протесте, в покаянии.
Но каяться трудно — труднее, чем протестовать. Почему, например, я — не стану отвечать за других — не могу взять и попросить прощения у украинцев прямо здесь, в тексте из Фейсбука? Потому что боюсь, что это прозвучит фальшиво, пропадет в пустоту.
Для публичного покаяния нужна не только добрая воля кающегося, но и публика, «честной народ», готовый его выслушать, принять покаяние. Сегодня российские демократы не чувствуют вокруг себя таких слушателей. Даже если они формально обращаются к людям других стран — к тем же украинцам, к мировой общественности, — они все равно помнят, что ближе всего к ним их собственный народ, в большой своей части равнодушный, а то и враждебный к их чувствам. Им — нам — еще предстоит добиться и дождаться, чтобы он понял и разделил эти чувства. Это может случиться скоро, а может оказаться долгим делом; может статься даже, что мы сами не доживем до тех пор и каяться за нас придется нашим детям. Пока же со своим народом нам приходится говорить на языке разума, справедливости, долга, интереса (верно понимаемого национального интереса) — но не на языке покаянных чувств. В таких слишком рассудительных речах случаются неверные слова и ноты, законно обижающие тех, кто и без того оскорблен державным хамством; что ж, разуму тоже свойственно ошибаться, а чувство изоляции и разлада с собственным народом тем более этому способствует; ничего, разум умеет и работать над своими ошибками, помнить и исправлять их.
Хотелось бы, чтобы наши украинские друзья (то есть не только они, но они в первую очередь) понимали, что наше покаяние — это такой отложенный долг. Политические долги, например долг гражданского протеста или военных репараций, оплачиваются быстрее и легче, чем долги моральные, для которых еще надо выстроить новое коллективное сознание, новый консенсус в обществе. Западный мир только в наши дни кается за инквизицию и преследования евреев в средние века; Германия только через несколько десятилетий покаялась перед жертвами Холокоста; этот долг помнили, но понадобилось время, чтобы скопить моральный капитал для его отдачи.
Требовать от других покаяния, призывать к нему — не имеет смысла, поспешное и вынужденное покаяние само собой обесценится. Оно должно созреть изнутри, и не только у отдельного человека, а у всей нации. Тогда оно будет по-настоящему весомым.
Приходится ждать, терпеть, работать и думать. Желательно вместе.
FacebookПодражая меньшинству 26.02.2016
В шеффилдском Сити-холле выступала старая шотландская рок-группа Runrig. Публика собралась в значительной части тоже немолодая — семьи с детьми и т. п. — но темпераментная. На самых зажигательных хитах весь партер вставал, ряд за рядом, — подражая друг другу, чтобы похлопать, подплясать, подпеть, и просто чтобы видеть сцену из-за спин стоящих впереди.
Однако все поголовно встали только в первый раз — да и то некоторые при этом смущенно оглядывались и улыбками и гримасами извинялисьза свое стадное поведение. А уже на второй-третий раз в толпе стоящих то тут, то там виднелись нонконформисты, остававшиеся сидеть, словно академик Сахаров на съезде народных депутатов. Они протестовали не против музыки, но против всеобщей мобилизации. Кое-где они даже сбивались в группы, в островки сидячей оппозиции: они тоже подражали друг другу.
Так тренируются в демократии, и слушатели рок-концерта вели себя как члены хорошего парламента. Миметический рефлекс, побуждающий присоединяться к другим, присущ человеку всюду; но в демократическом обществе есть привычка, что присоединяться к меньшинству так же естественно и почтенно, как к большинству, и люди охотно пользуются этим правом — чтобы не отвыкнуть.
Оказавшемуся в зале иностранному исследователю доставляло дополнительное удовольствие тренироваться попеременно в обеих командах, беспринципно примыкать то к одной, то к другой партии и пытаться угадать, какая из них исторически — виги, а какая — тори.
FacebookЛиквидация последствий 5.03.2016
Время от времени возобновляющиеся в демократической среде дискуссии о том, «что делать с Крымом» — отдавать ли его Украине, и каким образом, — не столь отвлеченны и несвоевременны, как может показаться (дескать, кто же вам позволит это делать?). В них фактически обсуждаются базовые проблемы демократии: что такое воля народа? должна ли она подчиняться закону или стоит выше его? связан ли народ решениями, ранее принятыми им или от его имени, или может их пересмотреть?
Если отвлекаться от этих проблем, то вопрос о Крыме кажется простым: международное право требует отдать захваченную территорию, и точка. Но такое легалистское решение смущает многих демократов — и не только из иррациональных империалистических чувств (хотя их тоже нельзя сбрасывать со счетов, в нашей стране они переживаются многими), но и по принципиальной причине. Демократы понимают, что сегодня народ в большинстве своем считает Крым «нашим» (что бы это ни значило: еще вопрос, кто такие «мы»), а стало быть отдать его можно только вопреки мнению народа. Это еще могла бы сделать авторитарная власть — под внешним давлением и предварительно разорив страну дотла, чтобы некуда было деваться; наша нынешняя власть с последней задачей, может, и справится, но не такого решения хотелось бы. Законность нужно восстановить, но все-таки не такой ценой и не посредством еще одного отказа от демократии.
Итак, с точки зрения демократов возвращение Крыма не может быть делом «элиты», узкой группы политиков и юристов. Путь к нему должен лежать через народное волеизъявление, скорее всего через референдум: демократы не могут не спросить согласия у народа по такому важному вопросу. Другой вопрос, что это за референдум. По умолчанию обычно предполагается, что это будет какой-то новый референдум в Крыму, который теоретически мог бы отменить результаты прежнего. Но верный ли это подход?
Вопрос о Крыме — это вопрос о суверенных правах на территорию, и решать его может только суверенная нация. Крымский референдум 2014 года был не только очевидно неконституционным, но и несуверенным: на нем не высказывалась самостоятельная, суверенная нация. Крымской нации не существует, так же как рязанской или черниговской; и даже если верить ее волеизъявлению в 2014 году, она сама не захотела быть нацией — заявила было о своем суверенитете, чтобы сразу же от него отказаться и отдаться под чужую власть. «Крымский народ» (пишу в кавычках, не имея в виду никого из конкретных жителей Крыма) на деле послужил фиктивной нацией, политической фирмой-однодневкой, учрежденной для перекачки актива и тут же ликвидированной.
Если какой-то народ и должен дать согласие на возвращение Крыма, то это народ всей России. В 2014 году его мнения никто толком не спрашивал: дело торопливо обстряпали политики и военные, а народу сунули в руки новоприобретенную территорию и велели ликовать. Сегодня в этом его выгодное положение: у него не связаны руки, и он может исправлять ошибки и преступления своей власти. Но, чтобы это сделать, он, конечно, должен быть хорошо информирован: ему должна быть во всеуслышание сказана правда и об украинской революции, и о российской интервенции, и о сбитом пассажирском самолете, и о полной цене (материальной и морально-политической), которую он платит за эту авантюру. Осведомленному народу хватит ума и совести принять справедливое решение, во всяком случае демократы должны его в этом убеждать — иначе они не демократы.
Важно еще, чтобы его волеизъявление было ответственным, а в международных делах это значит, что должен быть партнер, перед которым можно было бы отвечать. Крымский референдум 2014 года ответственным не был: его участникам предлагалось не взять, а снять с себя ответственность — мы проголосуем, а дальше пусть за все отвечает Москва. Не будет ответственным и референдум с вопросом «отдать ли Крым?»: украденную вещь можно положить на место, но полноправного партнера при этом не возникнет. Правильнее был бы, например, вопрос о передаче дела международному сообществу (в ООН или в какой-то иной арбитраж), а лучше всего — об утверждении договора с Украиной об общем урегулировании отношений, который еще предстоит согласовать.
Ясно, какая долгая это получается история, сколько предварительных условий приходится выполнить и сколько препятствий мешает достойному выходу из положения. К сожалению, есть немало поступков, последствия которых изживаются трудно. Человек пырнет другого ножом — дело секундное, а потом одному приходится месяцами лечиться, а другому годами отсиживать срок; и все еще более затягивается, если тот, второй, гуляет на свободе и препятствует следствию. Парадоксально, но демократы, лучше всех понимающие необходимость вернуть Крым, — последние, кто может это сделать, для них путь к этому будет самым длинным. Скорее всего, по пути случится много такого, что еще больше его искривит, и в итоге дело, как часто в истории, разрешится каким-то совсем непредсказуемым образом. Но этот путь следует иметь в виду как идеал, как ориентир. Восстановленная законность не будет прочной без опоры на свободно и ответственно выраженную волю народа.
FacebookРобер Брессон 13.03.2016
В последнее время не раз ловлю себя на странных провалах в визуальной, зрительской памяти: пересматривая заново старые французские или американские фильмы 80-х годов, совершенно не припоминаю их зрительный ряд — только кое-какие драматургические ходы, имена некоторых персонажей, иногда обстоятельства первого просмотра. Может быть, это результат торопливого, массированного усвоения современного западного кино (ранее почти недоступного) в первые послесоветские годы, когда даже очень классные и оригинальные фильмы сливались в неразличимую массу? Теперь смотрю их буквально новыми глазами: в их зрительном неузнавании даже есть странное удовольствие.
Последним таким неузнаванием стали «Деньги» Робера Брессона, впервые виденные когда-то в 90-х в киноклубе французского посольства. С тех пор запомнился, как теперь выяснилось, только общий сюжетный замысел, восходящий к «Фальшивому купону» Толстого, и финальная сцена, взятая из Достоевского (Раскольников сдается полиции). А фильм великолепен именно как визуальная конструкция: и фирменная брессоновская эстетика материальных вещей; и его почти маниакальная, еще с фильма «Приговоренный к смерти бежал», фиксация на дверях, дверных ручках и замках (то блестящих, опрятно начищенных, то потертых, расхлябанных, захватанных руками, с облупившейся краской); и игра повествовательными метонимиями, когда вместо самого события показывают его технические обстоятельства, то, что было до и после (о попытке самоубийства сообщается горстью таблеток в руке героя и «скорой помощью», увозящей его в больницу); и близкие, крупные планы, мешающие видеть целое (главного героя при первом появлении долго показывают снизу — видна только нижняя часть его тела в спецовке и руки в перчатках, которыми он заливает из шланга мазут в печной бак). Вместо человека — рабочая одежда и техника. Собственно, и актерская игра устроена так, чтобы механизировать персонажей, показать их какими-то автоматами, которые мало и невыразительно говорят (например, полностью опущены обычные слова вежливости, столь частые в реальном французском быту: у Брессона люди даже встречаются и расстаются молча, не здороваясь и не прощаясь), а в сюжетном развитии движутся по условным, извне определенным траекториям — от мелкой уголовной суеты, где их перемещения подчинены механической циркуляции фальшивых купюр, до кровавой мелодрамы в конце, которая метонимически показана через фигуру трусливой собаки, перебегающей из комнаты в комнату вслед за убийцей и неспособной защитить от него своих хозяев. Любопытно, не спародировал ли эту уголовную суету Отар Иоселиани в «Фаворитах луны» — комически ускорив ее темп, но сохранив общий мотив коловращения зла? Фильм Брессона вышел в 1983-м, фильм Иоселиани в 1984-м, времени было в обрез, но вдруг успел?
В одном из телеинтервью Брессон признается, что его «восхитил» какой-то из фильмов о Джеймсе Бонде (еще бы! его должны были воодушевлять технические гаджеты мистера Кью, да и вообще вся механическая расчисленность классической бондианы), а также что он одно время собирался делать фильм «по первым главам Книги бытия». Это последнее сообщение особенно поразительно. Нет, наверное, имелась в виду какая-нибудь осовремененная версия истории Адама и Евы — но ведь с него сталось бы и сотворение мира снять, тоже через всякие минималистские и механические метонимии. Сотворить мир по-своему — это было вполне в его духе.
FacebookДружинная память 26.03.2016
В Великобритании, что и естественно для страны-победительницы, да еще и бывшей колониальной державы, всюду встречаешь памятники военной славы. Особенность их в том, что в большинстве это памятники полковые. Общенациональные, государственные памятники, как на Трафальгарской площади в Лондоне, составляют скорее исключение. Скажем, в Эдинбурге на центральной улице стоит маленький скромный общевоинский мемориал (символический белый саркофаг с надписью «Их имя будет жить вечно»), зато прямо напротив, в соборе St.Gilles, целая стена завешана мемориальными досками — воинам такого-то полка… такого-то батальона… павшим на Первой мировой… в Южной Африке… в Индии… Понятно, что они сооружались не властями, а по подписке, видимо инициированной ветеранами той или иной части. В Шеффилде тоже есть воинский монумент в одном из парков: довольно внушительный обелиск, на вершине крылатая Виктория, у основания реалистические скульптуры (моделями служили студенты местного художественного колледжа) — солдат с винтовкой и офицер с револьвером; памятник посвящен участникам двух мировых войн (поставлен после первой, в 1922 году), рядом еще отдельная мемориальная доска в честь павших на бурской войне — и сопроводительная табличка трогательно объясняет нынешним невеждам, кто такие были буры… Так вот, это памятник не всем вообще британским воинам, а специально солдатам и офицерам Йоркширско-Ланкаширского полка. Указаны и точные цифры его потерь — около 9000 убитых в первую мировую войну (то есть полк был практически истреблен, из первоначального состава выжили, должно быть, единицы), более тысячи во вторую. На некоторых памятниках можно видеть и точные списки погибших — не местных уроженцев (даже если они и были земляками), а именно однополчан.
Нам, пожалуй, есть чему поучиться у этой традиции. Она помогает понять, что героическая память о войне — о войне как подвиге, а не просто бедствии — это память дружинная. Даже если война была всенародной, отечественной, мировой, справедливой или не очень, для ее прямых участников память о ней связана не с отечеством вообще, не с Родиной-матерью (пора бы перестать обольщаться этой фальшивой пропагандистской фигурой — патриотической пародией на христианскую богоматерь), а с тесным коллективом соратников по отряду или полку. Война, видимо, отрывает бойцов от родной земли, создает из них особое, экстерриториальное сообщество; и даже если новобранцы происходили из одних мест, в воинской памяти все равно останется Йоркширско-Ланкаширский полк, а не сами графства Йоркшир и Ланкашир и даже не Британия как таковая. Наши советские ветераны чутко ощутили это, когда стали 9 мая собираться не у какого-нибудь государственно-патриотического монумента, а в нейтральном месте у Большого театра и искать там своих однополчан — тех, с кем они могли бы когда-то топать по одной дороге, есть из одного котла, укрываться от одного обстрела.
Общенародная память о войне тоже бывает — правда, не о всякой и не навек, рано или поздно приходится расставлять таблички, поясняющие, с кем «мы» тогда воевали и, главное, почему; но это память не о героизме, а об утратах и страданиях, память о катастрофе. Было бы мудро отличать одну от другой.
* * *
26.03.2016
А вот еще пример британской памяти о войне — не геройско-полковой, а индивидуальной и народной. Пожилая англичанка, жена моего коллеги, рассказывала, как маленькой девочкой переживала бомбежки Лондона. Вместе с матерью они укрывались в ненадежном убежище (защитило бы от осколков, но не от прямого попадания), и, когда поблизости начинали рваться бомбы, мать считала их вслух: «один, два, три, четыре, пять». Говорили, что немецкие самолеты сбрасывают бомбы пачками по пять штук, и если все пять разорвались, значит на этот раз пронесло.
Facebook«Девичий источник» 7.04.2016
Как-то так получилось, что я, посмотрев много фильмов Бергмана, только теперь добрался до «Девичьего источника». Знаменитый фильм, шедевр, но вот — раньше не видел.
У фильма гениальный сюжет, на основе средневековой легенды; образцовый пример работы религиозного сознания, материал для какого-нибудь социального антрополога, последователя Рене Жирара. В начале — бегло намеченная матрица миметического желания: две молодых женщины, сводные сестры, интересуются одним мужчиной (который всего раз появляется на экране и не совершает никаких поступков; сам по себе он ни при чем). Одна смотрит на него невинно-поверхностно, как на одного из многих симпатичных партнеров по танцу, а другая — с ревнивой страстью. В этой второй сестре и начинает бродить энергия миметического насилия. Она одержима ею, сама не своя: внутри нее созревает неизвестно от кого прижитый ребенок, а вместе с ним живет и бьется еще кто-то другой, более грозный: онаколдует, молится языческому божеству, впадает в истерики, говорит двумя разными голосами (во время молитвы — четко и звучно, а в общении с людьми — торопливым искаженным клекотом). Она запускает импульс зла, который дальше пойдет по цепочке, так что даже гибельневинной жертвы-сестры не сразу сможет его остановить. Опосредованность, синтагматическая развертка миметического насилия — это то, чего Жирар почти не касался, и получается она не прямым подражанием людей друг другу, а через какие-то неявные, мистические звенья. Жертва, оказывается, вызывала к себе тайную ненависть разных людей — даже родной матери, приревновавшей к ней своего мужа. Ее ужасный конец предвещает лесной колдун: он тоже не участвует в развитии событий, зато улавливает разлитую вокруг стихию зла. Орудиями этой стихии становятся «три мертвеца» — случайно попавшиеся на пути братья-козопасы, которым ревнивая сестра-ведьма, знать их не знавшая, невольно передала нечистую силу (через нечистое животное — жабу), подтолкнувшую их к насилию. Потом один из братьев — мальчик, бывший не участником, а только свидетелем насилия и убийства, — будет мучительно, физиологически переживать происшедшее: тошнотой, истерическим отказом от пищи, лихорадкой. В него, как раньше в сестру-ведьму, вселилась разрушительная энергия, искрой перескакивая от одного персонажа к другому. Потом отец погибшей станет мститьза нее, и его месть, как положено, не знает меры, настигая не только двух убийц, но и невиновного третьего брата. Теперь уже ему самому надо очиститься от греха, и этогоне могло заменить ритуальное омовение в бане — оно происходило до, а не после мести, как полагалось бы по стандартной ритуальной схеме (какая-то специфика скандинавских традиций?). Тогда он обещает богу своими руками построить храм; храма мы не увидим, зато на месте первоначального злодеяния начинает бить чудесный источник, который должен смыть кровавый кошмар, осквернивший землю.
Развязка очень ясно показывает, что такое архаическая идея бога — не христианского, разумеется, хоть дело и происходит в христианском средневековье и среди персонажей есть странствующий монах — провидец, аналог и антагонист лесного колдуна. Бог — не творец и не законодатель мироздания, не судья, не спаситель и не покровитель, вообще не личностный партнер по обмену какими-то подношениями и возмездиями; он всего лишь бесконечная текучая стихия, в которой можно растворить, разрядить энергию человеческого зла: заземление для смертоносного миметического тока. И, в соответствии с жираровской теорией, источник все-таки берет свое начало — буквально — от тела погибшей жертвы. Нечего и говорить, что Бергман в 1960 году никак не мог знать теорию Жирара, ее тогда еще просто не было.
По-английски название фильма переводится «Virgin Spring», «источник» звучит как омоним «весны». Действие и впрямь происходит весной: цветут цветы, пахарь ходит за плугом, в какой-то момент вдруг начинает падать запоздалый снег — знак миновавшей, отсутствующей зимы. Может, я что-то забыл или до сих пор не видел, но я вообще не знаю у Бергмана «зимних» фильмов. Была, помнится, эффектная апокалиптическая сцена в снегу из «Земляничной поляны» — но это… сон главного героя, исключение, подтверждающее правило. Впечатление такое, что для этого северного режиссера зима — просто пустота, небытие, а все со-бытия, и счастливые и страшные, происходят в теплое время года, порождаемые горячей стихией сакрального.
FacebookFemme fatale 16.04.2016
Никогда не встречал в жизни роковых женщин, femmes fatales. То есть не только не влюблялся в них, не вступал с ними в какие-то отношения, но и вообще никак не соприкасался, совсем не знаю таких среди своих знакомых. Вроде бы это реально существующий тип, о котором много рассказано и написано, но в моем жизненном опыте это лакуна. И ее трудно объяснить личной слепотой и неосведомленностью: FF по самой своей сути общеизвестна, это публичное амплуа, и ее имя должно быть у всех на слуху («не женщина, а сплошная цитата», говорил Шкловский о Лиле Брик).
Несколько гипотетических объяснений:
1) Профессионально-биографическое: в современной гуманитарно-филологической среде женщин, как правило, больше, чем мужчин, а FF возникает скорее при дефиците женщин и интенсивной конкуренции из-за них, когда конкурирующие желания, проецируя свою энергию на один общий объект, наделяют его магическим обаянием. Возражение: в математической школе, где я учился, девочек было, наоборот, мало, но я не помню, чтобы какая-то из них имела «роковую» репутацию.
2) Культурно-классовое (расширение предыдущего): интеллигенция по складу ума скептична и склонна скорее демистифицировать, чем сакрализовать FF — она критикует любовные иллюзии, подводит их объекты и сценарии под общие категории и типовые схемы, отчего FF теряет свой уникально-исключительный характер, занимает заурядную клетку в таблице психологических диагнозов (Фрейд: фригидный нарциссизм, и т.д.). Возражение: не всякая интеллигенция способна к такому ясному мышлению — ср., например, дореволюционную русскую интеллигенцию (Бунин); то-то она и довела страну известно до чего.
3) Культурно-историческое (уточнение предыдущего): современная цивилизация ослабляет и исключает тип FF. Гендерное равенство и успехи феминизма развенчивают, лишают опоры эту фигуру, чья роковая сила в коллективных представлениях компенсировала реальную приниженность, социальную неполноценность женщины в традиционном обществе (ср. связанные с ней метафоры «кошки», «самки богомола» и т.д.: животные среди людей-мужчин). Возражение: Россия отстает от передовых стран на пути женской эмансипации, а значит, мы у себя должны сравнительно часто встречать и FF в качестве пережитка.
При любом объяснении выходит, что FF — это не столько тип характера (что бы ни говорил Фрейд), сколько особая структурная роль, определяемая внешним окружением. Словно короля на сцене, ее играет свита — мужская, а отчасти и женская; она представляет собой реализацию — печальную, прежде всего для нее же самой — коллективного воображения.
Кто-то может польстить мне и предположить, что это лично я начисто свободен от такого нездорового воображения, поэтому-де рядом со мной и нет места для FF: наткнувшись на человека, который в нее не верит, ей приходится либо уйти, либо срочно перековаться, сменить роль. Возможно, подобные люди, расколдовывающие мир одним своим присутствием, действительно бывают. Но считать таковым самого себя — значит непомерно много о себе мнить.
Интересно, многие ли из моих читателей хотя бы наблюдали со стороны FF? Это был бы тест на однородность среды. Впрочем, можно предвидеть и нестандартные ответы, например такой, с угрозой: «Я сама FF, просто вы меня еще не встречали…» — или, наоборот, с обидой: «…встречали, но не заметили…»
(Навеяно чтением теоретических трудов о любви, и даже написано в подражание некоторым из них).
FacebookДиалогизм 27.04.2016
В кои-то веки оказался в Шеффилде на научном семинаре. Индийская женщина-психолог из Нью-Йорка выступала с докладом «Диалогика личности» — типичной адаптацией диалогической теории Бахтина к нуждам cultural studies и вообще любых social sciences. Диалог ведет все со всем: не только сегодняшний читатель «Махабхараты» с ее текстом, но и гендеры, этнические меньшинства, типы личности, саморефлексия — с историческим прошлым и т. д. Теряясь и пытаясь хоть на что-нибудь опереться в этом безбрежном и бесформенном море, я начал, как часто делаю в таких случаях, строить критическую позицию: объяснять, что диалог с прошлым в строгом смысле слова невозможен, потому что прошлое не умеет отвечать на наши вопросы; мы можем только сами придумывать за него ответы, и общение получается односторонним («как с Богом?» — догадливо подхватила докладчица). Вообще, и она, и вся публика оживленно внимали моим парадоксам, чувствовалось, что я сообщаю им что-то непривычное.
Задним числом осознал, что почти дословно пересказывал М. Л. Гаспарова.
FacebookРазличение понятий 29.04.2016
Рене Жирар, «Романтическая ложь и правда романа»:
«Патриотизм — это уже любовь к себе, но все еще искренний культ героев и святых. Его страстность не зависит от соперничества с чужими отечествами. А вот шовинизм — это плод такого соперничества. Это негативное чувство, основанное на ненависти, то есть на тайном обожании Другого».
Не правда ли, нам такое сегодня хорошо знакомо в реальности — включая «тайное обожание Другого»? А это написано в 1961 году. И сказано походя, при разборе романа Пруста.
Вот это и есть esprit français, французский ум: литературный, светский, стремительный, работающий в режиме интеллектуального спринта. Почти неотразимый в своей аналитической логике — иногда хочется просто снять шляпу.
FacebookГуманитарное образование 6.05.2016
В Шеффилде выступал с лекцией мой (и не только мой) старый знакомец Ханс Ульрих Гумбрехт. Излагал свою идею о необходимости гуманитарных штудий для современного университета: они создают атмосферу вариативного, свободного мышления и тем самым полезны для творческого приращения знаний, даже в точных и технических науках.
В качестве одного из подтверждений он привел тот факт, что в мировом рейтинге университетов в последнее время идут вверх технические университеты с программами humanities. В этот момент я понял, что сам учился в таком заведении, — только это был не университет, а Вторая физико-математическая школа с ее исключительно сильной литературной программой. То есть эта тенденция действовала еще в Советском Союзе.
И, конечно, пародией на нее выглядит нынешнее создание теологических кафедр в некогда передовых технических вузах России. Из всех традиций культуры выбрали самую догматичную и пытаются привить ее физикам: какое уж тут свободное мышление.
FacebookМысль и слово 12.05.2016
Недавно, при ответе на некую анкету о переводе, мне пришла в голову идея, которая удивила меня самого и с которой вряд ли многие легко согласятся: «Задача переводчика — освободить мысль от слова, от языка и культуры, где она была высказана».
То есть мысль — существо бессловесное, она как дух веет где хочет, воплощается во всяких формах, иногда языковых (различных), а иногда и неязыковых (в образе, жесте, поступке). Переводчик, заменяя одно ее словесное выражение другим, ищет ее внесловесный инвариант; потом его приходится облекать в какую-то новую форму (языка, на который переводишь), но сначала нужно, чтобы он блеснул неприкрытым, без всяких слов.
О том, что слово заглушает мысль, писал еще Тютчев: «Есть целый мир в душе твоей / Таинственно-волшебных дум, / Их оглушит наружный шум, / Дневные разгонят лучи, — / Внимай их пенью — и молчи!» А вот запись Витгенштейна, где речь идет не о «наружном шуме» вообще, а конкретно о языке: «…часто голос философской мысли так тонок, что звук произносимого слова уже перекрывает ее, и я больше не могу ее расслышать, когда меня о ней спрашивают и приходится пускаться в рассуждения».
Если так, то переводческая задача противоположна писательской. Писатель (да и мыслитель, ученый, вообще любой автор-сочинитель) должен уловить, заклясть мысль, заключить ее в рамки совершенного словесного выражения, подчинить строю своего языка: «И замыкаю я в клетку холодную…» — самокритично признавался Блок. А переводчик, наоборот, отворяет клетку, снимает с мысли словесное заклятие — пусть себе гуляет между разными языками, примеряя на себя разные формы выражения.
Понятно, что «писатели» и «переводчики» здесь — это не две разные группы людей, а два разных ремесла, которыми может параллельно заниматься один и тот же человек. И все же среди литераторов приблизительно выделяются две категории: «писатели-переводчики» и «чистые писатели», которые ни за что не станут ничего переводить, разве что по сугубой нужде; и это, вообще говоря, не зависит от знания ими иностранных языков.
Идеальный тип писателя — скупой рыцарь, который копит сокровища; а идеальный тип переводчика — ухарь-купец, который любые сокровища пускает в оборот. Писатели чаще бывают националистами, а переводчики — космополитами.
Facebook«Голый остров» 21.05.2016
Закрыл еще одну лакуну в своем кинематографическом опыте — посмотрел «Голый остров» Кането Синдо, знаменитый шедевр, первый приз Московского кинофестиваля 1961 года, лучших его времен. Интересно смотреть этот фильм ретроспективно, в историческом контексте.
Это фильм-картина — принципиально статичный, без развития, в нем бесконечно и любовно изображаются одни и те же трудовые действия крестьянской семьи, возделывающей скалистый островок в море. Туда приходится возить пресную воду с большой земли — вручную, ведрами на лодке, чтобы поливать посевы; и большая часть экранного времени занята именно этими челночными плаваниями героев туда-сюда, то вдвоем, то поодиночке. Сходным образом — как монтаж многих поездок туда и обратно по одному и тому же маршруту — был построен роман Мишеля Бютора «La modification» (1957), но он заканчивался выходом героя из бесконечного повтора, обретением сознания; здесь же никакого выхода нет, и даже болезнь и смерть одного из детей никак не изменяют жизнь родителей. Будь это европейский фильм, его главный мотив заставлял бы вспомнить о бочке Данаид, но у японцев могут быть другие ассоциации.
Вечным повторением поглощаются любые зачатки драматического сюжета. Вот резкий, травматичный эпизод: жена случайно уронила и разлила ведро доставленной ею же драгоценной воды, и муж наказывает ее, сбив с ног размашистой оплеухой. В фильме Ясудзиро Одзу «Курица на ветру» (1948) тоже присутствовала сцена, где муж бил свою жену, она даже с лестницы скатывалась от его удара. (В том же фильме была и внезапная болезнь ребенка, изображенная примерно так же, как в «Голом острове»; не берусь утверждать, что это реминисценции, я все-таки очень отрывочно знаю японское кино.) Так вот, у Одзу это был настоящий драматический момент — повод для последующего раскаяния и примирения и одновременно напоминание о предшествующем катастрофическом опыте (муж воевал, недавно вернулся из плена и не находит себя в мирной жизни). У Кането Синдо жена встает и снова берется за работу; ничего не случилось — привычное дело. Так же в финале она переживет, перестрадает и утрату сына. Драм и конфликтов нет не только на частном, но и на общественном уровне. В итальянском неореализме, который первым стал поэтизировать скудный быт простого народа, обычно показывались если не социальное расслоение и классовая борьба (хотя возможно и это), то такие вещи, как власть, закон, его нарушение. В «Голом острове» ничего этого нет. Мотив эксплуатации сведен к безличной схеме — собрав урожай, крестьяне приносят несколько мешков к чьему-то дому, видимо в качестве арендной платы, но сам арендодатель не появляется в кадре. Общество функционирует мирно и упорядоченно, без всякого, даже символического насилия, гражданские институты работают в согласии с религией: в самой трогательной сцене на похороны умершего мальчика приплывает на катере весь его класс, с учительницей и молодым монахом для погребального обряда. В этом мире неоткуда взяться злу — ни из общества, ни из природы, которая сурова, но неопасна и исправно вознаграждает за труд. Беда может случиться лишь совсем беспричинно, в абстрактной форме неизвестной скоротечной болезни.
И этот мир красив. Собственно, эстетичностью картины как раз и компенсируется неподвижность и абстрактность киноповествования. Это заявлено уже в заставке, в великолепном виде с воздуха на море и утесы (рельеф и ракурс напоминают заставку фильма Казана «К востоку от Эдема», 1955, но, возможно, в те годы это был вообще стереотип); фотогеничны повторяющиеся крупные планы земли и всходов, которые поливают, каждый по отдельности, водой; и тихое, никогда не волнующееся закрытое море, по которому скользит лодка; и лица героев — грубоватых и характерных людей из народа, с минимальной мимикой, которых тщательно подсвечивают среди бела дня, чтобы лицо не пропало в тени широкополой крестьянской шляпы.
Это зрелище, конечно, предназначено совсем не тем людям, что изображены в фильме. В нем есть короткий метакинематографический эпизод, где крестьяне с острова в прибрежном городке заходят в магазин телевизоров и с недоумением смотрят, как на телеэкране изгибается девушка в черном трико, выполняя то ли танцевальные, то ли спортивные упражнения. Что это за передача — реклама? гимнастика для всех? Ясно только, что на «голом острове», где нет даже электричества, этому не место, а в телевизоре, по ту сторону экрана, выступает европеизированная городская культура, которой принадлежит сам фильм КанетоСиндо. Именно для космополитической — сегодня сказали бы «фестивальной» — публики он сделан «неговорящим» (звучат только музыка и песни, не надо вникать в диалоги на чужом языке), этнографическим (показаны кое-какие живописные народные ритуалы) и с установкой на философическое обобщение, на «вечные темы», волнующие «род человеческий» (название знаменитой фотовыставки 50-х годов, на которой были представлены элементарные картины жизни разных народов — рождение, труд, смерть). Сегодня ясно также, почему этот фильм оказался востребован в оттепельном Советском Союзе. В начале 60-х годов еще не заявила о себе «деревенская проза», но в обществе уже возникал запрос на искусство народное по тематике, консервативно-реалистическое по стилю, без всякой левизны и социально-классовой догматики, а заодно и без истории, заменяемой круговоротом крестьянского календарного времени. Вместе с тем иностранное происхождение и международная адресация фильма гарантировали от узко националистического прочтения, поэтому «Голый остров» должен был нравиться и будущим либералам, и будущим почвенникам — как гуманная, симпатичная попытка импортировать общечеловеческие и вместе с тем традиционные «ценности» из одного посттоталитарного общества в другое.
Facebook«Клео с 5 до 7» 31.05.2016
В фильме Аньес Варда «Клео с 5 до 7» (1961) есть момент, когда героиня резко меняет свою внешность (переодевается из эффектных светлых одеяний в простое «черное платьице», срывает с головы парик-шиньон а-ля Брижитт Бардо) и начинает вести себя по-другому: не как капризная и эгоцентричная кукла, а как серьезный, внимательный к окружающим человек. Меняется и ее положение в зрительной структуре фильма: раньше Клео была предметом чужих взглядов, теперь она начинает сама рассматривать людей (например, посетителей кафе), съемка ведется с ее точки зрения, субъективной камерой. Как объясняла Аньес Варда в позднейшем комментарии к фильму, это феминистский жест: женщина из видимой делается видящей, из объекта зрения превращается в его субъекта, а тем самым и обретает полноценное социальное достоинство.
Так-то оно так, но не совсем. Сразу за сценой в кафе следует длинный кадр, где Клео идет по парижской улице, и на нее смотрят, пялятся, провожают ее взглядом встречные прохожие. В ее внешности нет ничего странного; она, конечно, красивая элегантная женщина, но на красивую женщину смотрели бы иначе — упрощено говоря, мужчины с вожделением, а женщины с завистью, — а тут у всех людей, независимо от пола, на лице какое-то другое чувство: удивление, беспокойство, едва ли не тревога. Дело в том, что они смотрят не на героиню фильма — они смотрят на камеру. Они, конечно, не реальные прохожие, а статисты, изображающие прохожих, но роль, которую им поручили играть, — это именно роль случайного прохожего, вдруг очутившегося на улице перед объективом кинокамеры. Он заинтригован, но и смущен: его фигуру сейчас фиксируют, запечатлевают на пленке, а что с ней сделают дальше? наверно, будут показывать другим, но в каком виде, в каком контексте? На наших глазах у людей похищают, отчуждают их образ, отнимают, снимают его прямо с лица, и они это чувствуют, что и отражается в их взглядах.
Аньес Варда не сама изобрела субъективную камеру, но она придумала сделать ее видимой для персонажей фильма — видимой именно в качестве камеры, а не одного из персонажей. В результате такого оптического металепсиса — когда между собой переглядываются не разные действующие лица, а два онтологически несовместимых мира, расположенных по разные стороны объектива, — героиня фильма на какой-то момент исчезает как человек, замещается сложным техническим устройством с темным, безличным, «объективным» взглядом (у Клео в этой сцене на лице темные очки), подключенным не к живому индивидуальному, а к коллективному социальному организму, к съемочной группе и институту кинопроизводства. И этим кинороботом управляет женщина-режиссер, фигура очень редкая в те годы. Если на кого живого и смотрят удивленные прохожие, то в конечном счете именно на нее, на Аньес Варда: она незримый творец, организующий все зрелище, и увидеть ее — все равно как узреть бога.
В этом есть экзистенциальный урок, относящийся не только к кино и не только к женской эмансипации. Вероятно, каждый, кто решается поступать на свой страх и риск, нарушая привычную систему социальных ролей, проходит через рискованный опыт деперсонализации, когда важнейшие шаги совершаются с бездумной твердостью машины, по замыслу какого-то непонятно где находящегося режиссера, иногда благотворного, а иногда фатального: мы называем это «судьбой», а это просто наша субъективность, только вынесенная вовне. Человек в такой момент не уничтожается вовсе (хотя в фильме Варда постоянно звучит мотив страха героини перед смертельной болезнью), но в буквальном смысле «теряет человеческий облик» — что там сменить одежду и прическу! Став суверенным субъектом, хотя бы только субъектом зрения, он парадоксальным образом утрачивает идентичность как опознаваемое место, оказывается «нигде», за объективом камеры; вместо нормального человеческого взгляда он являет окружающим «потусторонний» взор то ли бога, то ли чудовища — и читает в их глазах боязнь за их собственную устойчивую субъективность, которую он отрицает, расшатывает и втягивает в непредсказуемый творческий процесс, чей смысл мы поймем только много позже, на каком-то еще неведомом киноэкране.
P.S. Пересмотрев для контроля проанализированную сцену фильма, должен кое-что уточнить и даже покаяться в грехе гиперинтерпретации. Клео идет по улице без темных очков — она надевала их раньше, разглядывая людей в кафе, а выходя, наоборот, сняла. Любопытство встречных можно в принципе объяснить не экзистенциально, а чисто психологически — ее взволнованным, растерянным лицом и беспорядочным движением (не знает сама, куда идет). Тем не менее эффект «видимой камеры» все-таки работает: камера все время либо следует за спиной героини, либо просто занимает ее место, так что прохожие оглядываются одновременно и на женщину, и на объектив. И еще уточнение: о Клео в этой сцене нельзя сказать, что она решилась «поступать на свой страх и риск, нарушая привычную систему социальных ролей»; она всего лишь выбита волнением из привычной роли женщины-куклы и пробует утвердить себя не как субъекта действия, а только как субъекта зрения. Этого, однако, достаточно для всего дальнейшего: в кино «видеть» — самое сильное действие, сильнее чем убить…
FacebookNuit debout 11.06.2016
Приехав на несколько дней в Париж, не преминул сходить на площадь Республики, где уже три месяца продолжается гражданское движение Nuit debout — французский аналог Майдана, который никто не пытается разгонять, поэтому и сам он вполне мирный. Движение, похоже, возникло как психологическая реакция на теракты прошлой осени — на той же площади, где проходили грандиозные митинги протеста против террора, где до сих пор сохраняется народный мемориал его жертв. Сейчас оно идет на спад, это признают сами участники. Оно занимает примерно половину большой пешеходной зоны, на остальной территории играют дети, упражняются скейтеры, в специальном огороженном закутке волонтеры раздают бесплатную еду неимущим (там давно уже так принято). Сама акция Nuit debout объединяет человек 100, вряд ли сильно больше; большинство собираются ближе к вечеру, но кое-кто и живет в палатках прямо на площади. Здесь же рядом готовят и продают почти даром пищу, здесь же юные художники, расстелив на асфальте большие рекламные плакаты известных фирм, разрисовывают их ехидными рисунками и надписями. Асфальт тоже исписан лозунгами; в частности, в связи с начавшимся вчера футбольным чемпионатом их авторы вовсю изощряются в каламбурах с созвучными словами foot и foutre.
Сегодняшним вечером посреди палаток проходил митинг сирийской оппозиции, но он сильно отличался от основной акции: это был именно митинг, с эстрадой, с эмоциональной накачкой, с круговыми танцами под национальными флагами. Потом сирийцы ушли, а на площади продолжались гражданские дебаты — в формате общего собрания и тематических «комиссий», словно научная конференция с пленарными заседаниями и секциями. Люди стоят, сидят прямо на асфальте или на складных стульчиках, а то и просто лежат, иногда совсем узкими кружками человек по пять-шесть, едят и пьют, слушают выступающих через негромкие, не заглушающие друг друга динамики. Идет спокойная дискуссия на разные общественные темы, без крика, с доброжелательными, учтивыми модераторами. Маргиналов аккуратно изолируют. Вот на скамейке прямо рядом с участниками одной из дискуссий примостился сонный ханурик — на него никто не отвлекается, но когда он начинает совсем заваливаться набок, его дружелюбно, но решительно расталкивают: сиди где хочешь, только веди себя прилично. А вот в кружок вторгается сумасшедший, выкрикивает что-то несуразное, перебивая оратора: его пытаются урезонить сначала модератор, потом какие-то женщины из публики, но он всех отталкивает и продолжает орать; тогда подходит коренастый, накачанный и даже не очень трезвый парень, умело скручивает крикуна и тихо, без всякого лишнего насилия выводит его вон.
Вообще, поражает коллективная воля к организации, к созданию форм коммуникации. Выступающие записываются в прения; те, кто не хочет говорить сам, могут продиктовать свои мысли специальному «глашатаю» — сегодня это была девушка, crieuse, которая обходила публику с тетрадью, а время от времени брала слово и зачитывала собранные ею реплики. Выработан новый условный язык жестов, позволяющих показывать свою реакцию молча, без крика и без хлопанья (хотя в конце выступлений ораторам аплодируют): среди этих жестов-знаков есть «одобряю», «не согласен», «решительно не согласен», «расизм-сексизм!», «короче!», «громче!» За специальной стойкой дежурят юристы-волонтеры, консультирующие участников движения по правовым вопросам: один из них говорил, например, о мерах, которые принимаются, чтобы защитить название Nuit debout, не дать использовать его в коммерческих целях, как случилось в свое время с лозунгом «Je suis Charlie».
Эта тщательно разработанная всего за три месяца коммуникативная среда напоминает тем, кто помнит старые времена, студенческие дискуссии 70-х годов, после революционных выступлений 68-го. Она совсем не похожа на лондонский Speakers’ Corner в Гайд-парке (который, кажется, совсем захирел — в прошлом году я не видел там ни души), с его монологами-проповедями и равнодушными зеваками вместо публики. Из общественного клуба на площади исходят проекты протестных действий в других местах города, о них объявляют в ходе заседаний. Разумеется, объявления помещаются и на сайте, где продолжаются дискуссии и обсуждаются дальнейшие формы развития движения. Скорее всего, майдан на площади Республики через какое-то время исчезнет, но его участники уже наладили контакты между собой, попрактиковались в прямой демократии — они будут продолжать это дело и дальше, просто как-то иначе.
Не берусь анализировать содержание дискуссий, я слишком мало их слушал. Выступать может каждый, и уровень выступлений, конечно, очень неровный; но вот для примера мысль одного из участников «комиссии» о массовой информации. Честную информацию, сказал он, можно получать только из платных СМИ; если вы не платите масс-медиа, например телевидению, это значит, что вы сами являетесь их товаром — они собирают вас и продают своим рекламодателям или политическим спонсорам. По-моему, стоит обдумать.
FacebookБадью о терроризме 13.06.2016
Еще о французских левых. Прочел быстро в Париже новую книжку Алена Бадью — текст лекции, с которой он выступал в Обервилье (пригороде, где я как раз и жил) в ноябре прошлого года, вскоре после террористической атаки на Париж. Он ищет глобального объяснения этих событий, говоря, что «наша беда идет издалека» (Notre mal vient de plus loin — труднопереводимое название книжки, измененная цитата из «Федры» Расина).
Издалека — значит из современной структуры мира, где победивший глобализованный капитализм ослабляет роль государств (взяв на себя задачу, которую когда-то ставили перед собой социалисты), создает вместо них беззаконные безгосударственные зоны вроде ИГИЛ1 или некоторых африканских стран, вытесняет два миллиарда людей в положение «несуществующих» для рынка — они и не потребители, и не рабочая сила. На уровне субъективного сознания человечество делится при этом на три типа субъективности: «люди Запада» (им есть что терять, и они дорожат своим благополучием), люди «желания стать Западом» (иммигранты, подражатели Западу в слаборазвитых странах; Бадью отзывается о них скорее снисходительно: африканские женщины пытаются выбелить себе кожу и т.д.) и «нигилисты» (те, кто свою ненужность осмысляет через инстинкт смерти: если я ничего не стою, то и все прочие тоже, можно их убивать, пусть и погибая самому). Из последних комплектуются разбойничьи банды, контролирующие зоны без государственной власти, а также террористические организации; у них «фашистское» сознание — реактивно-мстительное по отношению к капиталистическому обществу, как у французской коллаборационистской «милиции» времен нацистской оккупации. Важно еще, что религия здесь — второстепенный фактор, к ней приходят те, кто уже проникся ресентиментом: не ислам ведет к фашизму, а фашизм к радикальному исламу. Для левых задача в том, чтобы бороться не столько с фашизмом как таковым, сколько с глобальным капитализмом, который порождает обездоленных; первым шагом должна быть интернационализация левого движения, выход из национальной ограниченности: капитализм опередил коммунизм в глобализации, приходится его догонять.
Схема во многом убедительная, несмотря на некоторые неосмысленные политические предрассудки, свойственные французским левым, — например, иррациональную вражду к США и Израилю. Безусловно, лозунги «войны с терроризмом» или «с исламом» — ложная идеология, терроризм нельзя эссенциализировать, это вторичный процесс, симптом более глубоких проблем. Другой вопрос, насколько точно Бадью формулирует эти проблемы. Разумеется, в одной лекции обо всем не скажешь, но можно хотя бы обозначить границы своей концепции, иначе она получается и слишком широкой по применению, и слишком узкой по смыслу.
Во-первых, ратуя за глобальное мышление, Бадью на самом деле имеет в виду положение вещей, сложившееся в ограниченной части мира: это Европа, Америка, Ближний Восток и часть Африки. За рамками остаются другие важные регионы: с одной стороны, Дальний Восток, где складываются экономически успешные страны без массового ресентимента и без террористической войны (у них «желание стать Западом» дает скорее положительные результаты); и, с другой стороны, опыт Латинской Америки и России, во многом негативный, но иной, не укладывающийся в схему без серьезных оговорок. Да и роль религии все-таки не совсем второстепенна: скажем, исламские террористы в Америке, включая последнего, вчерашнего, до сих пор вроде бы не были ни иммигрантами, ни обездоленными аутсайдерами.
Во-вторых, хотя Бадью прямо такого не заявляет, капитализм фактически описывается у него как абсолютное зло, почти как терроризм в понимании властей; один враг заменяется другим, но сохраняется парадигма антагонизма, войны на уничтожение. Это плохо для концепции: как только философ начинает мыслить в категориях вражды, его мысль становится односторонней. Маркс относился к капитализму иначе — сознавал его прогрессивную роль и предлагал не уничтожать, а преодолевать его; сегодня, например, это значит продолжать и развивать, совершенствовать начатую им глобализацию. Бадью вроде бы и нащупывает эту проблему, но толкует ее в узко политическом, партийном смысле объединения коммунистов всех стран. Это, к сожалению, типично для современных левых, они часто упускают из виду диалектическую перспективу: не разрушать капитализм, а сделать лучше, чем он. Когда-то московские левые кричали на своих демонстрациях: «Нет фашизму, нет капитализму!» Оно, пожалуй, и так, но только у этих двух «нет» должен быть разный смысл, два разных модуса отрицания.
Есть еще одна проблема, связанная уже не с концептуальным содержанием книжки Бадью, а с ее коммуникативной ситуацией. Автор за нее не в ответе: в своей лекции он обращался к тем, кто его пригласил, а эти люди — жители Франции, пусть и бедного парижского пригорода (а уж тем более читатели его книги) — в общем и целом «люди Запада», относительно привилегированный класс, если рассматривать его в мировом масштабе; в старых марксистских терминах, не то рабочая аристократия, не то мелкая буржуазия. Традиционно левые обращаются не к ним, а к пролетариату — но, по мысли Бадью, в роли современного пролетариата, самого обездоленного класса, которому нечего терять, оказываются (я, конечно, упрощаю) те самые два миллиарда людей, не нужных мировому рынку. А где, в какой форме и на каком языке разговаривать с ними?
FacebookПолитика ума и сердца 19.06.2016
Йоркшир, где я сейчас живу, на днях печально прославился первым в Великобритании за несколько десятилетий политическим убийством: в городке Берсталле близ Лидса среди бела дня на улице зарезали (и для верности еще застрелили в упор) члена парламента Джо Кокс — молодую симпатичную женщину, активного и многообещающего политика. Она была лейбористкой и перед референдумом о выходе из Европейского союза агитировала за европейскую интеграцию, против Brexit’а. Как раз шла с одного предвыборного собрания на другое — пешком и без охраны: а чего опасаться, там маленький провинциальный городок в цивилизованной стране. Но страсти вокруг народного волеизъявления разгорелись до такой степени, что пролилась кровь.
Убийца, конечно, психопат, но, совершив свое дело, он прокричал то, что положено по патриотической идеологии: «Britain first!» (это не просто лозунг, а название крайне правой партии, которая, разумеется, поспешила откреститься от такого симпатизанта). И вот какая нехитрая мысль приходит в голову: невозможно ведь даже представить себе, чтобы какой-то ополоумевший сторонник ЕС пошел резать своих оппонентов на улицах, — а вот для патриота такое не совсем исключено. Потому что евроинтеграция — это рациональная политика, а патриотизм — страсть, и на почве страсти можно свихнуться. Любовь к родине, как и всякая любовь, может довести до сумасшествия, а дружба и сотрудничество не могут. Не потому, что они добрее любви: просто они не столь интимны, более открыты к публичной сфере и разумным решениям, а тем самым вакцинированы от безумия.
У всех есть родина, и все ее любят, но это слишком интимное, нутряное чувство приходится контролировать, иначе оно способно довести до беды. Может быть, гибель Джо Кокс побудит кого-то из колеблющихся британских избирателей задуматься и проголосовать на референдуме не «сердцем», а «умом». Но, конечно, цена уже заплачена непоправимо высокая.
FacebookВозобновляемая энергия 5.07.2016
Завораживающая черта современного европейского пейзажа — ветряные электрогенераторы, которые машут своими тремя гигантскими руками-лопастями иногда в одиночку, а чаще малыми или большими стаями — на голых и безлюдных горах Шотландии, на морском мелководье близ побережья, на холмах вокруг городов. По-английски они называются красивой метафорой — windfarms.
Это действительно сельские «фермы», мызы, искусственные сады или леса, совершенно отрицающие свою промышленно-техническую сущность. Генераторы бесшумны — то есть, наверное, вблизи производят какой-то звук, но видишь их всегда издалека, да еще из чего-нибудь гремящего и гудящего (с самолета, с железной дороги, с автострады), откуда никакого звука не слыхать. Они задумчиво-неторопливы, словно огромные животные на пастбище, в противоположность обычным турбинам и двигателям, которые стремительно крутятся как белки в колесе. И они не пожирают энергию и не выбрасывают ее в выхлопе — наоборот, улавливают и экономно прибирают к рукам. Дон Кихот, конечно, принял бы их за великанов, но вряд ли полез бы с ними драться: слишком величественно и благожелательно выглядят их высокие, тонкие белые фигуры — женские, материнские? А может быть, он узнал бы в них свой собственный длинный и худощавый силуэт рыцаря-идеалиста с копьем и вспомнил бы утопию золотого века, дружественного союза между человеком и природой, которую он сам воображал в мечтах.
Есть уже целые города и даже небольшие страны, которые питаются энергией «ветряных ферм». А мне они каждый раз напоминают старый фильм «Доктор Живаго» и песню о мельницах моего сердца.
Facebook«Касабланка» 11.07.2016
Посмотрев уже в третий раз в жизни «Касабланку», начинаю понимать, в чем очарование этого старого фильма (разумеется, утраченное в ремейках, не говоря уже о мультипликационной пародии, где роли персонажей исполняли диснеевские зверюшки).
Одна причина очевидна, и о ней все говорят: в этом фильме несложная любовная история включена в большую Историю, разворачивается на фоне мировой войны, в которую как раз незадолго до того вступила Америка (в 1942 году американцы уже вовсю воевали на Тихом океане, а в ноябре высадились в Северной Африке, в той самой Касабланке). Это наполняло интимный сюжет коллективным дыханием, создавало чувство патриотической солидарности между героями и зрителями; например, в знаменитой сцене, когда публика в кафе Рика (которого играет Хэмфри Богарт — вместо первоначально намеченного Рональда Рейгана) подавляет «Марсельезой» воинственный хор немецких офицеров, поющих «Стражу на Рейне», — зритель сам должен отождествить себя с кем-то из поющих, сам хотя бы внутренне, про себя спеть гимн сопротивления.
Но есть и другая причина успеха, мало зависящая от момента, когда фильм вышел на экраны. Это особый образ самой войны, которая идет где-то далеко, но определяет всю обстановку действия.
Колониальная Касабланка — своеобразный вариант Дикого Запада. Здесь нет или почти нет эффектных перестрелок, драк и погонь, и кафе Рика, с его нарядными господами и дамами, внешне мало походит на ковбойский салун, хотя у многих из этих людей действительно в карманах лежат пистолеты. «Дикость» проявляется не столько в прямом насилии, сколько в безвластии, слабости и коррумпированности государства (есть французская колониальная власть, но она сама зависит от немецких оккупантов) и в неопределенности цен и ценностей. Самый невинный, комедийный эпизод: марокканский торговец пытается что-то всучить героине Ингрид Бергман, бессовестно завышая цену и затем последовательно снижая ее аж в семь раз. В фильме часто фигурируют деньги — банальный, конечно, факт, — но это почти всегда не трудовые и не нормальные рыночные деньги, а игровые, абстрактные, которые неизвестно откуда взялись и неизвестно чего стоят. Они стремительно переходят из рук в руки в подпольном казино (благородный хозяин то честно выплачивает огромную сумму одному удачливому игроку, то сам помогает выиграть другому); ими расплачиваются (абстрактно, безналично) за угощение, которое разные персонажи непрерывно преподносят своим друзьям, партнерам и даже врагам; на них Рик заключает пари с полицейским комиссаром — сумеет ли тот задержать в городе пару эмигрантов, стремящихся из него выехать?; ими платят взятки тому же самому комиссару за выездную визу. Вот еще одна особенность этого мира: в нем исключительную, ни с чем не сообразную ценность имеют абстрактные знаки, официальные (и в то же время продажные) документы — визы, пропуска, — позволяющие из этого мира выбраться; их ищут, прячут, за них убивают и гибнут. Здесь все живут «проездом», ожидая перемены своей участи — случая купить себе визу и билет в Америку (например, на деньги, выигранные в казино). А когда в этот мир попадает руководитель Сопротивления, то он начинает странно напоминать русского помещика XIX века: он владеет «душами» (именами и явками товарищей), которые пытается у него купить — именно купить, шантажом и посулами— гонящееся за ним гестапо. Он, конечно, никого не выдает, но эти его соратники, о которых мы ничего не знаем, остаются в фильме такими же абстрактными фигурами, как денежные знаки или паспорта, потенциальными предметами торга на черном рынке Касабланки.
Мы привыкли ассоциировать войну с насилием, жестокостью и геройством, а в фильме Майкла Кертиса она показана как аномия, расстройство общественных отношений. Война — это черный рынок, где торгуют жизнью и смертью; а Касабланка — это ничейная транзитная территория между концентрационными лагерями Европы и свободной Америкой. Эту сторону войны знают на опыте множество людей, но ее часто игнорируют те, кто пытается рассказывать о войне. В ситуации аномии отстаивать непродажные, безусловные ценности — любовь, рыцарство — приходится не столько для победы над врагом, сколько для восстановления морали в деморализованном обществе, чтобы люди и знаки стали стоить столько, сколько они должны.
Это восстановление распадающейся социальности — важная тема культуры 40-х годов и едва ли не главная тема литературы Сопротивления. Герой Хэмфри Богарта, подобно героям Хемингуэя, не может удержаться в рамках приватного нейтралитета; он вообще по жизни таков, о нем дважды говорят, что еще до мировой войны он участвовал в войнах локальных (в Эфиопии, в Испании) «на стороне проигравших», против наступавшего фашизма. Сходная фигура появилась позднее в романе Альбера Камю «Чума» (1947): это журналист Рамбер, случайно застрявший в охваченном аномическим бедствием городе (тоже, кстати, североафриканском) и, подобно Рику, невольно втянутый в борьбу, ставший активным участником гражданского сопротивления. Как он признается, он тоже раньше воевал в Испании — и тоже «на стороне побежденных». То есть это выражение, как и весь персонаж Рамбера, — цитата из американского фильма 1942 года, который Камю наверняка видел. Здесь важно слово «проигравшие», «побежденные» — по словам Сент-Экзюпери (того же 1942 года), они «должны молчать — как зерна», которым предстоит прорасти.
FacebookВенский конгресс 23.07.2016
Всемирные научные конгрессы (например, нынешний конгресс Международной ассоциации сравнительной литературы в Вене), как и большие грантовые конкурсы, интересны возможностью увидеть, «что сегодня носят» — какие темы и идеи считаются модными, интересными и проходными в нынешнем научном мире. Только на грантовом конкурсе это видно лишь экспертам и членам жюри, а на конгрессе — всем участникам.
Вот, например, в теории литературы вошло в моду понятие «погружения в вымысел» (fictional immersion, immersion fictionnelle). Его изобрели много лет назад европейские ученые, экспортировали в Америку, а теперь реимпортируют назад в Европу как новое слово в теории литературного текста (а равно фильма, компьютерной игры и т.д.), позволяющее моделировать опыт потребителя культуры. Читатель/зритель «временно приостанавливает свою недоверчивость» (Кольридж), позволяет себе увлечься фабулой, переживает ее как реальные события с реальными персонажами; такое погружение неравномерно, в тексте выделяются более «иммерсивные» и менее «иммерсивные» зоны — среди последних, например, рамочные эпизоды, когда мы еще не или уже не помещаем себя внутрь него. Получается модель текстуальной динамики, вроде бы выгодно отличающаяся от статичных семиотических описаний прошлого (ныне изрядно забытых).
Одна беда: установить конкретное «погружение» очень сложно — читателя ведь так просто не расспросишь, нужны статистические обследования с поправкой на wishful thinking респондентов, а это уже другая профессия, практическая социология, которая литературоведам незнакома и скучна. Поэтому участники секции о «погружении», привычные к анализу текста, хитрили — пытались выводить факт «погружения» из него самого: искали в романах «иммерсивные» эпизоды, где в чей-то чужой вымысел погружается один из персонажей (например, его соблазняют, может быть даже обманывают); или где мотив «погружения» вообще встречается в буквальном, а не переносном смысле (герои купаются в море…). Предполагается, что читатель не упустит случая подражать симпатичному герою и сам куда-нибудь сладостно погрузится — не в морские волны, так в художественный мир. Для этого приходится, правда, отвлекаться от целостного текста, изымать из него кое-какие эпизоды, отдельные (вообще-то сомнительные) свидетельства персонажей, переживших увлеченность, завороженность и так далее. Или еще пытаются усилить идею «приостановления недоверчивости» и заявляют, что в литературе имеет место настоящая вера в происходящее, каковая опять-таки может дублироваться верой кого-то из персонажей, чьи чувства уже поддаются документации. Однако веру доказать еще труднее, чем эстетическое «погружение»: а вдруг это тоже лишь условность, игра, семиотический эффект реальности?
Когда-то структурализм в поисках научной строгости сосредоточился на объективной данности текста; потом рецептивная эстетика раскритиковала его за недооценку читательского опыта (некоторые структуралисты и сами были готовы вести эту критику), и вот теперь структуры текста уже отвергнуты, исследователи любят читателя как своего ближнего, зато о его отношениях с текстом могут только гадать или рассуждать вообще. Одно из двух: либо живая истина, либо научная доказательность.
FacebookБадью о фашизме 3.08.2016
Снова вспоминается мысль, которую высказывал Ален Бадью в своей последней книжке, пытаясь осмыслить современный терроризм: человек сначала становится экстремистом («фашистом», по терминологии Бадью), а потом уже находит для своего оправдания исламистскую идеологию, как раньше находил коммунистическую или еще какую-нибудь. Тут важно правильно понимать термин «фашизм»: Бадью имеет в виду не вообще «супостата» и «негодяя», а конкретно тип ресентиментного сознания, когда люди, переживающие собственную социально-историческую ничтожность в современной цивилизации (отдельный вопрос — насколько она справедлива), пытаются мстить за нее всей этой цивилизации. Социопаты, которые добиваются, чтобы общество признало их хотя бы в качестве врагов.
Собственно, вокруг этого и развертывается нынешняя «война с мировым терроризмом»: она не столько за власть (террористы не претендуют на реальную власть) и даже не столько за жизнь и безопасность конкретных людей, сколько за имя, за флаг, за то, кого назначат или не назначат абсолютным врагом и негодяем. Террористы, сегодня прежде всего исламские, хотят для себя этого титула мирового зла, а массовое сознание делает уступки их претензиям, исподволь подставляет на место конкретных социально-психологических «фашистов» — абстрактных фашистов-супостатов; скверным симптомом является уже прижившийся внутренне противоречивый термин «война с терроризмом», потому что с терроризмом не воюют, те, с кем можно воевать, — это уже не «террористы». Так устроено военное сознание: война начинается, когда враг назван врагом, когда в его побуждениях уже не нужно больше разбираться и в его сообщники можно зачислять всех, кто окажется с ним рядом (в данном случае — всех мусульман). И здесь большая опасность для современного мира: террористы пытаются спровоцировать его на войну — в пределе на мировую войну, у них даже есть для этого удобная идеология джихада, — и неизвестно, хватит ли ему мудрости не поддаться.
FacebookФигура полемической фикции 10.08.2016
В литературном повествовании бывают знаки фикциональности, то есть вымышленности, — например, внутренние монологи персонажей. Когда нам дословно сообщают, что думали про себя другие люди, это сигнал, что перед нами художественный вымысел.
В современной полемике, особенно политической, тоже бывают подобные знаки; часто они даже употребляются наивно, то есть сами полемисты не имели в виду выдавать себя и открыто заявлять о фикциональности своей речи. Таковы, например, специфические уничижительные выражения при пересказе идей оппонента, особенно не конкретного, а коллективно-обобщенного оппонента. Когда полемист говорит или пишет, что некие несимпатичные ему люди «яростно», «неистово», «с пеной у рта» о чем-нибудь «кричат», «размахивают лозунгами» и т. п. (этот словарик легко дополнить) — то такие оценочные термины следует правильно понимать. Вместо того чтобы соглашаться или возмущаться, искать аргументов «за» или «против», лучше сразу уяснить: сам полемист точно такого нигде не читал и не слышал, подтверждать свой пересказ цитатами и ссылками не собирается. Он все это выдумал — в своих нехудожественных полемических целях.
FacebookСпортивная честь 27.08.2016
Спортсменов чтут как героев, за них болеют как за чемпионов — буквально «заступников», «поборников» — своей страны. Они отстаивают ее честь, и их самих удостаивают высоких почестей, их победами гордятся. Ради этих побед они совершают подвиги, недоступные обычным людям, превозмогают слабость и боль, нередко рискуют здоровьем. Однако честь можно не только заслужить и защитить, но и потерять. И не поражением в добросовестной борьбе — в нем как раз нет позора, важна не победа, а участие, — но нарушением правил борьбы, применением запрещенных приемов или средств. Тогда, если спортсмены выступают как команда, бесчестие падает на всю команду (а косвенно и на доверившихся ей болельщиков), которая может быть вся наказана за проступок немногих. Бессмысленно протестовать против такой «коллективной ответственности»: ее не должно быть для простых граждан, например в уголовном суде, но спортсмены-то именно что не простые граждане — они герои, добивающиеся для себя высшей чести, а потому и ответственность на них лежит тоже особая, повышенная, героическая: один за всех и все за одного.
То же самое, когда, превозмогая слабость, боль и увечья, состязаются спортсмены с ограниченными возможностями. Их цель — не абсолютные рекорды, а честь как таковая. Их усилия означают: мы не можем физически соперничать с победителями «больших» соревнований, но морально мы не уступаем им, мы такие же герои, как они. Тогда, если кто-то из них бесчестно нарушает правила, он точно так же роняет честь всех остальных. Возмущаться суровостью их коллективного наказания, требовать им поблажек по «гуманитарным соображениям» (дескать, люди больные, им и так тяжело приходится в жизни) — значит не признавать их благородного честолюбия, унижать их спортивную гордость: и провинившихся, и невиновных, и даже их соперников, которые вообще не в ответе за чужие грехи. Это значит говорить им всем: ваши соревнования — понарошку, ваши награды — игрушечные, вашими правилами всегда можно пренебречь, а сами вы никакие не герои, а простые калеки (жестокое слово, но при таких рассуждениях выходит именно оно).
Так обстоит дело не только в спорте. Каждый житель страны не обязан быть героем, у него может быть своя частная, без высоких притязаний жизнь. Но, сознавая себя гражданином и патриотом, он до какой-то степени разделяет героическую этику, национальная честь сливается для него с личной. Частное лицо не отвечает по долгам государства, не отвечает даже за его преступления, но гражданин и патриот именно что не совсем частное лицо. Он добровольно берет на себя частицу ответственности за свою страну, гордится ее успехами и стыдится ее неудач, словно своих собственных. Если же его страна (государство) ведет себя лживо, подло и вероломно по отношению к другим, то это бесчестье падает и на него, даже если он сам никак не участвовал в таких действиях. Он не может оправдывать их всякими низкими, негероическими соображениями: говорить, например, что «так делают все» и что «мы защищаем наши интересы». Может, кто другой так и делает — но нас-то кто заставлял? А интересы, выгода не могут стоять выше чести, и спорт опять-таки очень хорошо это показывает. Спортивных побед добиваются не для «защиты интересов», и если бы спортсмены — даже самые профессиональные — состязались исключительно ради выгоды, за них никто не стал бы болеть. Спорт наглядно, специальными зрелищными средствами напоминает нам, что героическая честь (индивидуальная или коллективная) абсолютна и не знает смягчающих обстоятельств: она или есть или нет, ее можно либо сберечь, часто ценой жертв, либо утратить, погнавшись за какой-нибудь преходящей выгодой. Такова же и национальная честь, честь родины и честь патриота.
FacebookСпасательная команда 12.09.2016
В избирательном округе, где я сейчас живу, перед входом в метро приходится пробираться через ярмарку уродов. Всюду наставлены агитационные кубы а-ля Навальный, а на них красуются физиономии очевидных, отъявленных негодяев — кандидатов в Думу. Один пугает избирателей печатными и телевизионными истериками насчет «давления агрессивного блока НАТО». Другой тоже бесхитростно запугивает своими афишами: «или имярек, или революция» (буквально); этакая логика меньшего зла, нашел с чем себя сравнить — хорошо хоть не с чумой… Третий — бывший всероссийский санитар, чьи портреты бессовестно вывешены, не иначе как в санитарно-просветительных целях, на стендах жилищно-коммунальной службы. Четвертый, с судимостью за кражу в официальной биографии, открыто заявляет, что пришел не в Думу избираться, а потроллить другого кандидата — Дмитрия Гудкова. Есть, правда, надежда, что все эти достойные граждане растащат избирателей друг у друга и дадут возможность пройти Гудкову, единственному вменяемому кандидату. Я, во всяком случае, перевел немного денег на его кампанию.
Вообще, зачем голосовать на этих выборах? Я думаю, необходимо провести в Думу хотя бы несколько нормальных, разумных и самостоятельных людей — неважно, от каких партий и по какой процедуре. Они будут там в ничтожном меньшинстве и в обычное время мало что смогут сделать, но надо иметь в виду и возможность чрезвычайных, кризисных обстоятельств: вся эта система неустойчива, и может статься, что в какой-то момент Государственной думе придется взять на себя ту задачу срочной реорганизации власти, которую решали как умели одноименный ей орган в феврале 1917 года или украинская Верховная рада в феврале 2014-го. При этом агрессивно-послушное большинство начнет метаться и истерить, не понимая, кто теперь начальник и чего он хочет (никто не помнит, как это было в Верховном совете СССР двадцать пять лет назад, сразу после августовского путча?). В такой ситуации голоса нескольких ответственных людей зазвучат со стократной силой и могут переломить ход событий. Одним словом, мы сейчас избираем не просто парламентскую оппозицию, а команду спасателей на случай катастрофы.
* * *
19.09.2016
Надежда не оправдалась: в Думу прошел санитар с жилищно-коммунальным блатом, а также разные прочие предотвращатели революций, которые они зовут «цветными», опасаясь назвать без эпитетов, точно по имени. Боюсь, ничего они не предотвратят, придется самим же в этом участвовать, и как они справятся, при их-то интеллектуальном богатстве?
FacebookОздоровление страстей 3.11.2016
Ненависть бесплодна и вредна для души. На ненависти нельзя ничего построить, и солидарность людей, дружно кого-то ненавидящих, — мнимая и эфемерная. Сегодня все вместе ненавидим одних, завтра других, а послезавтра — глядишь, уже и друг друга: так бывает и в личных отношениях, и в жизни общественной, политической. Социальные сети показывают это очень ясно и скоро: прокатывающиеся по ним волны коллективной ненависти столь же заразительны, сколь и ничтожны по результату. От них остается только тяжкое похмелье, как от бессмысленной пьянки в случайной компании: хочется скорее забыть. А то еще можно впасть в устойчивую наркотическую зависимость: сделаться профессиональным ненавистником чего скажут, мракобесом с похмельным тремором; у нас сегодня такие востребованы.
Но чем же заменить ненависть? Ведь вражду и неприязнь до конца не изжить, и, честно говоря, многие люди объективно их заслуживают. Когда вместо ненависти предлагают ее противоположность, доброту и братскую любовь, то обычно либо по недомыслию, либо из лицемерия. Лучше искать для нее какие-то более мягкие заменители. Не искоренять зло раз навсегда, а понемногу обезвреживать его, снижать его градус. Переходить на менее крепкие напитки, на менее аддиктивные страсти. Или, в более благородных терминах, подниматься все выше по ступеням морального совершенствования: каждый сам выбирает, где остановиться.
Неплохой заместительной терапией для ненависти может быть презрение. Оно холоднее, а значит рассудительнее ненависти и не так легко передается другим, обычно каждый вырабатывает его самостоятельно. Ненависть — рабское чувство, а презрение — господское, аристократическое, в нем нет ресентимента, оно может разрядиться насмешкой. Ненавистник невротически зависит от предмета своей страсти, а презирающий может о нем даже забыть. Но с презрением есть и свои проблемы: легко увлечься и запрезирать слишком многих, в пределе — всех окружающих. (Отсюда, например, распространенные сетования о «народе рабов». ) И еще: презрение, негодование или возмущение не всегда искренни, часто ими маскируют все ту же ненависть, из самолюбия не решаясь в ней признаться, в том числе и самим себе. Практический критерий для их различения такой: ненавидящий врага злорадствует при любых его бедах (кирпич на голову упал…), а презирающий — нет, он ценит свой успех, но не чужую неудачу.
Следующей, еще более гигиеничной заменой ненависти будет жалость. Она, конечно, унижает и поэтому тоже нередко служит риторическим прикрытием для злобы («ну ты, жалкий трус…»), но если ее хорошенько очистить, то останется непритворная снисходительная печаль о противнике, которого мы не отвергаем презрительно, а желали бы сберечь: жаль ведь его, мог бы пригодиться человечеству, если бы думал и вел себя достойнее. Увы, иные из наших недругов настолько сами себя унижают подлостью, что снисходить до них — не дотянешься. Зато опять-таки легко впасть в гордыню, высокомерно жалея всех, кто с тобой не заодно; а сам-то ты разве всегда прав, и кто и как пожалеет тебя в твоих собственных грехах?
Еще ступенькой выше находится уважение к противнику — роскошный пережиток рыцарских нравов, наряду с дуэльным кодексом и спортивным fair-play. О нем ностальгически мечтал Ницше, призывая нас искать себе «своих врагов» — то есть не случайных и низких, а соприродных нам, единокровных. Таковы и древнегреческие герои в стихах Брюсова:
Как враги, друг на друга, грозя, ополчаемся, Чтоб потешить свой дух поединком двух равных.Уважение к противнику не расслабляет, не мешает бороться с ним; но оно вводит борьбу в разумные рамки, оставляет возможность примирения и даже союза, основанного на взаимном признании; в отличие от презрения или жалости, для него требуется именно взаимность, равноправие сторон. В отличие от ненависти и прочих ее заменителей, это подлинно социальное чувство. В мирной жизни (о войне разговор отдельный) его поддерживает корпоративная этика — академическая, творческая и т.д., — заставляющая противников оглядываться на свое сообщество и на свою репутацию в нем. Чем прочнее такое сообщество, тем больше шансов, что их борьба перейдет в конструктивную конкуренцию.
Ну, а последней, высшей ступенью на этой лестнице будет бескорыстная любовь к своим врагам, о которой сказано в Евангелии, или же «любовь к дальнему», о которой писал уже названный немецкий философ. Именно к врагам и к дальнему — друзей-то и близких любить дело нехитрое. Куда труднее сказать себе: он, враг, ничем не хуже меня, может быть даже лучше, и он мне дороже себя; борясь с ним, я стану тем самым поддерживать его в форме, чтобы он и дальше себя не ронял. Боюсь, у немногих из нас есть в жизни такой исключительный, идеальный нравственный опыт; я и сам не буду хвастаться.
Выше была сделана оговорка: война — особый случай. Она распаляет в людях ненависть, и часто утверждают, что без ненависти на ней не победить. Даже если это и так (хотя не все военные и воевавшие люди с этим согласны), бывает ведь и другая задача — остановить, предотвратить войну: задача, спустя много лет вновь ставшая для нас актуальной. Чтобы с нею справиться, имеет смысл начать с себя, с оздоровления собственных чувств.
FacebookПримечания
1
Террористическая организация запрещена на территории РФ. — Прим. ред.
(обратно)
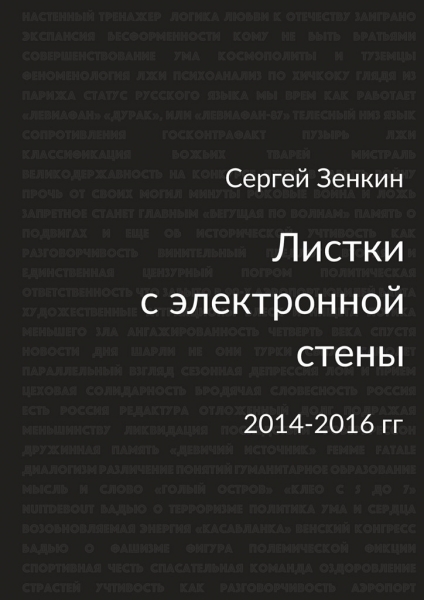

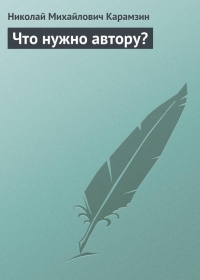

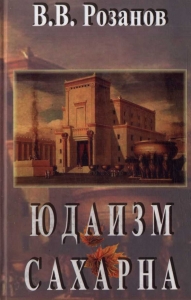
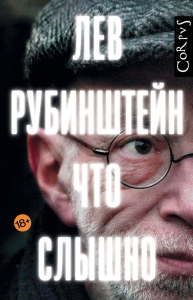
Комментарии к книге «Листки с электронной стены», Сергей Николаевич Зенкин
Всего 0 комментариев