Подготовка тома и текстологические комментарии Н. М. Чернышевской
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ИСКУССТВА К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
(ДИССЕРТАЦИЯ)1
Настоящий трактат ограничивается общими выводами из фактов, подтверждая их опять только общими указаниями на факты. Вот первый пункт, относительно которого должно дать объяснение. Ныне век монографий, и сочинение может подвергнуться упреку в несовременности. Удаление из него всех специальных исследований может быть сочтено за пренебрежение к ним или за следствие мнения, что общие выводы могут обойтись без подтверждения фактами. Но такое заключение основывалось бы только на внешней форме труда, а не на внутреннем его характере. Реальное направление мыслей, развиваемых в нем, уже достаточно свидетельствует, что они возникли на почве реальности и что автор вообще придает очень мало значения для націего-вре-/ мени фантастическим полетам даже и в области искусства; нетолько в деле науки. Сущность понятий, излагаемых автором, ручается за то, что он желал бы, если б мог, привести в своем сочинении многочисленные факты, из которых выведены его мнения. Но если б он решился следовать своему желанию, объем труда далеко превзойіел бы определенные ему границы. Автор думает, однако, что общих указаний, им приводимых, достаточно, чтобы напомнить читателю десятки и сотни фактов, говорящих в пользу мнений, излагаемых в этом трактате, и потому надеется, что краткость объяснений не есть бездоказательность 2.
Но зачем же автор избрал такой общий, такой обширный вопрос, как эстетические отношения искусства к действительности, предметом своего исследования? Почему не избрал он какого-нибудь специального вопроса, как это большею частью ныне делается?
По силам ли автора задача, которую хотел он объяснить, решать это, конечно, не ему самому. Но предмет, привлекший его внимание, имеет ныне полное право обращать на себя внимание всех людей, занимающихся эстетическими вопросами, то есть всех, интересующихся искусством, поэзиею, литературой.
Автору кажется, что бесполезно толковать об основных вопросах науки только тогда, когда нельзя сказать о них ничего нового л основательного, когда не приготовлена еще возможность видеть, что наука изменяет свои прежние воззрения, и показать, в каком смысле, по всей вероятности, должны они измениться. Но когда выработаны материалы для нового воззрения на основные вопросы нашей специальной науки, и можно, и должно высказать эти основные идеи.
Уважение к действительной жизни, недоверчивость к априори-ческим, хотя бы и приятным для фантазии, гипотезам, вот характер направления, господствующего ныне в науке. Автору кажется, что необходимо привести к этому знаменателю и наши эстетические убеждения, если еще стоит говорить об эстетике 3.
Автор не менее, нежели кто-нибудь, признает необходимость специальных исследований; но ему кажется, что от времени до времени необходимо также обозревать содержание науки с общей точки зрения; кажется, что если важно собирать и исследовать факты, то не менее важно и стараться проникнуть в смысл их. Мы все признаем высокое значение истории искусства, особенно истории поэзии; итак, не могут не иметь высокого значения и вопросы о том, что такое искусство, что такое поэзия.
[В гегелевской философии понятие прекрасного развивается таким образом:
Жизнь вселенной есть процесс осуществления абсолютной идеи. Полным осуществлением абсолютной идеи будет только вселенная во всем своем пространстве и во все течение своего существования; а в одном известном предмете, ограниченном пределами пространства и времени, абсолютная идея никогда не осуществляется вполне. Осуществляясь, абсолютная идея разлагается на цепь определенных идей; и каждая определенная идея в свою очередь вполне осуществляется только во всем бесконечном множестве обнимаемых ею предметов или существ, но никогда не может вполне осушествиться в одном отдельном существе.
Но] все сферы духовной деятельности подчинены закону восхождения от непосредственности к посредственности. Вследствие этого закона [абсолютная] идея, вполне постигаемая только мышлением (познавание под формою посредственности), первоначально является духу под формою непосредственности или под формою воззрения. Поэтому человеческому духу кажется, что отдельное существо, ограниченное пределами пространства и времени, совершенно соответствует своему понятию, кажется, что в нем вполне осуществилась идея, а в этой определенной идее вполне осуществилась идея вообще. Такое воззрение предмета есть призрак (ist ein Schein) в том отношении, что идея никогда не проявляется в отдельном предмете вполне; но под этим призраком скрывается истина, потому что в определенной идее действительно осуществляется до некоторой степени общая идея, а определенная идея осуществляется до некоторой степени в отдельном предмете. Этот скрывающий под собою истину призрак проявления идеи вполне в отдельном существе есть прекрасное (das Schöne) 4.
Так развивается понятие прекрасного в господствующей эстетической системе. Из этого основного воззрения следуют дальнейшие определения: прекрасное есть идея в форме ограниченного проявления 5; прекрасное есть отдельный чувственный предмет, который представляется чистым выражением идеи, так что в идее не остается ничего, что не проявлялось бы чувственно в этом отдельном предмете, а в отдельном чувственном предмете нет ничего, что не было бы чистым выражением идеи. Отдельный предмет в этом отношении называется образом (das Bild). Итак, прекрасное есть совершенное соответствие, совершенное тожество идеи с образом б.
Я не буду говорить о том, что основные понятия, [из которых выводится у Гегеля определение прекрасного], теперь уже признаны не выдерживающими критики; не буду говорить и о том, что прекрасное [у Гегеля] является только «призраком», проистекающим от непроницательности взгляда, не просветленного философским мышлением, перед которым исчезает кажущаяся полнота проявления идеи в отдельном предмете, так что [по системе Гегеля] чем выше развито мышление, тем более исчезает перед ним прекрасное, и, наконец, для вполне развитого мышления есть только истинное, а прекрасного нет; не буду опровергать этого фактом, что на самом деле развитие мышления в человеке нисколько не разрушает в нем эстетического чувства: все это уже было высказано много раз. Как следствие [основной идеи гегелевской системы] и часть метафизической системы, изложенное выше понятие о прекрасном падает вместе с нею. Но может быть ложна система, а частная мысль, в нее вошедшая, может, будучи взята самостоятельно, оставаться справедливою, утверждаясь на своих особенных основаниях. Поэтому остается еще показать, что [гегелевское определение прекрасного] не выдерживает критики, будучи взято и вне связи с [упавшею ныне системою его метафизики].
«Прекрасно то существо, в котором вполне выражается идея этого существа» — в переводе на простой язык будет значить: «прекрасно то, что превосходно в своем роде; то, лучше чего нельзя себе вообразить в этом роде». Совершенно справедливо, что предмет должен быть превосходен в своем роде для того, чтобы называться прекрасным. Так, например, лес может быть прекрасен, но только «хороший» лес, высокий, прямой, густой, одним словом, превосходный лес; коряжник, жалкий, низенький. Редкий лес не может быть прекрасен. Роза прекрасна; но только «хорошая», свежая, неощипанная роза. Одним словом, все прекрасное превосходно в своем роде. Но не все превосходное в своем роде прекрасно; крот может быть превосходным экземпляром породы кротов, но никогда не покажется он «прекрасным»; точно то же надобно сказать о большей части амфибий, многих породах рыб, даже многих птицах: чем лучше для естествоиспытателя животное такой породы, т. е. чем полнее выражается в нем его идея, тем оно некрасивее с эстетической точки зрения. Чем лучше в своем роде болото, тем хуже оно в эстетическом отношении. Не все превосходное в своем роде прекрасно; потому, что не все роды предметов прекрасны. Определение [Гегеля] прекрасного, как полного соответствия отдельного предмета с его идеею, слишком широко. Оно высказывает только, что в тех разрядах предметов и явлений, которые могут достигать красоты, прекрасными кажутся лучшие предметы и явления; но не объясняет, почему самые разряды предметов и явлений разделяются на такие, в которых является красота, и другие, в которых мы не замечаем ничего прекрасного.
Но с тем вместе оно и слишком тесно. «Прекрасным кажется то, что кажется полным осуществлением родовой идеи» 7, значит также: «надобно, чтобы в прекрасном существе было все, что только может быть хорошего в существах этого рода; надобно, чтобы нельзя было найти ничего хорошего в других существах того же рода, чего не было бы в прекрасном предмете». Этого мы. в самом деле и требуем от прекрасных явлений и предметов в тех царствах природы, где нет разнообразия типов одного и того же рода предметов. Так, например, у дуба может быть один только характер красоты: он должен быть высок и густ; эти качества всегда находятся в прекрасном дубе, и ничего другого хорошего не найдется в других дубах. Но уже в животных является разнообразие типов одной породы, как скоро делаются они домашними.
Еще более такого разнообразия типов красоты в человеке, и мы даже никак не можем представить себе, чтобы все оттенки человеческой красоты совмещались в одном человеке.
Выражение: «прекрасным называется полное проявление идеи в отдельном предмете» — вовсе не определение прекрасного. Но в нем есть справедливая сторона — то, что «прекрасное» есть отдельный живой предмет, а не отвлеченная мысль; есть и другой справедливый намек на свойство истинно художественных произведений искусства: они всегда имеют содержанием своим что-нибудь интересное вообще для человека, а не для одного художника (намек этот заключается в том, что идея — «нечто общее, действующее всегда и везде»); отчего происходит это, увидим на своем месте.
Совершенно другой смысл имеет другое выражение, которое выставляют за тожественное с первым: «прекрасное есть единство идеи и образа, полное слияние идеи с образом»; это выражение говорит о действительно существенном признаке — только не идеи прекрасного вообще, а того, что называется «мастерским произведением», или художественным произведением искусства: прекрасно будет произведение искусства действительно тогда только, когда художник передал в произведении своем все то, чао хотел передать. Конечно, портрет хорош только тогда, когда живописец сумел нарисовать совершенно того человека, которого хотел нарисовать. Но «прекрасно нарисовать лицо» и «нарисовать прекрасное лицо» — две совершенно различные вещи. Об этом качестве художественного произведения придется говорить при определении сущности искусства. Здесь же считаю не излишним заметить, что в определении красоты как единства идеи и образа, — в этом определении, имеющем в виду не прекрасное живой природы, а прекрасные произведения искусств, уже скрывается зародыш или результат того направления, по которому эстетика обыкновенно отдает предпочтение прекрасному в искусстве пред прекрасным в живой действительности.
Что же такое в сущности прекрасное, если нельзя определить его как «единство идеи и образа» или как «полное проявление идеи в отдельном предмете»?
Новое строится не так легко, как разрушается старое, и защищать не так легко, как нападать; потому очень может быть, что мнение о сущности прекрасного, кажущееся мне справедливым, не для всех. покажется удовлетворительным; но если эстетические понятия, выводимые из господствующих ныне воззрений на отношения человеческой мысли к живой действительности, еще остались в моем изложении неполны, односторонни или шатки, то это, я надеюсь, недостатки не самых понятий, а только моего изложения.
Ощущение, производимое в человеке прекрасным, — светлая радость, похожая на ту, какою наполняет нас присутствие милого для нас существа 1 2. Мы бескорыстно любим прекрасное, мы любуемся, радуемся на него, как радуемся на милого нам человека. Из этого следует, что в прекрасном есть что-то милое, дорогое нашему сердцу. Но это «что-то» должно быть нечто чрезвычайно многообъемлющее, нечто способное принимать самые разнообразные формы, нечто чрезвычайно общее; потому что прекрасными кажутся нам предметы чрезвычайно разнообраізные, существа, совершенно не похожие друг на друга.
Самое общее из того, что мило человеку, и самое милое ему на гнете — жизнь; ближайшим образом такая жизнь, какую хотелось бы ему вести, какую любит он; потом и всякая жизнь, потому что все-таки лучше жить, чем пе жить: все живое уже по самой природе своей ужасается погибели, небытия и любит жизнь. И кажется, что определение:
«прекрасное есть жизнь»;
«прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь такою, какова должна быть она по нашим понятиям; прекрасен тот предмет, который выказывает в себе жизнь или напоминает нам о жизни», — кажется, что это определение удовлетворительно объясняет все случаи, возбуждающие в нас чувство прекрасного. Проследим главные проявления прекрасного в различных областях действительности, чтобы проверить это.
«Хорошая жизнь», «жизнь, как она должна быть», у простого народа состоит в том, чтобы сытно есть, жить в хорошей избе, спать вдоволь; но вместе с этим у поселянина в понятии «жизнь» всегда заключается понятие о работе: жить без работы нельзя; да и скучно было бы. Следствием жизни в довольстве при большой работе, не доходящей, однако, до изнурения сил, у молодого поселянина или сельской девушки будет чрезвычайно свежий цвет лица и румянец во всю щеку — первое условие красоты по простонародным понятиям. Работая много, поэтому будучи крепка сложением, сельская девушка при сытной пище будет довольно плотна, — это также необходимое условие красавицы сельской; светская «полувоздушная» красавица кажется поселянину решительно «невзрачною», даже производит на него неприятное впечатление, потому что он привык считать «худобу» следствием болезненности или «горькой доли». Но работа не даст разжиреть: если сельская девушка толста, это род болезненности, знак «рыхлого» сложения, и народ считает большую полноту недостатком; у сельской красавицы не может быть маленьких ручек и ножек, потому что она много работает, — об этих принадлежностях красоты и не упоминается в наших песнях. Одним словом, в описаниях красавицы в народных песнях не найдется ни одного признака красоты, крторый не был бы выражением цветущего здоровья и равновесия сил в организме, всегдашнего следствия жизни в довольстве при постоянной и нешуточной, но не чрезмерной работе. Совершенно другое дело светская красавица: уже ' несколько поколений предки ее жили, не работая руками; при бездейственном образе жизни крови льется в оконечности мало; с каждым новым поколением мускулы рук и ног слабеют, кости делаются тоньше; необходимым следствием всего этого должны быть маленькие ручки и ножки — они признак такой, жизни, которая одна и кажется жизнью для высших классов общества, — жизни без физической работы; если у светской женщины большие руки и ноги, это признак или того, что она дурно сложена, или того, что она не из старинной хорошей фамилий. По этому же самому у светской красавицы должны быть маленькие ушки. Мигрень, как известно, интересная болезнь — и не без причины: от бездействия кровь остается вся в средних органах, приливает к мозгу; нервная система и без того уже раздражительна от всеобщего ослабления в организме; неизбежное следствие всего этого — продолжительные головные боли и разного рода нервические расстройства; что делать? и болезнь интересна, чуть не завидна, когда она следствие того образа жизни, который нам нравится. Здоровье, правда, никогда не может потерять своей цены в глазах человека, потому что и в довольстве и в роскоши плохо жить без здоровья — вследствие того румянец на щеках и цветущая здоровьем свежесть продолжают быть привлекательными и для светских людей; но болезненность, слабость, вялость, томность также имеют в глазах их достоинство красоты, как скоро кажутся следствием роскошно-бездейственного образа жизни. Бледность, томность, болезненность имеют еще другое значение для светских людей: если поселянин ищет отдыха, спокойствия, то люди образованного общества, у которых материальной нужды и физической усталости не бывает, но которым зато часто бывает скучно от безделья и отсутствия материальных забот, ищут «сильных ощущений, волнений, страстей», которыми придается цвет, разнообразие, увлекательность светской жизни, без того монотонной и бесцветной. А от сильных ощущений, от пылких страстей человек скоро изнашивается: как же не очароваться томностью, бледностью красавицы, если томность и бледность ее служат признаком, что она «много жила»?
Мила живая свежесть цвета, Знак юных дней. Но бледный цвет, тоски примета, Еще милей !Но если увлечение бледною, болезненною красотою — признак искусственной испорченности вкуса, то всякий истинно образованный человек чувствует, что истинная жизнь — жизнь ума и сердца. Она отпечатывается в выражении лица, всего яснее в глазах — потому выражение лица, о котором так мало говорится в народных песнях, получает огромное значение в понятиях о красоте, господствующих между образованными людьми; и часто бывает, что человек кажется нам прекрасен только потому, что у него прекрасные, выразительные глаза.
Я пересмотрел, сколько позволяло место, главные принадлежности человеческой красоты, и мне кажется, что все они производят на нас впечатление прекрасного потому, что в них мы видим проявление жизни, как понимаем ее. Теперь надобно посмотреть противоположную сторону предмета, рассмотреть, отчего человек бывает некрасив.
Причину некрасивости общей фигуры человека всякий укажет в том, что человек, имеющий дурную фигуру, — «дурно сложен». Мы очень хорошо знаем, что уродливость — следствие болезни или пагубных случаев, от которых особенно легко уродуется человек в первое время развития. Если жизнь и ее проявления — красота, очень естественно, что болезнь и ее следствия — безобразие. Но человек дурно сложенный — также урод, только в меньшей степени, и причины «дурного сложения» те же самые, которые производят уродливость, только слабее их. Если человек родится горбатым — это следствие несчастных обстоятельств, при которых совершалось первое его развитие; но сутуловатость — та же горбатость, только в меньшей степени, и должна происходить от тех же самых причин. Вообще, худо сложенный человек — до некоторой степени искаженный человек; его фигура говорит нам не о жизни, не о счастливом развитии, а о тяжелых сторонах развития, о неблагоприятных обстоятельствах. От общего очерка фигуры переходим к лицу. Черты его бывают нехороши или сами по себе, или по своему выражению. В лице не нравится нам «злое», «неприятное» выражение потому, ч~с злость — яд, отравляющий нашу жизнь. Но гораздо чаще лицо «некрасиво» не по выражению, а по самым чертам: черты лица некрасивы бывают в том случае, когда лицевые кости дурно организованы, когда хрящи и мускулы в своем развитии более или менее носят отпечаток уродливости, т. е. когда первое развитие человека совершалось в неблагоприятных обстоятельствах.
Совершенно излишне пускаться в подробные доказательства мысли, что красотою в царстве животных кажется человеку то, в чем выражается по человекообразным понятиям жизнь свежая, полная здоровья и сил. В млекопитающих животных, организация которых более близким образом сравнивается нашими глазами с наружностью человека, прекрасным кажется человеку округленность форм, полнота и свежесть; кажется прекрасным грациозность движений, потому что грациозными бывают движения какого-нибудь существа тогда, когда оно «хорошо сложено», т. е. напоминает человека хорошо сложенного, а не урода. Некрасивым кажется все «неуклюжее», т. е. до некоторой степени уродливое по нашим понятиям, везде отыскивающим сходство с человеком. Формы крокодила, ящерицы, черепахи напоминают млекопитающих животных, но в уродливом, искаженном, нелепом виде; потому ящерица, черепаха отвратительны. В лягушке к неприятности форм присоединяется еще то, что это животное покрыто холодною слизью, какою бывает покрыт труп; от этого лягушка делается еще отвратительнее.
Не нужно подробно говорить и о том, что в растениях нам нравится свежесть цвета и роскошность, богатство форм, обнаруживающие богатую силами, свежую жизнь. Увядающее растение нехорошо; растение, в котором мало жизненных соков, нехорошо.
Кроме того, шум и движение животных напоминают нам шум и движение человеческой жизни; до некоторой степени напоминают о ней шелест растений, качанье их ветвей, вечно колеблющиеся листочки их, — вот другой источник красоты для нас в растительном и животном царстве; пейзаж прекрасен тогда, когда оживлен.
Проводить в подробности по различным царствам природы мысль, что прекрасное есть жизнь, и ближайшим образом, жизнь, напоминающая о человеке и о человеческой жизни, я считаю излишним потому, что [и Гегель, и Фишер постоянно говорят о том], что красоту в природе составляет то, что напоминает человека (или, выражаясь [гегелевским термином], предвозвещает личность), что прекрасное в природе имеет значение прекрасного только как намек на человека [великая мысль, глубокая! О, как хороша была бы гегелевская эстетика, если бы эта мысль, прекрасно развитая в ней, была поставлена основною мыслью вместо фантастического отыскивания полноты проявляемой идеи!]. Потому, показав, что прекрасное в человеке — жизнь, не нужно и доказывать, что прекрасное во всех остальных областях действительности, которое, становится в глазах человека прекрасным только потому, что служит намеком на прекрасное в человеке и его жизни, также есть жизнь.
Но нельзя не прибавить, что вообще на природу смотрит человек глазами владельца, и на земле прекрасным кажется ему также то, с чем связано счастие, довольство человеческой жизни. Солнце и дневной свет очаровательно прекрасны, между прочим, потому, что в нфіх источник всей жизни в природе, и потому, что дневной свет благотворно действует прямо на жизненные отправления человека, возвышая в нем органическую деятельность, а через это благотворно действует даже на расположение нашего, духа.
[Можно даже вообще сказать, что, читая в эстетике Гегеля те места, где говорится о том, что прекрасно в действительности, приходишь к мысли, что бессознательно принимал он прекрасным в природе говорящее нам о жизни, между тем как сознательно поставлял красоту в полноте проявления идеи. У Фишера в отделении «О прекрасном в природе» постоянно говорится, — что прекрасное только то, что живое или кажется живым. И в самом развитии идеи прекрасного слово «жизнь» очень часто попадается у Гегеля, так] что, наконец, можно спросить, есть ли существенное различие между нашим определением «прекрасное есть жизнь» и ІМежду определением его: ] «прекрасное есть полное единство идеи и образа»? Такой вопрос рождается тем естественнее, что Дод «идеею» [у Гегеля] понимается «общее понятие так, как оно определяется всеми подробностями своего действительного существования», и потому между понятием идеи и понятием жизни (или, точнее, понятием жизненной силы) есть прямая связь. Не есть ли предлагаемое нами определение только переложением на обыкновенный язык того, что высказывается в господствующем определении терминологиею спекулятивной философии?
Мы увидим, что есть существенная разница между тем и другим способом понимать прекрасное. Определяя прекрасное как полное проявление идеи в отдельном существе, мы необходимо придем к выводу: «прекрасное в действительности только призрак, влагаемый в нее нашею фантазиею»; из этого будет следовать, что «собственно говоря, прекрасное создается нашею фантазиею, а в действительности (или, [по Гегелю]: в природе) истинно прекрасного нет»; из того, что в природе нет истинно прекрасного, будет следовать, что «искусство имеет своим источником стремление человека восполнить недостатки прекрасного в объективной действительности» и что «прекрасное, создаваемое искусством, выше прекрасного в объективной действительности» |0, — все эти мысли составляют сущность [гегелевской эстетики и являются в ней] не случайно, а по строгому логическому развитию основного понятия о прекрасном.
Напротив того, из определения «прекрасное есть жизнь» будет следовать, что истинная, высочайшая красота есть именно красота, встречаемая человеком в мире действительности, а не красота, создаваемая искусством; происхождение искусства должно быть при таком воззрении на красоту в действительности объясняемо из совершенно другого источника; после того и существенное значение искусства явится совершенно в другом свете.
Итак, должно сказать, что новое понятие о сущности прекрасного, будучи выводом из таких общих воззрений на отношения действительного мира к воображаемому, которые совершенно различны от господствовавших прежде в науке, приводя к эстетической системе, также существенно различающейся от систем, господствовавших в последнее время, и само существенно различно от прежних понятий о сущности прекрасного. Но с тем вместе оно представляется как их необходимое дальнейшее развитие. Существенное различие между господствующею и предлагаемою эстетическими системами будем видеть постоянно; чтобы указать на точку тесного родства между ними, скажем, что новое воззрение объясняет важнейшие эстетические факты, которые выставлялись на вид в прежней системе. Так, например, из определения «прекрасное есть жизнь» становится понятно, почему в области пре- ' красного нет отвлеченных мыслей, а есть только индивидуальные существа — жизнь мы видим только в действительных, живых существах, а отвлеченные, общие мысли не входят в область жизни.
Что касается существенного различия прежнего и предлагаемого нами понятия о прекрасном, оно обнаруживается, как мы
сказали, на каждом шагу; первое доказательство этого представляется нам в понятиях об отношении к прекрасному возвышенного и комического, которые в господствующей эстетической системе признаются соподчиненными видоизменениями прекрасного, проистекающими от различного отношения между двумя его факторами, идеею и образом. [По гегелевской системе] чистое единство идеи и образа есть то, что называется собственно прекрасным; но не всегда бывает равновесие между образом и идеею: иногда идея берет перевес над образом и, являясь нам в своей всеобщности, бесконечности, переносит нас в область абсолютной идеи, в область бесконечного — это называется возвышенным (das Erhabene) "; иногда образ подавляет, искажает идею. — это называется комическим (das Komische).
Подвергнув критике коренное понятие, мы должны подвергнуть ей и вытекающие из него воззрения, должны исследовать сущность возвышенного и комического и их отношения к прекрасному.
Господствующая эстетическая система дает нам два определения возвышенного, как давала два определения прекрасного. «Возвышенное есть перевес идеи над формою», и «возвышенное есть проявление абсолютного». В сущности эти два‘определения совершенно различны, как существенно различными найдены были нами и два определения прекрасного, представляемые господствующею системою; в самом деле, перевес идеи над формою производит не собственно понятие возвышенного, а понятие «туманного, неопределенного» и понятие «безобразного» (das Hiis'sliche) [как это прекрасно развивается у одного из новейших эстетиков, Фишера, в трактате о возвышенном и во введении к трактату о комическом]; между тем как формула «возвышенное есть то, что пробуждает в нас (или, [выражаясь терминами гегелевской школы], — что проявляет в себе) идею бесконечного» остается определением собственно возвышенного. Потому каждое из них должно рассмотреть особенно.
Очень легко показать неприложимость к возвышенному определения «возвышенное есть перевес идеи над образом», после того как сам Фишер, его принимающий, сделал это, объяснив, что от перевеса идеи над образом (выражая ту же мысль обыкновенным языком: от превозможения силы, проявляющейся' в предмете, над всеми стесняющими ее силами', или, в природе органической, над законами организма, ее проявляющего) происходит безобразное или неопределенное («безобразное» сказал бы я, если бы не '»о. ался впасть в игру слов, сопоставляя безобразное и безобразной). Оба эти понятия совершенно различны от понятия возвышенного. Правда, безобразное бывает возвышенным, когда оно Ужасно; правда, туманная неопределенность усиливает впечатление возвышенного, производимое ужасным илй огромным; но безобразное, если оно не страшно, бывает просто отвратительно
или некрасиво; туманное, неопределенное не производит никакого эстетического действия, если не огромно или не ужасно. Безобразием или туманною неопределенностью характеризуются не все роды возвышенного; безобразное или неопределенное не всегда имеет характер возвышенного* Очевидно, что эти понятия различны от понятия возвышенного. «Перевес идеи над формою», говоря строго, относится к тому роду событий в мире нравственном и явлений в мире материальном, когда предмет разрушается от избытка собственных сил; неоспоримо, что эти явления часто имеют характер чрезвычайно возвышенный; но только тогда, когда сила, разрушающая сосуд, ее заключающий, уже имеет характер возвышенности или предмет, ею разрушаемый, уже кажется нам возвышенным, независимо от своей погибели собственною силою. Иначе о возвышенном не будет и речи. Когда Ниагарский водопад, сокрушив скалу, его образующую, уничтожится напором собственных сил; когда Александр Македонский погибает от избытка собственной энергии, когда Рим падает собственной тяжестью, — это явления возвышенные; нс потому, что Ниагарский водопад, Римская империя, личность Александра Македонского сами по себе уже принадлежат области возвышенного; какова жизнь, такова и смерть, какова деятельность, таково и падение. Тайна возвышенности здесь не в «перевесе идеи над явлением», а в характере самого явления; только от величия сокрушающегося явления заимствует свою возвышенность и его сокрушение. Само по себе исчезновение от перевеса внутренней силы над ее временным проявлением не есть еще критериум возвышенного. Яснее всего «перевес идеи над формою» высказывается в том явлении, когда зародыш листа, разрастаясь, разрывает оболочку почки, его родившей; но это явление решительно не относится к разряду возвышенных. «Перевесом идеи над фоо-мою», погибелью самого предмета от избытка развивающихся в нем сил отличается так называемая отрицательная форма возвышенного от положительной. Справедливо, что возвышенное отрицательное выше возвышенного положительного; потому надобно согласиться, что «перевесом идеи над формою» усиливается эффект возвышенного, как может он усиливаться многими другими обстоятельствами, напр., уединенностью возвышенного явления (пирамида в открытой степи величественнее, нежели была бы среди других громадных построек; среди высоких холмов ее величие исчезло бы); но усиливающее эффект обстоятельство не есть еще источник самого эффекта, притом перевеса идеи над образом, силы над явлением очень часто не бывает в положительном возвышенном. Примеры этого могут быть во множестве отысканы в каждом курсе эстетики.
Переходим к другому определению возвышенного: «возвышенное есть проявление идеи бесконечного» [выражаясь гегелевским языком], или, выражая эту философскую формулу обыкновенным языком: «возвышенное есть то, что возбуждает в нас идею бесконечного». Самый беглый, взгляд на трактат о возвышенном и новейших эстетиках убеждает нас, что это определение возвышенного лежит в сущности [гегелевских] понятий о нем. Мало того, мысль, что возвышенными явлениями возбуждается в человеке предчувствие бесконечного, господствует и в понятиях людей, чуждых строгой науке; редко можно найти сочинение, в котором не высказывалась бы она, как скоро представляется повод, хотя самый отдаленный; почти в каждом описании величественного пейзажа, в каждом рассказе о каком-нибудь ужасном событии найдется подобное отступление или применение. Потому на мысль о возбуждении величественным идеи абсолютного должно обратить более внимания, нежели на предыдущее понятие о перевесе в нем идеи над образом, критику которого было достаточно ограничить несколькими словами.
К сожалению, здесь не место подвергать анализу идею «абсолюта», или бесконечного, и показывать настоящее значение абсолютного в области метафизических понятий; тогда только, когда мы поймем это значение, представится нам вся неосновательность понимания под возвышенным бесконечного. Но и не пускаясь в метафизические прения, мы можем увидеть из фактов, что идея бесконечного, как бы ни понимать ее, не всегда, или, лучше сказать, — почти никогда не связана с идеею возвышенного. Строго и беспристрастно наблюдая за тем, что происходит в нас, когда мы созерцаем возвышенное, мы убедимся, что 1) возвышенным представляется нам самый предмет, а не какие-нибудь вызываемые этим предметом мысли; так, например, величествен сам по себе Казбек, величественно само по себе море, величественна сама по себе личность Цезаря или Катона. Конечно, при созерцании возвышенного предмета могут пробуждаться в нас различного рода мысли, усиливающие впечатление, им на нас производимое; но возбуждаются они или нет, — дело случая, независимо от которого предмет остается возвышенным: мысли и воспоминания, усиливающие ощущение, рождаются при всяком ощущении, но они уже следствие, а не причина первоначального ощущения, и если, задумавшись над подвигом Муция Сцеволы, я дохожу до мысли: «да, безгранична сила патриотизма», то мысль эта только следствие впечатления, произведенного на меня независимо от нее самым поступком Муция Сцеволы, а не причина этого впечатления; точно так же мысль: «нет ничего на земле прекраснее человека», которая может пробудиться во мне, когда я задумаюсь, глядя на изображение прекрасного лица, не причина того, что я восхищаюсь им, как прекрасным, а следствие того, что оно уже прежде нее, независимо от нее кажется мне прекрасно. И потому, если бы даже согласиться, что созерцание возвышенного всегда недег к идее бесконечного, то возвышенное, порождающее такую :*"-"тіі динаі пешм" пгп~г ею, должно иметь причину своего действия на нас не в ней, а в чем-нибудь другом. Но рассматривая свое представление р возвышенном предмете, мы открываем
2) что очень часто предмет кажется нам возвышен, не переставаяя в то же время казаться далеко не беспредельным и оставаясь в решительной противоположности с идеею 6езграничностисти. Так, Монблан или Казбек — возвышенный, ие-лЯчсСТвенныи предмет: но никто из нас не думает, в противоречие сс>бс1*венНди* глазам, видеть в нем безграничное или неизмеримо В£лИ**ое* * *°ре кажется беспредельным, когда не видно берегов: нО **се эстетики утверждают (и совершенно справедливо), что м*>Ре кажется гораздо величественнее, когда виден берег, нежели тогДа» К0ГДЗ берегов не видно. Вот факт„обнаруживающий, что идеЯ возвышенного не только не порождается идеею безграничного, но дагке может быть (и часто бывает) в противоречии с нею, что усл°вие безграничности может быть невыгодно для впечатления, производимого возвышенным. Идем далее, пересматривая рДД величественных явлений по мере возрастания эффекта, ими производимого на чувство возвышенного. Гроза — одно из вели-ч(,ственнеиших явлений в природе; но необходимо иметь слишком ВСУст^Рженн°е воображение, чтобы видеть какую бы то ни было сь*яэь между грозою и бесконечностью. Во время грозы мы вос-хИЩаСМСЯ» Думая при этом только о самой грозе. «Но во время ГрОэМ человек чувствует собственную ничтожность пред силами природы’ СЯлы природы кажутся ему безмерно превышающими ег° силы». Что силы грозы кажутся нам чрезвычайно превышающими наши собственные силы, это правда; но если явлений представляется непреоборимым для человека, из этого еще не следует, чтобы оно казалось нам неизмеримо, бесконечно мо-гуществениым. Напротив, человек, смотря на грозу, очень хорошо
но они отвратительно-ужасны, а не возвышенно-ужасны. Чувство ужаса может усиливать ощущение возвышенного, но ужас и возвышенность — два совершенно различных понятия. Идем, однако, далее по ряду величественных явлений. В природе мы не видели ничего, прямо говорящего о безграничности; против заключения, выводимого отсюда, можно заметить, что «истинно возвышенное не в природе, а в самом человеке»; согласимся, хотя и в природе много истинно возвышенного. Но почему же «возвышенна» кажется нам «безграничная» любовь или порыв «всесокрушающего» гнева? Неужели потому, что сила этих стремлений «неодолима», «пробуждает идею бесконечного своею неодолимостью»? Если так, то гораздо неодолимее потребность спать: самый страстный любовник едва ли может пробыть без сна четверо суток; гораздо неодолимее потребности «любить» потребность есть и пить: это истинно безграничная потребность, потому что нет человека, не признающего силы ее, между тем как о любви очень многие не имеют и понятия; из-за этой потребности совершается гораздо больше и гораздо труднейших подвигов, нежели от «всесильного» могущества любви. Почему же мысль о еде и питье не возвышенна, а идея любви возвышенна? Непреоборимость не есть еще возвышенность; безграничность и бесконечность вовсе не связаны с идеею величественного.
Едва ли можно после этого разделять мысль, что «возвышенное есть перевес идеи над формою», или что «сущность возвышенного состоит в пробуждении идеи бесконечного». В чем же состоит она? Очень простое определение возвышенного будет, кажется, вполне обнимать и достаточно объяснять все явления, относящиеся к его области.
«Возвышенное есть то, что гораздо больше всего, с чем сравнивается нами». — «Возвышенный предмет — предмет, много превосходящий своим размером предметы, с которыми сравнивается нами; возвышенно явление, которое гораздо сильнее других явлений, с которыми сравнивается нами».
Монблан и Казбек — величественные горы, потому что гораздо огромнее дюжинных гор и пригорков, которые мы привыкли видеть; «величественный» лес в двадцать раз выше наших яблонь, акаций и в тысячу раз огромнее наших садов и рощ. Волга гораздо шире Тверцы или Клязьмы; гладкая площадь моря гораздо обширнее площади прудов и маленьких озер, которые беспрестанно попадаются путешественнику; волны моря гораздо выше волн этих озер, потому буря на море возвышенное явление, хотя бы никому не угрожала опасностью; свирепый ветер во время грозы во сто раз сильнее обыкновенного ветра, шум и рев его гораздо сильнее шума и свиста, производимого обыкновенным крепким ветром; во время грозы гораздо темнее, нежели в обыкновенное время, темнота доходит до черноты; мо'лния ослепительнее
всякого света — все это делает грозу возвышенным явлением. Любовь гораздо сильнее наших ежедневных мелочных расчетов и побуждений; гнев, ревность, всякая вообще страсть также гораздо сильнее их — потому страсть возвышенное явление. Юлий Цезарь, Отелло, Дездемона, Офелия — возвышенные личности; потому что Юлий Цезарь, как полководец и государственный человек, далеко выше всех полководцев и государственных людей своего времени; Отелло любит и ревнует гораздо сильнее дюжинных людей; Дездемона и Офелия любят и страдают с такой полной преданностью, способность к которой найдется далеко не во всякой женщине. «Гораздо больше, гораздо сильнее» — вот отличительная черта возвышенного.
Надобно прибавить, что вместо термина «возвышенное» (das Erhabene) было бы гораздо проще, характеристичнее и лучше говорить «великое» (das Grosse). Юлий Цезарь, Марий не «возвышенные», а «великие» характеры. Нравственная возвышенность — только один частный род величия вообще.
Просмотрев лучше курсы эстетики, легко убедиться, что в нашем кратком обзоре подведены под принимаемое нами понятие возвышенного или великого все его главные видоизменения. Остается показать, как принимаемое нами воззрение на сущность возвышенного относится к подобным мыслям, высказанным в известных ныне курсах эстетики.
О том, что «возвышенность» — следствие превосходства над окружающим, говорится у Канта 12 и вслед за ним у позднейших эстетиков [у Гегеля, у Фишера]: «Мы сравниваем, — говорят они, — возвышенное в пространстве, с окружающими его предметами; для этого на возвышенном предмете должны быть легкие подразделения, дающие возможность, сравнивая, считать, во сколько раз он больше окружающих его предметов, во сколько раз, напр., гора больше дерева, растущего на ней. Счет так длинен, что, не дошедши до конца, мы уже теряемся в нем; окончив его, должны опять начинать, потому что не могли сосчитать, и считаем опять безуспешно. Таким образом, нам кажется, наконец, что гора неизмеримо велика, бесконечно велика». — «Сравнение с окружающими предметами необходимо для того, чтобы предмет казался возвышенным», — мысль очень близкая к принимаемому нами воззрению на основной признак возвышенного. Но обыкновенно она прилагается только к возвышенному в пространстве, между тем как ее должно одинаково проводить по всем родам возвышенного. Обыкновенно говорят: «возвышенное состоит в превозможении идеи над формою, и это превозможение на низших степенях возвышенного узнается сравнением предмета по величине с окружающими предметами»; нам кажется, что должно говорить: «превосходство великого (или возвышенного) над мелким и дюжинным состоит в гораздо большей величине (возвышенное в пространстве или во времени) или 20 в гораздо большей силе (возвышенное сил природы и возвышенное в человеке)». Из второстепенного и частного признака возвышенности сравнение и превосходство по великости должно быть возведено в главную и общую мысль при определении возвышенного.
Таким образом, принимаемое нами понятие возвышенного точно так же относится к обыкновенному определению его, как наше понятие о сущности прекрасного к прежнему взгляду, — в обоих случаях возводится на степень общего и существенного начала то, что прежде считалось частным и второстепенным признаком, было закрываемо от внимания другими понятиями, которые мы отбрасываем как побочные.
Вследствие изменения точки зрения и возвышенное, подобно прекрасному, представляется нам как явление более самостоятельное и, однако же, более близкое человеку, нежели представлялось. С тем вместе наше воззрение на сущность возвышенного признает его фактическую реальность, между тем как обыкновенно полагают, будто бы возвышенное в действительности только кажется возвышенным от вмешательства нашей фантазии, расширяющей до безграничности объем или силу возвышенного предмета или явления. И действительно, если возвышенное существенно есть бесконечное, то возвышенного нет в мире, доступном нашим чувствам и нашему уму.
Но если по определениям прекрасного и возвышенного, нами принимаемым, прекрасному и возвышенному придается независимость от фантазии, то, с другой стороны, этими определениями выставляется на первый план отношение к человеку вообще и к его понятиям тех предметов и явлений, которые находит человек прекрасными и возвышенными: прекрасное то, в чем мы видим жизнь так, как мы понимаем и желаем ее, как она радует нас; великое то, что гораздо выше предметов, с которыми сравниваем' его мы. Из обыкновенных [гегелевских] определений, напротив, по странному противоречию, следует: прекрасное и великое вносятся в действительность человеческим взглядом на вещи, создаются человеком, но не имеют никакой связи с понятиями человека, с его взглядом на вещи. Ясно также, что определениями прекрасного и возвышенного, которые кажутся нам справедливыми, разрушается непосредственная связь этих понятий, подчиняемых одно другому определениями: «прекрасное есть равновесие идеи и образа», «возвышенное есть перевес идеи над образом», В самом деле, принимая определение «прекрасное, есть жизнь», «возвышенное есть то, что гораздо больше всего близкого или подобного», мы должны будем сказать, что прекрасное и возвышенное — совершенно различные понятия., не подчиненные друг другу и соподчиненные только одному общему понятию, очень далекому от так называемых эстетических понятий: «интересное».
Потому, если эстетика наука о прекрасном по содержанию,
то опа не имеет права говорить о возвышенном, как не имеет права говорить о добром, истинном и т. д. Если же понимать под эстетикою науку об искусстве, то, конечно, она должна говорить о возвышенном, потому что возвышенное входит в область искусства.
Но, говоря о возвышенном, до сих пор мы не касались трагического, которое обыкновенно признают высшим, глубочайшим родом возвышенного.
Господствующие ныне в науке понятия о трагическом играют очень важную роль не только в эстетике, но и во многих других науках (напр., в истории), даже сливаются с обиходными понятиями о жизни. Поэтому я считаю неизлишним довольно подробно изложить их, чтобы дать основание своей критике. В изложении буду я строго следовать Фишеру, которого эстетика ныне считается наилучшею в Германии.
«Субъект по своей природе существо деятельное. Действуя, он переносит во внешний мир свою волю и тем самым приходит в столкновение с законом необходимости, владычествующим во внешнем мире. Нс действие субъекта необходимо запечатлено индивидуальною ограниченностью и потому нарушает абсолютное единство объективной связи мира. Это оскорбление есть вина (die Schuld) и отзывается в субъекте тем, что, связанный узами единства, внешний мир весь как одно целое вэволновывается действием субъекта и чрез это отдельный поступок субъекта влечет за собою необозримый и непредусмотримый ряд последствий, в которых субъект уже не узнает своего поступка и своей воли; тем не менее он должен признавать необходимую связь всех этих последующих явлений со своим поступком и чувствовать себя в ответственности за них. Ответственность за то, чего не хотел и что, однако, сделал он, имеет для субъекта последствием страдание, т. е. выражение противодействия от нарушенного хода вещей во внешнем мире нарушившему их действию. Необходимость этого противодействия и страдания усиливается тем, что угрожаемый субьект предвидит последствия, предвидит зло себе, но подвергается ему через те самые средства, которыми хотел избежать его. Страдание может усилиться до погибели субъекта и его дела. Но дело субъекта погибает только повидимому, погибает не совершенно: обьективный ряд последствий переживает погибель субъекта и, мало-помалу сливаясь с всеобщим единством, очищается от своей индивидуальной ограниченности, полученной от субъекта. Если субъект, погибая, усвояет себе это сознание правдивости своего страдания и того, что дело его не погибает, а очищается и торжествует его погибелью, то примирение полно, и сам субьект просветленным образом переживает себя в своем очищающемся и торжествующем деле. Все это движение называется судьбою, или «трагическим». Трагическое бывает различных родов. Первая форма его та, когда субъект является не фактически,
а только в возможности виновным и когда поэтому сила, его гу-оящая, является слепою силою природы, которая на отдельном субъекте, более отличающемся внешним блескбм богатства и т. п., нежели внутренними достоинствами, показывает пример, что индивидуальное должно погибнуть потому, что оно индивидуальное. Погибель субъекта исходит здесь не от нравственного закона, а от случая, который, однако, находит себе объяснение и оправдание в примиряющей мысли, что смерть — всеобщая необходимость. В трагическом простой вины (die einfache Schuld) возможность вины переходит в действительную вину. Но вина лежит не в необходимом объективном противоречии, а в какой-нибудь запутанности, связанной с действием субъекта. Вина эта нарушает в чем-нибудь нравственную целость мира. Чрез нее страдают другие субъекты, и так как вина здесь на одной стороне, то сначала кажется, что они страдают невинно. Но в таком случае субъекты были бы чистым объектом для другого субъекта, что противоречит значению субъективности. Потому они должны открыть в себе слабую сторону какою-нибудь ошибкою, находящеюся в связи с их сильными сторонами, и погибать чрез эту слабую сторону; страдание главного субъекта, как обратная сторона его поступка, истекает силою оскорбленного нравственного порядка из самой вины. Орудием наказания могут быть или оскорбленные субъекты, или сам преступник, сознающий свою вину. Наконец, высшая форма трагического — трагическое нравственного столкновения. Общий нравственный закон дробится на частные требования, которые часто могут находиться в противоположности между собою, так что, удовлетворяя одному, человек необходимо оскорбляет другое. Борьба эта, истекающая из внутренней необходимости, а не из случайностей, может оставаться внутреннею борьбою в сердце одного человека. Такова борьба в. сердце Антигоны у Софокла. Но как искусство олицетворяет все в отдельных образах, то обыкновенно борьба двух требований нравственного закона представляется в искусстве борьбою двух лиц. Одно из двух противоречащих стремлений справедливее и потому сильнее другого; оно сначала побеждает все, ему сопротивляющееся, и тем самым становится уже несправедливо, подавляя справедливое право противоположного стремления. Теперь справедливость — на стороне, которая сначала была побеждена, и стремление, в сущности более справедливое, погибает под тяжестью собственной несправедливости от ударов противоположного стремления, которое, будучи оскорблено в своем праве, имеет за собой, в начале противодействия, всю силу истины и справедливости, но, побеждая, впадает само точно таким же образом в несправедливость, влекущую за собой погибель или страдание. Прекрасно весь этот ход трагического развивается в «Юлии Цезаре» Шекспира: Рим стремится к монархической форме правления; представителем этого стремления является
Юлий Цезарь; оно справедливее и потому сильнее противоположного направления, стремящегося сохранить издавна установившееся устройство Рима; Юлий Цезарь побеждает Помпея. Но существующее издавна также имеет право существовать [оно разрушается Юлием Цезарем, и оскорбленная им законность восстает против него в лице Брута]. Цезарь погибает; но заговорщики сами мучатся сознанием того, что Цезарь, погибший от них, выше их, и сила, которой он был представителем, воскресает в лице триумвиров. Брут и Кассий погибают; но» а гробе Брута Антоний и Октавий высказывают свое сожаление о нем. Так совершается, наконец, примирение противоположных стремлений, из которых каждое и справедливо и несправедливо в своей односторонности, которая постепенно сглаживается падением каждого из них; из борьбы и погибели возникают единство и новая жизнь» 13.
Из этого изложения видно, что понятие трагического в немецкой эстетике соединяется с понятием судьбы, так что трагическая участь человека представляется обыкновенно как «столкновение человека с судьбою», как следствие «вмешательства судьбы». Понятие судьбы обыкновенно искажается в новых европейских книгах, старающихся объяснить его нашими научными понятиями, даже связать с ними, потому необходимо представить его во всей чистоте и наготе. Оно через это избавится от несообразного смешения с понятиями науки, в сущности ему противоречащими, и выкажет всю свою неосновательность, которая прячется при новейших переделках его на наши нравы. Живое и неподдельное понятие о судьбе было у старинных греков (т. е. у греков до появления у них философии) и до сих пор живет у многих восточных народов; оно господствует в рассказах Геродота, в греческих мифах, в индийских поэмах, сказках «Тысячи и одной ночи» и проч. Что касается позднейших превращений этого основного воззрения под влиянием понятий о мире, доставленных наукою, эти видоизменения мы считаем лишним исчислять и еще менее находим нужды подвергать их' особенной критике, потому что все они, подобно понятию новейших эстетиков о трагическом, представляясь следствием стремления согласить непримиримое — фантастические представления полудикого и научные понятия, — страждут такою же несостоятельностью, как и понятие новейших эстетиков о трагическом: различие только то, что натянутость соединения противоположных начал в предшествующих попытках сближения была очевиднее, нежели в понятии о трагическом, которое составлено с чрезвычайным диалектическим глубокомыслием. Поэтому не считаем за нужное излагать все эти искаженные понятия о судьбе, считая достаточным показать, как угловато виднеется первоначальная основа даже из-под последней и искуснейшей диалектической одежды, которою облеклась она в господствующем ныне эстетическом воззрении на трагическое.
Вот как понимают ход жизни человеческой народы, имеющие неподдельное понятие о судьбе: если я не буду принимать никаких предосторожностей против несчастия, я могу уцелеть, и почти исегда уцелею; но если я приму предосторожности, я непременно погибну, и погибну именно от того, в чем искал спасения. Я собираюсь в дорогу и принимаю все предосторожности против несчастий, могущих случиться в дороге; между прочим, зная, что не пезде можно найти медицинские пособия, беру с собою несколько флакончиков с нужнейшими лекарствами и прячу их в боковой карман экипажа. Что необходимо должно выйти из этого по понятиям старинных греков? То, что экипаж мой опрокидывается в дороге, флакончики летят из кармана; опрокидываясь сам, я попадаю виском на один из флакончиков, раздавливаю его, осколок стекла врезывается в мой висок, и я умираю. Если бы не взято было мною предосторожностей, не было бы мне никакой беды; но я хотел принять меры против несчастия и погиб от того самого, в чем искал безопасности. Подобный взгляд на человеческую жизнь так мало подходит к нашим понятиям, что имеет для нас интерес только фантастического; трагедия, основанная на идее восточной или старинной греческой судьбы, для нас будет иметь значение сказки, обезображенной переделкою. А между тем все представленное нами изложение понятий о трагическом в немецкой эстетике есть только опыт привести понятие о судьбе в согласие с понятиями современной науки. Это введение понятия о судьбе в науку посредством эстетического воззрения на сущность трагического было сделано с чрезвычайным глубокомыслием, свидетельствующим о великой силе умов, трудившихся над примирением чуждых науке воззрений на жизнь с понятиями науки; но эта глубокомысленная попытка служит решительным доказательством того, что подобные стремления никогда не могут быть успешны: наука может только объяснить происхождение фантастических мнений полудикого человека, но не примирить их с истиною. Понятие о судьбе родилось и развилось следующим образом.
Одно из действий образованности на человека состоит в том, что она, расширяя круг его зрения, дает ему возможность понимать в истинном смысле яв’ления, не сходные с ближайшими к нему, которые одни только кажутся удобопонятными для необразованного ума, не постигающего явлений, чуждых непосредственной сфере его жизненных отправлений. Наука дает человеку понятие о том, что жизнь природы, жизнь растений и животных совершенно отлична от человеческой жизни. Дикарь или полудикий человек не представляет себе жизни иной, как та, которую знает сн непосредственно, как человеческую жизнь; ему кажется, что дерево говорит, чувствует, наслаждается и'страдает, подобно человеку; что животные действуют так же сознательно, как человек, — у них свой язык; даже и на человеческом языке не говорят они только потому, что хитры и надеются выиграть молчанием больше, нежели разговорами. Точно так же он воображает себе жизнь реки, скалы; скала — это окаменевший богатырь, сохранивший чувства и мысль; река — это наяда, русалка, водяной. Землетрясения Сицилии происходят оттого, что гигант, заваленный этим островом, старается сбросить тяжесть, которая лежит на его членах. Во всей природе видит дикарь человекоподобную жизнь, все явления природы производит от сознательного действия человекообразных существ. Как он очеловечивает ветер, холод, жар (припомним нашу сказку о том, как спорили мужик-ветер, мужик-мороз, мужик-солнце, кто из них сильнее), болезни (рассказы о холере, о двенадцати сестрах-лихорадках, о цынге; последний — между шпицбергенскими промышленниками), точно так же очеловечивает он и силу случая. Приписывать его действия произволу человекообразного существа еще легче, нежели объяснять подобным образом другие явления природы и жизни, потому что именно действия случая скорее, нежели явления других сил, могут пробудить мысль о капризе, произволе, о всех тех качествах, которые составляют исключительную принадлежность человеческой личности. Посмотрим же, каким образом из воззрения на случай как на дело человекообразного существа развиваются все качества, приписываемые судьбе дикими и полудикими народами. Чем важнее дело, задуманное человеком, тем больше нужно условий, чтобы оно исполнилось именно так, как задумано; почти никогда все условия не встретятся так, как человек рассчитывал, и потому почти никогда важное дело не делается именно так, как предполагал человек. Эта случайность, расстраивающая наши планы, кажется полудикому человеку, как мы сказали, делом человекообразного существа, судьбы; из этого основного характера, замечаемого в случае, или судьбе, сами собою следуют все качества, придаваемые судьбе современными дикарями, очень многими восточными народами и старинными греками. Ясно, что самые важные дела именно и служат игралищем судьбы (потому, как мы сказали, что чем важнее дело, тем от большего числа условий оно зависит, и следовательно, тем обширнее в нем поле для случайностей); идем далее. Случай уничтожает наши расчеты — значит, судьба любит уничтожать наши расчеты, любит посмеяться над человеком и его расчетами; случай невозможно предусмотреть, невозможно сказать, почему случилось так, а не иначе, — следовательно, судьба капризна, своенравна; случай часто пагубен для человека — следовательно, судьба любит вредить человеку, судьба зла; и в самом деле у греков судьба — человеконенавистница; злой и сильный человек любит вредить именно самым лучшим, самым умным, самым счастливым людям — их преимущественно любит губить и судьба; злобный, капризный и очень сильный человек любит выказывать свое могущество, говоря наперед тому, кого хочет уничтожить: «я хочу сделать с тобою вот,т(); попробуй бороться со мною», — так и судьба объявляет вперед свои решения, чтобы иметь злую радость доказать нам наше осссилие перед нею и посмеяться над нашими слабыми,' беэуспеш-,;!,іми попытками бороться с нею, избежать ее. Странным кажутся „ам теперь подобные мнения. Но посмотрим, как они отразились п эстетической теории трагического.
Она говорит: «свободное действие человека возмущает естественный ход природы; природа и ее законы восстают против оскорбителя своих прав; следствием этого бывают страдание и погибель действующего лица, если действие было так могущественно, что вызванное им противодействие было серьезно: потому все великое подлежит трагической участи». Природа здесь представляется живым существом, чрезвычайно раздражительным, чрезвычайно щекотливым насчет своей неприкосновенности. Неужели в самом деле природа оскорбляется? неужели в самом деле природа мстит? Нет; она продолжает вечно действовать по своим чаконам, она не знает о человеке и его делах, о его счастии и его погибели; ее законы могут иметь и часто имеют пагубное для человека и его дел действие; но на них же опирается всякое человеческое действие. Природа бесстрастна к человеку; она не враг и нс друг ему: она — то удобное, то неудобное поприще для его деятельности. В том нет сомнения, что всякое важное дело человека требует сильной борьбы с природою или с другими людьми; но почему это так? Потому только, что, как бы ни было само по себе важно дело, мы привыкли не считать его важным, если оно совершается без сильной борьбы. Так, дыхание важнее всего в жизни человека; но мы не обращаем и внимания на него, потому что ему обыкновенно не противостоят никакие препятствия; для дикаря, питающегося даром ему достающимися плодами хлебного дерева, и для европейца, которому хлеб достается только через тяжелую работу земледелия, пища одинаково важна; но собирание плодов хлебного дерева — «не важное» дело, потому что оно легко; «важно» земледелие, потому Что оно тяжело. Итак, не все важные по существенному значению своему дела требуют борьбы; но мы привыкли называть важными только те из важных в сущности дел, которые трудны. Много есть драгоценных вещей, которые не имеют никакой цены, потому 4fo достаются даром, напр., вода и солнечный свет; и много есть очень важных дел, которым не придается никакой важности потому только, что они делаются легко. Но согласимся с обыкновенною фразеологиею; пусть важны будут только те дела, которые требуют тяжелой борьбы. Неужели эта борьба всегда трагична? Вовсе нет; иногда трагична, иногда не трагична, как случится. Мореходец борется с морем, бурями, подводными скалами; тяжело — его поприще; но разве необходимо этому поприщу быть трагичным? На один корабль, который будет разбит бурею о подводные скалы, приходится сотня кораблей, которые невредимы достигают гавани.
Пусть всегда нУж*а борьба; но не всегда борьба бывает несчастна. А счастл*вая борьба, как бы ни была она тяжела, — не страдание, а иаслаадение, не трагична, а только драматична. И не правда ли, ч'ГО ecjta приняты все нужные предосторожности, то почти всегда Дело кончается счастливо? Где же необходимость трагического в природе? Трагическое в борьбе с природою — случайность. Этим одііим разрушается теория, видящая в нем «закон вселенной». ьбщество? но другие люди? разве не должен
выдержать с ними тяжелую борьбу всякий великий человек?» Опять надобно скаіать, что не всегда сопряжены с тяжелою борьбою великие события в истории, но что мы, по злоупотреблению языка, привыкли называть великими событиями только те, которые были сопряжшы с тяжелою борьбою. Крещение франков было великиМ событием; но где же при нем тяжелая борьба? Не было тяжелой б°Р*бы и при крещении русских. Трагична ли судьба великих л*>дей? Иногда трагична, иногда не трагична, как и участь мелкйх людей; необходимости тут нет никакой. И даже надобно вообще сказать, что участь великих людей обыкновенно бывает легче участи неэамечательных людей; впрочем, опять не от особенного расположения судьбы к замечательным или нерасположения к незамечательным людям, а просто потому, что у первых болыяе сил, ума, энергии, что другие люди больше питают к ним УваЖения, сочувствия, скорее готовы содействовать им. Если в людях есть наклонность завидовать чужому величию, то еще больше в них наклонности уважать величие; общество будет благоговеть перед великим человеком, если нет особенных, случайных причин обществу считать его вредным для себя. Трагична или не трагична судьба великого человека, зависит от обстоятельств; и в истории менее можно встретить великих людей, участь которых была трагична, нежели таких, в жизни которых много было драматизма, но не было трагичности. Крез, Помпей, Юлий Цезарь имели трагическую судьбу; но Нума Пом-иилий, Марий. Сулла, Август окончили свое поприще очень счастливо. Что можно найти трагического в судьбе Карла Великого, Петра Великого, Фридриха II, в жизни Лютера, Вольтера [самого Гегеля?]- Ьюрьбы в жизни этих людей было много; но, говоря вообще, надобно сознаться, что удача и счастие были на их стороне. А если Сервантес умер в нищете, то разве не умирают в нищете тысячи незамечательных людей, которые могли бы не менее Сервантеса рассчитывать на счастливую развязку в жизни и по своей незначительности вовсе не могли подлежать закону трагизма? СлУчаиН(>сти жизни безразлично поражают замечательных и незамечательных людей, безразлично благоприятствуют тем и ДРУГИМ. Но продолжаем наш обзор и от общего понятия о трагическом переходим к трагическому «простой вины».
«В характере великого человека, — говорит господствующая эстетическая те°Рия. — всегда есть слабая сторона; в действова-
Ііии замечательного человека есть всегда что-нибудь ошибочное пли преступное. Эта слабость, проступок, преступление губят его. Д между тем они необходимо лежат в глубине его характера, так что великий человек гибнет от того же самого, в чем источник его величия». Не подвержено никакому сомнению, что часто бывает это на самом деле: бесконечные войны возвысили Наполеона; они же и низвергли его; почти то же было и с Людовиком XIV. Но не всегда бывает так. Часто великий человек погибает без всякой вины с своей стороны. Так погиб Генрих IV, и с ним вместе пал Сюлли. До некоторой степени это безвинное падение находим и в трагедиях, несмотря на то, что авторы их бывали связаны своими понятиями: неужели Дездемона была в самом деле причиною своей погибели? Всякий видит, что одни гнусные хитрости Яго погубили ее. Неужели Ромео и Джульетта сами были причиною своей погибели? Конечно, если мы захотим непременно и каждом погибающем видеть преступника, то можем обвинять всех: Дездемона виновата тем, что была невинна душою и, следовательно, не могла предвидеть клеветы; Ромео и Джульетта виноваты тем, что любят друг друга. Мысль видеть в каждом погибающем виноватого — мысль натянутая и жестокая. Связь ее с идеею греческой судьбы и различными ее видоизменениями очень ясна. Здесь можно указать на одну сторону этой связи: по греческим понятиям о судьбе, в погибели своей бывает всегда виноват сам человек; если бы он поступил иначе, его не постигла бы погибель.
Другой род трагического — трагическое нравственного столкновения — эстетика выводит из той же мысли, только взятой наоборот: в трагическом простой вины основанием трагической судьбы считают мнимую истину, что каждое бедствие, и особенно величайшее из бедствий — погибель, есть следствие преступления; в трагическом нравственного столкновения [основываются эстетики гегелевской школы, на] мысли, что за преступлением всегда следует наказание преступника или погибелью или мучениями его собственной совести |4. И эта мысль явным образом ведет свое начало от предания о фуриях, бичующих преступника. Само собою разумеется, что в, ней под преступлениями; разумеются не в частности уголовные преступления, которые всегда наказываются государственными законами, а вообще нравственные преступления, которые могут быть наказаны только или стечением обстоятельств, или общественным мнением, или совестью самого преступника.
Что касается до наказания посредством стечения обстоятельств, то мы уже давно подсмеиваемся над старинными романами, в которых «всегда под конец торжествовала добродетель и наказывался порок». Правда, мы могли бы не забывать при этом, что и в наше время пишутся подобные романы (в пример укажем на большую часть диккенсовых). Но мы во всяком случае начи-
наем понимать, что земля нё место суда, а место жизни. Однако романистам и эстетикам все-таки непременно хочется, чтобы порок и преступление наказывались на земле. И вот явилась теория, утверждающая, что они всегда наказываются общественным мнением и угрызениями совести. Но и это бывает не всегда. Что касается до общественного мнения, то оно преследует далеко не все нравственные преступления. А если голос общества не пробуждает ежеминутно нашей совести, то в самой большей части случаев она и не проснется в нас, или, проснувшись, очень скоро заснет. Всякий образованный человек понимает, как смешно смотреть на мир теми глазами, какими смотрели греки геродотов-ских времен; всякий ныне очень хорошо понимает, что в страдании и погибели великих людей нет ничего необходимого; что не всякий гибнущий человек гибнет за свои преступления, что не всякий преступник погибает; что не всякое преступление наказывается судом общественного мнения, и проч. Потому нельзя не сказать, что трагическое не всегда пробуждает в нас идею необходимости и что вовсе не в идее необходимости основание действия его на человека и сущность его. В чем же сущность трагического?
Трагическое есть страдание или погибель человека — этого совершенно достаточно, чтобы исполнить нас ужасом и состраданием, хотя бы в этом страдании, в этой погибели и не проявлялась никакая «бесконечно могущественная и неотразимая сила». Случай или необходимость — причина страдания и погибели человека, — все равно, страдание и погибель ужасны. Нам говорят: «чисто случайная погибель — нелепость в трагедии», — в трагедиях, писанных авторами, может быть; в действительной жизни — нет. В поэзии автор считает необходимою обязанностью «выводить развязку из самой завязки»; в жизни развязка часто совершенно случайна, и трагическая участь может быть совершенно случайною, не переставая быть трагическою. Мы согласны, что трагична участь Макбета и леди Макбет, необходимо вытекающая из их положения и дел. Но неужели не трагична участь Густава-Адольфа, который погиб совершенно случайно в битве под Люценом, на пути торжества и побед? Определение:
трагическое есть ужасное в человеческой жизни,
кажется, будет совершенно полным определением трагического в жизни и в искусстве. Правда, что большая часть произведений искусства дает право прибавить: «ужасное, постигающее человека, более или менее неизбежно»; но, во-первых, сомнительно, до какой степени справедливо поступает искусство, представляя это ужасное почти всегда неизбежным, когда в самой действительности оно бывает большею частию вовсе не неизбежно, а чисто случайно; во-вторых, кажется, что очень часто только по привычке доискиваться во всяком великом произведении искусства, необходимого сцепления обстоятельств», «необходимого развития действия из сущности самого действия» мы находшуі, с грехом пополам, «необходимость в ходе событий» и там, где ее вовсе нет, например, в большей части трагедий Шекспира І5.
С господствующим определением комического — «комическое сеть перевес образа над идеею», иначе сказать: внутренняя пу-етота и ничтожность, прикрывающаяся внешностью, имеющею притязание на содержание и реальное значение, — нельзя не согласиться; но вместе с тем надобно сказать, что [Фишер, автор паилучшей эстетики в Германии, слишком ограничил] понятие комического, противополагая его, для сохранения [гегелевского] диалектического метода развития понятий, только понятию возвышенного. Комическое мелочное и комическое глупое или тупоумное, конечно, противоположно возвышенному; но комическое уродливое, комическое безобразное противоположно прекрасному, а не возвышенному. Возвышенное, по изложению самого Фишера, может быть безобразным; каким же образом комическое безобразное противоположно возвышенному, когда они различны между собой не сущностью, а степенью, не качеством, а количеством, когда безобразное мелочное принадлежит к комическому, безобразное огромное или страшное принадлежит к возвышенному? — Что безобразное противоположно прекрасному, ясно само по себе.
Окончив разбор понятий о сущности прекрасного и возвышенного, должно теперь перейти к разбору господствующих взглядов на различные способы осуществления идеи прекрасного.
Здесь-то, кажется, сильнее всего выказывается важность основных понятий, анализ которых занял так много страниц в этом очерке: отступление от господствующего взгляда на сущность того, что служит главнейшим содержанием искусства, необходимо ведет к изменению понятий и о самой сущности искусства. Господствующая ныне система эстетики совершенно справедливо различает три формы существования' прекрасного, под которым понимаются в ней, как его видоизменения, также возвышенное и комическое. (Мы будем говорить только о прекрасном потому, что было бы утомительно повторять три раза одно и то же: все, что говорится в господствующей ныне эстетике о прекрасном, совершенно прилагается в ней к его видоизменениям; точно так же наша критика господствующих понятий о различных формах прекрасного и наши собственные понятия об отношении прекрасного в искусстве к прекрасному в действительности вполне прилагаются и ко всем остальным элементам, входящим в содержание искусства, а в числе их к возвышенному и комическому.)
Три различные формы, в которых существует прекрасное, следующие: прекрасное в действительности (или в природе) ікак выражается гегелевская школа], прекрасное в фантазии и прекрасное _а искусстве (в [действительном бытии], придаваемом ему творческою фантазиею человека). ‘Первый из основных во-
просов, злссь встречающихся, — вопрос об отношении прекрасного в действительности к прекрасному в фантазии и в искусстве. [Гегелевская эстетика] решает его так: пргкрасное в объективной действительности имеет недостатки, уничтожающие красоту его, и наша фантазия поэтому принуждена прекрасное, находимое в объективной действительности, переделывать для того, чтобы, освободив его от недостатков, неразлучных с реальным его существованием, сделать его истинно прекрасным. Фишер полнее и резче других эстетиков входит в анализ недостатков объективного прекрасного. Поэтому его анализ и должно подвергнуть критике. Для избежания упрека в том, что преднамеренно смягчил я недостатки, выставляемые на вид немецкими эстетиками в объективном прекрасном, я должен буквально привести здесь фише-рову критику прекрасного в действительности (Aesthetik, II Theil, Seite 299 und folg.).
«Внутренняя несостоятельность всей объективной формы существования прекрасного открывается в том, что красота находится в чрезвычайно шатком отношении к целям исторического движения даже и на том поприще, где она кажется наиболее обеспеченною (т. е. в человеке; исторические события часто уничтожают много прекрасного; например, говорит Фишер, реформация уничтожила веселую привольность и пестрое разнообразие немецкой жизни XIII–XV столетий). Но вообще очевидно, что предполагаемая в § 234 благосклонность случая редко имеет место в действительности. (§ 234 говорит: для бытия красоты необходимо, чтобы при осуществлении прекрасного не было вмешательства вредных случайностей (der störende Zufall). Сущность случайности состоит в том, что она может быть и не быть, нли быть иначе; следственно, вредная случайность может иногда и не быть в предмете. Потому кажется, что вместе с безобразными индивидуумами должны быть и истинно прекрасные). Кроме того, именно по самой живости (Lebendigkeit), составляющей неотъемлемое преимущество прекрасного в действительности, красота его мимолетна; основание этой мимолетности в том, что прекрасное в действительности возникает не из стремления к прекрасному; оно возникает и существует по общему стремлению природы к жизни, при осуществлении которого появляется только вследствие случайных обстоятельств, а не как что-нибудь преднамеренное (alles Naturschöne nicht gewolt ist).
…Проблески прекрасного редки в истории; редко вполне прекрасное и в природе вообще. В известном своем письме Рафаэль, живший в стране красоты, жалуется на carestia di belle donne; и не часто встречаются в Риме такие модели, какова была Виттория из Альбано во время Румора |6. «Последнее создание все выше и выше стремящейся природы — прекрасный человек. Правда, редко создает она его, потому что слишком много условий, противодействующих ее идеям» (Гёте). Все живущее имеет множество врагов. Борьба с ними может быть возвышенною или комическою; но редки случаи, когда безобразное переходит в комическое или возвышенное. Мы стоим среди жизни и ее бесконечно разнообразных отношений. Потому прекрасное в природе живо; но, находясь среди неисчислимо разнообразных отношений, оно подвергается столкновениям, порче со всех сторон; потому что природа заботится о всей массе предметов, а не об одном отдельном предмете, ей нужно сохранение, а не собственно красота. Если так, то для природы нет потребности поддерживать прекрасным и то немногое прекрасное, которое она случайно производит; жизнь стремится вперед, не заботясь о погибели образа, или сохраняет его только искаженным. «Природа борется из-за жизни и бытия, из-за сохранения и размножения своих произведений, не заботясь о нх красоте или безобразии. Форма, от рождения предназначенная быть пре-
красною, может случаем повредиться в какой-нибудь части; тотчас же стра-іают от этого и другие части; потому что природе тогда бьіваірт нужны силы \ля восстановления поврежденной части, и она отнимает их у других частей, :|То необходимо вредит их развитию. Существо становится уже не таким, ка-,им должно было быть, а таким, каким может быть» (Гёте, в примеч. к Дидро). Заметно или незаметно, повре. ждеиия повторяются и увеличиваются, юка все существо разрушится. Мимолетность, непрочность — скорбная участь» сего прекрасного в природе. Не только прекрасное освещение пейзажа, но, цветущая пора органической жизни — одно мгновение. «Говоря строго, можно сказать, что только в продолжение одного мгновения прекрасен прекрасный человек» 17. «Чрезвычайно непродожителен период времени, в теченіе которого человеческое тело может назваться прекрасным» (Гёте)… Правда, іа увядшей красоты юности развивается высшая красота — красота характера, которую воззрение замечает в чертах физиогномии и в поступках. Но и эта красота мимолетна; потому чго характер заботится о нравственных целях, а не о красоте фигуры и движений при их достижении… В одно время личность бывает исполнена сознанием своей нравственной цели, является так, как есть, прекрасною в глубочайшем смысле слова; но в другое время человек занят бывает чем-нибудь имеющим только посредственную связь с целью жизни его, и при этом истинное содержание характера не проявляется в выражении лица; иногда человек бывает занят делом, возлагаемым на него только житейскою или жизненною необходимостью, и при этом всякое высшее выражение погребено под равнодушием или скукою, неохотою. Так бывает и во всех сферах природы, принадлежат ли они или нет к нравственной области… Эта — группа сражающихся воинов располагается и движется, как будто бы воспламененная духом Марса; но через минуту она рассыпалась, движения перестали быть прекрасны, лучшие люди лежат ранены или убиты: эти воины не tableau vivant, они думают о битве, а не о том, чтоб их битва имела прекрасный вид. Непреднамеренность (das Nichtgewolltsein) — сущность всего прекрасного в природе; она лежит в его сущности в такой степени, что на иас чрезвычайно неприятно действует, если мы замечаем в сфере реального прекрасного какой бы то ни было преднамеренный расчет именно на красоту. Красота, сознающая свою красоту и занимающаяся ею, учащаяся перед зеркалом быть прекрасною, суетна, т. е. ничтожна. Аффектация красоты в действительно существующем — совершенная противоположность истинной гра-. пни… Случайность, непреднамеренность красоты, ее незнание о самой себе — верно смерти, но и прелесть прекрасного в действительности; так что в сознательной сфере прекрасное исчезает в ту минуту, как узнает о своей красоте, начинает любоваться на нее. Наивность простого человека погибает, как скоро касается до него цивилизация; народные песни исчезают, когда обращают на них внимание, начинают собирать их; живописный костюм полудиких народов перестает им нравиться, когда они видят кокетливый фрак живописца, пришедшего изучатъ их; если цивилизация, прельстившись живописным нарядом, хочет сохранить его, он уже обратился в маску^ и народ покидает его.
Но благоприятность случая не только редка и мимолетна, — она вообще Должна считаться благоприятностью только относительною; вредная, искажающая случайность всегда оказывается в природе не вполне побежденною, если мы отбросим светлую маску, накидываемую отдаленностью места и времени на восприятие (Wahrnehm ng) прекрасного в природе, и строже всмотримся в предмет; искажающая случайность вносит в прекрасную, повиди-мому, группировку нескольких предметов много такого, что вредит ее полной красоте; мало того, эта вредящая случайность вторгается и в отдельный предмет, который казался нам сначала вполне прекрасен, и мы видим, что ничто не изъято от ее владычества. Если мы сначала не замечали недостатков, это проистекало из другой благоприятности случая — из счастливого расположения нашего духа, которое делало субъект способным видеть предмет с точки зрения чистой формы. Ближайшим, образом такое расположение духа возбуждает в нас самый предмет своею относительною чистотою от искажающего случая.
Надобно только ближе посмотреть на прекрасное в действительности, чтобы убедиться, что оно не истинно прекрасно: тогда будет ясно, что мы до сих пор только скрывали от себя очевидную истину. Эта истина — необходимое и повсеместное владычество искажающего случая. Не мы должны доказывать, что оно простирается решительно на все, а нуждалась бы в доказательствах противоположная мысль, нуждалось бы в доказательствах мнение, что, при бесконечно разнообразном и тесном сцеплении всего в мире, какой бы то ни было отдельный предмет может сохраниться в целости от всех препятствий, помех, искажающих столкновений. Мы должны только исследовать, откуда происходит обольщение, говорящее нашим чувствам, будто бы иные предметы составляют исключение из общего закона подвластности искажающему случаю; это мы сделаем впоследствии; а теперь покажем только, что видимые исключения из общего правила действительно составляют обольщение, призрак (ein Schein) Некоторые прекрасные предметы составляют соединение многих предметов; в этом случае, всматриваясь внимательнее, мы всегда найдем, во-первых, что мы видим эти предметы в такой связи, в таком соотношении только потому, что случайно стали на известное место, случайно смотрим на них с известной точки зрения. Особенно прилагается это к ландшафтам: их равнины, горы, деревья ничего не знают друг о друге; им не может вздуматься соединиться в живописное целое; в стройных очерках и красках мы их видим только потому, что сами стоим на том, а не на другом месте. Но и с этой благоприятной точки зрении мы найдем здесь кустарник, там холм, нарушающий гармонию; тут недостаток возвышения, там — теин; и мы должны будем сознаться, что внутренний глаз переделывал, дополнял, исправлял ландшафт. То же самое бывает и с движущеюся, действующею группою живых существ. Иногда сцена может быть и в самом деле полна значения и выражения, но в ней группы, существенно связанные, разделены пространством, внутренний глаз опять уничтожает его, сближает связанное, выбрасывает ненужное, лишнее. Другие предметы прекрасны в отдельности. Тогда мы отказываемся от красоты обстановки, выпускаем обстановку из самого воззрения, совершаем акт отделения предмета от обстановки, большею частью бессознательно и безнамеренно; когда красавица входит в общество, наши глаза устремляются исключительно на нее, мы забываем о других лицах. Но и в том и в другом случае, в отдельном ли предмете мы находим красоту, или в сгруппировке предметов, следствие будет одно и то же, если мы строже рассмотрим красоту. На поверхности прекрасного предмета мы откроем то же, что в прекрасной сгруппировке предметов: между прекрасными частями найдутся непрекрасные, и найдутся они в каждом предмете, как бы ни благоприятствовала ему каждая случайность. Хорошо еще, что наш глаз — не микроскоп, и простое зрение уже идеализирует предметы; иначе грязь н инфузории в чистейшей воде, нечистоты на нежнейшей коже разрушали бы для нас всякую красоту. Мы видим только при. известной степени отдаления. А отдаленность идеализирует уже сама по себе. Она не только скрывает нечистоту поверхности, но и вообще сглаживает подробности состава тел, приковывающие их к земле, отнимает пошлую ясность, точность, считающую песчинки, ставящую «каждое лыко в строку». Так уже самый процесс зрения берет на себя часть труда возведения предмета к чистой форме. Отдаленность во времени действует так же, как отдаленность в пространстве: история и воспоминание передают нам ие все мелкие подробности о великом человеке или великом событии; они умалчивают о мелких, второстепенных мотивах великого явления, о его слабых сторонах; они умалчивают о том, сколько времени в жизни великих людей было потрачено на одеванье и раздеванье. еду, питье, насморк и т. п. Но мало того, что через это скрывается от иас мелочное и мешающее красоте; при внимательном рассмотрении даже в прекраснейшем, повидимому, предмете мы ясно замечаем очень много важных и неважных недостатков. ЕслЛ бы, напр., в,1СЛовеческой фигуре и не было отпечатлено никаких искажающих случайно-тей на поверхности, то в основных формах непременно замечается, нами ка-кос-нибудь нарушение пропорциональности. Это ясно будет, как только мы изглянем на гипсовую модель, в точности снятую с действительного лица. Румор в предисловии к своим «Итальянским исследованиям» чрезвычайно черепутал все относящиеся сюда понятия: он хочет обличить ложность фальшивого идеализма в искусстве, стремящегося улучшать природу в ее чистых и постоянных формах; он справедливо говорит против подобного идеализма, что искусство не может переделывать неизменнных форм природы, которые даются ему природою необходимо и неизменно. Но вопрос в том, находятся в действительности в совершенно чистом развитии основные, ненарушимые для искусства формы природы. Румор отвечает на это, что «природа не отдельный предмет, представляющийся нам под владычеством случая, а совокупность всех живых форм, совокупность всего произведенного природою, или, лучше сказать, сама производящая сила», — ей должен предаться художник, не довольствуясь отдельными моделями. Это совершенно справедливо.) Іо Румор впадает потом в натурализм, который хочет преследовать, как и ложный идеализм: его положение, что «природа наилучшим образом выражает все своими формами», становится опасным, когда он прилагает его к отдельному явлению и, противореча тому, что сам сказал выше, утверждает, будто бы в действительности бывают «совершенные модели», как, напр., Виттория из Альбано, которая была «прекраснее всех созданий искусства в Риме, красота которой была недосягаема для художников». Мы твердо убеждены, что ни один из художников, бравших ее моделью, не мог перенести в свое прбизведение всех ее форм в том виде, в каком находил, потому что Виттория была отдельная красавица, а индивидуум не может быть абсолютным; этим дело решается, более мы не хотим и говорить о вопросе, который предлагает Румор. Если даже согласимся, что в Виттории были совершенны все основные формы, то кровь, теплота, процесс жизни с искажающими красоту подробностями, следы которых остаются на ноже, — все эти подробности были бы достаточны, чтобы поставить живое существо, о котором говорит Румор, несравненно ниже тех высоких произведений искусства, которые имеют только воображаемую кровь, теплоту, процесс жизни на коже и т. д.
Итак, предмет, принадлежащий к редким явлениям красоты, как показывает ближайшее рассмотрение, не истинно прекрасен, а только ближе других к прекрасному, свободнее от искажающих случайностей».
Прежде нежели подвергнем критике отдельные упреки, делаемые прекрасному в действительности, смело можно сказать, что оно истинно прекрасно и вполне удовлетворяет здорового че* ловека, несмотря на все свои недостатки, как бы ни были они велики. Конечно, праздная фантазия может о всем говорить: "здесь это не так, этого недостает, это лишнее», но такое развитие фантазии, не довольствующейся ничем, надобно признать болезненным явлением. Здоровый человек встречает в действительности очень много таких предметов и явлений, смотря на которые че приходит ему в голову желать, чтобы они были не так, как есть, или были лучше. Мнение, будто человеку непременно нужно «совершенство», — мнение фантастическое, если под. «совершенством» понимать такой вид предмета, который бы совмещал все возможные достоинства и был чужд всех недостатков, какие от нечего делать может отыскать в предмете фантазия человека с холодным или пресыщенным сердцем. «Совершенство» для меня то, что для меня вполне удовлетворительно в своем роде. А таких явлений видит здоровый человек в действительности очень много. Когда у человека сердце пусто, он может давать волю своему воображению; но как скоро есть хотя сколько-нибудь удовлетворительная действительность, крылья фантазии связаны. Фантазия вообще овладевает нами только тогда, когда мы слишком скудны в действительности. Лежа на голых досках, человеку иногда приходит в голову мечтать о роскошной постели, о кровати какого-нибудь неслыханно драгоценного дерева, о пуховике из гагачьего пуха, о подушках с брабантскими кружевами, о пологе из какой-то невообразимой лионской материи, — но неужели станет мечтать обо всем этом здоровый человек, когда у него есть не роскошная, но довольно мягкая и удобная постель? «От добра добра не ищут». Если человеку пришлось жить среди сибирских тундр или в заволжских солончаках, он может мечтать о волшебных садах с невиданными на земле деревьями, у которых коралловые ветви, изумрудные листья, рубиновые плоды; но, переселившись в какую-нибудь Курскую губернию, получив полную возможность гулять досыта по небогатому, но сносному саду с яблонями, вишнями, грушами, мечтатель наверное забудет не только о садах «Тысячи и одной ночи», но и лимонных рощах Испании. Воображение строит свои воздушные замки тогда, когда нет на деле не только хорошего дома, даже сносной избушки. Оно разыгрывается тогда, когда не заняты чувства; бедность действительной жизни — источник жизни в фантазии. Но едва делается действительность сколько-нибудь сносною, скучны и бледны кажутся нам пред нею все мечты воображения. Мнение, будто бы «желания человеческие беспредельны», ложно в том смысле, в каком понимается обыкновенно, в смысле, что «никакая дейстЬительность не может удовлетворить их»; напротив, человек удовлетворяется не только «наилучшим, что может быть в действительности», но и довольно посредственною действительностью. Надобно различать то, что чувствуется на самом деле, от того, что только говорится. Желания раздражаются мечтательным образом до горячечного напряжения только при совершенном отсутствии здоровой, хотя бы и довольно простой пищи. Это факт, доказываемый всей историей человечества и испытанный на себе всяким, кто жил и наблюдал себя. Он составляет частный случай общего закона человеческой жизни, что страсти достигают ненормального развития только вследствие ненормального положения предающегося им человека, и только в таком случае, когда естественная и в сущности дозольно спокойная потребность, из которой возникает та или другая страсть, слишком долго не находила себе соответственного удовлетворения, спокойного и далеко не титанического. Несомненно то, что организм человека не требует и не может выносить титанических стремлений и удовлетворений; несомненно и то, что в здоровом человеке стремления соразмерны с силами организма. С этой общей точки перейдем на другую, специальную.
Известно, что чувства наши скоро утомляются и прёсыщаются, т е. удовлетворяются. Это справедливо не только относительно низших чувств (осязания, обоняния, вкуса), но также и относительно высших — зрения и слуха. С чувствами зрения и слуха неразрывно соединено эстетическое чувство и не может быть мыслимо без них. Когда у человека от утомления исчезает охота смотреть на прекрасное, не может не исчезать и потребность эстетического наслаждения этим прекрасным. И если человек не может целый месяц ежедневно смотреть, не утомляясь, на картину, хотя бы рафаэлевскую, то нет сомнения, что не одни глаза его, но также и чувство эстетическое пресытилось, удовлетворено на некоторое время. Что достоверно относительно продолжительности наслаждения, то же самое должно сказать и об его интенсивности. При нормальном удовлетворении сила эстетического наслаждения имеет свои пределы. Если она иногда переходит их, это бывает следствием не внутреннего и натурального развития, а особенных обстоятельств, более или менее случайных и ненормальных (напр., мы особенно восторженно восхищаемся прекрасным, когда знаем, что скоро должны будем расстаться с ним, что не будем иметь столько времени наслаждаться им, сколько нам хотелось бы, и т. п.). Одним словом, нет, повидимому, возможности подвергать сомнению факт, что наше эстетическое чувство, подобно всем другим, имеет свои нормальные границы относительно продолжительности и интенсивности своего напряженного состояния и что в этих двух смыслах нельзя называть его ненасытным или бесконечным.
Точно так же оно имеет границы — и довольно тесные — относительно своей разборчивости, тонкости, требовательности или так называемой жажды совершенства. Мы впоследствии будем иметь случай говорить, как многое, даже вовсе не первоклас-ное по красоте своей, удовлетворяет эстетическому чувству в действительности. Здесь мы хотим сказать, что и в области искусства разборчивость его в сущности очень снисходительна. За одно какое-нибудь достоинство мы, прощаем произведению искусства сотни недостатков; даже не замечаем их, если только они не слишком безобразны. В пример довольно указать на большую часть произвадений римской поэзии. Не восхищаться Горацием, Виргилием, Овидием может только тот, у кого недостает эстетического чувства. А сколько в этих поэтах слабых сторон! Собственно говоря, все в них слабо, кроме одного — отделки языка и развития мыслей. Содержаний у них или вовсе нет, или оно самое ничтожное; самостоятельности нет; свежести нет; простоты нет; у Виргилия и Горация почти нигде нет даже искренности и увлечения. Но пусть критика указывает нам все эти недостатки — с тем вместе она прибавляет, что форма у этих поэтов доведена до высокого совершенства, и нашему эстетическому чувству довольно этой одной капли хорошего, чтобы удовлетворяться и наслаждаться. А между тем даже и в отделке формы у всех этих поэтов есть значительные недостатки: Овидий и Вир-гилий почти всегда растянуты; очень часто растянуты и гора-циевы оды; монотонность во всех трех поэтах чрезвычайно велика; часто неприятным образом бросается в глаза искусственность, натянутость. Нужды нет, все-таки остается в них нечто хорошее, и мы наслаждаемся. Как совершенную противоположность этим поэтам внешней отделки, можно привести в пример народную поэзию. Какова бы ни была первоначальная форма народных песен, но до нас доходят они почти всегда искаженными, переделанными или растерзанными на куски; монотонность их также очень велика; наконец, есть во всех народных песнях механические приемы, проглядывают общие пружины, без помощи которых никогда не развивают они своих тем; но в народной поэзии очень много свежести, простоты — и этого довольно для нашего эстетического чувства, чтобы восхищаться народною поэзиею.
Одним словом, как и всякое здоровое чувство, как всякая истинная потребность, эстетическое чувство имеет больше стремления удовлетворяться, нежели требовательности в претензиях; оно по своей натуре радуется удовлетворяясь, недовольно отсутствием пищи, потому готово удовлетворяться первым сносным предметом. Малотребовательность эстетического чувства доказывается и тем, что, имея первоклассные произведения, оно вовсе не пренебрегает второклассными. Рафаэлевы картины не заставляют нас находить плохими произведения Грёза; имея Шекспира, мы с наслаждением перечитываем произведения второстепенных, даже третьестепенных поэтов Эстетическое чувство ищет хорошего, а не фантастически совершенного. Потому, если бы в действительном прекрасном было очень много важных недостатков, мы все-таки удовлетворялись бы им. Но посмотрим ближе, до какой степени справедливы упреки, делаемые прекрасному в действительности, и до какой степени справедливы следствия, из них выводимые.
I. «Прекрасное в природе непреднамеренно; уже по этому одному не может быть оно так хорошо, как прекрасное в искусстве, создаваемое преднамеренно». — Действительно, неодушевленная природа не думает о красоте своих произведений, как дерево не думает о том, чтобы его плоды бы-и вкусны. Но тем не менее надобно признаться, что наше искусство до сих пор не могло создать ничего подобного даже апельсину или яблоку, не говоря уже о роскошных плодах тропических земель. Конечно, преднамеренное произведение будет по достоинству выше непреднамеренного, но только тогда, когда силы производителей равны. А силы человека гораздо слабее сил природы, работа его чрезвычайно груба, неловка, неуклюжа в сравнении с работою природы. И потому в произведениях искусства превосходство со стороны преднамеренности перевешивается, и далеко перевсши-ііается, слабостью их в исполнении. Притом же непреднамеренна красота только в природе бесчувственной, мертвой: птица и животное уже заботятся о своей внешности, беспрестанно охорашиваются, почти все они любят опрятность. В человеке красота редко бывает совершенно непреднамеренною: забота о своей наружности чрезвычайно сильна у в: ех нас. Разумеется, мы здесь говорим не об изысканных средствах подделывать красоту, а подразумеваем постоянные заботы о внешнем благообразии, которые составляют часть народной гигиены. Но если красота в природе в строгом смысле не может назваться преднамеренною, как и все действованне сил природы, то, с другой стороны, нельзя сказать, чтобы вообще природа не стремилась к произведению прекрасного; напротив, понимая прекрасное, как полноту жизни, мы должны будем признать, что стремление к жизни, проникающее всю природу, есть вместе и стремление к произведению прекрасного. Если мы должны вообще видеть в природе не цели, а только' результаты, и потому не можем назвать красоту целью природы, то не можем не наззать ее существенным результатом, к произведению которого напряжены силы природы. Непреднамеренность (das Nichtgewolltsein), бессознательность этого направления нисколько не мешает его реальности, как бессознательность геометрического стремления в пчеле, бессознательность стремления к симметрии в растительной силе нисколько не мешает правильности шестигранного строения ячеек сота, симметрии двух половин листа.
II. «От непреднамеренности красоты в природе происходит то, что прекрасное редко встречается в действительности». Но, если бы и действительно было так, его малочисленность была бы прискорбна только для нашего эстетического чувства, нисколько не уменьшая красоты этого малочисленного ряда явлений и предметов. Алмазы, величиною в голубиное яйцо, попадаются очень редко; любители брильянтов могут справедливо жалеть о том, и все-таки они соглашаются, что эти очень редкие алмазы прекрасны. Но жалобы на редкость прекрасного в действительности не совершенно справедливы; несомнеіЛю по крайней мере, что прекрасного в действительности вовсе не так мало, как утверждают немецкие эстетики. Прекрасных и величественных пейзажей очень много; есть страны, в которых они попадаются на каждом шагу, например, чтобы не говооить о Швейцарии, Альпах, Италии, укажем на Финляндию, Крым, берега Днепра, даже берега Волги. Величественное в жизни человека встречается не беспрестанно; но сомнительно, согласился ли бы сам человек, чтобы оно было чаще: великие минуты жизни слишком дорого обходятся человеку, слишком истощают его; а кто имеет потребность искать и силу выносить их влияние на душу, тот мо-гнет найти сЛУчац к возвышенным ощущениям на каждом шагу: путь доблести, самоотвержения и высокой борьбы с низким и вредны**’ с бедствиями и пороками людей не закрыт никому и никогД3- И были всегда, везде тысячи люден, вся жизнь которых была непрерывным рядом возвышенных чувств и дел. То же самое долЖно сказать и об увлекательно-прекрасных минутах в жизни челООека- Вообще нельзя человеку жаловаться на их редкость, пот» МУ что от самого человека зависит, до какой степени жизнь его наполнена прекрасным и великим.
Жизнь так широка и многостороння, что в ней человек почти всегда найдет Л°СЬІТа всего, искать чего чувствует сильную и истинную потРе^НОСТЬ- Пуста и бесцветна бывает жизнь только у бесцветных л*°д€”> которые толкуют о чувствах и потребностях на самом Деле не будучи способны иметь никаких особенных чувств и потребностек, кроме потребности рисоваться. Это потому, что дух, направление, колорит жизни человека придаются ей характером самого человека: от человека не зависят события жизни но дух этих событий зависит от его характера. «На ловца и зверь бежит»- ® заключение было бы надобно объясниться насчет того что специально назызается красотою, рассмотреть вопрос о том, до какой степени редкое явление женская красота. Но быть мо?кет> ЭТо не совсем уместно в нашем отвлеченном трактате; ограПИЧИМся только замечанием, что почти всякая женщина в цвете молодости кажется большинству красавицею, — потому говорит^ здесь было бы можно разве о неразборчивости эстетического чувства большинства людей, а не о том, что красота редкое явдение' Людей прекрасных лицом нисколько не меньше, нежели людей добрых, умных и т. д.
Как же обгнить жалобу Рафаэля на недостаток красавиц в Италии, классической стране красоты? Очень просто: он искал наилучше'й красавицы, а наилучшая красавица, конечно, одна в
целом свете,__И где же отыскать ее? Первостепенного в своем
роде всегда очень мало, по очень простой причине: если его соберется много, то мы опять разделим его на классы и будем называть первостеПеннЬ1 м то, чего найдется всего два-три индивидуума; все остальное назовем второстепенным.
И вообще надобно сказать, что мысль, будто бы «прекрасное редко встречается в Действительности», основана на смешении понятий «вполне>> и <<первое»: вполне величественных рек очень много, первая из величественных рек, конечно, одна; великих полководцев мн°г<>’ первым полководцем в мире был кто-нибудь один из них. Обыкновенно думают: если есть или может быть предмет X выше находящегося у меня под глазами предмета А. то предмет А низок; ію так только думают, не так чувствуют в самом деле, и, находя Миссисипи величественнее Волги, мы продолжаем, однако, считать и Волгу величественной рекою. Обыкновенно говорится, что если один предмет больше другого, то превосходство первого над вторым есть недостаток другого: вовсе, ет; в действительности недостаток есть нечто положительное, а не нечто вытекающее из превосходства других предметов. Река, имеющая один фут глубины в некоторых местах, не потому считается мелкою, что есть реки гораздо глубже ее; она мелка без всяких сравнений, сама по себе, мелка потому, что неудобна для судоходства; канал, имеющий тридцать футов глубины, не мелок в действительной жизни, потому что совершенно удобен для судоходства; никому не приходит и в голову называть его. мелким, хотя всякому известно, что Па-де-Кале далеко превосходит его своею глубиною. Отвлеченное математическое сравнение не есть взгляд действительной жизни. Потому, находя предмет X прекраснее А, мы в действительной жизни нисколько не перестаем находить прекрасным предмет А. Положим, что «Оттело» выше «Макбета» или «Макбет» выше «Отелло», — несмотря на превосходство одной из этих трагедий над другой, они обе остаются прекрасными. Достоинства «Отелло» не могут быть вменяемы в недостатки «Макбету», и наоборот. Так мы смотрим на произведения искусства. Если смотреть так же и на прекрасные явления действительности, то очень часто мы должны будем сознаться, что красота одного явления безукоризненна, хотя красота другого еще выше. И в самом деле, разве кто-нибудь называет итальянскую природу не прекрасною, хотя природа Антильских островов или Ост-Индии гораздо богаче? А только с подобной точки зрения, не находящей себе подтверждения в действительных чувствах и суждениях человека, и может эстетика утверждать, будто бы в мире действительности красота есть явление редкее.
III. «Красота прекрасного в действительности мимолетна». — Согласимся; но разве от этого она менее пр-красна? И притом это не всегда справедливо: цветок действительно увядает скоро, но человек долго остается прекрасным; можно даже сказать, что человеческая красота продолжается именно столько, сколько надобно человеку, ею наслаждающемуся. Не совсем, быть может, соответствовало бы характеру нашего отвлеченного трактата вдаваться в подробное доказательство этого положения; поэтому скажем только, что красота каждого поколения существует и. должна существовать для этого самого поколчіия; и нисколько не нарушает гармонии, нисколько не противно эстетическим потребностям этого поколения, если красота его увядает вм~сте с ним, — у последующих будет своя, новая красота, и жаловаться тут некому и не на что. Быть может, неуместно было бы здесь также вдаваться в подробные доказательства того, что желание «не стареть» — фантастическое желание, что на самом деле’ пожилой человек и хочет быть пожилым человеком, если только его жизнь прошла нормальным образом и если он не принадлежит к числу людей поверхностных. Но это ясно и без подробных доказательств. Все мы «с сожалением» вспоминаем о детстве, говорим иногда, что «хотели бы снопа перенестись в то счастливое время»; но едва ли кто-нибудь согласился бы на самом деле превраіиться в ребенка. То же самое должно сказать и относительно сожалений о том, что «прошла красота нашей юности», — эти слова не имеют реального значения, если юность прошла сколько-нибудь удовлетворительным образом. Пережитое было бы скучно переживать вновь, как скучно слушать во второй раз анекдот, хотя бы он казался чрезвычайно интересен в первый раз. Надобно различать действительные желания от фантастических, мнимых желаний, которые вовсе и не хотят быть удовлетворенными; таково мнимое желание, чтобы красота в действительности не увядала. «Жизнь стремится вперед и уносит красоту действительности в своем течении», говорят [Гегель и Фишер] — правда, но вместе с жизнью стремятся вперед, т. е. изменяются в своем содержании, наши желания, и, следовательно, фантастичны сожаления о том, что прекрасное явление исчезает, — оно исчезает, исполнив свое дело, доставив ныне столько эстетического наслаждения, сколько мог вместить нынешний день; завтра будет новый день, с новыми потребностями, и только новое пр^коаснэе может удовлетворить их. Если бы красота в действительности была неподвижна и неизменна, «бессмертна», как того требуют эстетики, она бы надоела, опротивела бы нам.]Живой человек не любит неподвижного в жизни; потому никогда не наглядится он на живую красоту, и очень скоро пресыщает его tableau vivant, которую предпочитают живым сценам исключительные поклонники искусства, [презирающие действительность]. Но, по их мнению, красота должна быть однообразна в своей вечности, не только вечна; потому против прекрасного в действительности является новое обвинение.
IV. «Прекрасное в действительности непостоянно в своей красоте», — но на это надобно отвечать тем же самым вопросом, как и прежде: разве это мешает ему быть прекрасным по временам? Разве пейзаж менее прекрасен поутру оттого, что красота его померкнет на время с закатом солнца? И опять надобно сказать, что большею частью этот упрек несправедлив; положим, что есть пейзажи, красота которых пропадает с пурпурным озарением утренней зари; но большая часть прекрасных пейзажей прекрасны при всяком освещении; и надобно прибавить, что незавидна красота того пейзажа, который хорош только в данную минуту, а не во все время, пока существует. «Иногда физиогномия выражает всю полноту жизни, иногда она не выражает ничего» — нет; справедливо то, что иногда физиогномия бывает чрезвычайно выразительна, иногда она гораздо менее выразительна; но чрезвычайно редки минуты, когда физиогномия человека, светящаяся умом или добротою, бывает лишена выражения: умное лицо и во время сна сохраняет выражение ума, доброе лицо сохраняет и во сне выражение доброты, а беглое разнообразие выражения в лице цыраэительиом придает ему новую красоту. Точно так же разнообразие поз придает новую красоту живому существу. Очень часто бывает и то, что исчезновение прекрасной позы одно только и спасает ее драгоценность для нас: «группа сражающихся воинов прекрасна; но чрез несколько минут она уже расстроилась», — а что было б, если б она не расстроилась, если бы схватка атлетов продолжалась целые сутки? Нам наскучило бы смотреть, и мы отвернулись бы, как это, впрочем, бывает часто в действительности. Чем обыкновенно кончается эстетическое впечатление, под влиянием которого держит нас полчаса или час неподвижная, «вечно прекрасная», «вечно неизменная в красоте своей» картина? — Тем, что мы уходим сами, не дождавшись, пока нас «оторвет от наслаждения» мрак вечера.
V. «Прекрасное в действительности прекрасно только потому, что мы смотрим на него с такой точки зрения, с которой оно кажется прекрасным» — Напротив, гораздо чаще случается, что прекрасное прекрасно со всех точек зрения; так, напр., прекрасный пейзаж бывает большею частью хорош, откуда бы ни смотрели мы на него. — Конечно, он бывает в высшей степени хорош только с одной точки зрения — но что же из этого? и на произведения живописи надобно смотреть с известного места, для того, чтобы они представлялись нам во всей своей красоте. Это следствие законов перспективы, которые одинаково должны быть соблюдаемы при наслаждении прекрасным в действительности и прекрасным в искусстве.
Вообще надобно, кажется, сказать, что все рассмотренные упреки прекрасному в действительности преувеличены, а некоторые совершенно несправедливы; что нет из них ни одного, который прилагался бы ко всем родам прекрасного. Но нами не рассмотрены еще главнейшие, существеннейшие недостатки, открываемые господствующими эстетическими воззрениями в прекрасном действительного мира. До сих пор упреки были обращены на то, что прекрасное в действительности неудовлетворительно для человека; теперь следуют прямые доказательства, что прекрасное в действительности, собственно говоря, не может и назваться прекрасным. Доказательств этих три. Пересмотрим их, начиная с менее сильного и менее общего.
VI. «Прекрасное в действительности или группа предметов (пейзаж, группа людей), или один предмет в отдельности. Вредная случайность всегда портит в — 'действительности группу, кажущуюся прекрасною, внося в нее посторонние, ненужные предметы, мешающие красоте и единству целого; она пор гит и кажущийся прекрасным отдельный предмет, портя некоторые его части; внимательное рассмотренпе покажет нам всегда, что некоторые части ' действительного предмета, представляющегося прекрасным, вовсе не прекрасны». — Здесь мы опять встречаемся с мыслью, что красота есть совершенство. Но эта мысль только частное приложение общей мысли, что человек удовлетворяется вообще только математически совершенным; нет, практическая жизнь человека убеждает нас, что он ищет только приблизительного совершенства, которое, выражаясь строго, и не должно называться совершенством. Человек ищет только хорошею, а не совершенного. Совершенства требует только чистая математика; даже прикладная математика довольствуется приблизительными вычислениями. Искать совершенства в какой бы то ни было сфере жизни — дело отвлеченной, болезненной или праздной фантазии. Мы хотим дышать чистым воздухом; но замечаем ли мы, что абсолютно чист воздух не бывает нигде и никогда? Мы хотим пить чистую воду, но не абсолютно чистую воду: совершенно чистая (дистиллированная) вода даже неприятна для вкуса. Эти примеры слишком материальны? Приведем другие: разве кому приходила мысль называть неученым человека, которому не все известно? Нет, мы и не ищем человека, которому было бы известно все; мы требуем от ученого только того, чтобы ему было известно все существенное и чтобы ему было известно очень многое. Разве мы недовольны, напр., историческою книгою, в которой не все решительно вопросы объяснены, не все решительно подробности приведены, не все до одного взгляды и слова автора абсолютно справедливы? Нет, мы довольны, и чрезвычайно довольны, книгою, когда в ней разрешены главные вопросы, приведены самонужнейшие подробности, когда главные мнения автора справедливы, и в книге его очень мало неверных или неудачных объяснений. (Ниже мы увидим, что в сфере искусства мы также довольствуемся приблизительным совершенством). После этих указаний можно сказать, не боясь сильного противоречия, что и в области прекрасного действительной жизни мы довольствуемся тем, когда находим очень хорошее, но не ищем совершенства математического, изъятого от всех мелких недостатков. Неужели кому-нибудь вздумается говорить. что пейзаж не прекрасен, если на каком-нибудь месте его растут три куста, а лучше было бы, если б росло два или четыре? Вероятно, никому еще из людей, любовавшихся морем, не приходило в голову, что море могло бы быть лучше, нежели оно есть; а если математически строго смотреть на море, то в нем действительно есть недостатки, и первый недостаток — оно не плоская, а выпуклая поверхность. Правда, этого недостатка не видно, его открывает не глаз, а вычисление; можно поэтому прибавить, что смешно и говорить об этом недостатке, которого невозможно заметить, о котором можно только знать, но таковы большею частью недостатки прекрасного в действительности: их не видно, они нечувствительны, они открываются только исследованию, а не воззрению. Не забудем же, что чувство прекрасного имеет дело с воззрением, а не с наѵкою: что нечувствительно, то не существует для эстетического чувства. Но в самом ли деле недо-
атки прекрасного в действительности большею частью нечувствительны для воззрения? В этом убеждает нас опыт. Нет человека, ^даренного эстетическим чувством, которому бы не встречались :і действительности тысячи лиц, явлений и предметов, казавшихся, му безукоризненно прекрасными. Но что же особенно важного, когда в прекрасном предмете и заметны для воззрения недостатки? Верно, они слишком неважны, если, несмотря на них, предмет продолжает казаться прекрасным, — если они важны, предмет будет уродлив, а не прекрасен. А неважное не стоит того, чтоб и говорить о нем. И действительно, эстетически здоровый человек не обращает на него внимания. Человеку, не приготовленному специальным изучением новейшей эстетики, странно будет услышать второе доказательство, приводимое в подтверждение того, что так называемое прекрасное в действительности не может быть прекрасно в полном смысле слова.
VII. «Действительный предмет не может быть прекрасен уже потому, что он живой предмет, в котором совершается действительный процесс жизни со всею своею грубостью, со всеми своими антиэстетическими подробностями». — Едва ли можно себе представить высшую степень фантастического идеализма. Как, неужели живое лицо не прекрасно, а изображенное на портрете или снятое в дагерротип прекрасно? и почему же? Потому, что на живом лице неизбежно бывают всегда материальные следы процесса жизни; потому, что если мы посмотрим в микроскоп на живое лицо, то всегда увидим его, покрытое испариною и т. п. Как, живое дерево не может быть прекрасным потому, что на нем всегда гнездятся мелкие насекомые, питающиеся его листьями? Странное мнение, которое даже не требует опровержения: какое же дело моему эстетическому воззрению до того, чего оно не замечает? может ли производить какое-нибудь влияние на мое ощущение тот недостаток, которого оно не чувствует? В опровержение этого мнения не нужно даже приводить истину, — что странно искать таких людей, которые бы не пили, не ели, не имели надобности умываться и переменять белье. Распространяться о подобных требованиях совершенно бесполезно. Лучше рассмотрим одну из тех идей., из которых возник столь странный упрек прекрасному в действительности, идею, составляющую одно из основных воззрений господствующей эстетики. Вот эта мысль: «Прекрасное есть не самый предмет, а чистая поверхность, чистая форма (die reine Oberfläche) предмета» 18. Неосновательность этого взгляда на прекрасное обнаружится, когда мы пересмотрим источники, из которых оно произошло. Прекрасное чаще всего мы видим глазами; а глаза, конечно, видят только оболочку, абрис, наружность предмета, а не внутреннее его сложение. Из этого легко вывссть заключение, что прекрасное есть поверхность предмета, а не самый предмет. Но, во-первых, кроме прекрасного для зрения, есть пре-красное для слуха (пение и музыка), в котором нельзя говорить ни о какой поверхности. Во-вторых, не всегда и глазами видим мы только оболочку предмета: в прозрачных предметах мы видим весь предмет, все его внутреннее сложение; воде и драгоценным камням именно прозрачность и сообщает красоту. Наконец, человеческое тело, лучшая красота на земле, полупрозрачно, и мы в человеке видим не чисто одну только поверхность: сквозь кожу просвечивает тело, и это просвечивание тела придает чрезвычайно много прелести человеческой красоте. В-третьих, странно говорить, что и в совершенно непрозрачных телах мы видим только поверхность, а не самый предмет: воззрение принадлежит не исключительно глазам, известно, что в нем всегда участвует припоминающий и соображающий рассудок; соображение всегда наполняет материей пустую форму, представляющуюся глазу. Человек видит движущийся предмет, хотя орган его глаза сам по себе не видит движения; человек видит отдаленность предмета, хотя сам по себе глаз не видит отдаления; так точно человек видит материальный предмет, хотя глаз его видит только пустую, нематериальную, отвлеченную поверхность предмета. Другое основание для мысли: «прекрасное есть чистая поверхность», состоит в предположении, что эстетическое наслаждение несовместимо с материальным интересом, принимаемым в предмете. Не будем входить в рассмотрение того, каким образом надобно понимать отношение материальной интересности для нас предмета и эстетического наслаждения им, хотя это исследование привело бы к убеждению, что эстетическое наслаждение отлично от материального интереса или практического взгляда на предмет, но не противоположно ему. Довольно будет указать на свидетельство опыта, что и действительный предмет может казаться прекрасным, не возбуждая материального интереса: какая же своекорыстная мысль пробуждается в нас, когда мы любуемся звездами, морем, лесом (неужели при взгляде на действительный лес я необходимо должен думать, годится ли он мне на постройку или отопление дома?), — какая своекорыстная мысль пробуждается в нас, когда мы заслушиваемся шелеста листьев, песни соловья? Что касается человека, мы часто любим его без всяких своекорыстных побуждений, нисколько не думая о себе; тем скорее может он эстетически нравиться нам, не возбуждая материального (stoffartig) раздумья о наших отношениях к нему. Наконец, ближайшим образом мысль о том, что прекрасное есть чистая форма, вытекает из понятия, что прекрасное есть чистый призрак; а такое понятие — необходимое следствие определения прекрасного как полноты осуществления идеи в отдельном предмете и падает вместе с этим определением.
После длинного ряда упреков прекрасному в действительности, становившихся все общее и сильнее, мы доходим теперь до последней, самой сильной и самой общей причины, почему реальное
прекрасное не может' быть считаемо действительно пржрас-
VIII. «Отдельный предмет не может быть прекрасен уже потому. что он не абсолютен; а прекрасное есть абсолютное». — Доказательство действительно неопровержимое [для самой гегелевской школы и многих других философских школ], — принимающих мерилом не только теоретической истины, но и деятельных стремлений человека абсолютное. Но эти системы уже распались, уступив место другим, развившимся из них по силе внутреннего диалектического процесса, но понимающим жизнь совершенно иначе. Ограничиваясь этим указанием на философскую несостоятельность воззрения, из которого произошло подведение всех человеческих стремлений под абсолют, станем для нашей критики на другую точку зрения, более близкую к чисто эстетическим понятиям, и скажем, что вообще деятельность человека не стремится к абсолютному и ничего не знает о нем, имея в виду различные, чисто человеческие, цели. В этом совершенно сходны с другими чувствами и деятельностями человека чувство и деятельность эстетические. В действительности мы не встречаем ничего абсолютного: потому не можем сказать по опыту, какое впечатление произвела бы на нас абсолютная красота; но то мы знаем, по крайней мере, из опыта, что similis simili gaudet 3, что поэтому нам, существам индивидуальным, не могущим перейти за границы нашей индивидуальности, очень нравится индивидуальность, очень нравится индивидуальная красота, не могущая перейти за границы своей индивидуальности. После этого дальнейшие опровержения излишни. Надобно только прибавить, что мысль об индивидуальности истинной красоты развита тою же системою эстетических воззрений, которая поставляет мерилом прекрасного абсолют. Из мысли о том, что индивидуальность — существеннейший признак прекрасного, само собою вытекает положение, что мерило абсолютного чуждо области прекрасного, — вывод, противоречащий основному воззрению этой систёмы на прекрасное. Источник подобных противоречий, не всегда избегаемых системою, о которой мы говорим, — смешение в ней гениальных выводов из опыта и столько же гениальных, но страждущих внутреннею несостоятельностью попыток подчинить все их априористическому взгляду, который часто противоречит им.
Теперь просмотрены все упреки, более или менее несправедливо делаемые прекрасному в действительности, гіЧможно приступить к решению вопроса о существенном значении искусства. По господствующим эстетическим понятиям, «искусство имеет своим источником стремление человека освободить прекрасное от недостатков (нами рассмотренных), мешающих прекрасному на степени своего реального существования в действительности быть вполне удовлетворительным для человека. Прекрасное, создаваемое искусством, свободно от недостатков прекрасного в действительности». Посмотрим же, до какой степени на самом деле прекрасное, создаваемое искусством, выше прекрасного в действительности по свободности своей от упреков, взводимых на это последнее; после того нам легко будет решить, верно ли определяется господствующим воззрением происхождение искусства и его отношение к живой действительности.
Т. «Прекрасное в природе непреднамеренно». — Прекрасное в искусстве бывает преднамеренно — это правда; но во всех ли случаях и во всех ли подробностях? Не будем говорить о том, часто ли и в какой степени художник и поэт ясно понимают, что именно выразится в их произведении, — бессознательность художнического действования давно уже стала общим местом, о котором все толкуют; быть может, нужнее ныне резко выставлять на вид зависимость красоты произведения от сознательных стремлений художника, нежели распространяться о том, что произведения истинно творческого таланта имеют всегда очень много непреднамеренности, инстинктивности. Как бы то ни было, обе эти точки зрения известны, и бесполезно здесь останавливаться на них. Но, может быть, не излишне сказать, что и преднамеренные стремления художника (особенно поэта) не всегда дают право сказать, чтобы забота о прекрасном была истинным источником его художественных произведений; правда, поэт всегда старается «сделать как можно лучше»; но это еще не значит, чтобы вся его воля и соображения управлялись исключительно или даже преимущественно заботою о художественности или эстетическом достоинстве произведения: как у природы есть много стремлений, находящихся между собою в борьбе и губящих или искажающих своею борьбою красоту, так и в художнике, в поэте есть много стремлений, которые своим влиянием на его стремление к прекрасному искажают красоту его произведения. Сюда, во-первых, принадлежат различные житейские стремления и потребности художника, не позволяющие ему быть только художником и более ничем; во-вторых, его умственные и нравственные взгляды, также не позволяющие ему думать при исполнении исключительно только о красоте; в-третьих, наконец, идея художественного создания является у художника обыкновенно не вследствие одного только стремления создать прекрасное: поэт, достойный своего имени, обыкновенно хочет в своем произведении передать нам свои мысли, свои взгляды, свои чувства, а не исключительно только созданную им красоту. Одним словом, если красота в действительности развивается в борьбе с другими стремлениями природы, то и в искусстве красота развивается также р борьбе с другими стремлениями и потребностями человека, ее создающего; если в действительности эта борьба портит или губит красоту, то едва ли менее шан-
оВі чт0 она испортит или погубит ее в произведении искусства; сСли в действительности прекрасное развивается под влияниями, му чуждыми, не допускающими его быть только прекрасным, то „создание художника или поэта развивается множеством различных стремлений, результат которых должен быть таков же. Мы, — отовы, однако же, согласиться, что преднамеренности больше в прекрасных произведениях искусства, нежели в прекрасных созданиях природы, и что в этом отношении искусство стояло бы выше природы, если б его преднамеренность была свободна от недостатков, от которых свободна природа. Но, выигрывая преднамеренностью с одной стороны, искусство проигрывает тем же самым — с другой; дело в том, что художник, задумывая прекрасное, очень часто задумывает вовсе не прекрасное: мало хотеть прекрасного, надобно уметь постигать его в его истинной красоте, — а как часто художники заблуждаются в своих понятиях о красоте! как часто обманывает их даже художнический инстинкт, не только рефлексивные понятия, большею частью односторонние! Все недостатки индивидуальности неразлучны в искусстве с преднамеренностью.
II. «Прекрасное редко встречается в действительности»; — но разве чаще оно встречается в искусстве? Сколько ежедневно бывает истинно трагических или драматических событий! А много ли насчитается истинно прекрасных трагедий или драм? Во всех западных литературах три-четыре десятка, в русской — если не ошибаемся, кроме «Бориса Годунова» и «Сцен из рыцарских времен» — ни одной, которая стояла бы выше посредственности. Сколько романов совершается в действительности! А много ли насчитывается истинно прекрасных романов? Может быть, по нескольку десятков в английской и французской 'литературах и пять-шесть в русской. Что скорее можно встретить: прекрасный пейзаж в природе или в живописи? — Почему же так? Потому, что великих поэтов и художников очень мало, как и вообще мало гениальных людей во всяком роде. Если редко бывает в действительности совершенно благоприятный случай для создания прекрасного или возвышенного, то еще реже благоприятный случай рождения и беспрепятственного развития великого гения, потому что здесь нужно стечение гораздо большего числа благоприятных условий. Этот упрек против действительности еще, с большею силою падает на искусство.
III. «Прекрасное в природе мимолетно»; — в искусстве оно часто бывает вечно, это правда; но не всегда, потому что и произведение искусства подвержено погибели, и порче от случая. Греческие лирики погибли для нас; погибли картины Апеллеса и статуи Лизиппа. Но, не останавливаясь на этом, перейдем к другим причинам невечности очень многих произведений искусства, от которых свободно прекрасное в природе, — это мода и обветшание материала. Природа не стареет, вместо увядших произведений своих она рождает новые; искусство лишено этой вечной способности воспроизведения, возобновления, а между тем время не без следа проходит и над его созданиями. В произведениях поэзии скоро стареет язык, и мы по этой причине не можем наслаждаться Шекспиром, Данте, Вольфрамом так свободно, как наслаждались их современники. Еще гораздо важнее то, что с течением времени многое в произведениях поэзии делается непонятным для нас (мысли и обороты, заимствованные от современных обстоятельств, намеки на события и лица); многое становится бесцветно и безвкусно; ученые комментарии не могут сделать для потомков всего столь же ясным и живым, как все было ясно для современников; притом ученые комментарии и эстетическое наслаждение— противоположные вещи; не говорим уже, что через них произведение поэзии перестает быть общедоступным. Еще важнее то, что развитие цивилизации, изменение понятий иногда совлекает вею красоту с произведения поэзии, иногда превращает его даже в нечто неприятное или отвратительное. Примеров не хотим указывать кроме эклог Виргилия, скромнейшего из римских поэтов.
От поэзии переходим к другим искусствам. Произведения музыки погибают вместе с теми инструментами, для которых были писаны. Вся древняя музыка погибла для нас. Красота старых музыкальных произведений бледнеет с усовершенствованием оркестровки. Краски в живописи очень скоро линяют и чернеют; картины XVI–XVII века уже давно потеряли свою первобытную красоту. Как ни сильно влияние всех этих обстоятельств, не в них, однако же, главная причина мимолетности произведений искусства — она заключается во влиянии на них вкуса эпохи, почти всегда влиянии модного настроения, одностороннего и очень часто фальшивого. Мода сделала половину каждой драмы Шекспира негодною для эстетического наслаждения в наше время; мода, отразившаяся на трагедиях Расина и Корнеля, заставляет нас не столько наслаждаться ими, сколько подсмеиваться над ними. Ни в живописи, ни в музыке, ни в архитектуре не найдется почти ни одного произведения, созданного за 100 или 150 лет, которое не казалось бы ныне или вялым, или смешным, несмотря на всю силу гения, отпечатленную на нем. И современное искусство через пятьдесят лет будет часто вызывать улыбку.
IV. «Прекрасное в действительности непостоянно в своей красоте». — Это правда; но прекрасное в искусстве мертвенно-неподвижно в своей красоте, это гораздо хуже. На живое лицо можно смотреть по нескольку часов; картина надоедает через четверть часа, и редки примеры дилетантов, которые устояли бы час пред картиною. Произведения поэзии живее, нежели произведения живописи, архитектуры и ваяния; но и они пресыщают нас довольно скоро: конечно, не найдется человека, который был бы в состоянии перечитать роман пять раз сряду; между тем жизнь, живые
.,ітіа и действительные события увлекательны своим разнообразием.,
' V. «Красота в природу вносится только тем, что мы смотрим іа псе с той, а не с другой точки зрения», — мысль, почти никогда :,с бывающая справедливою; но к произведениям искусства она ;!очти всегда прилагается. Все произведения искусства не нашей похи и не нашей цивилизации непременно требуют, чтобы мы черенеслись в ту эпоху, в ту цивилизацию, которая создала их; иначе они покажутся нам непонятными, странными, но не прекрасными. Если мы не перенесемся в древнюю Грецию, песни Сафо и Анакреона покажутся нам выражением антиэстетического наслаждения, чем-то похожим на те произведения нашего времени, которых стыдится печать; если мы не перенесемся мыслью в патриархальное общество, песни Гомера будут оскорблять нас цинизмом, грубым обжорством, отсутствием нравственного чувства. Но греческий мир слишком далек от нас; возьмем ближайшую эпоху. Сколько у Шекспира, у итальянских живописцев такого, что понимается и ценится только тогда, когда мы перенесемся в прошедшее с его понятиями о вещахі Представим пример еще ближе к нашему времени: «Фауст» Гёте покажется странным произведением человеку, не способному перенестись в ту эпоху стремлений и сомнений, выражением которой служит «Фауст».
VI. «Прекрасное в действительности заключает в себе, много пепрекрасных частей или подробностей». — А в искусстве разве не тр же самое, только в гораздо большей степени? Укажите произведение искусства, в котором нельзя было бы найти недостатков. Романы Вальтер-Скотта слишком растянуты, романы Диккенса почти постоянно приторно-сантиментальны и очень часто растянуты; романы Теккерея иногда (или, лучше-сказать, очень часто) надоедают своею постоянною претензиею на ироническн-злое простодушие. Но гении новейшие редко являются путеводителями в эстетике; она преимущественно любит Гомера, греческих трагиков и Шекспира. Гомеровы поэмы бессвязны; Эсхил и Софокл слишком суровы и сухи, у Эсхила, кроме того, недостает драматизма; Эврипид плаксив; Шекспир реторичен и напыщен, художественное построение драм его было бы вполне хорошо, если б их несколько переделать, как и предлагает Гёте19. Перейдем к живописи, и должны будем признаться в том же самом: против одного Рафаэля редко возвышают голос, во всех остальных живописцах давно открыто множество слабых сторо^. Но самого Рафаэля упрекают в незнании анатомии. О музыке нечего и говорить: Бетховен слишком непонятен и часто дик; у Моцарта слаба оркестровка; у новых композиторов слишком Много шума и трескотни. Безукоризненная опера, по мнению знатоков, одна — «Дон-Жуан» 20; не знатоки находят его скучным. Если совершенства нет в природе и в живом человеке, то еще меньше можно найти его в искусстве и в делах человека: «в следствии не может быть того, чего нет в причине», в человеке. Широкое, беспредельное поле открывается тому, кто захочет доказывать слабость всех вообще произведений искусства. Само собою разумеется, что подобное предприятие могло бы свидетельствовать о едкости ума, но не о беспристрастии; достоин сожаления человек, не преклоняющийся пред великими произведениями искусства; но простительно, когда к тому принуждают преувеличенные похвалы, напоминать, что если на солнце есть пятна, то в «земных делах» человека их не может не быть.
VII. «Живой предмет не может быть прекрасен уже и потому, что в нем совершается тяжелый, грубый процесс жизни». — Произведение искусства — мертвый предмет; поэтому кажется, что оно должно быть изъято от этого упрека. И однако же такое заключение поверхностно. Факты противоречат ему. Произведение искусства — создание жизненного процесса, создание живого человека, который произвел дело не без тяжелой борьбы, и на произведении отражается тяжелый, грубый след борьбы производства. Разве много таких поэтов и художников, которые работают шутя, как шутя, без поправок, писал, говорят, свои драмы Шекспир? А если произведение создано не без тяжелого труда, на нем будут «пятна масляной лампады», при свете которой работал художник. Тяжеловатость можно найти во всех почти произведениях искусства, как бы легки ни казались они с первого взгляда. А если они в самом деле созданы без большого, тяжелого труда, то они будут страдать грубостью отделки. Итак, одно из двух: или грубость, или тяжелая отделка — вот Сцилла и Харибда для произведений искусства.
Я не хочу сказать, что все недостатки, выставляемые этим анализом, всегда до грубости резко отпечатываются на произведениях искусства. Я хочу только показать, что щепетильной критики, которую направляют на прекрасное в действительности, никак не может выдержать прекрасное, создаваемое искусством.
Из обзора, нами сделанного, видно, что если б искусство вытекало от недовольства нашего духа недостатками прекрасного в живой действительности и от стремления создать нечто лучшее, то вся эстетическая деятельность человека оказалась бы напрасна, бесплодна, и человек скоро отказался бы от нее, видя, что искусство не удовлетворяет его намерениям. Вообще говоря, произведения искусства страдают всеми недостатками, какие могут быть найдены в прекрасном живой действительности; но если искусство вообще не имеет никаких прав на предпочтение природе и жизни, то, быть может, некоторые искусства в частности обладают какими-нибудь особенными преимуществами, ставящими их произведения выше соответствующих явлений живой действительности? быть может даже, то или другое искусство производит нечто, не имеющее себе соответствия в реальном мире? Эти вопросы еще не решаются нашею общею критикою, и мы должны проследить частные случаи, чтобы видеть, каково отношение прекрасного в определенных искусствах к прекрасному в действительности, производимому природою независимо от стремления человека к прекрасному. Только этот обзор даст нам" положительный ответ на то, может ли происхождение искусства быть объясняемо неудовлетворительностью живой действительности в эстетическом отношении.
Ряд искусств начинают обыкновенно с архитектуры, из всех многоразличных деятельностей человека для осуществления более пли менее практических целей уступая одной строительной деятельности право возвышаться до искусства. Но несправедливо так ограничивать поле искусства, если под «произведениями искусства» понимаются «предметы, производимые человеком под преобладающим влиянием его стремления к прекрасному» — есть такая степень развития эстетического чувства в народе, или, вернее сказать, в кругу высшего общества, когда под преобладающим влиянием этого стремления замышляются и исполняются почти все предметы человеческой производительности: вещи, нужные для удобства домашней жизни (мебель, посуда, убранство дома), платье, сады и т. п. Этрусские вазы и галантерейные вещи древних всеми признаны за «произведения искусства»; их относят к отделу «скульптуры», конечно, не совсем справедливо; но неужели к архитектуре должны мы будем причислять мебельное искусство? К какому отделу отнесены будут нами цветники и сады, в которых первоначальное назначение — служить местом прогулки или отдыха — совершенно подчиняется назначению быть предметами эстетического наслаждения? В некоторых эстетиках садоводство называется отраслью архитектуры, но это явная натяжка. Называя искусством всякую деятельность, производящую предметы под преобладающим влиянием эстетического чувства, должно будет значительно расширить круг искусств; потому что нельзя не признать существенного тожества архитектуры, мебельного и модного искусства, садоводства, лепного искусства и т. д. Нам скажут: «архитектура создает новое, не существовавшее в природе, она совершенно переделывает свой материал; другие отрасли человеческой производительности оставляют свой материал в его первобытной форме», — нет, есть много отраслей человеческой деятельности, не уступающих архитектуре и в этом отношении. В пример представим цветоводство: полевые цветы нисколько не похожи на роскошные махровые цветы, обязанные своим происхождением цветоводству. Что общего между диким лесом и искусственным садом или парком? Как архитектура обтесывает камни, так садоводство очищает, выпрямляет деревья, придает каждому дереву совершенно не тот вид, какой имеет оно в девственном лесу; как архитектура соединяет камни в правильные группы, так садоводство соединяет в парке деревья в правильные группы. Одним словом, цветоводство или садоводство переде-
S3
лывают, обрабатывают «грубый материал» не менее, нежели архитектура. То же самое надобно сказать и о промышленности, создающей под преобладающим влиянием стремления к прекрасному, например, ткани, которым природа не представляет ничего подобного и в которых первоначальный материал еще менее остался неизменным, нежели камень в архитектуре. «Но архитектура как искусство гораздо более, нежели другие отрасли практической деятельности, подчиняется исключительно требованиям эстетического чувства, совершенно отказываясь от стремления удовлетворять житейским целям». Но какой житейской цели удовлетворяют цветы, искуственные парки? И разве Парфенон пли Альгамбра не имели практического назначения? Гораздо в меньшей степени, нежели архитектура, подчиняются практическим соображениям садоводство, мебельное, ювелирное и модное искусства, которым, однако же, не посвящается особенной главы в курсах эстетики. Мы видим причину того, что из всех практических деятельностей одна строительная обыкновенно удостоивается имени изящного искусства не в существе ее, а в том, что другие отрасли деятельности, возвышающиеся до степени искусства, забываются по «маловажности» своих произведений, между тем как произведения архитектуры не могут быть упущены из виду по своей важности, дороговизне и, наконец, просто по своей массивности, прежде всего и больше всего остального, производимого человеком, бросаясь в глаза. Все отрасли промышленности, все ремесла, имеющие целью удовлетворять «вкусу» или эстетическому чувству, мы признаем «искусствами» в такой же степени, как архитектуру, когда их произведения замышляются и исполняются под преобладающим влиянием стремления к прекрасному и когда другие цели (которые всегда имеет и архитектура) подчиняются этой главной цели. Совершенно другой вопрос о том, до какой степени достойны уважения произведения практической деятельности, задуманные и исполненные под преобладающим стремлением произвести не столько что-нибудь действительно нужное или полезное, сколько произвести что-нибудь прекрасное. Как решить этот вопрос, не входит в сферу нашего рассуждения; но как решен будет он, точно так же должен быть решен вопрос и о степени уважения, которой заслуживают создания архитектуры в значении чистого искусства, а не практической деятельности. Какими глазами смотрит мыслитель на кашмирскую шаль, стоящую 10 000 франков, на столовые часы, стоящие 10 000 франков, такими же глазами должен смотреть он и на изящный киоск, стоящий 10 000 франков. Быть может, он скажет, что все эти вещи — произведения не столько искусства, сколько роскоши; быть может, он скажет, что истинное искусство чуждается роскоши, потому что существеннейший характер прекрасного — простота. Каково же отношение этих произведений фривольного искусства к безыскусственной действительности? Вопрос
решается тем, что во всех указанных нами случаях дело идет 0 произведениях практической деятельности человека, которая, уклонившись в них от своего истинного назначения — производить нужное или полезное, тем не менее сохраняет свой сущест-пенный характер — производить нечто такое, чего не производит природа. Потому не может быть и вопроса, как в этих случаях относится красота произведений искусства к красоте произведений природы: в природе нет предметов, с которыми было бы можно сравнивать ножи, вилки, сукно, часы; точно так же в ней нет предметов, с которыми было бы можно сравнивать дома, мосты, колонны и т. п.
Итак, если даже причислять к области изящных искусств все произведения, создаваемые под преобладающим влиянием стремления к прекрасному, то надобно будет сказать, что произведения архитектуры или сохраняют свой практический характер и в таком случае не имеют права быть рассматриваемы как произведения искусства, или на самом деле становятся произведениями искусства, но искусство имеет столько же права гордиться ими, как произведениями ювелирного мастерства. По нашему понятию о сущности искусства, стремление к произведению прекрасного в смысле грациозного, изящного, красивого не есть еще искусство; для искусства, как увидим, нужно более; потому произведений архитектуры ни в каком случае мы не решимся назвать произведениями искусства. Архитектура — одна из практических деятельностей человека, которые все не чужды стремления к красивости формы, и отличается в этом отношении от мебельного мастерства не существенным характером, а только размером своих произведений.
Общий недостаток произведений скульптуры и живописи, по которому они стоят ниже произведений природы и жизни, — их мертвенность, их неподвижность; в этом все признаются, и потому было бы излишне распространяться относительно этого пункта. Посмотрим же лучше на мнимые преимущества этих искусств перед природою.
Скульптура изображает формы человеческого тела; все остальное в ней аксессуар; потому и будем говорить о том только, как она изображает человеческую фигуру. Обратилось в какую-то аксиому, что красота очертаний Венеры Медицейской или Милосской, Аполлона Бельведерского и т. д. гораздо выше, нежели красота живых людей. В Петербурге нет ни Венеры Медицейской, ни Аполлона Бельведерского, но есть произведшія Кановы; потому мы, жители Петербурга, можем иметь смелость судить до некоторой степени о красоте произведений скульптуры. Мы должны сказать, что в Петербурге нет ни одной статуи, которая по красоте очертаний лица не была бы гораздо ниже бесчисленного множества живых людей, и что надобно только пройти по какой-нибудь многолюдной улице, чтобы встретить несколько таких лиц. В этом
согласится большая часть тех, которые привыкли судить самостоятельно. Но этого собственного впечатления не будем, однако, считать доказательством. Есть другое, гораздо более твердое. Математически строго можно доказать, что произведение искусства не может сравниться с живым человеческим лицом по красоте очертаний: известно, что в искусстве исполнение всегда неизмеримо ниже того идеала, который существует в воображении художника. А самый этот идеал никак не может быть по красоте выше тех живых людей, которых имел случай видеть художник. Силы «творческой фантазии» очень ограничены: она может
только комбинировать впечатления, полученные из опыта; воображение только разнообразит и экстенсивно увеличивает предмет, но интенсивнее того, что мы наблюдали или испытали, мы ничего не можем вообразить. Я могу представить себе солнце гораздо больше по величине, нежели каково оно в действительности; но ярче того, как оно являлось мне в действительности, я не могу его вообразить. Точно так же я могу представить себе человека выше ростом; толще и т. д., нежели те люди, которых я видел; но лица прекраснее тех лиц, которые случалось мне видеть в действительности, я не могу себе вообразить. Это выше сил человеческой фантазии. Одно мог бы сделать художник: соединить в своем идеале лоб одной красавицы, нос другой, рот и подбородок третьей; не спорим, что это иногда и делают художники; но сомнительно, во-первых, нужно ли это, во-вторых, в состоянии ли воображение соединить эти части, когда они действительно принадлежат разным лицам. Нужно это было бы только тогда, когда бы художнику попадались все такие лица, в которых одна часть была бы хороша, а другие дурны. Но обыкновенно в лице все части почти одинаково хороши или почти одинаково дурны, так что художник, будучи доволен, напр., лбом, должен почти в такой же степени остаться доволен и очертанием носа и ртом. Обыкновенно, если лицо не изуродовано, то все части его бывают в такой гармонии между собою, что нарушать ее значило бы портить красоту лица. Этому учит нас сравнительная анатомия. Правда, очень часто случается слышать: «как хорошо было бы это лицо, если бы нос был несколько приподнят кверху, губы несколько потоньше» и т. п.; — нисколько не сомневаясь в том, что иногда при красоте всех остальных частей лица одна часть его бывает некрасива, мы думаем, что обыкновенно, или, лучше сказать — почти всегда, подобное недовольство проистекает или от неспособности понимать гармонию, или от прихотливости, которая граничит с отсутствием истинной, сильной способности и потребности наслаждаться прекрасным. Части человеческого тела, как и всякого живого организма, постоянно возрождающегося под влиянием своего единства, находятся между собой в теснейшей связи, так что форма одного члена зависит от форм всех остальных и в свою очередь они зависят от нее. Тем более надобно это сказать о различных частях
одного органа, о различных частях лица. Взаимная зависимость очертаний доказывается, как мы говорили, наукою, но и без помощи науки очевидна для всякого, одаренного чувством гармонии. Человеческое тело — одно целое; его нельзя разрывать на части и говорить: эта часть хороша, прекрасна, эта некрасива. И здесь, как во многих других случаях, подбирание, мозаичность, эклектизм, ведет к несообразностям; принимайте все или не принимайте ничего— только тогда вы будете правы, по крайней мере, с своей точки зрения. Только в уродах, в этих эклектических существах, уместна мерка эклектизма. А оригиналами при изваянии «великих произведений скульптуры», конечно, служили не они. Если бы художник взял для своего изваяния лоб с одного лица, нос с другого, рот с третьего, он доказал бы этим только одно: собственное безвкусие или, по крайней мере, неуменье отыскать действительно прекрасное лицо для своей модели. На основании всех приведенных соображений мы думаем, что красота статуи не может быть выше красоты живого индивидуального человека, потому что снимок не может быть прекраснее оригинала. Правда, не всегда статуя бывает верным снимком с натурщика; иногда «художник воплощает в своей статуе свой идеал», — но каким образом составляется идеал художника, не похожий на его модель, мы будем иметь случай говорить впоследствии. Мы не забываем и того, что, кроме очертаний, в произведении скульптуры есть еще группировка и выражение; но оба эти элемента красоты гораздо полнее, нежели в статуе, мы встречаем в картине; потому и анализируем их, говоря о живописи, к которой переходим.
Живопись с нашей настоящей точки зрения мы должны разделить на изображение отдельных фигур и групп, живопись, изображающую внешний мир, и живопись, изображающую фигуры и группы среди ландшафта, или, выражаясь общее, среди обстановки.
Что касается до очертаний отдельной человеческой фигуры, надобно сказать, что живопись уступает в этом отношении не только природе, но и скульптуре: она нё может очерчивать так полно и определенно; зато, распоряжаясь красками, она изображает человека гораздо ближе к живой природе и может придавать его лицу гораздо более выразительности, нежели скульптура. Не знаем, до какой степени совершенства дойдет со временем составление красок; но при настоящем положении этой стороны техники живопись не может хорошо передавать цвет человеческого тела вообще, и особенно цвет лица. Краски ее в сравнении с цветом тела и лица — грубое, жалкое подражание; вместо нежного тела она рисует что-то зеленоватое или красноватое; и, говоря безотносительно, не принимая в соображение, что и для этого зеленоватого или красноватого изображения нужно иметь необыкновенное «уменье», мы должны будем признаться, что живое тело не может быть удовлетворительно передано мертвыми красками. Один только из оттенков его передает живопись довольно хорошо — по-
терявший жизненность, сухой цвет стариковского или загрубелого лица. Покрытые оспенными ямочками или болезненные лица также выходят на картинах несравненно удовлетворительнее, нежели свежие, молодые. Наилучшее выходит в живописи наихудшим, наихудшее — наиболее удовлетворительным.
То же самое надобно сказать и о выражении лица. Лучше других оттенков жизни удается живописи изображать судорожные искажения лица при разрушительно-сильных аффектах, напр., выражение гнева, ужаса, свирепости, буйного разгула, физической боли или нравственного страдания, переходящего в физическое страдание; потому что в этих случаях с чертами лица происходят резкие изменения, которые достаточно могут быть изображены довольно грубыми взмахами кисти, и мелочная неверность или неудовлетворительность подробностей исчезает среди крупных штрихов: самый грубый намек здесь понятен для зрителя. Удовлетворительнее других оттенков выражения передается также сумасшествие, тупоумие или отсутствие мысли; потому что здесь почти нечего передавать или надобно передать дисгармонию — дисгармония не портится, а развивается несовершенством исполнения. Но все остальные видоизменения физиогномии передаются живописью чрезвычайно неудовлетворительно; потому что никогда не может она достичь нежности штрихов, гармоничности всех мельчайших видоизменений в мускулах, от которых зависит выражение нежной радости, тихой задумчивости, легкой веселости и т. п. Руки человеческие грубы и в состоянии удовлетворительно сделать только то, для чего не требуется слишком удовлетворительной отделки: «топорная работа» — вот настоящее имя всех пластических искусств, как скоро сравним их с природою. Впрочем, живопись (и скульптура) еще больше, нежели очертаниями или выражением своих фигур, гордится пред природой группировкою. Но эта гордость еще менее понятна. Правда, искусству иногда удается безукоризненно сгруппировать фигуры, но напрасно будет оно превозноситься своею чрезвычайно редкою удачею; потому что в действительности никогда не бывает в этом отношении неудачи: в каждой группе живых людей все держат себя совершенно сообразно 1) сущности сцены, происходящей между ними, 2) сущности собственного своего характера и 3) условиям обстановки. Все это само собою всегда соблюдается в действительной жизни и с чрезвычайным трудом достигает этого искусство. «Всегда и само собою» в природе, «очень редко и с величайшим напряжением сил» в искусстве — вот факт, почти во всех отношениях характеризующий природу и искусство.
Переходим к живописи, изображающей природу. Очертания предметов, опять, никак не могут быть не только нарисованы рукою, но и представлены воображением лучше, нежели встречаются в действительности; причину объяснили мы выше. Лучше действительной оозы воображение не может ничего представить;
а исполнение всегда ниже воображаемого идеала. Цвета некоторых предметов удаются живописи очень хорошо; но есть много предметов, колорит которых она не может передать. Вообще лучше удаются темные цвета и грубые, жесткие оттенки; светлые— хуже; колорит предметов, освещенных солнцем, хуже всего; так же неудачны выходят оттенки голубого полуденного неба, розовые и золотистые оттенки утра и вечера. «Но именно побеждением этих трудностей прославились великие художники», т. е. тем, что побеждали их гораздо лучше, нежели другие живописцы. Мы не говорим об относительном достоинстве произведений живописи, а сравниваем лучшие из них с природою. Насколько лучшие из них лучше других, настолько же уступают природе. «Но живопись лучше может сгруппировать пейзаж?» Сомневаемся; по крайней мере, в природе на каждом шагу встречаются картины, к которым нечего прибавить, из которых нечего выбросить. Не так гозорят очень многие люди, посвятившие свою жизнь изучению искусства и опустившие из виду природу. Но простое, естественное чувство каждого человека, не вовлеченного в пристрастие художническою или дилетантскою односторонностью, будет согласно с нами, когда мы скажем, что в природе очень много таких местоположений, таких зрелищ, которыми можно только восхищаться и в которых нечего осудить. Войдите в порядочный лес — не говорим о лесах Америки, говорим о тех лесах, которые уже пострадали от руки человека, о наших европейских лесах, — чего недостает этому лесу? Кому из видевших порядочный лес приходило в голову, что в этом лесу надобно что-нибудь изменить, что-нибудь дополнить для полноты эстетического наслаждения им? Проезжайте двести, триста верст по дороге — не говорим, в Крыму или в Швейцарии, нет — в Европейской России, которая, говорят, бедна видами, — сколько вам встретится на этом небольшом переезде таких местностей, которые восхитят вас, любуясь на которые вы не подумаете о том, что «если бы тут вот это прибавить, тут вот это убавить, пейзаж был бы лучше». Человек с неиспорченным эстетическим чувством наслаждается природою вполне, не находит недостатков в ее красоте. Мнение, будто бы рисованный пейзаж может быть величественнее, грациознее или в каком бы то ни было отношении лучше действительной природы, отчасти обязано своим происхождением предрассудку, над которым самодовольно подсмеиваются в наше время даже те, которые в сущности еще не отделались от него, — предрассудку, что природа груба, низка, грязна, что надобно очищать и украшать ее для того, чтоб она облагородилась. Это принцип подстриженных садов. Другой источник мнения о превосходстве рисованных пейзажей над действительными анализируем ниже, когда будем рассматривать вопрос, в чем именно состоит наслаждение, доставляемое нам произведениями искусства.
Остается взглянуть на отношение к природе третьего рода картин — картин, на которых изображается группа людей среди пейзажа. Мы видели, что группы и пейзажи, изображаемые живописью, по ид«е никак не могут быть выше того, что представляет нам действительность, а по исполнению всегда неизмеримо ниже действительности. Но то справедливо, что на картине группа может быть поставлена в обстановке более эффектной и даже более приличной сущности ее, нежели обыкновенная действительная обстановка (радостные сцены часто происходят среди довольно тусклой или Даже грустной обстановки; потрясающие, величественные сцены часто, и даже большею частию, — среди обстановки вовсе не величественной; и наоборот, очень часто пейзаж не наполнен группами, характер которых был бы приличен его характеру) — Искусство очень легко восполняет эту неполноту, и мы готовы сказать, что оно имеет в этом случае преимущество пред действительностью. Но, признавая это преимущество, мы должны рассмотреть, во-первых, до какой степени оно важно, во-вторых, всегда ли оно бывает истинным преимуществом. — Картина изображает пейзаж и группу людей среди этого пейзажа. Обыкновенно в таких случаях или пейзаж есть только рамка для группы, или группа людей только второстепенный аксессуар, а главное в картине — пейзаж. В первом случае преимущество искусства над действительностью ограничивается тем, что оно сыскало для картины золоченую рамку вместо простой; во втором _искусство прибавило, может быть, прекрасный, но второ
степенный аксессУаР> — выигрыш также не слишком велик. Но действительно ли внутреннее значение картины возвышается, когда живописцы стараются дать группе людей обстановку, соответствующую характеру группы? Это сомнительно в большей части случаев. Не будет ли слишком однообразно всегда освещать сцены счастливой любви лучами радостного солнца и помещать среди смеющейся зелени лугов, и притом еще весною, когда «вся природа дышит любовью», а сцены преступлений освещать мол-ниею и помещать среди диких скал? И кроме того, не будет ли не совсем гармонирующая с характером сцены обстановка, какова обыкновенно бывает она в действительности, своею дисгармониею возвышать впечатление, производимое самою сценою? И не имеет ли почти всегда обстановка влияния на характер сцены, не придает ли она ей новых оттенков, не придает ли она ей чрез то более свежести и более жизни?
Окончательный вывод из этих суждений о скульптуре и жи-і вописи: мы видим, что произведения того и другого искусства 1 по многим и существеннейшим элементам (по красоте очертаний, по абсолютному совершенству исполнения, по выразительности и т. д.) неизмеримо ниже природы и жизни; но, кроме одного маловажного преимущества живописи, о котором сейчас говорили, решительно не видим, в чем произведения скульптуры или
живописи стояли бы выше природы и действительной жизни.
Теперь нам остается говорить о музыке и поэзии — высших, совершеннейших искусствах, пред которыми исчезают и живопись и скульптура.
Но прежде мы должны обратить внимание на вопрос: в каком отношении находится инструментальная музыка к вокальной, и в каких случаях вокальная музыка может назваться искусством?
Искусство есть деятельность, посредством которой осуществляет человек свое стремление к прекрасному, — таково обыкновенное определение искусства; мы не согласны с ним; но пока не высказана наша критика, еще не имеем права отступать от него, и, подстановив впоследствии вместо употребляемого нами здесь определения то, которое кажется нам справедливым, мы не изменим чрез это наших выводов относительно вопроса: всегда ли пение есть искусство, и в каких случаях становится оно искусством? Какова первая потребность, под влиянием которой человек начинает петь? участвует ли в ней насколько-нибудь стремление к прекрасному? Нам кажется, что это потребность, совершенно отличная от заботы о прекрасном. Человек спокойный может быть замкнут в себе, может молчать. Человек, находящийся под влиянием чувства радости или печали, делается сообщителен; этого мало: он не может не выражать во внешности своего чувства: «чувство просится наружу». Каким же образом выступает оно во внешний мир? Различно, смотря по тому, каков его характер. Внезапные и потрясающие ощущения выражаются криком или восклицаниями; чувства неприятные, переходящие в физическую боль, выражаются разными гримасами и движениями; чувство сильного недовольства — также беспокойными, разрушительными движениями; наконец, чувства радости и грусти — рассказом, когда есть кому рассказать, и пением, когда некому рассказывать или когда человек не хочет рассказывать. Эта мысль найдется в каждом рассуждении о народных песнях. Странно только, почему не обращают внимания на то, что пение, будучи по сущности своей выражением радости или грусти, вовсе не происходит от нашего стремления к прекрасному. Неужели под преобладающим влиянием чувства человек будет еще думать о том, чтобы достигать прелести, грации, будет заботиться о форме? Чувство и форма противоположны между собою. Уже из этого одного видим, что пение, произведение чувства, и искусство, заботящееся о форме, — два совершенно различные предмета. Пение первоначально и существенно — подобно разговору— произведение практической жизни, а не произведение искусства; но как всякое «уменье», пение требует привычки, занятия, практики, чтобы достичь высокой степени совершенства; как все органы, орган пения, голос, требует обработки, ученья, для того чтобы сделаться покорным орудием воли, — и естественное пение
становится в этом отношении «искусством», но только в том смысле, в каком называется «искусством» уменье писать, считать, пахать землю, всякая практическая деятельность, а вовсе не в том смысле, какой придается слову «искусство» эстетикою.
Но в противоположность естественному пению существует искусственное пение, старающееся подражать естественному. Чувство придает особенный, высокий интерес всему, что производится под его влиянием; оно даже придает всему особенную прелесть, особенную красоту. Одушевленное грустью или радостью лицо в тысячу раз прекраснее, нежели холодное. Естественное пение как излияние чувства, будучи произведением природы, а не искусства, заботящегося о красоте, имеет, однако, высокую красоту; потому является в человеке желание петь нарочно, подражать естественному пению. Каково отношение этого искусственного пения к естественному? Оно гораздо обдуманнее, оно рассчитано, украшено всем, чем только может украсить его гений человека: какое сравнение между ариею итальянской оперы и простым, бедным, монотонным мотивом народной песни! Но. вся ученость гармонии, все изящество развития, все богатство украшений гениальной арии, вся гибкость, все несравненное богатство голоса, ее исполняющего, не заменят недостатка искреннего чувства, которым проникнут бедный мотив народной песни и неблестящий, мало обработанный голос человека, который поет не из желания блеснуть и выказать свой голос и искусство, а из потребности излить свое чувство. Различие между естественным и искусственным пением — различие между актером, играющим роль веселого или печального, и человеком, который в самом деле обрадован или опечален чем-нибудь, — различие между оригиналом и копиею, между действительностью и подражанием. Спешим прибавить, что композитор может в самом деле проникнуться чувством, которое должно выражаться в его произведении; тогда он может написать нечто гораздо высшее не только по внешней красивости, но и по внутреннему достоинству, нежели народная песня; но в таком случае его произведение будет произведением искусства или «уменья» только с технической стороны, только в том смысле, в котором и все человеческие произведения, созданные при помощи глубокого изучения, соображений, заботы о том, чтобы «вышло как возможно лучше», могут назваться произведениями искусства; в сущности же произведение композитора, написанное под преобладающим влиянием непроизвольного чувства, будет создание природы (жизни) вообще, а не искусства. Точно так же искусный и впечатлительный певец может войти в свою роль, проникнуться тем чувством, которое должна выражать его песня, и в таком случае он пропоет ее на театре, перед публикою, лучше другого человека, поющего не на театре, — от избытка чувства, а не на показ публике; но в таком случае певец перестает быть актером, и его пение становится песнью самой природы, а не произведением искусства. Это увлечение чувством мы не думаем смешивать с вдохновением: вдохновение есть особенно благоприятное настроение творческой фантазии; оно и увлечение чувством имеют общего только то, что в людях, одаренных поэтическим талантом и вместе особенною впечатлительностью, вдохновение может переходить в увлечение чувством, когда предмет вдохновения располагает к чувству. Между вдохновением и чувством то же самое различие, какое между фантазиею и действительностью, между мечтами и впечатлениями.
Первоначальное и существенное назначение инструментальной музыки — служить аккомпанементом для пения. Правда, впоследствии, когда пение становится для высших классов общества преимущественно искусством, когда слушатели начинают быть очень требовательны в отношении к технике пения, — за недостатком удовлетворительного пения инструментальная музыка старается заменить его и является как нечто самостоятельное; правда, что она имеет и полное право обнаруживать притязания на самостоятельное значение при усовершенствовании музыкальных инструментов, при чрезвычайном развитии технической стороны игры и при господстве предпочтительного пристрастия к исполнению, а не к содержанию. Но тем не менее истинное отношение инструментальной музыки к пению сохраняется в опере, полнейшей форме музыки как искусства, и в некоторых других отраслях концертной музыки. И нельзя не заметить, что, несмотря на всю искусственность нашего вкуса, на изысканное пристрастие ко всем трудностям и хитростям блестящей техники, все продолжают отдавать пению предпочтение пред инструментальною музыкою: едва начинается пение, мы перестаем обращать внимание на оркестр. Выше всех инструментов ставится скрипка, потому что она «ближе всех инструментов подходит к человеческому голосу»; высочайшая похвала артисту: «в звуках его инструмента слышится человеческий голос». Итак, инструментальная музыка — подражание пению, его аккомпанемент или суррогат; в самом пении пение как произведение искусства — только подражание и суррогат пению как произведению природы. После этого мы имеем право сказать, что в музыке искусство есть только слабое воспроизведение явлений жизни, независимых от стремления нашего к искусству.
Переходим к высочайшему и полнейшему из искусств, поэзии, вопросы о которой заключают в себе всю теорию искусства. Неизмеримо выше других искусств стоит поэзия по своему содержанию; все другие искусства не в состоянии сказать нам и сотой доли того, что говорит поэзия. Но совершенно изменяется это отношение, когда мы обращаем внимание на силу и живость субъективного впечатления, производимого поэзиею, с одной стороны, и остальными искусствами — с другой. Все другие искусства, подобно живой действительности, действуют прямо на чувства, поэзия действует на фантазию; фантазия у одних людей г<?раздо впечатлительнее и живее, нежели у других, но вообще должно сказать, что у здорового человека ее образы бледны, с>*абы в сравнении с воззрениями чувств; потому надобно сказать, ч-|-о по силе и ясности субъективного впечатления поэзия далеко н0же не только действительности, но и всех других искусств. ПосМотРим же> какова степень объективного совершенства содержания и формы в произведениях поэзии, и может ли она хотя в этом отношении соперничать с природою.
Много говорят о «законченности», «индивидуальности», л>*£Ивой определенности» лиц и характеров, изображаемых великами поэтами. Но вместе с этим говорят нам, что «это, однако же. не отдельные лица, а общие типы»; после такой фразы было 6j,j излишне доказывать, что самое определенное, наилучшим образом обрисованное лицо остается в поэтическом произведении ТОУ\ько общим, неопределенно очерченным абрисом, которому живая определенная индивидуальность придается только воображением (собственно говоря, воспоминаниями) читателя. Образ в поэтическом произведении точно так же относится к действительноМУ живому образу, как слово относится к действительному предмету, им обозначаемому, — это не более как бледный и общий, неопределенный намек на действительность. Многие в этой <ю6Щности» поэтического образа видят превосходство его над лиііами. представляющимися нам в действительной жизни. Такое мнение основывается на предполагаемой противоположности мегКДУ общим значением существа и его живою индивидуальностью, на предположении, будто бы «общее, индивидуализируясь' теряет свою общность» в действительности и «возводится опЯть к «ей только силою искусства, совлекающего с индивидуума его индивидуальность». Не вдаваясь в метафизические суждения о том, каковы на самом деле каузальные отношения между общим и цастным (причем необходимо было бы прийти к заключению, что для человека общее только бледный и мертвый экстракт из индивидуального, что поэтому между ними такое же отношение, как между словом и реальностью), скажем только, что на сгцѵюм деЛс индивидуальные подробности вовсе не мешают общему зна-че,хию предмета, а, напротив, оживляют и дополняют его общее знзчение; что, во всяком случае, поэзия признает высокое превосходство индивидуального уж тем самым, что всеми силами стремится к живой индивидуальности своих образов; что с тем вместе никак не может она достичь индивидуальности, а успевает только несколько приблизиться к ней, и что степенью этого при-блйжения определяется достоинство поэтического образа. Итак: стремится, но не может никогда достичь того, что всегда встречается в типических лицах действительной жизни, — ясно, что образы поэзии слабы, неполны, неопределенны в сравнении с соответствующими им образами действительности. «Но встречаЮтся ли в действительности истинно-типические лица»? До-
паточно предложить подобный вопрос и не дожидаться на него ответа, как на вопросы о том, действительно ли в жизни встречаются добрые и дурные люди, моты, скупцы и т. д., действительно ли лед холоден, хлеб очень питателен и т. п. Есть люди, которым все надобно указывать и доказывать. Но их нельзя убе-,іть общими доказательствами в общем сочинении; на них можно действовать только порознь, для. них убедительны только специальные примеры, заимствованные из кружка знакомых им людей, в котором, как бы ни был он тесен, всегда найдется несколько истинно-типических личностей; указание на истинно-тііпические личности в истории едва ли поможет: есть люди, го-ювые сказать: «исторические личности опоэтизированы преданием, удивлением современников, гением историков или своим исключительным положением».
Отчего произошло мнение, будто бы типические характеры в поэзии выставляются гораздо чище и лучше, нежели представляются они в действительной жизни, рассмотрим после; теперь обратим внимание на процесс, посредством которого «создаются» характеры в поэзии, — он обыкновенно представляется ручательством за большую в сравнении с живыми лицами типичность этих образов. Обыкновенно говорят: «Поэт наблюдает множество живых индивидуальных личностей; ни одна из них не может служить полным типом; но он замечает, что в каждой из них есть общего, типического; отбрасывая в сторону все частное, соединяет в одно художественное целое разбросанные в различных людях черты и таким образом создает характер, который может быть назван квинт-эссенциею действительных характеров». Положим, что все это совершенно справедливо и что всегда бывает именно так; но квинт-эссенция вещи обыкновенно не похожа бывает на самую вещь: теин — не чай, алкоголь — не вино; по правилу, приведенному выше, в самом деле поступают «сочинители», дающие нам вместо людей квинт-эссенцию героизма и злобы в виде чудовищ порока и каменных героев. Все, или почти все, молодые люди влюбляются — вот общая черта, в остальных они нс сходны, — и во всех произведениях поэзии мы услаждаемся девицами и юношами, которые и мечтают и толкуют всегда только о любви и во все продолжение романа только и делают, что страдают или блаженствуют от любви; все пожилые люди любят порезонерство-вать, в остальном они не похожи друг на друга; все бабушки любят внучат и т. д., — и вот все повести и романы населяются стариками, которые только и дела делают, что резонерствуют, бабушками, которые только и дела делают, что ласкают внучат, и т. д. Но большею частью рецепт не совсем соблюдается: у поэта, когда он «создает» свой характер, обыкновенно носится пред воображением образ какого-нибудь действительного лица; иногда сознательно, иногда бессознательно «воспроизводит» он его в своем типическом лице. В доказательство напомним о бесчисленном количестве произведений, в которых главное действую, щее лицо — более или менее верный портрет самого автора (например, Фауст. Дон-Карлос и маркиз Поза, герои Байрона, герои и героини Жоржа Занда, Ленский, Онегин, Печорин); напомним еще об очень» частых обвинениях против романистов, что они «в своих романах выставляют портреты своих знакомых»; эти обвинения обыкновенно отвергаются с насмешкою и негодованием; но онИ большею частью бывают только утрированы и несправедливо выражаемы, а не по сущности своей несправедливы. С одной стороны, приличия, с другой — обыкновенное стремление человека к самостоятельности, к «творчеству, а не списыванию копий» заставляют поэта видоизменять характеры, им списываемые с людей, которые встречались ему в жизни, представлять их до некоторой степени неточными; кроме того, списанному с действительного человека лицу обыкновенно приходится в романе действовать совершенно не в той обстановке, какой оно было окружено на самом деле, и от этого внешнее сходство теряется. Но все эти перемены не мешают характеру в сущности оставаться списанным, а не созданным, портретом, а не оригиналом. Против этого можно сказать: правда, что первообразом для поэтического лица очень часто служит действительное лицо; но поэт «возводит его к общему значению» — возводить обыкновенно незачем, потому что и оригинал уже имеет общее значение в своей индивидуальности; надобно только — и в этом состоит одно из качеств поэтического гения — уметь понимать сущность характера в действительном человеке, смотреть на него проницательными глазами; кроме того, надобно понимать или чувствовать, как стал бы действовать И говорить этот человек в тех обстоятельствах, среди которых он будет поставлен поэтом, — другая сторона поэтического гения; в-третьих, надобно уметь изобразить его, уметь передать его таким, каким понимает его поэт, — едва ли не самая характеристическая черта поэтического гения. Понять, уметь сообразить или почувствовать инстинктом и передать понятое — вот задача поэта при изображении большей части изображаемых им лиц. Вопрос о том, что называется «возведением к идеальному значеііию»( «опоэтизированием прозы и нескладицы жизни», представится нам ниже. Мы нисколько не сомневаемся, однако, что бывает в поэтических произведениях очень много лиц, которые Ну могут быть названы портретами, которые «созданы» поэтом. j-]0 это происходит вовсе не от того, чтобы не нашлось в действительности достойных натурщиков, а совершенно от другой причины, чаще всего просто от забывчивости или недостаточного знакомства: если в памяти поэта исчезли живые подробности, осталось толысо общее, отвлеченное понятие о характере или поэт знает о типическом лице гораздо менее, нежели нужно для того, чтобы оно было живым лицом, то поневоле приходится ему самому дополнять общий очерк, оттенять абрис. Но почти никогда эти придуманные лица не обрисовываются пред нами, как живые характеры. Вообще, чем более нам известно о характере поэта, о его жизни, о лицах, с которыми он сталкивался, тем более видим у него портретов с живых людей. Трудно не согласиться, что «созданного» в лицах, изображаемых поэтами, бывает и всегда бывало гораздо менее, а списанного с действительности гораздо более, нежели обыкновенно предполагают; трудно не прийти к убеждению, что поэт в отношении к своим лицам почти всегда только историк или автор мемуаров. Само собою разумеется, что всем этим не хотим мы сказать, будто бы каждое слово, произносимое Маргаритою или Мефистофелем, было буквально слышано Гёте от Гретхен и Мерка21. Не только гениальный поэт, но и самый ненаходчивый рассказчик в состоянии к одной фразе приделать другую в том же роде, прибавить вступления и переходы.
Гораздо больше бывает «самостоятельно изобретенного» или «придуманного» — решаемся заменить этими терминами обыкновенный, слишком гордый термин: «созданного» — в событиях, изображаемых поэтом, в интриге, завязке и развязке ее и т. д., хотя очень легко доказать, что сюжетами романов, повестей и т. д. обыкновенно служат поэту действительно совершившиеся события или анекдоты, разного рода рассказы и пр. (укажем в пример' на все прозаические повести Пушкина: «Капитанская
дочка» — анекдот; «Дубровский» — анекдот; «Пиковая дама» — анекдот; «Выстрел» — анекдот и т. д.). Но общий очерк сюжета сам по себе еще не придает высокого поэтического достоинства роману или повести — надобно уметь воспользоваться сюжетом; потому, оставляя без рассмотрения «самостоятельность» сюжета, обратим внимание на то, выше или ниже действительных событий «поэтичность» поэтических произведений со стороны сюжета, как он представляется в них вполне развитым. Как пособия для получения окончательного вывода, выставим несколько вопросов, из которых большая часть разрешаются сами собою: 1) Бывают ли в действительности поэтические события, совершаются ли в действительности драмы, романы, комедии, трагедии, водевили? — Ежеминутно. 2) Истинно ли поэтичны эти события в своем развитии и развязке? Имеют ли они в действительности художественную полноту и законченность? — Как случится; часто не имеют, но очень часто имеют. Есть очень много таких событий, в которых строго поэтическое воззрение не находит никаких недостатков в художественном отношении. Этот пункт решается чтением первой хорошо написанной исторической книги, первым вечером, проведенным в беседе с человеком, много на своем веку видавшим; разрешается, наконец, первыми взятыми в руки нумерами какой-нибудь французской или английской судебной газеты.
3) Есть ли между этими законченными поэтическими событиями такие, которые могли бы без всякого изменения быть переданы под заглавием: *д^ама», «трагёдия», «роман» и т. п.? — Очень много; правда, что многие из действительных событий неправдоподобны, основаны на слишком редких, исключительных положениях или сцеплениях обстоятельств и потому в настоящем своем виде имеют вид сказки или натянутой выдумки (из этого можно видеть, что действительная жизнь часто бывает слишком драматична для драмы, слишком поэтична для поэзии); но очень много есть событий, в которых, при всей их замечательности, нет ничего эксцентрического, невероятного, все сцепление происшествий, весь ход и развязка того, что в поэзии называется интригою, просты, естественны. 4) Имеют ли действительные события «общую» сторону, которая необходима в поэтическом произведении? — Конечно, ее имеет всякое событие, достойное внимания мыслящего человека; а таких событий очень много.
После всего этого трудно не сказать, что в действительности есть много событий, которые надобно только знать, понять и уметь рассказать, чтоб они в чисто прозаическом рассказе историка, писателя мемуаров или собирателя анекдотов отличались от настоящих «поэтических произведений» только меньшим объемом, меньшим развитием сцен, описаний и тому подобных подробностей. И в этом находим мы существенное различие поэтических произведений от точного, прозаического пересказывания действительных происшествий. Большая полнота подробностей, или то, что в плохих произведениях приобретает имя «реторического распространения», — вот к чему в сущности приводится все превосходство поэзии над точным рассказом. Мы не менее других готовы смеяться над. реторикою; но, признавая законными все потребности человеческого сердца, как скоро замечаем их всеобщность, мы признаем важность этих поэтических распространений, потому что всегда и везде видим стремление к ним в поэзии: в жизни всегда есть эти подробности, не нужные для сущности дела, но необходимые для его действительного развития; должны они быть и в поэзии. Разница только в том, что в действительности подробности никогда не могут быть умышленным механическим растягиванием дела, а в поэтических произведениях они на самом деле очень часто отзываются реторикою, механическим растягиванием рассказа. За что же и превозносят Шекспира, если не за то, что в решительных, лучших сценах он отбрасывает в сторону эти распространения? Но сколько найдется их у него самого, у Гёте и у Шиллера! Нам кажется (может быть, это — пристрастие к своему — родному), что русская поэзия носит в себе зародыши отвращения к растягиванию сюжета механически подбирающимися подробностями. В повестях и рассказах Пушкина, Лермонтова, Гоголя общее свойство — краткость и быстрота рассказа. Итак, вообще, по сюжету, по типичности и полноте обрисовки лиц поэтические произведения далеко уступают действительности; но есть две стороны, которыми они могут
стоять выше действительности: это украшения и сочетание лиц с теми событиями, в которых они участвуют.
Мы говорили, что живопись чаще, нежели действительность, окружает группу обстановкою, соответствующею существенному характеру сцены; точно так же и поэзия чаще, нежели действительность, двигателями и участниками событий выставляет людей, которых существенный характер совершенно соответствует духу событий. В действительности очень часто мелкие по характеру люди являются двигателями трагических, драматических и т. д. событий; ничтожный повеса, в сущности даже вовсе не дурной человек, может наделать много ужасных дел; человек, которого нисколько нельзя назвать дурным, может погубить счастие многих людей и наделать несчастий гораздо более, нежели Яго или Мефистофель. В произведениях поэзии, напротив того, очень дурные дела делают и люди очень дурные; хорошие дела делают и люди особенно хорошие. В жизни часто не знаешь, кого винить, кого хвалить; в поэтических произведениях обыкновенно положительным образом раздается честь и бесчестье. Но преимущество это или недостаток? — Бывает иногда то, иногда другое; чаще бывает это недостатком. Не говорим пока о том, что следствием подобного обыкновения бывает идеализация в хорошую и в дурную сторону, или, просто говоря, преувеличение; потому что мы не говорили еще о значении искусства, и рано еще решать, недостаток или достоинство эта идеализация; скажем только, что вследствие постоянного приспособления характера людей к значению событий является в поэзии монотонность, однообразны делаются лица и даже самые события; потому что от разности в характерах действующих лиц и самые происшествия, существенно сходные, приобретали бы различный оттенок, как это бывает в жизни, вечно разнообразной, вечно новой, между тем как в поэтических произведениях очень часто приходится читать повторения. В наше время принято смеяться над украшениями, не проистекающими из сущности предмета и ненужными для достижения главной цели; но до сих пор еще удачное выражение, блестящая метафора, тысячи прикрас, придумываемых для того, чтобы сообщить внешний блеск сочинению, имеют чрезвычайно большое влияние на суждение о произведениях поэзии. Что касается украшений, внешнего великолепия, замысловатости и т. д., мы всегда признаём возможность превзойти в вымышленном ірассказе действительность. Но стоит только указать это мнимое достоинство повести или драмы, чтобы уронить ее в глазах людей со вкусом и низвести из области «искусства» в область «искусственности».
Наш разбор показал, что произведение искусства может иметь преимущество пред действительностью разве только в двух-трех ничтожных отношениях и по необходимости остается далеко ниже ее в существенных своих качествах. Разбор этот можно упрекнуть в том, что он ограничивался самыми общими точками зрения, не сходил в подробности, не ссылался на примеры. Действительно, его краткость кажется недостатком, когда вспомним о том, до какой степени укоренилось мнение, будто бы красота произведений искусства выше красоты действительных предметов, событий и людей; но когда посмотришь на шаткость этого мнения, когда вспомнишь, как люди, его выставляющие, противоречат сами себе на каждом шагу, то покажется, что было бы довольно, изложив мнение о превосходстве искусства над действительностью, ограничиться прибавлением слов: это несправедливо, всякий чувствует, что красота действительной жизни выше красоты созданий «творческой» фантазии. Если так, то на чем же основывается, или, лучше сказать, из каких субъективных причин проистекает преувеличенно высокое мнение о достоинстве произведений искусства?
Первый источник этого мнения — естественная наклонность человека чрезвычайно высоко ценить трудность дела и редкость вещи. Никто не ценит чистоты выговора француза, говорящего но-французски, немца, говорящего по-немецки, — «это ему не стоило никаких трудов, и это вовсе не редкость»; но если француз говорит сносно по-немецки или немец по-французски, — это составляет предмет нашего удивления и дает такому человеку право на некоторое уважение с нашей стороны. Почему? Потому, во-первых, что это редко; потому, во-вторых, что это достигнуто целыми годами усилий. Собственно говоря, почти каждый француз превосходно говорит по-французски, — но как мы взыскательны в этом случае! — малейший, почти незаметный оттенок провинциализма в его выговоре, одна не совсем изящная фраза — и мы объявляем, что «этот господин говорит очень дурно на своем родном языке». Русский, говоря по-французски, в каждом звуке изобличает, что для органов его неуловима полная чистота французского выговора, беспрестанно изобличает свое иностранное происхождение' в выборе слов, в построении фразы, во всем складе речи, — и мы прощаем ему все эти недостатки, мы даже не замечаем их, и объявляем, что он превосходно, несравненно говорит по-французски, наконец, мы объявляем, что «этот русский говорит по-французски лучше самих французов», хотя в сущности мы и не думаем сравнивать его с настоящими французами, сравнивая его только с другими русскими, также усиливающимися говорить по-французски, — он действительно говорит несравненно лучше их, но несравненно хуже французов, — это подразумевается каждым, имеющим понятие о деле; но многих гиперболическая фраза может вводить в заблуждение. Точно то же и с приговором эстетики о созданиях природы и искусства: малейший, истинный или мнимый, недостаток в произведении природы — и эстетика толкует об этом недостатке, шокируется им, готова забывать о всех достоинствах, о всех красотах: стоит ли ценить их, в самом деле, когда они ячилрль без всякого усилия) Тот же самый недостаток
произведении искусства во сто раз больше, грубее и окружен сше сотнями других недостатков, — и мы не видим всего этого, а если видим, то прощаем и восклицаем: «И на солнце есть пятна!» Собственно говоря, произведения искусства могут быть сравниваемы только друг с другом при определении относительного их достоинства; некоторые из них оказываются выше всех остальных; й в восторге от их красоты (только относительной) мы восклицаем: «Они прекраснее самой природы и жизни! Красота действительности — ничто пред красотою искусства!» Но восторг пристрастен; он дает больше, нежели может дать справедливость: мы ценим трудность — это прекрасно; но не должно забывать и существенного, внутреннего достоинства, которое независимо от степени трудности; мы делаемся решительно несправедливыми, когда трудность исполнения предпочитаем достоинству исполнения. Природа и жизнь производят прекрасное, не заботясь о красоте, она является в действительности без усилия и, следовательно, без заслуги в наших глазах, без права на сочувствие, без права на снисхождение; да и к чему снисхождение, когда прекрасного в действительности так много! «Все не в совершенстве прекрасное в действительности — дурно; все сколько-нибудь сносное в искусстве — превосходно» — вот правило, на основании которого мы судим. Чтобы доказать, как высоко, ценится трудность исполнения и как много теряет в глазах человека то, что делается само собою, без всяких усилий с нашей стороны, укажем на дагерротипные портреты; в числе их найдется очень много не только верных, но и передающих в совершенстве выражение лица, — ценим ли мы их? Странно даже услышать апологию дагерротипных портретов. Другой пример: как высоко уважалась каллиграфия! Между тем довольно, посредственно напечатанная книга несравненно прекраснее всякой рукописи; но кто же восхищается искусством типографского фактора, и кто не будет в тысячу раз больше любоваться на прекрасную рукопись, нежели на порядочно напечатанную книгу, которая в тысячу раз прекраснее рукописи? Что легко, то мало интересует нас, хотя бы по внутреннему достоинству было несравненно выше трудного. Само собою разумеется, что даже и с этой точки зрения мы правы только субъективно: «действительность производит прекрасное без усилий» — значит только, что усилия в этом случае делаются не волею человека; на самом же деле все в действительности — н прекрасное, и непрекрасное, и великое и мелкое — результат высочайшего возможного напряжения сил, не знающих ни отдыха, ни усталости. Но что нам за дело до усилий и борьбы, которые совершаются не нашими силами, в которых не участвует наше сознание? Мы не хотим и знать о них; мы ценим только человеческую силу, ценим только человека. И вот другой источник нашей пристрастной любви к произведениям искусства: они — произведения человека: потому мы гордимся
ими, считая их чем-то не чуждым нам; они свидетельствуют об уме человека, о его силе и потому дороги для нас. Все народы кроме французов, очень хорошо видят, что между Корнелем ила Расином и Шекспиром неизмеримое расстояние; но французы до сих пор еще сравнивают их — трудно дойти до сознания: «наше не совсем хорошо»; между нами найдется очень много людей, готовых утверждать, что Пушкин — всемирный поэт; есть даже люди, думающие, что он выше Байрона: так высоко человек ставит свое. Как. отдельный народ преувеличивает достоинство своих поэтов, так человек вообще преувеличивает достоинство поэзии вообще.
Причины пристрастия к искусству, нами приведенные, заслуживают уважения, потому что они естественны: как человеку не уважать человеческого труда, как человеку не любить человека, не дорожить произведениями, свидетельствующими об уме и силе человека? Но едва ли заслуживает такого уважения третья причина предпочтительной любви нашей к искусству. Искусство льстит нашему искусственному вкусу. Мы очень хорошо понимаем, как искусственны были нравы, привычки, весь образ мыслей времен Людовика XIV; мы приблизились к природе, гораздо лучше понимаем и ценим ее, нежели понимало и ценило общество XVII века; тем не менее мы еще очень далеки от природы; наши привычки, нравы, весь образ жизни и вследствие того весь образ мыслей еще очень искусственны. Трудно видеть недостатки своего века, особенно когда эти недостатки стали слабее, нежели были в прежнее время; вместо того чтобы замечать, как много еще в нас изысканной искусственности, мы замечаем только, что XIX век стоит в этом отношении выше XVII, лучше его понимая природу, и забываем, что ослабевшая болезнь не есть еще полное здоровье. Наша искусственность видна во всем, начиная с одежды, над которою так много все смеются и которую все продолжают носить, до нашего кушанья, приправляемого всевозможными примесями, совершенно изменяющими естественный вкус блюд; от изысканности нашего разговорного языка до изысканности нашего литературного языка, который продолжает украшаться антитезами, остротами, распространениями из loci topici, глубокомысленными рассуждениями на избитые темы и глубокомысленными замечаниями о человеческом сердце, на манер Корнеля и Расина в беллетристике и на манер Иоанна Миллера в исторических сочинениях. Произведения искусства льстят всем мелочным нашим требованиям, происходящим от любви к искусственности. Не говорим о том, что мы до сих пор еще любим «умывать» природу, как любили наряжать ее в XVII веке, — это завлекло бы нас в длинные суждения о том, что такое «грязное» и до какой степени оно должно являться в произведениях искусства. Но до сих пор в произведениях искусства господствует мелочная отделка подробностей, цель
которой не приведение подробностей в гармонию с духом целого, а только то, чтобы сделать каждую из‘них в отдельности интереснее или красивее, почти всегда во вред общему впечатлению произведения, его правдоподобию и естественности; господствует мелочная погоня за эффектностью отдельных слов, отдельных фраз и целых эпизодов, расцвечивание не совсем натуральными, но резкими красками лиц и событий. Произведение искусства мелочнее того, что мы видим в жизни и в природе, и вместе с тем эффектнее, — как же не утвердиться мнению, что оно прекраснее действительной природы и жизни, в которых так мало искусственности, которым чуждо стремление заинтересовать?
Природа и жизнь выше искусства; но искусство старается угодить нашим наклонностям, а действительность не может быть подчинена стремлению нашему видеть все в том цвете и в том порядке, какой нравится нам или соответствует нашим понятиям, часто односторонним. Из многих случаев этого угождения господствующему образу мыслей укажем на один: многие требуют, чтобы в сатирических произведениях были лица, «на которых могло бы с любовью отдохнуть сердце читателя», — требование очень естественное; но действительность очень часто не удовлетворяет ему, представляя множество событий, в которых нет ни одного отрадного лица; искусство почти всегда угождает ему; и не знаем, найдется ли, например, в русской литературе, кроме Гоголя, писатель, который бы не’ подчинялся этому требованию; и у самого Гоголя за недостаток «отрадных» лиц вознаграждают «высоколирические» отступления. Другой пример: человек наклонен к сантиментальности; природа и жизнь не разделяют этого направления; но произведения искусства почти всегда более или менее удовлетворяют ему. То и другое требование — следствие ограниченности человека; природа и действительная жизнь выше этой ограниченности; произведения искусства, подчиняясь ей, становясь этим ниже действительности и даже очень часто подвергаясь опасности впадать в пошлость или в слабость, приближаются к обыкновенным потребностям человека и через это выигрывают в его глазах. «Но в таком случае вы сами соглашаетесь, что произведения искусства лучше, полнее, нежели объективная действительность, удовлетворяют природе человека; следовательно, для человека они лучше произведений действительности». — Заключение, не совсем точно выраженное; дело в том, что искусственно развитой человек имеет много искусственных, исказившихся до лживости, до фантастичности требований, которых нельзя вполне удовлетворить, потому что они в сущности не требования природы, а мечты испорченного воображения, которым почти невозможно и угождать, не подвергаясь насмешке и презрению от самого того человека, которому стараемся угодить, потому что он сам инстинктивно чувствует, что его требование не стоит удовлетворения. Так, публика и вслед за нею эстетика требуют «отрад-иых» лиц, сантиментальности, — и та же самая публика смеется над произведениями искусства, удовлетворяющими этим желаниям. Угождать прихотям человека не значит еще удовлетворять потребностям человека. Первейшая из этих потребностей — истина.
Мы говорили об источниках предпочтения произведений искусства явлениям природы и жизни относительно содержания и выполнения, но очень важно и впечатление, производимое на нас искусством или действительностью: степенью его также измеряется достоинство вещи.
Мы видели, что впечатление, производимое созданиями искусства, должно быть гораздо слабее впечатления, производимого живою действительностью, и не считаем нужным доказывать это. Однако же в этом отношении произведение искусства находится в гораздо благоприятнейших обстоятельствах, нежели явления действительности; и эти обстоятельства могут заставить человека, не привыкшего анализировать причины своих ощущений, предполагать, что искусство само по себе производит на человека более действия, нежели живая действительность. Действительность представляется нашим глазам независимо от нашей воли, большею частью не во-время, некстати. Очень часто мы отправляемся в общество, на гулянье вовсе не за тем, чтобы любоваться человеческою красотою, не за тем, чтобы наблюдать характеры, следить за драмою жизни; отправляемся с заботами в голове, с замкнутым для впечатлений сердцем. Но кто же отправляется в картинную галлерею не за тем, чтобы наслаждаться красотою картин? Кто принимается читать роман не за тем, чтобы вникать в характеры изображенных там людей и следить за развитием сюжета? На красоту, на величие действительности мы обыкновенно обращаем внимание почти насильно. Пусть она сама, если может, привлечет на себя наши глаза, обращенные совершенно на другие предметы, пусть она насильно проникнет в наше сердце, занятое совершенно другим. Мы обращаемся с действительностью как с докучливым гостем, напрашивающимся на наше знакомство: мы стараемся запереться от нее. Но есть часы, когда пусто остается в нашем сердце от нашего же собственного невнимания к действительности, — и тогда мы обращаемся к искусству, умоляя его наполнить эту пустоту; мы сами играем пред ним роль заискивающего просителя. На жизненном пути нашем разбросаны золотые монеты; но мы не замечаем их, потому что думаем о цели пути, не обращаем внимания на дорогу, лежащую под нашими ногами; заметив, мы не можем нагнуться, чтобы собрать их, потому что «телега жизни» неудержимо уносит нас вперед, *— вот наше отношение к действительности; но мы приехали на станцию и прохаживаемся в скучном ожидании лошадей — тут мы со вниманием рассматриваем каждую жестяную бляху, которая, быть может, не стоит и внимания, — вот наше отношение к искусству.
\-]е говорим уже о том, что явления жизни каждому приходится оценивать самому, потому что для каждого отдельного человека л изнь представляет особенные явления, которых не видят другие, над которыми поэтому не произносит приговора целое общество, а произведения искусства оценены общим судом. Красота и величие действительной жизни редко являются нам патентованными, а про что не трубит молва, то немногие в состоянии заметить и оценить; явления действительности — золотой слиток без клейма: очень многие откажутся уже по этому одному взять его, (чснь многие не отличат от куска меди; произведение искусства — банковый билет, в котором очень мало внутренней ценности, но за условную ценность которого ручается все общество, которым поэтому дорожит всякий и относительно которого немногие даже сознают ясно, что вся его ценность заимствована только от того, что он представитель золотого куска. Когда мы смотрим на действительность, она сама занимает нас собою, как нечто совершенно самостоятельное, и редко оставляет нам возможность переноситься мыслями в наш субъективный мир, в наше прошедшее. Но когда я смотрю на произведение искусства — тут полный простор моим субъективным воспоминаниям, и произведение искусства для меня обыкновенно бывает только поводом к сознательным или бессознательным мечтам и воспоминаниям. Трагическая сцена совершается передо мною в действительности — тогда мне не до того, чтобы вспоминать о себе; но я читаю в романе эпизод о погибели человека — ив моей памяти ясно или смутно воскресают все опасности, в которых я был сам, все случаи погибели близких ко мне людей. Сила искусства есть обыкновенно сила воспоминания. Уж и по самой своей незаконченности, неопределенности, именно по тому самому, что обыкновенно оно только «общее место», а не живой индивидуальный образ или событие, произведение искусства особенно способно вызывать наши воспоминания. Дайте мне законченный портрет человека — он не напомнит мне ни одного из моих знакомых, и я холодно отвернусь, сказав: «недурно», но покажите мне в благоприятную минуту едва набросанный, неопределенный абрис, в котором ни один человек не узнает себя положительным образом, — и этот жалкий, слабый абрис напомнит мне черты кого-нибудь милого мне; и, холодно смотря на живое лицо, полное красоты и выразительности, я в упоении буду смотреть на ничтожный эскиз, говорящий мне обо мне самом.
Сила искусства есть сила общих мест. Есть еще в произведениях искусства сторона, по которой они в неопытных или недальновидных глазах выше явлений жизни и действительности, — в них все выставлено напоказ, объяснено самим автором, между тем как природу и жизнь надобно разгадывать собственными силами. Сила искусства — сила комментария; но об этом должны будем говорить мы ни*«*
Много нашли мы причин предпочтения, отдаваемого искусству перед действительностью; но все они только объясняют, а не оправдывают это предпочтение. Не соглашаясь, чтобы искусство стояло не только выше действительности, но и наравне с нею по внутреннему достоинству содержания или исполнения, мы, конечно, не можем согласиться с господствующим ныне взглядом на то, из каких потребностей возникает оно, в чем цель его существования, его назначение. Господствующее мнение о происхождении и значении искусства выражается так: «Имея непреодолимое стремление к прекрасному, человек не находит истиннопрекрасного в объективной действительности; этим он поставлен в необходимость сам создавать предметы или произведения, которые соответствовали бы его требованию, предметы' и явления истинно-прекрасные». Иначе сказать: «Идея прекрасного, не осуществляемая действительностью, осуществляется произведениям^ искусства». Мы должны анализировать это определение, чтобы открыть истинное значение неполных и односторонних намеков, в нем заключающихся. «Человек имеет стремление к прекрасному». Но если под прекрасным понимать то, что понимается в этом определении, — полное согласие идеи и формы, то из стремления к прекрасному надобно выводить не искусство в частности, а вообще всю деятельность человека, основное начало которой — полное осуществление известной мысли; стремление к единству идеи и образа — формальное начало всякой техники, стремление к созданию и усовершенствованию всякого произведения или изделия; выводя из стремления к прекрасному искусство, мы смешиваем два значения этого слова: 1) изящное искусство (поэзия, музыка и т. д.) и 2) уменье или старанье хорошо сделать что-нибудь; только последнее выводится из стремления к единству идеи и формы. Если же под прекрасным должно понимать (как нам кажется) то, в чем человек видиѵ жизнь, — очевидно, что из стремления к нему происходит радостная любовь ко всему живому и что это стремление в высочайшей степени удовлетворяется живою действительностью. «Человек не встречает в действительности истинно и вполне прекрасного». Мы старались доказать, что это несправедливо, что деятельность нашей фантазии возбуждается не недостатками прекрасного в действительности, а его отсутствием; что действительное прекрасное вполне прекрасно, но, к сожалению нашему, не всегда бывает перед нашими глазами. Если бы произведения искусства возникали вследствие нашего стремления к совершенству и пренебрежения всем несовершенным, человек должен был бы давно покинуть, как бесплодное усилие, всякое стремление к искусству, потому что в произведениях искусства нет совершенства; кто недоволен действительною красотою, тот еще меньше может удовлетвориться красотою, создаваемою искусством. Итак, невозможно согласиться с обыкновенным объяснением значения искусства; но в этом объяснении есть
тмски. которые могут быть названы справедливыми, если будут 'втолкованы надлежащим образом. «Человек не удовлетворяется ірекрасным в действительности, ему мало этого прекрасного»— ')Т в чем сущность и правдивость обыкновенного объяснения, к,іТорое, будучи ложно понимаемо, само нуждается в объяснении.
Море прекрасно; смотря на него, мы не думаем быть им нелояльны в эстетическом отношении; но не все люди живут близ и;0ря; многим не удается ни разу в жизни взглянуть на него; а пм хотелось бы полюбоваться на море — и для них являются картины, изображающие море. Конечно, гораздо лучше смотреть па самое море, нежели на его изображение; но, за недостатком лучшего, человек довольствуется и худшим, за недостатком > пещи — ее суррогатом. И тем людям, которые могут любоваться морем в действительности, не всегда, когда хочется, можно смотреть на море, — они вспоминают о нем; но фантазия слаба, ей нужна поддержка, напоминание — и, чтобы оживить свои воспоминания о море, чтобы яснее представлять его в своем воображении, они смотрят на картину, изображающую море. Вот единственная цель и значение очень многих (большей части) произведений искусства:/дать возможность, хотя в некоторой степени, познакомиться с прекрасным в действительности тем людям, которые не имели возможности наслаждаться им на самом деле; служить- напоминанием, возбуждать и оживлять воспоминание о прекрасном в действительности у тех людей, которые знают его из опыта и любят вспоминать о нем. (Оставляем пока выражение: «прекрасное есть существенное содержание искусства»; впоследствии мы подстановим вместо термина «прекрасное» другой, которым содержание искусства определяется, по нашему мнению, точнее и полнее.) Итак, первое значение искусства, принадлежащее всем без исключения произведениям его, — воспроизведение природы и жизни. Отношение их к соответствующим сторонам и явлениям действительности таково же, как отношение гравюры к той картине, с которой она снята, как отношение портрета к лицу, им представляемому. Гравюра снимается с картины не потому, чтобы картина была нехороша, а именно потому, что картина очень хороша; так действительность воспроизводится искусством не для сглаживания недостатков ее, не потому, что сама по себе действительность не довольно хороша, а потому именно, что она хороша. Гравюра не думает быть лучше картины, она; гораздо хуже ее в художественном отношении; так и произведение искусства никогда не достигает красоты или величия действи-і тельности; но картина одна, ею могут любоваться только люди, пришедшие в галлерею, которую она украшает; гравюра расходится в сотнях экземпляров по всему свету, каждый может любоваться ею, когда ему угодно, не выходя из своей комнаты, не вставая с своего дивана, не скидая своего халата; так и предмет прекрасный в действительности доступен не всякому и не всегда;
воспроизведенный (слабо, грубо, бледно — это правда, но все-таки воспроизведенный) искусством, он доступен всякому и всегда. Портрет снимается с человека, который нам дорог и мил, не для того, чтобы сгладить недостатки его лица (что нам за дело до этих недостатков? они для нас незаметны или милы), но для того, чтобы доставить нам возможность любоваться на это лицо даже и твгда, когда на самом деле оно не перед нашими глазами; такова же цель и значение произведений искусства; они не поправляют действительности, не украшают ее, а воспроизводят, служат ей суррогатом.
Итак, первая цель искусства — воспроизведение действительности. Нисколько не думая, чтобы этими словами было высказано нечто совершенно новое в истории эстетических воззрений, мы, однако же, полагаем, что псевдоклассическая «теория подражания природе», господствовавшая в XVII–XVIII веках, требовала от искусства не того, в чем поставляется формальное начало его определением, заключающимся в словах: «искусство есть воспроизведение действительности». Чтобы за существенное различие нашего воззрения на искусство от понятий, которые имела о нем теория подражания природе, ручались не наши только собственные слова, приведем здесь критику этой теории, заимствованную из лучшего курса господствующей ныне эстетической системы 22. Критика эта, с одной стороны, покажет различие опровергаемых ею понятий от нашего воззрения, с другой стороны, обнаружит, чего недостает в нашем первом определении искусства, как деятельности воспроизводящей, и таким образом послужит переходом к точнейшему развитию понятий об искусстве.
«В определении искусства как подражания природе показывается только его формальная цель; оно должно, по такому определению, стараться по возможности повторять то, что уже существует во внешнем мире. Такое повторение должно быть признано излишним, так как природа и жизнь уже представляют нам то, что по этому понятию должно представить искусство. Этого мало; подражать природе — тщетное усилие, далеко не достигающее своей цели потому, что, подражая природе, искусство, по ограниченности своих средств, дает только обман вместо истины и вместо действительно живого существа только мертвую маску» м.
Здесь прежде всего заметим, что словами: «искусство есть воспроизведение действительности», как и фразою: «искусство есть подражание природе», определяется только формальное начало искусства; для определения содержания искусства первый вывод, нами сделанный относительно его цели, должен быть дополнен, и мы займемся этим дополнением впоследствии. Другое возражение нисколько не прилагается к воззрению, нами высказанному: из предыдущего развития видно, что воспроизведение или «повторение» предметов и явлений природы искусством — дело вовсе не излишнее, напротив — необходимое. Переходя к замечанию, что это повторение — тщетное усилие, далеко не достигающее своей
цели, надобно сказать, что подобное возражение имеет силу только в том случае, когда предполагается, будто бВі искусство хочет соперничать с действительностью, а не просто быть ее суррогатом. Но мы именно то и утверждаем, что искусство не может выдержать сравнения с живою действительностью и вовсе не имеет той жизненности, как реальная действительность; это мы признаем несомненным.
Итак, справедливо, что фраза: «искусство есть воспроизведение действительности», должна быть дополнена для того, чтобы быть всесторонним определением; не исчерпывая в этом виде все содержание определяемого понятия, определение, однако, верно, и возражения против него пока могут быть основаны только на затаенном требовании, чтобы искусство являлось по своему определению выше, совершеннее действительности; объективную неосновательность этого предположения мы старались доказать и потом обнаружили его субъективные основания. Посмотрим, прилагаются ли к нашему воззрению дальнейшие возражения против теории подражания.
«При невозможности полного успеха в подражании природе оставалось бы только самодовольное наслаждение относительным успехом этого фокус-покуса; но и это наслаждение становится тем холоднее, чем больше бывает наружное сходство копии с оригиналом, и даже обращается в пресыщение или отвращение. Есть портреты, похожие на оригинал, как говорится, до отвратительности. Нам тотчас же становится скучным я отвратительным превосходнейшее подражание пению соловья, как скоро мы узнаем, что это не в самом деле пение соловья, а подражание ему какого-нибудь искусника, выделывающего соловьиные трели; потому что от человека мы вправе требовать не такой музыки. Подобные фокусы искуснейшего подражания природе можно сравнить с искусством того фокусника, который без промаха бросал чечевичные зерна сквозь отверстия величиною также не более чечевичного зерна и которого Александр Великий наградил медимном чечевицы» 2 |.
Эти замечания совершенно справедливы; но относятся к бесполезному и бессмысленному копированию содержания, недостойного внимания, или к рисованью пустой внешности, обнаженной от содержания. (Сколько превозносимых произведений искусства подпадают этой горькой, но заслуженной насмешке!) Содержание, достойное внимания мыслящего человека, одно только в состоянии избавить искусство от упрека, будто бы оно — пустая забава, чем оно и действительно бывает чрезвычайно часто; художественная форма не спасет от презрения или сострадательной улыбки произведение искусства, если оно важностью своей идеи не в состоянии дать ответа на вопрос: «да стоило ли трудиться над подобными пустяками?» Бесполезное не имеет права на уважение. «Человек сам себе цель»; но дела человека должны иметь цель в потребностях человека, а не в самих себе. Потому-то бесполезное подражание и возбуждает тем большее отвращение, чем совершеннее внешнее сходство: «Зачем потрачено столько времени и труда? — думаем мы, глядя на него: —И так жаль, чт? такая
несостоятельность относительно содержания может совмещаться с таким совершенством в технике!» Скука и отвращение, возбуждаемые фокусником, подражающим соловьиному пению, объясняются самыми замечаниями, сопровождающими в критике указание на него: жалок человек, который не понимает, что должен петь человеческую песнь, а не выделывать бессмысленные трели. Что касается портретов, сходных до отвратительности, это надобно понимать так: всякая копия, для того, чтобы быть верною, должна передавать существенные черты подлинника; портрет, не передающий главных, выразительнейших черт лица, неверен; а когда мелочные подробности лица переданы при этом отчетливо, лицо на портрете выходит обезображенным, бессмысленным, мертвым — как же ему не быть отвратительным? Часто восстают против так называемого «дагерротипного копированья» действительности, — не лучше ли было бы говорить только, что копировка, так же как и всякое человеческое дело, требует понимания, способности отличать существенные черты от несущественных? «Мертвая копировка» — вот обыкновенная фраза; но человек не может скопировать верно, если мертвенность механизма не направляется живым смыслом: нельзя сделать даже верного facsimile, не понимая значения копируемых букв.
Прежде, нежели перейдем к определению существенного содержания искусства, чем дополнится принимаемое нами определение его формального начала, считаем нужным высказать несколько ближайших указаний об отношении теории «воспроизведения» к теории так называемого «подражания». Воззрение на искусство, нами принимаемое, проистекает из воззрений, принимаемых новейшими немецкими эстетиками, и возникает из них чрез диалектический процесс, направление которого определяется общими идеями современной науки. Итак, непосредственным образом оно связано с двумя системами идей — начала нынешнего века, с одной стороны, последних девятилетий — с другой 25. Всякое другое соотношение — только простое сходство, не имеющее генетического влияния. Но если понятия древних и старинных мыслителей не могут при настоящем развитии науки иметь влияния на современный образ мыслей, то нельзя не видеть, что во многих случаях современные понятия оказываются сходны с понятиями предшествующих веков. Особенно часто сходятся они с понятиями греческих мыслителей. Таково положение дела и в настоящем случае. Определение формального начала искусства, нами принимаемое, сходно с воззрением, господствовавшим в греческом мире, находимым у Платона, Аристотеля, и, по всей вероятности, высказанным у Демокрита. Их соответствует нашему тер
мину «воспроизведение» 26. И если позднее понимали это слово как «подражание» (Nachahmung), то перевод не был удачен, стесняя круг понятия и пробуждая мысль о подделке под внешнюю форму, а ые о передаче внутреннего содержания. Псевдоклассическая теория действительно понимала искусство как подделку под действительность с целью обмануть чувства, во это — злоупотребление, принадлежащее только эпохам испорченного вкуса.
Теперь мы должны дополнить выставленное нами выше определение искусства и от рассмотрения формального начала искусства перейти к определению его содержания.
Обыкновенно говорят, что содержание искусства есть прекрас-' ное; но этим слишком стесняется сфера искусства. Если даже согласиться, что возвышенное и комическое — моменты прекрасного, то множество произведений искусства не подойдут по содержанию под эти три рубрики: прекрасное, возвышенное, комическое. В живописи не подходят под эти подразделения картины домашней жизни, в которых нет ни одного прекрасного или смешного лица, изображения старика или старухи, не отличающихся особенною старческою красотою, и т. д. В музыке еще труднее провести обыкновенные подразделения; если отнесем марши, патетические пьесы и т. д. к отделу величественного; если пьесы, дышащие любовью или веселостью, причислим к отделу прекрасного; если отыщем много комических песен, то у нас еще останется огромное количество пьес, которые по своему содержанию не могут быть без натяжки причислены ни к одному из этих родов: куда отнести грустные мотивы? неужели к возвышенному, как страдание? или к прекрасному, как нежные мечты? Но из всех искусств наиболее противится подведению своего содержания под тесные рубрики прекрасного и его моментов поэзия. Область ее — вся область жизни и природы; точки зрения поэта на жизнь в разнообразных ее проявлениях так же разнообразны, как понятия мыслителя об этих разнохарактерных явлениях; а мыслитель находит в действительности очень многое, кроме прекрасного, возвышенного и комического. Не всякое горе доходит до трагизма; не всякая радость грациозна или комична. Что содержание поэзии не исчерпывается тремя известными элементами, внешним образом видим из того, что ее произведения перестали вмещаться в рамки старых подразделений. Что драматическая поэзия' изображает не одно трагическое или комическое, доказывается тем, что, кроме комедии и трагедии, должна была явиться драма. Вместо эпоса, по преимуществу возвышенного, явился роман с бесчисленными своими родами. Для большей части нынешних лирических пьес не отыскивается в старых подразделениях заглавия, которое могло бы обозначить характер содержания; недостаточны сотни рубрик, тем менее можно сомневаться, что не могут всего обнять три рубрики (мы говорим о характере содержания, а не форме, которая всегда должна быть прекрасна).
Проще всего решить эту запутанность, сказав, что сфера искусства не ограничивается одним прекрасным и его так называемыми моментами, а обнимает собою все, что в действительности (в природе и в жизни) интересует человека — не как ученого, а
просто как человека; общеинтересное в жизни — вот содержание искусства 27. Прекрасное, трагическое, комическое — только три наиболее определенных элемента из тысячи элементов, от которых зависит интерес жизни и перечислить которые значило бы перечислить все чувства, все стремления, от которых может волноваться сердце человека. Едва ли надобно вдаваться в более подробные доказательства принимаемого нами понятия о содержании искусства; потому что если в эстетике предлагается обыкновенно другое, более тесное определение содержания, то взгля_д, нами принимаемый, господствует на самом деле, т. е. в самих художниках и поэтах, постоянно высказывается в литературе и в жизни. Если считают необходимостью определять прекрасное как преимущественное и, выражаясь точнее, как единственное существенное содержание искусства, то истинная причина этого скрывается в неясном различении прекрасного как объекта искусства от прекрасной формы, которая действительно составляет необходимое качество всякого призведения искусства. Но эта формальная красота или единство идеи и образа, содержания и формы — не специальная особенность, которая отличала бы искусство от других отраслей человеческой деятельности. Дейст-вование человека всегда имеет цель, которая составляет сущность дела; по мере соответствия нашего дела с целью, которую мы хотели осуществить им, ценится достоинство самого дела; по мере совершенства выполнения оценивается всякое человеческое произведение. Это общий закон и для ремесел, и для промышленности, и для научной деятельности и т. д. Он применяется и к произведениям искусства: художник (сознательно или бессознательно, все равно) стремится воспроизвести пред нами известную сторону жизни; само собою разумеется, что достоинство его произведения будет зависеть от того, как он выполнил свое дело. «Произведение искусства стремится к гармонии идеи с образом» ни более, ни менее, как произведение сапожного мастерства, ювелирного ремесла, каллиграфии, инженерного искусства, нравственной решимости. «Всякое дело должно быть хорошо выполнено» — вот смысл фразы: «гармония идеи и образа». Итак, 1) прекрасное как единство идеи и образа вовсе не характеристическая особенность искусства в том смысле, какой придается этому слову эстетикою; 2) «единство идеи и образа» определяет одну формальную сторону искусства, нисколько не относясь к его содержанию; оно говорит о том, как должно быть исполнено, а не о том, что исполняется. Но мы уже заметили, что в этой фразе важно слово «образ», — оно говорит о том, что искусство выражает идею не отвлеченными понятиями, а живым индивидуальным фактом; говоря: «искусство есть воспроизведение природы и жизни», мы говорим то же самое: в природе и жизни нет ничего отвлеченно существующего; в них все конкретно; воспроизведение должно по мере возможности сохранять
сущность воспроизводимого; потому создание искусства должно стремиться к тому, чтобы в нем было как можно менеё отвлеченного, чтобы в нем все было, по мере возможности, выражено конкретно, в живых картинах, в индивидуальных образах. (Совершенно другой вопрос: может ли искусство достичь этого вполне? Живопись, скульптура и музыка достигают; поэзия не всегда может и не всегда должна слишком заботиться о пластичности подробностей: довольно и того, когда вообще, в целом, произведение поэзии пластично; излишние хлопоты о пластической отделке подробностей могут повредитъ единству целого, слишком рельефно очертив его части, и, что еще важнее, будут отвлекать внимание художника от существеннейших сторон его дела.) Красота формы, состоящая в единстве идеи и образа, общая принадлежность не только искусства (в эстетическом смысле слова), но и всякого человеческого дела, совершенно отлична от идеи прекрасного, как объекта искусства, как предмета нашей радостной любви в действительном мире. Смешение красоты формы, как необходимого качества художественного произведения, и прекрасного, как одного из многих объектов искусства, было одною из причин печальных злоупотреблений в искусстве. «Предмет искусства — прекрасное», прекрасное, во что бы то ни стало, другого содержания нет у искусства. Что же прекраснее всего на свете? В человеческой жизни — красота и любовь; в природе — трудно и решить, что именно — так много в ней красоты. Итак, надобно кстати и некстати наполнять поэтические создания описаниями природы: чем больше их, тем больше прекрасного в нашем произведении. Но красота и любовь еще прекраснее — и вот (большею частью совершенно некстати) на первом плане драмы, повести, романа и т. д. является любовь. Неуместные распространения о красотах природы еще не так вредны художественному произведению: их можно выпускать, потому что они приклеиваются внешним образом; но что делать с любовною интригою? ее невозможно опустить из внимания, потому что к этой основе все приплетено гордиевыми узлами, без нее все теряет связь и смысл. Не говорим уже о том, что влюбленная чета, страдающая или торжествующая, придает целым тысячам произведений ужасающую монотонность; не говорим и о том, что эти любовные приключения и. описания красоты отнимают место у существенных подробностей; этого мало: привычка изображать любовь, любовь и вечно любовь заставляет поэтов забывать, что жизнь имеет другие стороны, гораздо более интересующие человека вообще; вся поэзия и вся изображаемая в ней жизнь принимает какой-то сантиментальный, розовый колорит; вместо серьезного изображения человеческой жизни произведения искусства представляют какой-то слишком юный (чтобы удержаться от более точных эпитетов) взгляд на жизнь, и поэт нз-ляется обыкновенно молодым, очень молодым юношею, которого
рассказы интересны только для людей того же нравственного или физиологического возраста. Это, наконец, роняет искусство в глазах людей, уже вышедших из счастливой поры ранней юности; искусство кажется им забавою, приторною для развитых людей и не совсем безопасною для молодежи. Мы вовсе не думаем запрещать поэту описывать любовь; но эстетика должна требовать, чтобы поэт описывал любовь только тогда, когда хочет именно ее описывать: к чему выставлять на первом плане любовь, когда дело идет, собственно говоря, вовсе не о ней, а о других сторонах жизни? К чему, например, любовь на первом плане в романах, Которые собственно изображают быт известного народа в данную эпоху или быт известных классов народа? В истории, в психологии, в этнографических сочинениях также говорится о любви, — но только на своем месте, точно так же как и обо всем. Исторические романы Вальтера Скотта основаны на любовных приключениях — к чему это? Разве любовь была главным занятием общества и главною двигательницею событий в изображаемые им эпохи? «Но романы Вальтера Скотта устарели»; точно так же кстати и некстати наполнены любовью романы Диккенса и романы Жоржа Занда из сельского быта, в которых опять дело идет вовсе не о любви. «Пишите о том, о чем вы хотите писать» — правило, которое редко решаются соблюдать поэты. Любовь кстати и некстати — первый вред, проистекающий для искусства из понятия, что «содержание искусства — прекрасное»; второй, тесно с ним соединенный, — искусственность. В наше время подсмеиваются над Расином и мадам Дезульер; но едва ли современное искусство далеко ушло от них в отношении простоты и естественности пружин действия и безыскусственной натуральности речей; разделение действующих лиц на героев и злодеев до сих пор может быть прилагаемо к произведениям искусства в патетическом роде; как связно, плавно, красноречиво объясняются эти лица! Монологи и разговоры в современных романах немногим ниже монологов классической трагедии: «в художественном произведении все должно быть об
лечено красотою» — и нам даются такие глубоко обдуманные планы действования, каких почти никогда не составляют люди в настоящей жизни; а если выводимое лицо сделает как-нибудь инстинктивный, необдуманный шаг, автор считает необходимым оправдывать его из сущности характера этого лица, а критики остаются недовольны тем, что «действие не мотивировано» — как будто бы оно мотивируется всегда индивидуальным характером, а не обстоятельствами и общими качествами человеческого сердца. «Красота требует законченности характеров» — и вместо лиц живых, разнообразных при всей своей типичности, искусство дает неподвижные статуи. «Красота художественного произведения требует законченности разговоров» — и вместо живого разговора ведутся искусственные беседы, в которых разговаривающие волею
и неволею выказывают свой характер. Следствием всего этого бывает монотонность произведений поэзии: люди все на один лад, события развиваются по известным рецептам, с первых страниц видно, что будет дальше, и не только, что будет, но и как будет. Возвратимся, однако, к вопросу о существенном значении искусства.
Первое и общее значение всех произведений искусства, сказали мы, — воспроизведение интересных для человека явлений действительной жизни. Под действительною жизнью, конечно, понимаются не только отношения человека к предметам и суще-f. гвам объективного мира, но и внутренняя жизнь человека; иногда человек живет мечтами, — тогда мечты имеют для него (до некоторой степени и на некоторое время) значение чего-то объективного; еще чаще человек живет в мире своего чувства; эти состояния, если достигают интересности, также воспроизводятся искусством. Мы упомянули об этом, чтобы показать, как нашим определением обнимается и фантастическое содержание искусства.
Но мы говорили выше, что, кроме воспроизведения, искусство имеет еще другое значение — объяснение жизни; до некоторой степени это доступно всем искусствам; часто достаточно обратить внимание на предмет (что всегда и делает искусство), чтобы объяснить его значение или заставить лучше понять жизнь. В этом смысле искусство ничем не отличается от рассказа о предмете; различие только в том, что искусство вернее достигает своей цели, нежели простой рассказ, тем более ученый рассказ: под формою жизни мы гораздо легче знакомимся с предметом, гораздо скорее начинаем интересоватьоя им, нежели тогда, когда находим сухое указание на предмет. Романы Купера более, нежели этнографические рассказы и рассуждения о важности изучения быта дикарей, познакомили общество с их жизнью. Но если все искусства могут указывать новые интересные предметы, то поэзия всегда по необходимости указывает резким и ясным образом на существенные черты предмета. Живопись воспроизводит предмет со всеми подробностями, скульптура также; поэзия не может обнять слишком много подробностей и, по необходимости выпуская из своих картин-очень многое, сосредоточивает наше внимание на удержанных чертах. В этом видят преимущество поэтических картин перед действительностью; но то же самое делает и каждое отдельное слово со своим предметом: в слове (в понятии) также выпущены все случайные и оставлены одни существенные черты предмета; может быть, для неопытного соображения слово яснее самого предмета; но это уяснение есть только ослабление. Мы не отрицаем относительной пользы компендиумов; но не думаем, чтобы «Русская история» Tanne, очень полезная для детей, была лучше «Истории» Карамзина, из которой извлечена 28. Предмет или событие в поэтическом произведении может быть удобопонятнее, нежели в самой действительности; но мы признаем за ним только достоинство живого и ясного указания на действительность, а не самостоятельное значение, которое могло бы соперни-чествовать с полнотою действительной жизни. Нельзя не прибавить, что всякий прозаический рассказ делает то же самое, что Поэзия. Сосредоточение существенных черт не есть характеристическая особенность поэзии, а общее свойство разумной речи.
Существенное значение искусства — воспроизведение того, чем интересуется человек в действительности. Но, интересуясь явлениями жизни, человек не может, сознательно или бессознательно, не произносить о них своего приговора; поэт или художник, не будучи в состоянии перестать быть человеком вообще, не может, если б и хотел, отказаться от произнесения своего приговора над изображаемыми явлениями; приговор этот выражается в его произведении, — вот новое значение произведений искусства, по которому искусство становится в число нравственных деятельностей человека. Бывают люди, у которых суждение о явлениях жизни состоит почти только в том, что они обнаруживают расположение к известным сторонам действительности и избегают других — это люди, у которых умственная деятельность слаба, когда подобный человек — поэт или художник, его произведения не имеют другого значения, кроме воспроизведения любимых им сторон жизни. Но если человек, в котором умственная деятельность сильно возбуждена вопросами, порождаемыми наблюдением жизни, одарен художническим талантом, то в его произведениях, сознательно или бессознательно, выразится стремление произнести живой приговор о явлениях, интересующих его (и его современников, потому что мыслящий человек не может мыслить над ничтожными вопросами, никому, кроме него, не интересными), будут предложены или. разрешены вопросы, возникающие из жизни для мыслящего человека; его произведения будут, чтобы так выразиться, сочинениями на темы, предлагаемые жизнью. Это направление может находить себе выражение во всех искусствах (напр., в живописи можно указать на карикатуры Гогарта), но преимущественно развивается оно в поэзии, которая представляет полнейшую возможность выразить определенную мысль. Тогда художник становится мыслителем, и произведение искусства, оставаясь в области искусства, приобретает значение научное. Само собою разумеется, что в этом отношении произведения искусства не находят себе ничего соответствующего в действительности, — но только по форме; что касается до содержания, до самых вопросов, предлагающихся или разрешаемых искусством, они все найдутся в действительной жизни, только без преднамеренности, без arrière-pensce. Предположим, что в произведении искусства развивается мысль: «временное уклонение от прямого пути не погубит сильной натуры», или: «одна крайность вызывает другую»; или изображается распадение человека с са-
мим собою; или, если угодно, борьба страстей с высшими стремлениями (мы указываем различные основные идеи, которые видели в «Фаусте»), — разве не представляются в действительней жизни случаи, в которых развивается то же самое положение? Разве из наблюдения жизни не выводится высокая мудрость? Разве наука не есть простое отвлечение жизни, подведение жизни под формулы? Все, что высказывается наукою и искусством, найдется в жизни, и найдется в полнейшем, совершеннейшем виде, со всеми живыми подробностями, в которых обыкновенно и лежит истинный смысл дела, которые часто не понимаются наукой и искусством, еще чаще не могут быть ими обняты; в действительной жизни все верно, нет недосмотров, нет односторонней узкости взгляда, которою страждет всякое человеческое произведение, — как поучение, как наука, жизнь полнее, правдивее, даже художественнее всех творений ученых и поэтов. Но жизнь, не думает объяснять нам своих явлений, не заботится о выводе аксиом; в произведениях науки и искусства это сделано; правда, выводы неполны, мысли односторонни в сравнении с тем, что представляет жизнь; но их извлекли для нас гениальные люди, без их помощи наши выводы были бы еще одностороннее, еще беднее. Наука и искусство (поэзия) — «Handbuch» для начинающего изучать жизнь; их значение — приготовить к чтению источников и потом от времени до времени служить для справок. Наука не думает скрывать этого; не думают скрывать этого и поэты в беглых замечаниях о сущности своих произведений; одна эстетика продолжает утверждать, что искусство выше жизни и действительности.
Соединяя все сказанное, получим следующее воззрение на искусство: существенное значение искусства — воспроизведение
всего, что интересно для человека в жизни; очень часто, особенно в произведениях поэзии, выступает также на первый план объяснение жизни, приговор о явлениях ее. Искусство относится к жизни совершенно так же, как история; различие по содержанию только ' в том, что история говорит о жизни человечества, искусство — о жизни человека, история — о жизни общественной, искусство — о жизни индивидуальной. Первая задача истории — воспроизвести жизнь; вторая, исполняемая не всеми историками, — объяснить ее; не заботясь о второй задаче, историк остается простым! Летописцем, и его произведение — только материал для настоя-' щего историка или чтение для удовлетворения любопытства; думая о второй задаче, историк становится мыслителем, и его творение приобретает чрез это научное достоинство. Совершенно то же самое надобно сказать об искусстве. История не думает сопер-ничествовать с действительною историческою жизнью, сознается, что ее картины бледны, неполны, более или менее неверны или по крайней мере односторонни. Эстетика также должна признать, чуо искусство точно так же и по тем же самым причинам не должно и думать сравниться с действительностью, тем более превзойти ее красотою.
Но где же творческая фантазия при таком воззрении на искусство? Какая же роль предоставляется ей? Не будем говорить о том, откуда проистекает в искусстве право фантазии видоизменять виденное и слышанное поэтом. Это ясно из цели поэтического создания, от которого требуется верное воспроизведение известной стороны жизни, а не какого-нибудь отдельного случая; посмотрим только, в чем необходимость вмешательства фантазии, как способности переделывать (посредством комбинации) воспринятое чувствами и создавать нечто новое по форме. Предполагаем, что поэт берет из опыта собственной жизни событие, вполне ему известное (это случается не часто; обыкновенно многие подробности остаются мало известны и для связности рассказа должны быть дополняемы соображением); предполагаем также, что взятое событие совершенно закончено в художественном отношении, так что простой рассказ о нем был бы вполне художественным произведением, т. е. берем случай, когда вмешательство комбинирующей фантазии кажется наименее нужным. Как бы сильна ни была память, она не в состоянии удержать всех подробностей, особенно тех, которые неважны для сущности дела; но многие из них нужны для художественной полноты рассказа и должны быть заимствованы из других сцен, оставшихся в памяти поэта (напр., ведение разговора, описание местности и т. д.); правда, что дополнение события этими подробностями еще не изменяет его, и различие художественного рассказа от передаваемого в нем события ограничивается пока одною формою. Но этим не исчерпывается вмешательство фантазии. Событие в действительности было перепутано с другими событиями, находившимися с ним только во внешнем сцеплении, без существенной связи; но когда мы будем отделять избранное нами событие от других происшествий и от ненужных эпизодов, мы увидим, что это отделение оставит новые пробелы в жизненной полноте рассказа; поэт опять должен будет восполнять их. Этого мало: отделение не только от ним ет жизненную полноту у многих моментов событий, но часто изменяет их характер, — и событие явится в рассказе уже не таким, каково было в действительности, или, для сохранения сущности его, поэт принужден будет изменять многие подробности, которые имеют истинный смысл в событии только при его действительной обстановке, отнимаемой изолирующим рассказом. Как видим, круг деятельности творческих сил поэта очень мало стесняется нашими понятиями о сущности искусства. Но предмет нашего исследования — искусство как объективное произведение, а не субъективная деятельность поэта; потому было бы неуместно вдаваться в исчисление различных отношений поэта к материалам его произведения: мы показали одно из этих отношений, наименее благоприятствующее самостоятельности поэта и
нашли, что при нашем воззрении на сущность искусства художник и в этом положении не теряет существенного характера, принадлежащего не поэту или художнику в частности, а вообще человеку во всей его деятельности, — того существеннейшего человеческого права и качества, чтобы смотреть на объективную действительность только как на материал, только как на поле своей деятельности, и, пользуясь ею, подчинять ее себе. Еще обширнее круг вмешательства комбинирующей фантазии при других обстоятельствах: когда, например, поэту не вполне известны подробности события, когда он знает о нем (и действующих лицах) только по чужим рассказам, всегда односторонним, неверным или неполным в художественном отношении, по крайней мере с личной точки зрения поэта. Но необходимость комбинировать и видоизменять проистекает не из того, чтобы действительная жизнь не представляла (и в гораздо лучшем виде) тех явлений, которые хочет изобразить поэт или художник, а из того, что картина действительной жизни принадлежит не той сфере бытия, как действительная жизнь; различие рождается оттого, что поэт не располагает теми средствами, какими располагает действительная жизнь. При переложении онеры для фортепиано теряется большая и лучшая часть подробностей и эффектов; многое решительно не может быть с человеческого голоса или с полного оркестра переведено на жалкий, бедный, мертвый инструмент, который должен по мере возможности воспроизвести оперу; потому при аранжировке многое должно быть переделываемо, многое дополняемо — не с тою надеждою, что в аранжировке опера выйдет лучше, нежели в первоначальном своем виде, а для того, чтобы сколько-нибудь вознаградить необходимую порчу оперы при аранжировке; не потому, чтобы аранжировщик исправлял ошибки композитора, а просто потому, что он не располагает теми средствами, какими владеет композитор. Еще больше различия в средствах действительной жизни и поэта. Переводчик поэтического произведения с одного языка на другой должен до некоторой степени переделывать переводимое произведение; как же не являться необходимости переделки при переводе события с языка жизни на скудный, бледный, мертвый язык поэзии?
Апология действительности сравнительно с фантаэиею, стремление доказать, что произведения искусства решительно не могут выдержать сравнения с живой действительностью, вот сущность этого рассуждения. Говорить об искусстве так, как говорит автор, не значит ли унижать искусство? — Да, если показывать, что искусство ниже действительной жизни по художественному совершенству своих произведений, значит унижать искусство; но восставать против панегириков не значит еще быть хулителем. Наука не думает быть выше действительности; это не стыд для нее.
Искусство также не должно думать быть выше действительности; это не унизительно для него. Наука не стыдится говорить, что цель ее — понять и объяснить действительность, потом применить ко благу человека свои объяснения; пусть и искусство. не стыдится признаться, что цель его: для вознаграждения человека в случае отсутствия полнейшего эстетического наслаждения, доставляемого действительностью, воспроизвести, по мере сил, эту драгоценную действительность и ко благу человека объяснить ее.
Пусть искусство довольствуется своим высоким, прекрасным назначением: в случае отсутствия действительности быть некоторою заменою ее и быть для человека учебником жизни.
Действительность выше мечты, и существенное значение выше фантастических притязаний.
Задачею автора было исследовать вопрос об эстетических отношениях произведений искусства к явлениям жизни, рассмотреть справедливость господствующего мнения, будто бы истинно прекрасное, которое принимается существенным содержанием произведений искусства, не существует в объективной действительности и осуществляется только искусством. С этим вопросом неразрывно связаны вопросы о сущности прекрасного и о содержании искусства. Исследование вопроса о сущности прекрасного привело автора к убеждению, что прекрасное есть — жизнь. После такого решения надобно было исследовать понятия возвышенного и трагического, которые, по обыкновенному определению прекрасного, подходят под него, как моменты, и надобно было признать, что возвышенное и прекрасное — не подчиненные друг другу предметы искусства. Это уже было важным пособием для решения вопроса о содержании искусства. Но если прекрасное есть жизнь, то сам собою решается вопрос об эстетическом отношении прекрасного в искусстве к прекрасному в действительности. Пришедши к выводу, что искусство не может быть обязано своим происхождением недовольству человека прекрасным в действительности, мы должны были отыскивать, вследствие каких потребностей возникает искусство, и исследовать его истинное значение. Вот главнейшие из выводов, к которым привело это исследование:
1) Определение прекрасного: «прекрасное есть полное проявление общей идеи в индивидуальном явлении» — не выдерживает, критики; оно слишком широко, будучи определением формального стремления всякой человеческой деятельности.
2) Истинное определение прекрасного таково: «прекрасное есть жизнь»; прекрасным существом кажется человеку то существо, в котором он видит жизнь, как он ее понимает; прекрасный предмет — тот предмет, который напоминает ему о жизни.
3) Это объективное прекрасное, или прекрасное по своей сущности, должно отличать от совершенства формы, которое состоит
в единстве идеи и формы, или в том, что предмет вполне удовлетворяет своему назначению.
4) Возвышенное действует на человека вовсе не тем, что пробуждает идею абсолютного; оно почти никогда не пробуждает ее.
5) Возвышенным кажется человеку то, что гораздо больше предметов или гораздо сильнее явлений, с которыми сравнивается человеком.
6) Трагическое не имеет существенной связи с идеею судьбы или необходимости. В действительной жизни трагическое большею частью случайно, не вытекает из сущности предшествующих моментов. Форма необходимости, в которую облекается оно искусством, — следствие обыкновенного принципа произведений искусства: «развязка должна вытекать из завязки», или неуместное подчинение поэта понятиям о судьбе.
7) Трагическое по понятиям нового европейского образования есть «ужасное в жизни человека».
8) Возвышенное (и момент его, трагическое) не есть видоизменение прекрасного; идеи возвышенного и прекрасного совершенно различны между собою; между ними нет ни внутренней связи, ни внутренней противоположности.
9) Действительность не только живее, но и совершеннее фантазии. Образы фантазин — только бледная и почти всегда неудачная переделка действительности.
10) Прекрасное в объективной действительности вполне прекрасно.
11) Прекрасное в объективной действительности совершенно удовлетворяет человека.
12) Искусство рождается вовсе не от потребности человека восполнить недостатки прекрасного в действительности.
13) Создания искусства ниже прекрасного в действительности не только потому, что впечатление, производимое действительностью, живее впечатления, производимого созданиями искусства: создания искусства ниже прекрасного (точно так же, как ниже возвышенного, трагического, комического) в действительности и с эстетической точки зрения.
14) Область искусства не ограничивается областью прекрасного в эстетическом смысле слова, прекрасного по живой сущности своей, а не только по совершенству формы: искусство воспроизводит все, что есть интересного для человека в жизни.
15) Совершенство формы (единство идеи и формы) не составляет характеристической черты искусства в эстетическом смысле слова (изящных искусств); прекрасное как единство идеи и образа, или как полное осуществление идеи, есть цель стремления искусства в обширнейшем смысле слова или «уменья», цель всякой практической деятельности человека.
16) Потребность, рождающая искусство в эстетическом смысле слова (изящные искусства), есть та же самая, которая
очень ясно выказыпается в портретной живописи. Портрет пишется не потому, чтобы черты живого человека не удовлетворяли нас, а для того, чтобы помочь нашему воспоминанию о живом человеке, когда его нет перед нашими глазами, и дать о нем некоторое понятие тем людям, которые не имели случая его видеть. Искусство только напоминает нам своими воспроизведениями о том, что интересно для нас в жизни, и старается до некоторой степени познакомить нас с теми интересными сторонами жизни, которых не имели мы случая испытать или наблюдать в действительности.
17) Воспроизведение жизни — общий, характеристический признак искусства, составляющий сущность его; часто произведения искусства имеют и другое значение — объяснение жизни; часто имеют они и значение приговора о явлениях жизни.
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ИСКУССТВА К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ Соч. И. Чернышевского, СПБ. 1855 <АВТОРЕЦЕНЗИЯ>
Системы понятий, из которых развились господствующие доселе эстетические идеи, уступили ныне место другим воззрениям на мир и человеческую жизнь, быть может, менее заманчивым для фантазии, но более сообразным с выводами, которые дает строгое, непредубежденное исследование фактов при настоящем развитии естественных, исторических и нравственных наук. Автор рассматриваемой нами книги думает, что при тесной зависимости эстетики от общих наших понятий о природе и человеке, с изменением этих понятий должна подвергнуться преобразованию и теория искусства. Мы не беремся решить, до какой степени справедлива его собственная теория, предлагаемая в замену прежней, — это решит время, и гам г. Чернышевский признается, что «в его изложении может найтись неполнота, недостаточность или односторонность»; но действительно, надобно согласиться, что господствующие эстетические убеждения, лишенные современным анализом метафизических оснований, на которых так самоуверенно возвысились в конце предыдущего и начале нынешнего века, должны искать себе других опор или уступить место другим понятиям, если не будут вновь подтверждены строгим анализом. Автор положительно уверен, что теория искусства должна получить новый вид, — мы готовы предположить, что это так и должно быть, потому что трудно устоять отдельной части общего философского здания, когда оно все перестраивается. В каком же духе должна измениться теория искусства? «Уважение к действительной жизни, недоверчивость к априорическим, хотя б и приятным для фантазии, гипотезам — вот характер направления, господствующего ныне в науке», говорит он, и ему кажется, что «необходимо привести к этому знаменателю и наши эстетические убеждения».
Чтобы достичь этой цели, сначала он подвергает анализу прежние понятия о сущности прекрасного, возвышенного, трагического, об отношении фантазии к действительности, о превосходстве искусства над действительностью, о содержании и существенном значении искусства, или о потребности, из которой происходит стремление человека к созданию произведений искусства. Обнаружив, как ему кажется, что эти понятия не выдерживают критики, он из анализа фактов старается извлечь новые понятия, по его мнению, более соответствующие общему характеру идей, принимаемых наукою в наше время. Мы сказали уже, что не беремся решать, до какой степени справедливы или несправедливы мнения автора, и ограничимся только изложением их, замечая недостатки, особенно поразившие нас. Литература и поэзия имеют для нас, русских, такое огромное значение, какого, можно сказать наверное, не имеют нигде, и потому вопросы, которых касается автор, заслуживают, кажется нам, внимания читателей 2.
Но действительно ли заслуживают? — в этом очень позволительно усомниться, потому что и сам автор, повидимому, не совершенно в том уверен. Он считает нужным оправдываться в выборе предмета для своего исследования:
«Ныне век монографий, — говорит он в предисловии, — и мое сочинение может подвергаться упреку в несовременности. Зачем автор избрал такой общий, такой обширный вопрос, как эстетические отношения искусства к действительности, предметом своего исследования? Почему не избрал он какого-нибудь специального вопроса, как это ныне большею частью делается?» «Автору кажется, — отвечает он в свое оправдание, — что бесполезно толковать об основных вопросах науки только тогда, когда нельзя сказать о них ничего нового и основательного. Но когда выработаны материалы для нового воззрения на основные вопросы нашей специальной науки, и можно, и должно высказать эти основные идеи, если еще стоит говорить об эстетике».
А нам кажется, что автор или не совершенно ясно понимает положение дела, или очень скрытен. Нам кажется, что напрасно не подражал он одному писателю, который к своим сочинениям сочинил следующего рода предисловие:
«Мои сочинения — обветшалый хлам, потому что ныне вовсе не следует толковать о предметах, сущность которых разоблачается мною; но так как многие не находят для своего ума более-живого занятия, то для них будет небесполезно предпринимаемое мною издание» 3.
Если бы г. Чернышевский решился последовать этой примерной откровенности, то он мог бы сказать в предисловии так: «Признаюсь, что нет особенной необходимости распространяться об эстетических вопросах в наше время, когда они стоят в науке на втором плане; но так как многие пишут о предметах, имеющих еще гораздо менее внутреннего содержания, то и я имел полное право писать об эстетике, неоспоримо представляющей для мысли хотя некоторый интерес». Он мог бы также сказать: «Конечно, есть науки, интересные более эстетики; но мне о них не удалось написать ничего; не пишут о них и другие; а так как «за недостатком лучшего человек довольствуется и худшим» («Эстетические отношения искусства к действительности», стр. 86), то и вы, любезные читатели, удовольствуйтесь «Эстетическими отношениями искусства к действительности». Такое предисловие было бы откровенно и прекрасно.
Действительно, эстетика может представить некоторый интерес для мысли, потому что решение задач ее зависит от решения других, более интересных вопросов, и мы надеемся, что с этим согласится каждый, знакомый с хорошими сочинениями по этой науке. Но г. Чернышевский слишком бегло проходит пункты, в которых эстетика соприкасается с общею системою понятий о природе и жизни. Излагая господствующую теорию искусства, он почти не говорит о том, на каких общих основаниях она построена, и разбирает по листочку только ту ветвь «мысленного древа» (следуя примеру некоторых доморощенных мыслителей, употребим выражение «Слова о полку Игореве»), которая специально его занимает, не объясняя нам, что это за дерево, породившее такую ветвь, хотя известно, что подобные умолчания нимало не выгодны для ясности. Точно так же, излагая собственные эстетические понятия, он подтверждает их только фактами, заимствованными из области эстетики, не излагая общих начал, из приложения которых к эстетическим вопросам образовалась его теория искусства, хотя, по собственному выражению, только «приводит эстетические вопросы к тому знаменателю, который дается современными понятиями науки о жизни и мире». Это, по нашему мнению, важный недостаток, и он причиною того, что внутренний смысл теории, принимаемой автором, может для многих показаться темным, а мысли, развиваемые автором, — принадлежащими лично автору, — на что он, по нашему мнению, не может иметь ни малейшего притязания: он сам говорит, что если прежняя теория искусства, им отвергаемая, сохраняется доселе в курсах эстетики, то «взгляд, им принимаемый, постоянно высказывается в литературе и в жизни» (стр. 92). Он сам говорит: «Воззрение на искусство, нами принимаемое, проистекает из воззрений, принимаемых новейшими немецкими эстетиками (и опровергаемых автором), и возникает из них чрез диалектический процесс, направление которого определяется общими идеями современной науки. Итак, непосредственным образом связано оно с двумя системами идей — начала нынешнего века, с одной стороны, последних (двух, — прибавим от себя) десятилетий — с другой» (стр. 90). Как же после этого, спрашиваем мы, не изложить, насколько то нужно, этих двух систем общего воззрения на мир? Ошибка, совершенно непонятная для каждого, кроме, быть может, самого автора, и во всяком случае чрезвычайно ощутительная.
Приняв на себя роль простого излагателя теории, предлагаемой автором, рецензент должен исполнить то, что должен был бы сделать, но не сделал он сам для объяснения своих мыслей.
В последнее время довольно часто различаются «действительные, серьезные, истинные» желания, стремления, потребности человека от «мнимых, фантастических, праздных, не имеющих действительного значения в глазах самого человека, их высказывающего или воображающего иметь их». В пример человека, у которого очень развиты мнимые, фантастические стремления, на самом деле совершенно ему чуждые, можно указать превосходное лицо Грушницкого в «Герое нашего времени». Этот забавный Грушницкий из всех сил хлопочет, чтобы чувствовать то, чего вовсе не чувствует, достичь того, чего ему в сущности вовсе не нужно. Он хочет быть ранен, он хочет быть простым солдатом, хочет быть несчастлив в любви, приходить в отчаяние и т. д., — он не может жить, не обладая этими обольстительными для него качествами и благами. Но какою горестью поразила б его судьба, если б вздумала исполнить его желания! Он отказался бы навсегда от любви, если б думал, что какая бы то ни было девушка может не влюбиться в него. Он втайне мучится тем, что он еще не офицер, не помнит себя от восторга, когда получает известие о желанном производстве, и с презрением бросает свой прежний, костюм, которым на словах так гордился. В каждом человеке есть частица Грушницкого. Вообще, у человека при фальшивой обстановке бывает много фальшивых желаний. Прежде не обращали внимания на это важное обстоятельство, и как скоро замечали, что человек имеет наклонность мечтать о чем. бы то ни было, тотчас же провозглашали всякую прихоть болезненного или праздного воображения коренною и неотъемлемою потребностью человеческой природы, необходимо требующею себе удовлетворения. И каких неотъемлемых потребностей не находили в человеке! Все желания и стремления человека объявлены были безграничными, ненасытными. Теперь это делается с большею осмотрительностью. Теперь рассматривают, при каких обстоятельствах развиваются известные желания, при каких обстоятельствах они затихают. В результате оказался очень скромный, но с тем вместе и очень утешительный факт: в сущности, потребности человеческой природы очень умеренны; они достигают фантастически громадного развития только вследствие крайности, только при болезненном раздражении человека неблагоприятными обстоятельствами, при совершенном отсутствии сколько-нибудь порядочного удовлетворения. Даже самые страсти человека «кипят бурным потоком» только тогда, когда встречают слишком много препятствий; а когда человек поставлен в благоприятные обстоятельства, страсти его перестают клокотать и, сохраняя свою силу,
теряют беспорядочность, всепожирающую жадность и разрушительность. Здоровый человек вовсе не прихотлив. У г. Чернышевского приведено — случайно и в разных местах его исследо-иания — несколько подобных примеров. Мнение, будто бы «желания человеческие беспредельны», говорит он, ложно в том смысле, в каком обыкновенно понимается, в смысле, что «никакая действительность не может удовлетворить их»; напротив, человек удовлетворяется не только «наилучшим, что может быть в действительности», но и довольно посредственною действительностью. Надобно различать то, что чувствуется на самом деле, от того, что только говорится. Желания раздражаются мечтательным образом до горячечного напряжения только при совершенном отсутствии здоровой, хотя бы и довольно простой пищи. Это факт, доказываемый всею историею человечества и испытанный на себе каждым, кто жил и наблюдал себя. Он составляет частный случай общего закона человеческой жизни, что страсти достигают неумеренного развития только вследствие ненормального положения предающегося им человека и только в том случае, когда естественная и в сущности довольно спокойная потребность, из которой возникает та или другая страсть, слишком долго не находила себе соответственного удовлетворения, спокойного н далеко не титанического. Несомненно то, что организм человека не требует и не может выносить слишком бурных и слишком напряженных удовлетворений; несомненно и то, что в здоровом человеке стремления соразмерны с силами организма. Надобно только заметить, что под «здоровьем» человека здесь понимается и нравственное здоровье. Горячка, жар бывает вследствие простуды; страсть, нравственная горячка, такая же болезнь и так же овладевает человеком, когда он подвергся разрушительному влиянию неблагоприятных обстоятельств. За примерами ходить не далеко: страсть, по преимуществу «любовь», какая описывается з сотнях трескучих романов, теряет свою романическую бурливость, как скоро препятствия отстранены и любящаяся чета соединилась браком; значит ли это, что муж и жена любят друг друга менее сильно, нежели любили в бурный период, когда их соединению мешали препятствия? Вовсе нет; каждому известно, что если муж и жена живут согласно и счастливо, то взаимная привязанность их усиливается с каждым годом и, наконец, достигает такого развития, что они буквально «не могут жить друг без друга», и если одному из них случится умереть, то для другого жизнь навеки теряет свою прелесть, теряет в буквальном смысле слова, а не только на словах. А между тем эта чрезвычайно сильная любовь действительно не представляет ничего бурного. Почему? Потому только, что ей не мешают препятствия. Фантастически неумеренные мечты овладевают нами только тогда, когда мы слишком скудны в действительности. Лежа на голых досках, человек может мечтать о пуховике из гагачьего пуха (продолжает г. Чернышевский); здоровый человек, у которого есть хотя не роскошная, но довольно мягкая и удобная постель, не находит ни повода, ни влечения мечтать о гагачьих пуховиках. Если человеку пришлось жить среди сибирских тундр, он может мечтать о волшебных садах с невиданными на земле деревьями, у которых коралловые ветви, изумрудные листья, рубиновые плоды; но, переселившись не далее как в Курскую или Киевскую губернию, получив пол-н)^ю возможность гулять досыта по небогатому, но порядочному саду с яблонями, вишнями, грушами, мечтатель наверное забудет не только о садах «Тысячи и одной ночи», но и лимонных рощах Испании. Воображение строит свои воздушные замки тогда, когда нет на деле не только хорошего дома, даже сносной избушки. Оно разыгрывается тогда, когда не заняты чувства: отсутствие удовлетворительной обстановки в действительности — источник жизни в фантазии. Но едва делается действительность сносною, скучны и бледны кажутся нам перед нею все мечты воображения. Этот неоспоримый факт, что самые роскошные и блестящие, по-видимому, мечты забываются и покидаются нами, как неудовлетворительные, как скоро окружают нас явления действительной жизни, служит несомненным свидетельством того, что мечты воображения далеко уступают своею красотою и привлекательностью тому, что представляет нам действительность. В этом понятии состоит одно из существеннейших различий между устаревшим миросозерцанием, под влиянием которого возникали трансцендентальные системы науки, и нынешним воззрением науки на природу и жизнь. Ныне наука признает высокое превосходство действительности перед мечтою, узнав бледность и неудовлетворительность жизни, погруженной в мечты фантазии; прежде, без строгого исследования, принимали, что мечты воображения в самом деле выше и привлекательнее явлений действительной жизни. В литературной области это прежнее предпочтение мечтательной жизни выразилось романтизмом.
Но, как мы говорили, прежде не обращали внимания на различие между фантастическими мечтами и истинными стремлениями человеческой природы, между потребностями, удовлетворения которых действительно требуют ум и сердце человека, и воздушными замками, в которых человек не захотел бы жить, если б они существовали, потому что в них нашел бы он только пустоту, холод и голод. Мечты праздной фантазии очень, повиди-мому, блестящи; желания здоровой головы и здорового сердца очень умеренны; потому, пока анализ не показал, как бледны и жалки мечты фантазии, разгулявшейся на пустом просторе, мыслители обманывались их мнимо блестящими красками и ставили их выше действительных предметов и явлений, какие встречает человек в жизни. Но действительно ли силы нашей фантазии так слабы, что не могут вознестись выше предметов и явлений, которые мы знаем из опыта? В этом очень легко убедиться. Пусть каждый попробует вообразить себе, например, красавицу, черіъі лица которой были бы лучше, нежели черты прекрасных лиц, виденных им в действительности, — каждый, если только внимательно будет рассматривать образы, создать которые силится его воображение, заметит, что эти образы нисколько не лучше лиц, которые мог он видеть своими глазами, что можно только думать: «я хочу вообразить себе человеческое лицо прекраснее живых лиц, которые я видел», но в самом деле представить себе в воображении что-либо прекраснее этих лиц он не может. Воображение, если захочет возвыситься над действительностью, будет рисовать только чрезвычайно неясные, смутные очерки, в которых мы ничего определенного и действительно привлекательного не можем уловить. То же самое повторяется и во всех других случаях. Я не могу ясно и определенно вообразить себе, например, кушанье, которое было бы вкуснее тех блюд, которые мне случалось есть в действительности; света ярче того, какой видел я в действительности (так мы, жители Севера, по общему отзыву всех путешественников, не можем иметь ни малейшего понятия об ослепитель-ном свете, проникающем атмосферу тропических стран); не можем вообразить ничего лучше той красоты, которую, видели, ничего выше тех наслаждений, какие испытали в действительной жизни. У г. Чернышевского мы находим и эту мысль, но она опять высказана только случайно и вскользь, без надлежащего развития: силы творческой фантазии, говорит он, очень ограниченны; она может только составлять предметы из разнородных частей (напр., вообразить лошадь с птичьими крыльями) или увеличить предмет в объеме (напр., представить орла величиною с слона); но интенсивнее (т. е. прекраснее по красоте, ярче, живее, прелестнее и т. д.) того, что мы видели или испытали в действительной жизни, мы ничего не можем вообразить. Я могу представить себе солнце гораздо большим по величине, нежели каково оно кажется в действительности, но ярче того, как оно являлось мне в действительности, я не могу его вообразить. Точно так же я могу представить себе человека выше ростом, толще и т. д., нежели те люди, которых я видел; но лица прекраснее тех лиц, которые случалось мне видеть в действительности, я не могу вообразить. Между тем говорить можно все, что захочется; можно сказать: железное золото, теплый лед, сахарная горечь и т. д. — правда, воображение наше не может себе представить теплого льда, железного золота, и потому фразы эти остаются для нас совершенно пустыми, не представляющими для фантазии никакого смысла; но если не вникнуть в то обстоятельство, что подобные праздные фразы остаются непостижимы для фантазии, напрасно усиливающейся представить предметы, о которых они говорят, то, смешав пустые слова с доступными для фантазии представлениями, можно подумать, будто бы «мечты фантазии гораздо богаче, полнее, роскошнее действительности».
7
99
• *
По этой-то ошибке доходили до мнения, что фантастические (нелепые, и потому темные для самой фантазии) мечты должны быть считаемы истинными потребностями человека. Все высокопарные, но в сущности не имеющие смысла, сочетания слов, какие придумываются праздным воображением, были объявлены в высочайшей степени привлекательными для человека, хотя на самом деле он просто забавляется ими от нечего делать и не воображает себе под ними ничего, имеющего ясный смысл. Было даже объявлено, что действительность пуста и ничтожна пред этими мечтами. В самом деле, какая жалкая вещь — действительное яблоко в сравнении с алмазными и рубиновыми плодами аладдиновых садов, какие жалкие вещи действительное золото и действительное железо в сравнении с золотым железом, этим дивным металлом, который блестящ и не подвержен ржавчине, как золото, дешев и тверд, как железо! Как жалка красота живых людей, наших родных и знакомых, в сравнении с красотою дивных существ воздушного мира, этих невыразимо, невообразимо прекрасных сильфид, гурий, пери и им подобных! Как же не сказать, что действительность ничтожна перед тем, к чему стремится фантазия? Но при этом упущено из виду одно: мы решительно не можем себе представить этих гурий, пери и сильфид иначе, как с очень обыкновенными чертами действительных людей, и сколько бы мы ни твердили своему воображению: «представь мне нечто прекраснее человека!» — оно все-таки представляет нам человека, и только человека, хотя и говорит хвастливо, что воображает не человека, а какое-то более прекрасное существо; или, если порывается создать что-нибудь самостоятельное, не имеющее себе соответствия в действительности, в бессилии падает, давая нам такой туманный, бледный и неопределенный фантом, в котором ровно ничего нельзя рассмотреть. Это заметила наука в последнее время и признала основным фактом и в науке и во всех остальных областях человеческой деятельности, что человек не может вообразить себе ничего выше и лучше того, что встречается ему в действительности. А чего не знаешь, о чем не имеешь ни малейшего понятия, того нельзя и желать.
Пока не был признан этот важный факт, фантастическим мечтам верили, в буквальном смысле, «на-слово», не исследуя, представляют ли эти слова какой-нибудь смысл, дают ли они что-нибудь похожее на определенный образ, или остаются пустыми словами. Их высокопарность почитали ручательством за превосходство этих пустых фраз над действительностью и все человеческие потребности и стремления объясняли стремлением к туманным и лишенным всякого существенного значения фантомам. То была пора идеализма в обширнейшем смысле слова.
К числу призраков, внесенных в науку таким образом, принадлежал призрак фантастического совершенства: «человек удовлетворяется только абсолютным, он требует безусловного совершенства». У г. Чернышевского опять встречаем в нескольких местах краткие и беглые замечания об этом. Мнение, будто человеку непременно нужно «совершенство», — говорит он (стр 39), — мнение фантастическое, если под «совершенством» понимать (как и понимают) такой вид предмета, который бы совмещал все возможные достоинства и был чужд всех недостатков, каких от нечего делать может искать в нем лраздная фантазия человека с холодным или пресыщенным сердцем. Нет, — продолжает он в другом месте (стр. 48), — практическая жизнь человека убеждает нас, что он ищет только приблизительного совершенства, которое, выражаясь строго, и не должно называться совершенством. Человек ищет только «хорошего», а не «совершенного». Совершенства требует только чистая математика; даже прикладная математика довольствуется приблизительными вычислениями. Требовать совершенства в какой бы то ни было сфере жизни — дело отвлеченной, болезненной или праздной фантазии. Мы хотим дышать чистым воздухом; но замечаем ли мы, *что абсолютно чист воздух не бывает нигде и никогда? Ведь в нем всегда есть примесь ядовитой углекислоты и других вредных газов; но их так мало, что они не действуют на наш организм, и потому они нисколько не мешают нам. Мы хотим пить чистую воду; но в воде рек, ручьев, ключей всегда есть минеральные примеси, — если их мало (как всегда и бывает в хорошей воде), они вовсе не мешают нашему наслаждению при утолении жажды водою. А совершенно чистая (дистиллированная) вода даже неприятна для вкуса. Эти примеры слишком материальны? Приведем другие. Разве кому приходила мысль называть не ученым, невеждою человека, которому не все в мире известно? Нет, мы и не ищем человека, которому было б известно все; мы требуем от ученого только, чтобы ему было известно все существенное и, кроме того, многие (хотя далеко не все) подробности. Разве мы недовольны, напр., историческою книгою, в которой не все решительно вопросы объяснены, не все решительно подробности приведены, не все до одного взгляды и слова автора абсолютно справедливы? Нет, мы довольны, и чрезвычайно довольны книгою, когда в ней разрешены главные вопросы, приведены самонужнейшие подробности, когда главные мнения автора справедливы и в книге его очень мало неверных или неудачных объяснений. Одним словом, потребностям человеческой природы удовлетворяет «порядочное», а фанатастического совершенства ищет только праздная фантазия. Чувства наши, наш ум и сердце ничего о нем не знают, да и фантазия только твердит о нем пустые фразы, а живого, определенного представления о нем также не имеет.
Итак, наука в последнее время дошла до необходимости строго различать истинные потребности человеческой природы, которые ищут и имеют право находить себе удовлетворение в действительной жизни, от мнимых, воображаемых потребностей, которые
остаіотся и должны оставаться праздными мечтами. У г. Черны-шеВ('кого несколько раз встречаем беглые намеки на эту необходим^,^ а однажды он дает этой мысли даже некоторое разви-тне. «Искусственно развитый человек (т. е. испорченный своим пР0,‘ивоестественным положением среди других людей) имеет МНО|'о искусственных, исказившихся до лживости, до фантастич-hoctjj требований, которым нельзя вполне удовлетворять, потому что они в сущности не требования природы его, а мечты испор-чеіІІ'ого воображения, которым почти невозможно и угождать, не подвергаясь насмешке и презрению от самого того человека, ко-тоР°Му стараемся угодить, потому что он сам инстинктивно чувствУет, что его требование не стоит удовлетворения» (стр. 82).
Но если так важно различать мнимые, воображаемые стре-мл51 |ия, участь которых — оставаться смутными грезами празд-нои или болезненно раздраженной фантазии, от действительных и Эі'конных потребностей человеческой натуры, которые необхо-димг) требуют удовлетворения, то где же признак, по которому ®еэс)Шибочно могли бы мы делать это различение? Кто будет сУДі»ею в этом, столь важном случае? — Приговор дает сам че-лов^к своею жизнью; «практика», этот непреложный пробный камеНь всякой теории, должна быть руководительницею нашею и ЗД€°ь. Мы видим, что одни из наших желаний радостно стремятся навстречу удовлетворению, напрягают все силы человека, чтобы 0СУІйествиться в действительной жизни, — это истинные потреб-нос’|'Н нашей природы. Другие желания, напротив, боятся сопри-кос,іовения с действительною жизнью, робко стараются укры-ват,‘ся от нее в отвлеченном царстве мечтаний — это мнимые, ФалЬшивые желания, которым не нужно исполнение, которые и °б°Льстительны только под тем условием, чтоб не встречать удов-лет,*орения себе, потому что, выходя на «белый свет» жизни, они °^нйружили бы свою пустоту и непригодность для того, чтобы на сам0 м деле соответствовать потребностям человеческой природы 2, Условиям его наслаждения жизнью. «Дело есть истина мысли».
1 аН, например, на деле узнается, справедливо ли человек думает и Гг*ворит о себе, что он храбр, благороден, правдив. Жизнь че-ловска решает, какова его натура, она же решает, каковы его стРСмления и желания. Вы говорите, что проголодались? — По-смо^рим, будете ли вы прихотничать за столом. Если вы откаже-тес,> от простых блюд и будете ждать, пока приготовят индейку с тГ>юфелями, у вас голод не в желудке, а только на языке. Вы говОрите, что вы любите науку, — это решается тем. занимаетесь ли Лы ею. Вы думаете, что вы любите искусство? Это решается геЛі, часто ли вы читаете Пушкина, или его сочинения лежат на ваЧіем столе только для виду; часто ли вы бываете в своей кар-тиЧной галлерее, — бываете наедине, сам с собою, а не только вместе с гостями, — или вы собрали ее только для хвастовства черед другими и самим собою любовью к искусству. Практика —
великая разоблачительница обманов и самообольщений не только в практических делах, но также в делах чувства и мысли. Потому-то в науке ныне принята она существенным критериумом всех спорных пунктов. «Что подлежит спору в теории, на чистоту решается практикою действительной жизни».
Но понятия эти остались бы для многих неопределенны, если бы мы не упомянули здесь о том, какой смысл имеют в современной науке слова «действительность» и «практика». Действительность обнимает собою не только мертвую природу, но и человеческую жизнь, не только настоящее, но и прошедшее, насколько оно выразилось делом, и будущее, насколько оно приготовляется настоящим. Дела Петра Великого принадлежат действительности; оды Ломоносова принадлежат ей не менее, нежели его мозаичные картины. Не принадлежат ей только праздные слова людей, которые говорят: «я хочу быть живописцем» — и не изучают живописи, «я хочу быть поэтом» — и не изучают человека и природу. Не мысль противоположна действительности, — потому что мысль порождается действительностью и стремится к осуществлению, потому составляет неотъемлемую часть действительности, — а праздная мечта, которая родилась от безделья и остается забавою человеку, любящему сидеть, сложа руки и зажмурив глаза. Точно так же и «практическая жизнь» обнимает собою не одну материальную, но и умственную и нравственную деятельность человека.
Теперь может быть ясно различие между прежними, трансцендентальными системами, которые, доверяя фантастическим мечтам, говорили, что человек ищет повсюду абсолютного и, не находя его в действительной жизни, отвергает ее как неудовлетворительную, которые ценили действительность на основании туманных грез фантазии, и между новыми воззрениями, которые, признав бессилие фантазии, отвлекающейся от действительности, в своих приговорах о существенной ценности для человека различных его желаний руководятся фактами, которые представляет действительная жизнь и деятельность человека.
Г. Чернышевский совершенно принимает справедливость современного направления науки и, видя, с одной стороны, несостоятельность прежних метафизических-систем, с другой стороны, неразрывную связь их с господствующею теориею эстетики, выводит из этого, что господствующая теория искусства должна быть заменена другою, более сообразною с новыми воззрениями науки на природу и человеческую жизнь. Но прежде, нежели займемся мы изложением его понятий, составляющих только применение общих воззрений нового времени к эстетическим вопросам, мы должны объяснить отношения, связывающие новые воззрения со старыми в науке вообще. Часто мы видим, что продолжатели ученого труда восстают против своих предшественников, труды которых служили исходною точкою для их собственных трудов. Так
Аристотель враждебно смотрел на Платона, так Сократ безгранично унижал софистов, продолжателем которых был. В новое время этому также найдется много примеров. Но бывают иногда отрадные случаи, что основатели новой системы понимают ясно связь своих мнений с мыслями, которые находятся у их предшественников, и скромно называют себя их учениками; что, обнаруживая недостаточность понятий предшественников, они с тем вместе ясно высказывают, как много содействовали эти понятия развитию их собственной мысли. Таково было, например, отношение Спинозы к Декарту. К чести основателей современной науки должно сказать, что они с уважением и почти сыновнею любовью смотрят на своих предшественников, вполне признают величие их гения и благородный характер их учения, в котором показывают зародыши собственных воззрений. Г. Чернышевский понимает это и следует примеру людей, мысли которых применяет к эстетическим вопросам. Его отношение к эстетической системе, недостаточность которой он старается доказать, вовсе не враждебно; он признает, что в ней заключаются зародыши и той теории, которую старается построить он сам, что он только развивает существенно важные моменты, которые находили место и в прежней теории, но в противоречии с другими понятиями, которым она приписывала более важности и которые кажутся ему не выдерживающими критики. Он постоянно старается показать тесное родство своей системы с прежнею системою, хотя не скрывает, что есть между ними и существенное различие. Это положительно высказывает он в нескольких местах, из которых приведем одно: «Принимаемое мною понятие возвышенного (говорит он на стр. 21) точно так же относится к прежнему понятию, мною отвергаемому, как предлагаемое мною определение прекрасного к прежнему взгляду, мною опровергаемому: в обоих случаях возводится на степень общего и существенного начала то, что прежде считалось частным и второстепенным признаком, было закрываемо ог внимания другими понятиями, которые мною отвергаются, как побочные».
Излагая эстетическую теорию г. Чернышевского, рецензент не будет произносить окончательного суждения о справедливости или несправедливости мыслей автора в чисто эстетическом отношении. Рецензент занимался эстетикою только как частью философии, потому предоставляет суждение о частных мыслях г. Чернышевского людям, которые могут основательно судить о них с точки зрения специально эстетической, чуждой рецензенту. Но ему кажется, что существенное значение эстетическая теория автора имеет именно как приложение общих воззрений к вопросам частной науки, потому он думает, что будет стоять именно в средоточии дела, рассматривая, до какой степени верно сделано автором это приложение. И для читателей, по мнению рецензента, Судех интереснее эта критика с общей точки зрения, потому 104 что самая эстетика имеет для неспециалистов интерес только как часть общей системы воззрений на природу и жизнь. Быть может, некоторым читателям вся статья кажется слишком отвлеченна, но рецензент просит их не судить по одной наружности. Отвлеченность бывает различна: иногда она суха и бесплодна, иногда, напротив того, стоит только обратить внимание на мысли, изложенные в отвлеченной форме, чтоб они получили множество живых приложений; и рецензент положительно уверен, что мысли, им изложенные выше, относятся к последнему роду, — он говорит это прямо, потому что они принадлежат науке, а не в частности рецензенту, который только усвоил их, следовательно, может превозносить их, как последователь известной школы может хвалить принятую им систему, не замешивая в это дело своего личного самолюбия.
Но излагая теорию г. Чернышевского, мы должны будем изменить порядок, которому следовал автор; он, по примеру эстетических курсов опровергаемой им школы, рассматривает сначала идею прекрасного, потом идеи возвышенного и трагического, потом занимается критикою отношений искусства к действительности, затем говорит о существенном содержании искусства и, наконец, о потребности, из которой оно возникает, или о целях, которые осуществляет художник своими произведениями. В господствующей эстетической теории такой порядок совершенно натурален, потому что понятие о сущности прекрасного — основное понятие всей теории. Не так в теории г. Чернышевского. Основное понятие его теории — отношения искусства к действительности, потому с него и следовало начинать автору. Следуя порядку, принятому у других и чуждому его системе, он сделал, по-нашему мнению, важную ошибку и разрушил логическую стройность своего изложения: ему пришлось сначала говорить о нескольких частных элементах из числа многих элементов, составляющих, по его мнению, содержание искусства, потом об отношении искусства к действительности и затем опять о содержании искусства вообще, потом о существенном значени искусства, которое вытекает из его отношений к действительности, — таким образом однородные вопросы разрознены другими, посторонними для их решения вопросами. Мы позволяем себе поправить эту ошибку и будем излагать мысли автора в том порядке, который более соответствует требованиям систематической стройности.
Господствующая теория, постав'ляя целью человеческих желаний абсолютное и ставя желания человека, не находящие себе удовлетворения в действительности, выше тех скромных желаний, которые могут удовлетворяться предметами и явлениями действительного мира, прилагает это общее воззрение, которым объясняется в ней происхождение всех умственных и нравственных деятельностей человека, и к происхождению искусства, содержанием которого она почитает «прекрасное». Прекрасное, встречаемое человеком в действительности, говорит она, имеет важные недостатки, уничтожающие красоту его; а наше эстетическое чувство ищет совершенства; потому для удовлетворения требованию эстетического чувства, не удовлетворяющегося действительностью, фантазия наша возбуждается к созданию нового прекрасного, которое не имело бы недостатков, искажающих красоту прекрасного в природе и жизни. Эти создания творческой фантазии осуществляются произведениями искусства, которые свободны от недостатков, губящих красоту действительности, и потому, собственно говоря, только произведения искусства истинно прекрасны, между тем как явления природы и действительной жизни имеют только призрак красоты. Итак, прекрасное, создаваемое искусством, гораздо выше того, что кажется (только кажется) прекрасным в действительности.
Это положение подтверждается резкою критикою прекрасного, представляемого действительностью, и критика эта старается обнаружить в нем множество недостатков, искажающих его красоту.
Г. Чернышевский, как поставляющий действительность выше грез фантазии, не может разделять мнения, будто бы прекрасное, создаваемое фантазиею, выше по красоте своей, нежели явления действительности. В этом случае он, прилагая к данному вопросу свои основные убеждения, будет иметь на своей стороне всех, разделяющих эти убеждения, и против себя всех, которые держатся прежних мнений о том, что фантазия может возноситься выше действительности. Рецензент, соглашаясь в общих научных убеждениях с г. Чернышевским, должен также признать справедливость его частного вывода, что действительность по красоте своей выше созданий фантазии, осуществляемых искусством.
, Но должно доказать это, — иг. Чернышевский для исполнения этой обязанности сначала пересматривает упреки, делаемые' прекрасному живой действительности, и старается доказать, что недостатки, поставляемые ему в вину господствующею теориею, не всегда в нем находятся, а если и находятся, то вовсе не в такой искажающей громадности, как полагает эта теория. Потом он рассматривает, свободны ли от этих недостатков произведения искусства, и старается показать, что все упреки, делаемые прекрасному живой действительности, прилагаются также к созданиям искусства, и почти все эти недостатки бывают в них более грубы и сильны, нежели каковы они в прекрасном, которое дается нам живою действительностью. От критики искусства вообще он переходит к анализу отдельных искусств и также доказывает, что ни одно искусство — ни скульптура, ни живопись, ни музыка, ни поэзия, не могут давать нам произведений, которые представляли бы нечто такое прекрасное, которому не нашлось бы в действительности соответствующих прекрасных явлений, и ни одно искусство не может создать произведений, равных по красоте этим соответствующим явлениям действительности. Но мы должны и здесь заметить, что автор опять делает очень важный недосмотр, перечисляя и опровергая упреки прекрасному в действительности только в том виде, как изложены они Фишером, и не пополняя этих упреков теми, которые высказаны Гегелем. Правда, у Фишера критика прекрасного живой действительности гораздо полнее и подробнее, нежели у Гегеля; но у Гегеля, при всей его краткости, мы встречаем два упрека, которые забыты Фишером и которые чрезвычайно глубоки, — Ungeistigkeit и Unfreiheit (недуховность, несознательность, или бессмысленность, и несвобода) всего прекрасного в природе 4. Надобно прибавить, однако, что эта неполнота в изложении, составляя вину автора, не вредит сущности защищаемых им воззрений, потому что забытые автором упреки могут быть легко отстранены от прекрасного в действительности и обращены на прекрасное в искусстве тем же самым способом и почти теми же фактами, которые находим у г. Чернышевского по поводу упреков в непреднамеренности. Столь же важно другое упущение: в обзоре отдельных искусств автор забыл мимику, танцы и сценическое искусство — он Должен был рассмотреть их, хотя б и считал, подобно другим эстетикам, отраслью пластического искусства (die Bildnerkunst), потому что создания этих искусств совершенно отличны по характеру от статуй.
Но если произведения искусства ниже действительности, то из каких же оснований возникло мнение о высоком превосходстве искусства над явлениями природы и жизни? Автор отыскивает эти основания в том, что предмет ценится человеком не только по его внутреннему достоинству, а также по редкости и трудности его получения. Прекрасное в природе и жизни является без особенных забот с нашей стороны и его очень много; прекрасных произведений искусства очень мало и они производятся не без труда, иногда чрезвычайно напряженного; кроме того, человек ими гордится, как делом подобного себе человека, — как для француза французская поэзия (в сущности очень слабая) кажет-су лучшею в мире, так для человека искусство вообще приобретает особенную любовь потому, что оно — дело человека, в его пользу говорит пристрастие к своему, родному; кроме того, искусство, подчиняясь, вместе с художниками, мелочным прихотям человека, на которые не обращают внимания природа и жизнь, и тем самым унижаясь, искажаясь, приобретает, как всякий льстец, любовь очень многих; наконец, произведениями искусства мы наслаждаемся, когда хотим, т. е. когда расположены вникать в их красоты и наслаждаться ими, а прекрасные явления природы и жизни очень часто проходят мимо нас в такое время, когда наше внимание и симпатия обращены на другие предметы; кроме того, автор исчисляет еще несколько оснований слишком высокого мнения о достоинстве искусства. Эти объяснения не совершенно полны, — автор забыл очень важное обстоятельство: мнение о превосходстве искусства над действительностью — мнение уче-юых, мнение философской школы, а не суждение человека вообще, чуждого систематических убеждений; масса людей, правда, ставит искусство очень высоко, быть может, выше, нежели давало бы ему на то право одно внутреннее достоинство, и это пристрастие удовлетворительно объясняется указаниями автора; но масса людей вовсе не ставит искусство выше действительности, напротив, она и не думает сравнивать их по достоинству, а если должна будет дать ясный ответ, то скажет, что природа и жизнь прекраснее искусства. Одни только эстетики, да и то не всех школ, ставят искусство выше действительности, и такое мнение, составившееся вследствие особенных, им только принадлежащих воззрений, должно быть объясняемо этими воззрениями. Именно, эстетики псевдоклассической школы предпочитали искусство действительности потому, что вообще страдали болезнью своего века и кружка — искусственностью всех привычек и понятий: они не в одном искусстве, но и во всех сферах жизни боялись и дичились природы, как она есть, любили только прикрашенную, «умытую» природу. А мыслители господствующей ныне школы ставят искусство, как нечто идеальное, выше природы и жизни, которые реальны, потому что вообще не успели еще освободиться от идеализма, несмотря на гениальные порывы к реализму, и идеальную жизнь ставят вообще выше реальной.
Возвращаемся к теории г. Чернышевского. Если искусство не может сравниться с действительностью по красоте своих произведений, то оно не может быть обязано своим происхождением недовольству нашему красотою действительности и стремлению создать нечто лучшее, — в таком случае человек давно бросил бы искусство, как нечто совершенно не достигающее своей цели и бесплодное, — говорит он. Потому потребность, вызывающая искусство, должна быть не та, как полагает господствующая теория. До сих пор все, разделяющие с г. Чернышевским основные понятия о человеческой жизни и природе, вероятно, скажут, что выводы его последовательны. Но мы не хотим решать, совершенно ли верно приисканное им объяснение потребности, рождающей искусство; представляем его собственными словами этот вывод, чтобы дать читателям полную возможность судить о его несправедливости или справедливости.
«Море вполне прекрасно; смотря на него, мы не думаем быть им недовольны в эстетическом отношении. Но не все люди живут близ моря; многим не удается ни разу в жизни взглянуть на него, а им также хотелось бы полюбоваться на море, — и для них являются картины, изображающие море. Конечно, гораздо лучше смотреть на самое море, нежели на его изображение; но за недостатком лучшего, человек довольствуется и худшим, за недостатком вещи — ее суррогатом. И тем людям, которые могут, любоваться морем в действительности, не всегда, когда хочется, можно смотреть на море, — они вспоминают о нем; но фантазия слаба, ей нужна поддержка, напоминание, — и, чтоб оживить свои воспоминания о море, чтобы яснее представлять его в своем воображении, они смотрят на картину, изображающую море. Вот единственная цель и значение очень многих (большей части) произведений искусства: дать возможность, хотя в некоторой степени, познакомиться с прекрасным в действительности тем людям, которые не имели возможности наслаждаться нм на самом деле; служить напоминанием, возбуждать н оживлять воспоминание о прекрасном в действительности у тех люден, которые знают его из опыта и любят вспоминать о нем. (Оставляем пока выражение: «прекрасное есть существенное содержание искусства»; впоследствии мы подстановим вместо термина «прекрасное» другой, которым содержание искусства определяется, по нашему мнению, точнее и полнее.) Итак, первое значение искусства, принадлежащее всем без изъятия произведениям его, — воспроизведение природы и жизни. Отношение их к соответствующим сторонам и явлениям действительной жизни таково же, как отношение гравюры к той картине, с которой она снята, как отношение портрета к лицу, им изображаемому. Гравюра снимается с картины не потому, чтобы картина была нехороша, а именно потому, что картина очень хороша; так действительность воспроизводится искусством не для сглаживания недостатков ее, не потому, что сама по себе действительность не довольно хороша, а потому именно, что она хороша. Гравюра не думает быть лучше картины, — она гораздо хуже ее в художественном отношении; так и произведение искусства никогда ие достигает красоты или величия действительности; но картина одна, ею могут любоваться только люди, пришедшие в галлерею, которую она украшает; гравюра расходится в сотнях экземпляров по всему свету, каждый может любоваться ею, когда ему угодно, не выходя из своей комнаты, не вставая с своего дивана, не скидая своего халата; так и предмет, прекрасный в действительности, доступен не всякому и ие всегда; воспроизведенный (слабо, грубо, бледно — это правда, но все-таки воспроизведенный) искусством, ои доступен всегда и всякому. Портрет человека делается не для того, чтобы сгладить недостатки его лица (что нам' за дело до этих недостатков? они для нас незаметны или милы), но для того, чтобы доставить нам возможность любоваться на это лицо даже и тогда, когда оно иа самом деле не перед нашими глазами; такова же цель и значение произведений искусства вообще: они не поправляют действительность, не украшают ее, а воспроизводят, служат ей суррогатом».
Автор признает, что теория воспроизведения, им предлагаемая, не есть нечто новое: подобный взгляд на искусство господствовал в греческом мире 5; но с тем вместе он утверждает, что его теория существенно различна от псевдоклассической теории подражания природе, и доказывает это различие, приводя критику псевдоклассических понятий из гегелевой эстетики: ни одно из возражений Гегеля, совершенно справедливых относительно теории подражания природе, не прилагается к теории воспроизведения; потому и дух этих двух воззрений, очевидно, существенно различен. В самом деле, воспроизведение имеет целью помочь воображению, а не обманывать чувства, как того хочет подражание, и не есть пустая забава, как подражание, а дело, имеющее реальную цель.
Нет сомнения, что теория воспроизведения, если заслужит внимание, возбудит сильные выходки со стороны приверженцев теории творчества. Будут говорить, что она ведет к дагерроти-пичной копировке действительности, против которой так часто вооружаются; предупреждая мысль о рабской копировке, г. Чернышевский показывает, что и в искусстве человек не может отказаться от своего — не говорим, права, это мало, — от своей обязанности пользоваться всеми своими нравственными и умственными силами, в том числе и воображением, если хочет даже не более, как верно скопировать предмет. Вместо того чтобы восставать против «дагерротипного копирования», — прибавляет он, — не лучше ли было бы говорить только, что и копировка, как и всякое другое человеческое дело, требует понимания, требует способности отличать существенные черты от неважных? «Мертвая копировка» — говорят обыкновенно; но человек не может скопировать верно, если механизм его руки не направляется живым смыслом: нельзя сделать даже верного facsimile, не понимая значения копируемых букв.
Но словами: «искусство есть воспроизведение явлений природы и жизни», определяется только способ, каким создаются произведения искусства; остается еще вопрос о том, какие же явления воспроизводятся искусством; определив формальное начало искусства, нужно, для полноты понятия, определить и реальное начало или содержание искусства. Обыкновенно говорят, что содержанием искусства служат только прекрасное и его соподчиненные понятия — возвышенное и комическое. Автор находит такое понятие слишком узким и утверждает, что область искусства — все интересное для человека в жизни и природе. Доказательство этого положения мало развито и составляет самую неудовлетворительную часть в изложении г. Чернышевского, который, кажется, считал этот пункт слишком ясным и почти не нуждающимся в доказательствах. Мы не оспариваем самого вывода, который принимается автором, а недовольны только его изложением. Он должен был привести гораздо более примеров, которые подтверждали бы его мысль, что «содержание искусства не ограничивается тесными рамками прекрасного, возвышенного и комического», — легко было найти тысячи фактов, доказывающих эту справедливую мысль, и тем более виноват автор, что мало позаботился о том.
Но если очень многие произведения искусства имеют только один смысл — воспроизведение интересных для человека явлений жизни, то очень многие приобретают, кроме этого основного значения, другое, высшее — служить объяснением воспроизводимых явлений; особенно должно сказать это о поэзии, которая не в силах обнять всех подробностей, потому, по необходимости выпуская из своих картин очень многие мелочи, тем самым сосредоточивает наше внимание на немногих удержанных чертах, — если удержаны, как и следует, черты существенные, то этим самым для неопытного глаза облегчается обзор сущности предмета. В этом иные видят превосходство поэтических картин перед действительностью, но выпущение всех несущественных подробностей и передача одних главных черт — не особенное качество поэзии, а общее свойство разумной речи: и в прозаическом рассказе бывает то же самое.
Наконец, если художник — человек мыслящий, то он не может не иметь своего суждения о воспроизводимых явлениях, оно, волею или неволею, явно или тайно, сознательнр или бессознательно, отразится на произведении, которое, таким' образом, получает еще третье значение — приговора мысли о воспроизводимых явлениях. Это значение чаще, нежели в других искусствах, мы находим в поэзии.
Соединяя все сказанное, — заключает г. Чернышевский, — мы получим следующее воззрение на искусство: существенное значение искусства — воспроизведение всего, что интересно для человека в жизни; очень часто, особенно в поэзии, выступает на первый план также объяснение жизни, приговор о явлениях ее. Искусство относится к действительности совершенно так же, как история; различие по содержанию только в том, что история говорит о жизни общественной, искусство — о жизни индивидуальной, история — о жизни человечества, искусство — о жизни человека (картины природы имеют только значение обстановки для явлений человеческой жизни или намека, предчувствия об этих явлениях. Что касается различия по форме, автор определяет его так: история, как и всякая наука, заботится только о ясности, понятности своих картин; искусство — о жизненной полноте подробностей). Первая задача истории — передать прошедшее; вторая, — исполняемая не всеми истЬриками, — объяснить его, произнесть о нем приговор; не заботясь о второй задаче, историк остается простым летописцем, и его произведение только’ материал для истинного историка или чтение для удовлетворения любопытства; исполняя вторую задачу, историк становится мыслителем, и его творение приобретает научное достоинство. Совершенно то же самое надобно сказать об искусстве. Ограничиваясь воспроизведением явлений жизни, художник удовлетворяет нашему любопытству или дает пособие нашим воспоминаниям о жизни. Но если он притом объясняет и судит воспроизводимые явления, он становится мыслителем, и его произведение к художественному своему достоинству присоединяет еще высшее значение — значение научное.
От общего определения содержания искусства натурален переход к частным элементам, входящим в состав этого содержания, и мы здесь изложим взгляды автора на прекрасное и возвышенное, в определении сущности которых он не согласен с господствующею теориею, потому что она в этих случаях перестала соответствовать настоящему развитию науки. Анализировать эти понятия он должен был потому, что в обыкновенном их определении находится непосредственный источник мысли о превосходстве искусства над действительностью: они служат в господствующей теории связью между общими идеалистическими началами н частными эстетическими мыслями. Автор должен был очистить эти важные понятия от трансцендентальной примеси, чтобы при-весть их в согласие с духом своей теории.
Господствующая теория имеет две формулы для выражения своего понятия о прекрасном: «прекрасное есть единство идеи и образа» и «прекрасное есть полное проявление идеи в отдельном предмете»; автор находит, что последняя формула говорит о существенном признаке не идеи прекрасного, а того, что называется мастерским произведением искусства или всякой вообще человеческой деятельности, а первая формула слишком широка: она говорит, что прекрасные предметы те, которые лучше других в своем роде; но есть многие роды предметов, не достигающие красоты. Потому он признает оба господствующие выражения не совершенно удовлетворительными и принужден искать более точного определения, которое, как ему кажется, находит в формуле: «прекрасное есть жизнь; прекрасно то существо, в котором мы видим жизнь такою, какова она должна быть по нашим понятиям; прекрасен тот предмет, который выказывает в себе жизнь или напоминает нам о жизни». Представим здесь существенную часть анализа, на котором опирается этот вывод, — разбор принадлежностей человеческой красоты, как ее понимают различные классы народа.
«Хорошая жизнь, жизнь, как она должна быть», у простого народа состоит в том, чтобы сытно есть, жить в хорошей избе, спать вдоволь^ но вместе с этим у поселянина в понятии «жизнь» всегда заключается понятие о работе: жить без работы нельзя, да и скучно было бы. Следствием жизни в довольстве при большой работе, не доходящей, однако, до изнурения сил, у сельской девушки будет чрезвычайно свежий цвет лица и румянец во всю щеку — первое условие красоты по простонародным понятиям. Работая много, поэтому будучи крепка сложением, сельская девушка при сытной пище будет довольно плотна — это также необходимое условие сельской красоты: светская «полувоздушная» красавица кажется поселянину решительно «невзрачною», даже производит на него неприятное впечатление, потому что он привык считать «худобу» следствием болезненности или «горькой доли». Но работа не дает разжиреть: если сельская девушка толста, это род болезненности, знак «рыхлого» сложения, и народ считает толстоту недостатком. У сельской красавицы не может быть маленьких ручек и ножек, потому что она много работает — об этих принадлежностях красоты и не упоминается в наших песнях. Одним словом, в описаниях красавицы в народных песнях не найдется ни одного признака красоты, который не был бы выражением цветущего здоровья и равновесия сил в организме, всегдашнего следствия жизни в довольстве при постоянной и нешуточной, но не чрезмерной работе. Совершенно другое дело светская красавица: уже несколько поколений предки се жили, не работая руками; при бездейственном образе жизни крови льется в оконечности мало; с каждым новым поколением мускулы рук и ног слабеют, 'кости делаются тоньше; необходимым следствием всего этого должны быть маленькие ручки и ножки — они признак такой жизни, которая одна и кажется жизнью для высших классов общества, — жизни без физической работы; если у светской женщины большие руки и ноги, это признак или того, что она дурно сложена, или того, что она не из старинной хорошей фамилии. По этому же самому у светской красавицы должны быть маленькие ушки. Мигрень, как известно, интересная болезнь — и не без причины: от бездействия кровь остается вся в средних органах, приливает к мозгу, нервная система и без того уже раздражительна от всеобщего расслабления в организме, неизбежное следствие всего этого — продолжительные головные боли и разного рода нервические расстройства; что делать? и болезнь интересна, чуть не завидна, когда она следствие того образа жизни, который нам нравится. Здоровье, правда, никогда не может потерять своей цены в глазах человека, потому что н в довольстве, н в роскоши плохо жить без здоровья, — вследствие того румянец на щеках и цветущая здоровьем свежесть продолжают быть привлекательными и для светских людей; но болезненность, слабость, вялость, томность также имеют в глазах их достоинство [красоты], как скоро кажутся следствием роскошно бездейственного образа жизни. Бледность, томность, болезненность имеют еще другое значение для светских людей: если поселянин ищет отдыха, спокойствия, то люди образованного общества, у которых материальной нужды н физической усталости не бывает, но которым зато часто бывает скучно от безделья и отсутствия материальных забот, ищут- «сильных ощущений, волнений, страстей», которыми придается цвет, разнообразие, увлекательность светской жизни, без того монотонной и бесцветной. А от сильных ощущений, от пылких страстей человек скоро изнашивается: как же ие очароваться томностью, бледностью красавицы, если томность и бледность ее служат признаком, что она много жила?
9 Мила живая свежесть цвета,
Знак юных дней;
Но бледный цвет, тоски примета,
Еще милей.,
Но если увлечение бледною, болезненною красотою — признак искусственной испорченности вкуса, то всякий истинно образованный человек чувствует, что истинная жизнь — жизнь ума и сердца. Она отпечатывается в выражении лица, всего яснее в глазах — потому выражение лица, о котором так мало говорится в народных песнях, получает огромное значение в понятиях о красоте, господствующих между образованными людьми; и часто бывает, что человек кажется нам прекрасен только потому, что у него прекрасные, выразительные глаза… Взглянем на противоположную сторону предмета, рассмотрим, отчего человек бывает некрасив. Причину некрасивости общей фигуры человека всякий укажет в том, что человек, имеющий дурную фигуру, — «дурно сложен». Уродливость — следствие болезни или пагубных случаев, от которых особенно легко уродуется человек в первое время развития. Если жизнь и ее проявление — красота, очень естественно, что болезнь и ее следствия — безобразие. Но человек, дурно сложенный, — также урод, только в меньшей степени, и причины «дурного сложения» те же самые, которые производят уродливость, только слабее их. Горбатость — следствие несчастных обстоятельств, при которых совершалось развитие человека; но сутуловатость — та же горбатость, только в меньшей степени, и должна происходить от тех же самых причин. Вообще, худо сложенный человек — до некоторой степени искаженный человек: его фигура говорит нам не о жизни, не о счастливом развитии, а о тяжелых сторонах развития, о неблагоприятных обстоятельствах. От общего очерка фигуры переходим к лицу. Черты его бывают нехороши или сами по себе, или по своему выражению. В лице не нравится нам «злое», «неприятное» выражение, потому что злость — яд, отравляющий нашу жизнь. Но гораздо чаще лицо «некрасиво» ие по выражению, а по самым чертам; они бывают некрасивы в том случае, когда лицевые кости дурно организованы, когда хрящи и мускулы в своем развитии более или менее носят отпечаток уродливости, т. е. когда первое развитие человека совершалось в неблагоприятных обстоятельствах».
Господствующая теория признает, что красота в царстве природы — то, что напоминает нам о человеке и его красоте; потому ясно, что если в человеке красота есть жизнь, то и о красоте природы должно сказать то же самое. Анализ, которым г. Чернышевский подтверждает свое понятие о существенном значении прекрасного, мы упрекнем в том, что выражения, употребляемые
8 н. г. Черны шс некий, т. II
автором, могут ввести в недоумение, — инстинктивно или сознательно человек замечает связь красоты с жизнью? Само собою разумеется, что большею частью это бывает инстинктивно. Напрасно автор не позаботился указать это важное обстоятельство.
Различие между принимаемым и отвергаемым у автора воззрениями на прекрасное очень важно. Если прекрасное есть «полное проявление идеи в отдельном существе», то прекрасного в действительных предметах нет, потому что идея вполне проявляется только целым мирозданием, а в отдельном предмете вполне осуществиться не может; из этого будет следовать, что прекрасное в действительность вносится только нашею фантазиею, что поэтому истинная область прекрасного — область фантазии, а потому искусство, осуществляющее идеалы фантазии, стоит выше действительности и имеет своим источником стремление человека создать прекрасное, которого не находит он в действительности. Напротив, из понятия, предлагаемого автором: «прекрасное есть жизнь», следует, что истинная красота есть красота действительности, что искусство (как и полагает автор) не может создавать ничего равного по красоте явлениям действительного мира, и происхождение искусства легко тогда объясняется по теории автора, которую мы изложили выше. _
Подвергая критике выражения, которыми определяется в" господствующей эстетической системе понятие возвышенного, — «возвышенное есть перевес идеи над формою» и «возвышенное есть то, что пробуждает в нас идею беконечного», — автор приходит к заключению, что и эти определения неверны, — он находит, что предмет производит впечатление возвышенного, вовсе не возбуждая идеи бесконечного. Потому автор опять должен искать другого определения, и ему кажется, что все явления, относящиеся к области возвышенного, обнимаются и объясняются следующею формулою: «Возвышенное есть то, что гораздо больше всего, с чем сравнивается нами». Так, например, говорит он, Казбек — величественная гора (хотя вовсе не представляется чем-то безграничным или бесконечным), потому что гораздо выше пригорков, которые мы привыкли видеть; так, Волга — величественная река, потому что гораздо шире маленьких рек; любовь — возвышенная страсть, потому что гораздо сильнее ежедневных мелочных расчетов и интриг; Юлий Цезарь, Отелло, Дездемона — возвышенные личности, потому что Юлий Цезарь гораздо гениальнее обыкновенных людей, Отелло любит и ревнует, Дездемона любит гораздо сильнее обыкновенных людей.
Из господствующих определений, отвергаемых г. Чернышевским, следует, что прекрасное и возвышенное в строгом смысле не встречаются в действительности и вносятся в нее только нашею фантазиею; из понятий, предлагаемых г. Чернышевским, следует, напротив, что прекрасное и возвышенное действительно существуют в природе и челоі)сческой жизни. Но с тем вместе следует.
что наслаждение теми или другими предметами, имеющими п себе эти качества, непосредственно зависит от понятий наслаждающегося человека: прекрасно то, в чем мы видим жизнь, сообразную с нашими понятиями о жизни, возвышенно то, что гораздо больше предметов, с которыми сравниваем его мы. Таким образом, объективное существование прекрасного и возвышенного в действительности примиряется с субъективными воззрениями человека.
Понятию трагического, которое составляет важнейшую отрасль возвышенного, автор также дает новое определение, чтобы очистить его от трансцендентальной примеси, которою опутано оно в господствующей теории, связывающей его с понятием судьбы, внутренняя пустота которого доказана теперь наукою. Удаляя, сообразно требованию науки, из определения трагического всякую мысль о судьбе или необходимости, неизбежности, автор понимает трагическое просто как «ужасное в жизни человека».
Понятие комического (пустота, бессмысленность формы, лишенной содержания или имеющей претензию на содержание, несоразмерное ее ничтожеству) господствующей теориею развито так, что соответствует характеру современной науки, потому автор не имеет нужды изменять его, — оно уже и в обыкновенном своем выражении совершенно гармонирует с духом его теории. Таким образом, задача, которую предложил себе автор, — привести основные эстетические понятия в соответствие с настоящим развитием науки, исполнена, насколько то было доступно силам автора, и он заключает свое исследование так:
Апология действительности сравнительно с фантазиею, стремление доказать, что произведения искусства решительно не могут выдержать сравнения с живою действительностью, — вот сущность моего трактата. 'Говорить об искусстве так, как говорит автор, не значит ли унижать искусство? — Да, если показывать, что искусство ниже действительной жизни по художественному совершенству своих произведений, значит унижать искусство; но восставать против панегириков не значит еще быть хулителем. Наука. не думает быть выше действительности; это не стыд для нее. Искусство также не должно думать быть выше действительности; это не унизительно для него. Наука не стыдится говорить, что цель ее — понять и объяснить действительность, потом применить ко благу человека свои объяснения; пусть и искусство не стыдится признаться, что цель его: для вознаграждения человека в случае отсутствия полнейшего эстетического наслаждения, доставляемого действительностью, воспроизвести, по мере енл, эту драгоценную действительность и ко благу человека объяснить ее».
Заключение, по нашему мнению, не довольно развитое. Оно оставляет еще для многих повод предполагать, будто бы значение искусства на самом деле уменьшается, когда отвергаются безграничные панегирики безусловному достоинству его произведений и когда, вместо неизмеримо высоких трансцендентальных источников и целей^ источником и целью искусства поставляются потребности человека. Напротив, именно этим и возвышается реальное значение искусства, потому что таким объяснением дается ему неоспоримое и почетное место в числе деятельностей, служащих на благо человеку, а быть во благо человеку — значит иметь полное право на высокое уважение со стороны человека. Человек преклоняется пред тем, что служит ему во благо. Он называет хлеб — «хлеб-батюшка» за то, что питается им; он называет землю — «матушка-земля» за то, что она кормит его. Отец и мать! Все панегирики ничто пред этими священными именами, все высокопарные похвалы — пустота и ничтожность пред чувством сыновней любви и благодарности. Так и наука достойна этого чувства, потому что служит на благо человеку, так и искусство достойно его, когда служит на благо человеку. А оно много, много блага приносит ему; потому что произведение художника, особенно поэта, достойного этого имени, — «учебник жизни», по справедливому выражению автора, и такой учебник, которым с наслаждением пользуются все люди, даже и те, которые не знают или не любят других учебников. Этим высоким, прекрасным, благодетельным значением своим для человека должно гордиться искусство.
Г. Чернышевский сделал, по нашему мнению, очень прискорбную ошибку, не развив подробнее мысль о практическом значении искусства, о его благодетельном влиянии на жизнь и образованность. Конечно, он этим эпизодом переступал бы границы своего предмета; но иногда такие нарушения систематически необходимы для объяснения предмета. Теперь, несмотря на то, что сочинение г. Чернышевского все проникнуто уважением к искусству за его великое значение для жизни, могут найтись люди, которые не захотят видеть этого чувства, потому что нигде не посвящено ему нескольких отдельных страниц; могут подумать, что он не ценит по достоинству благодетельного влияния искусства на жизнь или преклоняется перед всем, что представляет действительность. Как думает об этом г. Чернышевский, или как будут в этом случае думать о нем другие, для нас все равно: он оставил недосказанными свои мысли и должен отвечать за такое упущение. Но мы должны объяснить то, что забыл объяснить он, чтобы характеризовать отношения современной науки к действительности.
Действительность, нас окружающая, не есть нечто однородное и однохарактерное по отношениям своих бесчисленных явлений к потребностям человека. Понятие это мы встречаем и у г. Чернышевского: «Природа, — говорит он, — не знает о человеке и его делах, о его счастии и погибели; она бесстрастна к человеку, она не друг и не враг ему» (стр. 28); «часто человек страдает и погибает без всякой вины с своей стороны» (стр. 30); природа не всегда соответствует его потребностям; потому человек для спокойствия и счастия своей жизни должен во многом изменять объективную действительность (стр. 99), чтобы приспособить ее к потребностям своей практической жизни (стр. ' 59). Действительно, в числе явлений, которыми окружен человек, очень много таких, которые неприятны или вредны ему; отчасти инстинкт, еще более наука (знание, размышление, опытность) дают ему средства понять, какие явления действительности. хороши и благоприятны для него, потому должны быть поддерживаемы и развиваемы его содействием, какие явления действительности, напротив, тяжелы и вредны для него, потому должны быть уничтожены или по крайней мере ослаблены для счастия человеческой жизни; наука же дает ему и средства для исполнения этой цели. Чрезвычайно могущественное пособие в этом оказывает науке искусство, необыкновенно способное распространять в огромной массе людей понятия, добытые наукою, потому что знакомиться с произведениями искусства гораздо легче и привлекательнее для человека, нежели с формулами и суровым анализом науки. В этом отношении значение искусства для человеческой жизни неизмеримо огромно. Не говорим о наслаждении, доставляемом человеку его произведениями, потому что толковать о высокой цене эстетического наслаждения для человека — дело совершенно излишнее: об этом значении искусства и без того говорят уже слишком много, забывая другое, более существенное значение искусства, которое занимает теперь нас.
Наконец, г. Чернышевский, нам кажется, сделал также очень важную ошибку, не объяснив отношения современного положительного или практического миросозерцания к так называемым «идеальным» стремлениям человека, — и здесь также часто случается необходимость восставать против недоразумений. Положительность, принимаемая наукою, не имеет ничего общего с тою пошлою положительностью, которая господствует в сухих людях и которая противоположна идеальным, но здоровым стремлениям. Мы видели, что современное Миросозерцание считает науку и искусство такими же насущными потребностями человека, как пищу и дыхание. Точно так же оно благоприятно всем другим высшим стремлениям человека, которые имеют основание в голове или сердце человека. Голова и сердце так же необходимы для истинно человеческой жизни, как желудок' Если голова не может жить без желудка, то и желудок умрет с голоду, когда голова не будет приискивать ему питания. Этого мало. Человек — не улитка, он не может жить исключительно только для наполнения желудка. Жизнь умственная и нравственная (развивающаяся надлежащим образом тогда, когда здоров организм, т. е. материальная сторона человеческой жизни идет удовлетворительно) — вот истинно приличная человеку и наиболее привлекательная для него жизнь. Современная наука не разрывает человека по частям, не искажает его прекрасного организма хирургическими ампутациями, признает равно нелепыми и пагубными устарелые стремления ограни-
чивать человеческую жизнь одною головою или одним желудком. Оба эти органа равно необходимо принадлежат человеку, и равно существенна для человека жизнь и того и другого органа. Потому-то благородные стремления ко всему высокому и прекрасному признает наука в человеке столь же существенными, как потребность есть и пить. Она так же любит, — потому что наука не отвлеченна и не холодна: она любит и негодует, преследует и покровительствует, — она так же любит благородных людей, которые заботятся о нравственных потребностях человека или скорбят, видя, как часто они не удовлетворяются, как любит и тех людей, которые заботятся о материальных потребностях своих собратий.
Мы изложили мысли, высказанные автором, выставляя на вид и поправляя замеченные нами ошибки его. Теперь остается нам произнесть свое мнение о его книге. Мы должны сказать, что автор обнаруживает некоторую способность понимать эти общие начала и некоторое уменье прилагать их к данным вопросам; у него также заметна способность различать в данных понятиях элементы, согласные с общими воззрениями современной науки, и другие элементы, несогласные с ними. Потому его теория имеет внутреннее единство характера. До какой степени она справедлива, это решит время. Но, охотно признавая, что мысли, изложенные автором, заслуживают внимания, мы с тем вместе должны сказать, что ему почти всегда принадлежит только изложение и применение этих мыслей, которые уже даны ему наукою. Перейдем же к оценке его изложения. Многочисленные ошибки и опущения, нами замеченные, доказывают, что г. Чернышевский писал свое исследование в то время, когда в нем самом еще совершался процесс развития выводимых им мыслей, когда они еще не достигли полной, всесторонней, установившейся систематичности. Если б он повременил издавать свое сочинение, оно могло бы иметь более научного достоинства, если не в сущности, то по крайней мере в изложении. Он сам, кажется, чувствовал это, говоря: «Если
эстетические понятия, выводимые мною из господствующих ныне воззрений на отношения человеческой мысли к живой действительности, еще остались в моем изложении неполны, односторонни или шатки, то это, я надеюсь, недостатки не самых понятий, а только моего изложения» (стр. 8). Надобно сказать что-нибудь и о форме сочинения. Мы ею решительно недовольны, потому что она кажется нам не соответствующею цели автора — возбудить внимание к мыслям, на которых он старается построить теорию искусства. Достичь' этой цели он мог, придав своим общим мыслям живой интерес приложением их к текущим вопросам нашей литературы. Он мог показать многочисленными примерами живую связь общих начал науки с интересами дня, которые занимают столь многих.
1855 г.
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ИСКУССТВА К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
(ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ)1
•
В сороковых годах большинство образованных людей в России живо интересовалось немецкой философией; лучшие наши публицисты передавали русской публике, насколько то было возможно, идеи, господствовавшие тогда в ней. Это. были идеи Гегеля и его учеников.
Теперь в самой Германии остается мало последователей Гегеля; тем меньше остается их у нас 2. Но в конце сороковых и в начале пятидесятых годов его философия владычествовала в нашей литературе. Почти все люди просвещенного образа мыслей сочувствовали ей, насколько знали ее из неполных изложений ее нашими публицистами 3. Немногие, имевшие привычку читать философские книги на немецком языке, были в своих кружках разъ-яснителями того, что не досказывалось в печатных русских "изложениях ее; этих комментаторов слушали жадно, они пользовались глубоким уважением своих любознательных знакомых. При жизни Гегеля единство образа мыслей поддерживалось между его учениками личным его авторитетом. Но уже и при нем появлялись в немецкой философской литературе исследования, в которых излагались выводы из основных его идей, или умалчиваемые, или в случае крайней надобности даже лорицаемые им. Важнейшим из таких. исследований было анонимное сочинение «Мысли о смерти и бессмертии» («Cedanken über Tod und Unsterblichkeit») 4. Оно было напечатано в 1830 году, за тод до смерти Гегеля. Когда умер авторитетный учитель, одинаковость мыслей у массы его последователей стала ослабевать, и в 1835 году, по поводу издания трактата Штрауса «Жизнь Иисуса» (Das Leben Jesu») 5, школа Гегеля распалась на три отдела: некоторые остались верны системе осторожного либерализма своего учителя; важнейшими из них были Мишелет и Розенкранц; они образовали отдел, который получил название центра; довольно многие-стали открыто высказывать мнения решительно прогрессивные; сильнейшим представителем этого направления был Штраус; он и шедшие вместе с ним философы образовали левую сторону гегелевской школы; очень многие ученики Гегеля были шокированы резкостью их мнений, в особенности выводами экзегетики 6 Штрауса, и в полемике с левой стороной отбросили все те прогрессивные элементы, которые были соединены с консервативными в системе Гегеля; эта многочисленная группа составила правую сторону. Центральная партия старалась смягчить полемику правой стороны с левою, но это оказалось невозможным; они, идя каждая своим направлением, отходили все дальше и дальше одна от другой, и перед тем временем, когда политические события 1848 года 7 дали массе немецкой публики интересы, перед которыми утратили важность философские споры, разрыв между левой и правой сторонами гегельянцев произвел тот результат, что большинство философов правой стороны уже держалось только терминологии Гегеля, излагая посредством ее идеи XVIII века, а большинство мыслителей левой стороны влагало в рамки гегелевской диалектики содержание, более или менее сходное с так называемой философией энциклопедистов 8.
Автор «Мыслей о смерти и бессмертии», Людвиг Фейербах, занимался несколько лет трудами по истории новой философии. Вероятно, они содействовали тому, что понятия его приобрели широту, далеко переходившую обычный круг идей немецкой философии, развившейся после Канта. Левая сторона гегелевской школы считала его своим. Он сохранял часть гегелевской терминологии. Но в 1845 году, в предисловии к Собранию своих сочинений, он уже говорил, что философия отжила свой век, что ее место должно быть занято естествознанием. Делая обзор тех' фазисов развития, которые проходила его мысль, и показывая при каждом из них, почему она не остановилась на нем, признала его устаревшим и перешла к следующему, он, по изложении основных идей последних своих трудов, говорит: «Но и эта точка зрения не устарелая ли?» и отвечает: «К сожалению, да, да!» Leider, leider! Это заявление, что он считает устаревшими и такие свои труды, как «Сущность религии» («Das Wesen der Religion») 9, основывалось на надежде, что скоро явятся натуралисты, способные заменить философов в деле разъяснения тех широких вопросов, исследование которых было до той поры специальным занятием мыслителей, называвшихся философами.
Оправдалась ли надежда Фейербаха хотя теперь, больше чем через 40 лет после того, как была высказана? — вопрос, которого я не буду разбирать. Мой ответ на него был бы грустный.
Автор брошюры, к третьему изданию которой пишу я предисловие, получил возможность пользоваться хорошими библиотеками и употреблять несколько денег на покупку книг в 1846 году. До того времени он читал только такие книги, какие можно доставать в провинциальных городках, где нет порядочных библиотек. Он был знаком с русскими изложениями системы Гегеля, очень неполными. Когда явилась у него возможность ознакомиться с Гегелем в подлиннике, он стал читать эти трактаты. В подлиннике Гегель понравился ему гораздо меньше, нежели ожидал он по русским изложениям. Причина состояла в том, что русские последователи Гегеля излагали его систему в духе левой стороны гегелевской школы. В подлиннике Гегель оказывался более похож на философов XVII века и даже на схоластиков, чем на того Гегеля, каким являлся он в русских изложениях его системы. Чтение было утомительно по своей явной бесполезности для сформирования научного образа мыслей. В это время случайным образом попалось желавшему сформировать себе такой образ мыслей юноше одно из главных сочинений Фейербаха 10. Он стал последователем этого мыслителя; и до того времени, когда житейские надобности отвлекли его от. ученых занятий, он усердно перечитывал и перечитывал сочинения Фейербаха.
Лет через шесть после начала его знакомства с Фейербахом представилась ему житейская надобность 11 написать ученый трактат. Ему казалось, что он может применять основные идеи Фейербаха к разрешению некоторых вопросов по отраслям знаний, не входившим в круг исследований его учителя.
Предметом трактата, который нужно было ему написать, должно было быть что-нибудь относящееся к литературе. Он вздумал удовлетворить этому условию изложением тех понятий об искусстве, и в частности о поэзии, которые казались ему выводами из идей Фейербаха. Таким образом, брошюра, предисловие к которой пишу я, — попытка применить идеи Фейербаха к разрешению основных вопросов эстетики.
Автор не имел ни малейших притязаний сказать что-нибудь новое, принадлежащее лично ему. Он желал только быть истолкователем идей Фейербаха в применении к эстетике.
Странную несообразность с этим представляет то обстоятельство, что во всем его трактате ни разу не упоминается имя Фейербаха. Дело объясняется тем, что это имя было тогда невозможно употреблять в русской книге. У автора нет и имени Гегеля, хотя он постоянно полемизирует против эстетической теории Гегеля, продолжавшей господствовать тогда в русской литературе, но излагавшейся уже без упоминаний о Гегеле. Это имя тоже было неудобно тогда для употребления на русском языке |2.
Из трактатов по эстетике лучшим считался тогда обширный и очень ученый труд Фишера «Эстетика, или наука прекрасного» («Aesthetik, oder Wissenschaft der Schönen»), Фишер был гегельянец левой стороны, но имя его не принадлежало к числу неудобных, потому автор называет его, когда имеет необходимость сказать, против кого же полемизирует он; и когда надобно приводить подлинные слова какого-нибудь защитника опровергаемых автором эстетических понятий, он делает выписки из «Эстетики» Фишера. «Эстетика» самого Гегеля в то время была устарелой по фактическим подробностям; в этом состояла причина предпочтения, которое отдавалось тогда «Эстетике» Фишера, труду в то время еще новому, свежему. Фишер — мыслитель довольно сильный, но сравнительно с Гегелем он пигмей. Все его отступления от основных идей «Эстетики» Гегеля — порча их. Впрочем, те места, которые приводит автор, излагают идеи Гегеля без всяких перемен.
Прилагая основные идеи Фейербаха к разрешению эстетических вопросов, автор приходит к системе понятий, находящихся в совершенном противоречии с эстетической теорией, которой держится Фишер, гегельянец левой стороны. Это соответствует отношению философии Фейербаха к философии Гегеля даже в том ее виде, какой получила она у мыслителей левой стороны школы Г егеля. Она нечто совершенно иное, чем метафизические системы, самой лучшей из которых в научном отношении была гегелевская. Родство содержания исчезло, осталось только употребление некоторых терминов, общих всем немецким системам философии с Канта до Г егеля. Мыслители левой стороны школы Г егеля видели у Фейербаха, по достижении им самостоятельности, такие желания относительно общественного быта, которые были и у них самих, как и у огромного большинства просвещенных людей того времени; поэтому они считали его своим. До 1848 года не была замечаема ими коренная разница его образа мыслей от их понятий. Она обнаружилась различием взгляда на события весны 1848 года в Германии13. Переворот, происшедший в конце февраля во Франции, ободрил партию реформы в Германии: ей показалось, что масса немецкого народа сочувствует ее стремлениям, и в первых числах марта она при одобрении массы горожан захватила власть в Бадене, Вюртемберге, в мелких государствах Западной Германии; несколькими днями позднее произошел переворот в Австрии: Венгрия получила независимость от венского правительства. Через неделю после переворота в Вене произошел переворот в Берлине. Партия реформы получила уверенность, что не только правительства второстепенных и мелких немецких государств, сформированные из ее местных вождей, будут помогать исполнению ее желаний, но и австрийское и прусское правительства, составленные теперь из людей более или менее либерального образа мыслей и патриотического направления чувств, или будут помогать ей, или, по крайней мере, повиноваться ее требованиям. В конце марта собрался во Франкфурте, столице прежней немецкой империи, многочисленный съезд-представителей либеральной партии. Они объявили свое собрание (форпарламент, предварительный парламент) имеющим власть и обязанность сделать распоряжения о созвании немецкого парламента («национального собрания»), контролировать действия заседавшего во Франкфурте немецкого сейма, состоявшего по старому устройству из уполномоченных от немецких правительств, и принимать меры, необходимые для того, чтобы все немецкие правительства, в том числе и прусское и австрийское, повиновались этому сейму, постановляющему решения, диктуемые форпарламентом. Действительно, все правительства повиновались, даже и прусское и австрийское повиновались форпарламенту и. немецкому сейму, над которым владычествовал он. По всей территории учрежденной в 1815 году федерации государств, называвшейся Немецким союзом, были произведены выборы депутатов в немецкий парламент, который соберется во Франкфурте и установит новое государственное устройство Германии, обратит ее из федерации государств, Staatenbund, в «федеративное государство», Bundesstaat. Национальное собрание (как назывался этот немецкий парламент) открыло 18 мая свои заседания во Франкфурте; все правительства признали его власть. Оно 14 июня выбрало временным правителем Германии эрцгерцога Иоанна, дядю австрийского императора, передавшего ему временное управление Австрией. Он привел в порядок австрийские дела, приехал во Франкфурт и 12 июля принял на себя управление Немецким союзом. Не только австрийское, но и прусское правительство признало его власть. Немецкое национальное собрание занималось составлением конституции немецкого союзного государства. Повидимому, исполнялись надежды немецкой партии реформ.
Вся левая сторона гегелевской школы деятельно участвовала в событиях, имевших своим результатом созвание немецкого национального собрания, повиновение немецких правительств ему, учреждение временного центрального правительства и повиновение всех частных немецких правительств ему.
Фейербах не принял никакого участия ни в агитации, которая привела к этим успехам, ни в совещаниях немецкого национального собрания. Этим он навлек на себя порицания. Когда дело кончилось падением всех, надежд партии реформ-, он сказал, что с самого начала предвидел полную неудачу, потому и не мог участвовать в деле, которое считал с самого начала не имеющим никаких шансов успеха. Программа партии реформ была, по его мнению, непоследовательна, силы, партии реформ были недостаточны для преобразования Германии, надежды ее на успех фантастичны. Когда он высказал это мнение, оно уже казалось справедливым огромному большинству просвещенных людей в Германии. Если б он стал оправдываться раньше, то к несправедливому порицанию прибавилось бы справедливое, что заявлением своего мнения он ослабил партию реформ. Потому он молча выносил упрек в недостатке смелости, в холодности к благу нации. Теперь дело партии реформ было окончательно проиграно, и оправданием своего образа действий он уже не мог повредить ей.
Различие его взгляда на политические события весны 1848 года от взгляда левой стороны гегелевской школы соответствовало различию его системы философских убеждений от тех мыслей, которых держалась она. Философский образ мыслей учеников Гегеля, составивших по его смерти левую сторону гегельянства, был недостаточно последователен, сохранял слишком много фантастических понятий, или принадлежавших специально системе Гегеля, или общих ей со всеми метафизическими системами немецкой философии, начиная с Канта, который, восставая против метафизики, сам погружался в нее глубже предшествовавших ему и опровергаемых им немецких философов школы Вольфа. Вместе с тем философы левой стороны гегелевской школы были недостаточно разборчивы в усвоении себе тех взглядов специалистов по естествознанию и по общественным наукам, которые казались прогрессивными; вместе с научной истиной они брали из этих специальных трактатов много ошибочных теорий. Эти слабые стороны образа мыслей философов левой стороны гегельянства с наибольшей резкостью проявляются в трудах Бруно Бауэра, того из ее деятелей, который был умом сильнее всех других, кроме Штрауса. Он несколько раз переходил от одной крайности к другой и, например, начав осуждением экзегетической критики Штрауса за ее разрушительность, сам через несколько времени написал экзегетический трактат, сравнительно с которым экзегетика Штрауса оказывалась консервативной (теорию мифа, которой держался Штраус, Бруно Бауэр заменил теорией личного авторского произвола) и; потому его труды, свидетельствующие об очень большой силе ума, не приобрели такого влияния на мысли рассудительных людей, как труды Штрауса, всегда остававшегося человеком рассудительным.
Постоянно работая над улучшением своих понятий, Штраус привел их, наконец, в систему, которую изложил в трактате «Старая вера и новая вера» («Der alte und der neue Glaube»). Эта книга вышла в 1872 году. Повидимому, Штраус предполагал тогда, что совершенно очистил свои понятия от метафизических элементов. Так показалось и большинству образованных людей в Германии. На самом деле, он, принимая все выводы естёствознания, сохраняет в своих мыслях довольно много метафизических элементов; а теории натуралистов принимает слишком неразборчиво, не имея силы различить в них недоразумения от научной истины.
Фейербах был не таков; его система имеет чисто научный характер.
Но вскоре после того, как он выработал ее, болезнь ослабила его деятельность. Он был еще не старик, но уже чувствовал, что у него не достанет времени изложить сообразно с основными научными идеями те специальные науки, которые оставались тогда и остаются до сих пор ученой собственностью так называемых философов, по неподготовленности специалистов к разработке широких понятий, на которых основывается решение коренных во-
просов этих отраслей знания. (Если называть эти науки старыми их именами, то главные из них: логика, эстетика, нравственная философия, общественная философия, философия истории). Потому-то в предисловии к собранию своих сочинений в 1845 году он уж говорил, что его труды должны быть заменены другими, но что у него уже нет сил произвести эту Замену. Этим чувством объясняется его печальный ответ на вопрос, который он предлагает себе: «Не устарела ль и нынешняя твоя точка зрения?
К сожалению, да, да!» Leider, leider! Действительно ль устарела она? Разумеется, да, в том смысле, что центр исследований о наиболее широких вопросах науки должен быть перенесен из области специальных исследований о теоретических убеждениях народных масс и об ученых системах, построенных на основании этих простонародных понятий, в область естествознания 15. Но этого не сделано до сих пор. Те натуралисты, которые воображают себя строителями всеобъемлющих теорий, на самом деле остаются учениками, и обыкновенно слабыми учениками, старинньЛс мыслителей, создавших метафизические системы, и обыкновенно мыслителей, системы которых уже были разрушены отчасти Шеллингом и окончательно Гегелем. Достаточно напомнить, что большинство натуралистов, пытающихся строить широкие теории законов деятельности человеческой мысли, повторяют метафизическую теорию Канта о субъективности нашего знания, толкуют со слов Канта, что формы нашего чувственного восприятия не имеют сходства с формами действительного существования предметов, что поэтому предметы, действительно существующие, и действительные качества их, действительные отношения их между собою не познаваемы для нас, и если бы были познаваемы, то не могли бы быть предметом нашего мышления, влагающего весь материал знаний в формы, совершенно различные от форм действительного существования, что и самые законы мышления имеют лишь субъективное значение, что в действительности нет ничего такого, что представляется нам связью причины с действием, потому что нет ни предыдущего, ни последующего, нет ни целого, ни частей, и так далее, и так далее. Когда натуралисты перестанут говорить этот и тому подобный метафизический вздор, они сделаются способны выработать и, вероятно, выработают, на основании естествознания, систему понятий более точных и полных, чем те, которые изложены Фейербахом. А пока лучшим изложением научных понятий о так называемых основных вопросах человеческой любознательности остается то, которое сделано Фейербахом 16.
Автор брошюры, выходящей теперь новым изданием, высказывал в ней, насколько мог, что придает важность только тем мыслям, которые взял из трактатов своего учителя, — что эти страницы его брошюры составляют все достоинство, какое может быть находимо в ней; те выводы, какие он делал из мыслей Фейербаха для разрешения специальных эстетических вопросов.
казались ему в то время правильными; но он и тогда не считал их особенно важными. Он был доволен своим небольшим трудом только в том отношении, что ему удалось передать на русском языке некоторые из идей Фейербаха в тех формах, какие представляла тогда для подобных работ необходимость сообразоваться с условиями русской литературы.
Сделав анализ понятия о прекрасном, автор говорит, что определение этого понятия, кажущееся ему справедливым, составляет, по его мнению, «вывод из таких общих воззрений на отношения. действительного мира к воображаемому, которые совершенно различны от господствовавших прежде в науке». Это надобно понимать так: он делает вывод из той мысли Фейербаха, что воображаемый мир только переделка наших знаний о действительном мире, производимая нашей фантазией в угождение нашим желаниям; что эта переделка бледна по интенсивности и скудна содержанием сравнительно с впечатлениями, производимыми на наши мыс-Іи предметами действительного мира 17.
Вообще автору принадлежат только те частные мысли, которые относятся к специальным вопросам эстетики. Все мысли более широкого объема в его брошюре принадлежат Фейербаху. Он передавал их верно и, насколько допускало состояние русской литературы, близко к изложению их у Фейербаха.
Пересматривая его брошюру, мы сделали несколько поправок в тексте. Они относятся исключительно к мелочам. Мы не хотели переделывать перепечатываемую нами брошюру. В старости не годится переделывать то, что написано в молодости.
1888 г.
КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ1
Не будучи довольны эстетическими понятиями, мы должны, однако же, излагать их в довольно подробной связности в своих критических статьях, цель которых — ртвержение многих из ныне господствующих в эстетике понятий и заменение их новыми; мы должны излагать их, прежде нежели будем подвергать критике, потому что большинство нашей публики мало еще с ними знакомо, и в своем изложении мы имеем двоякую цель: во-первых, дать основание нашей критике, которая без того не была бы ясна для большинства читателей; во-вторых, распространить знакомство с современными эстетическими понятиями в русской публике; при всей своей односторонности, они стоят того, чтобы с ними ближе познакомиться, потому что в них очень много верного, и, восставая против многих из них, мы не думаем восставать против всех; а от увлечения теми, которые, по нашему мнению, односторонни или фальшивы, мы постараемся предохранить нашею критикою, которая будет постоянно следовать за их изложением.
Само собою разумеется, что мы будем излагать эстетические понятия, развитые преимущественно немецкими эстетиками, потому что только немецкая эстетика заслуживает название эстетики.
Но мы будем стараться по мере возможности разоблачать их от схоластической мантии, в которую они обыкновенно закутываются. Нам кажется это необходимым по многим соображениям, из которых два можем теперь же высказать: нам кажется, что, разоблаченные от схоластики, рассматриваемые в отдельности от принципов и гипотез той философии, которая до сих пор еще сохраняет в Германии владычество над эстетикою (гегелевская философия), эстетические понятия много выиграют в прочности, потому что гегелева философия давно уже разрушена людьми, провозгласившими новый, более простой взгляд на вещи, о которых так мудрено говорили Гегель и его предшественники; потому, опираясь на гегелевскую философию, все нынешние эстетические понятия должны были бы пасть вместе с нею, между тем как очень многое в них должно быть сохранено нами и после отвер-
жения философии Гегеля. Кроме того, освобожденные от гегелевской терминологии и стеснительной методы развития, эстетические понятия будут гораздо яснее, общепонятнее, общеинтереснее для читателей, не знакомых с философией Гегеля, ее натянутыми, теперь уже ниспровергнутыми предположениями, которые выдавала она за краеугольные камни здания науки и которые только мешали науке быть искреннею, и вообще наши статьи будут удобочитаемее для людей, не привыкших к утомительно педантическому изложению гегелепой школы.
Имя эстетики является в первый раз у Баумгартена, одного из последователей вольфовой философии, господствовавшей в Г ер-мании до Канта и некогда распространенной в России учебником Баумейстера, по которому преподавалась философия во многих наших учебных заведениях. У Вольфа первою частью философии была гносеология — наука о познавательных силах и законах правильного их действования. Баумгартен находил очень важный пробел в изложении этой приготовительной части философии у Вольфа: разделяя познания на сенситивные (получаемые через чувства) и интеллектуальные (принадлежащие нашему рассудку, обрабатывающему познания, полученные посредством чувств), Вольф говорил только о законах интеллектуального познавания. По мнению Баумгартена, необходимо исследовать сущность и законы чувственного познавания, и первою частью гносеологии должно быть учение о чувственном познании, которое называет он эстетикою (в переводе с греческого это будет значить «наука о чувстве»). Но с самого же начала в его эстетике вместо простого чувственного познавания трактуется о познании прекрасного, корень которого, правда, в чувственном познании, но которое, тем не менее, существенно различно от чувственного познания. Вот каким образом доходит он до смешения этих двух различных предметов: «цель эстетики (слова Баумгартена) совершенство чувственного познания; совершенство чувственного познания есть прекрасное (или красота, pulchritudo)»; потому что «прекрасное состоит в гармонии образов» (а гармония образов — необходимое условие совершенства чувственного познания). В таком же значении (наука о прекрасном) стал употреблять слово «эстетика» Кант, и его творение: «Критика эстетической силы суждения» («Kritik der ästhetischen Urtheilskraft) — ввело слово «эстетика» во всеобщее употребление.
ОБЫКНС ВЕННОЕ ПОНЯТИЕ О ПРЕКРАСНОМ (DAS SCHÖNE)
И ЕГО КРИТИКА
Простейшее и лучшее из определений эстетики — «эстетика есть наука о прекрасном», и потому предмет ее — исследование идеи прекрасного, различных сторон ее и того, каким образом она осуществляется.
Что же такое прекрасное вообще? На этот вопрос теперь обыкновенно дают следующий ответ:
Все существующее в мире есть выражение, осуществление божественной мысли (идеи); общая идея всего существующего не может проявиться (осуществиться) вполне, всецело, исключительно в каком бы то ни было отдельном предмете; она вполне проявляется только в целости всего существующего во вселенной; только все мироздание во всей своей жизни от самого начала мира до самого конца будет полным ее выражением. Общая идея всего существующего, проявляясь в мире, разветвляется на целый ряд частных идей, которые, в свою очередь, опять разветвляются на идеи еще более частные. Так, общая идея чувственного существа, проявляясь в мире, разветвляется в различные царства природы (царство природы неорганической, растительное царство, животное царство); каждое царство природы разветвляется на разные классы (например, царство животных на классы рыб, птиц, млекопитающих и т. д.); классы в свою очередь делятся на роды, роды на породы и т. д. Каждая из этих определенных (частных) идей, напр., идея млекопитающего животного, также не проявляется вполне в одном каком-нибудь отдельном предмете, она вполне осуществляется только всем бесчисленным множеством и всею жизнью всех подходящих под нее существ. Это полное осуществление частной идеи, никогда не могущее проявиться в отдельном существе, может быть постигнуто только нашею мыслью; чувства наши, которым представляется только некоторая часть вселенной, только отдельные предметы, мосут замечать только те стороны идеи, которые выразились в данном предмете, и только в той степени, до какой они выразились в нем. Возьмем в пример идею млекопитающего животного: мы видим чувствами не млекопитающее животное вообще, а отдельных животных определенной породы: слона, тигра, кошку, лошадь. Лошадь кажется довольно полным осуществлениём идеи млекопитающего; но не все стороны идеи млекопитающего выразились в лошади (напр., в ней очень мало переимчивости, которая так сильна в обезьяне), и те, которые выразились, выразились далеко не вполне; сила, напр., также необходимая сторона идеи млекопитающего, гораздо полнее выражается в тигре, во льве; лошадь очень легка на бегу; но все-таки ее бег очень тяжел в сравнении с бегом серны или даже собаки; и самая серна проявляет не все стороны понятия легкости бега: она не может прыгать с легкостью и непринужденностью тигра или кошки; зато тигр и кошка не способны к такому ровному, продолжительному бегу, как серна или собака. Таким образом, ни одно животное не может быть полным проявлением идеи млекопитающего; но ни одно отдельное животное не может быть полным проявлением даже идеи своей породы: так, скаковая лошадь представляет почти исключительно только одну сторону лошади — вообще быстроту бега; силы в ней очень мало; сила выражается в ломовой лошади, не способной к такому быстрому бегу, как лошадь скаковая. Продолжив это дробление, мы увидим, что самая частная идея не выражается никогда вполне в отдельном существе, и убедимся, что чувствами никогда мы не можем видеть полного осуществления идеи.
Но умственные силы неразвившегося еще человека так слабы, что не могут заметить разницу между идеею и проявлением ее в отдельном предмете; человеку довольно много надобно пожить, довольно много видеть, много передумать, чтобы понять, как далеко не может отдельный предмет выразить всю идею, которая до некоторой степени проявляется в нем; общий характер детства состоит в том, что отдельный предмет кажется вполне совершенным, что кажется, будто ничего другого, может быть, гораздо лучшего, и нет в этом роде. Нам всем казалось, что в этой грамматике, по которой начали мы учиться, заключена грамматическая премудрость, что нет и наук на свете, кроме той грамматики, которой начали мы учиться; наш первый учитель казался нам величайшим мудрецом на свете, он был для нас «сама ученость». Так бывает во всех областях умственной деятельности: человек сначала не понимает общего понятия в отдельности от частного предмета, который у него перед глазами, он не знает, что какая-нибудь Клязьма или Тверца, на которой стоит его родной город, не единственная, не лучшая река в мире, что есть реки и больше и лучше ее, что, наконец, и все реки в мире заключают в себе только самую ничтожную частичку всей массы воды в мире. Смешение общего понятия (идеи) с отдельным предметом — общий характер всякой умственной деятельности на первой степени ее развития. В науке это называется непосредственностью.
Итак, идея прежде всего является духу под формою непосредственности, кажется вполне воплотившеюся в отдельном чувственном предмете; духу кажется, что в отдельном предмете, наблюдаемом чувствами, выразились вполне все стороны частной идеи, точно так же ему кажется, что в этой частной идее вполне выразилась вся общая идея всего существующего. Это только кажется (ist ein Schein), потому что идея вполне никогда не выражается в отдельном существе; но некоторая часть ее действительно в нем осуществилась, а потому под этим «кажется», под этим призраком скрывается действительное проявление (Erscheinung). Это проявление идеи в отдельном чувственном существе есть прекрасное (das Schöne); иначе сказать, прекрасное есть отдельное чувственное существо, являющееся полным и чистым выражением идеи, так что в идее не остается ничего, не проявившегося чувственно в этом отдельном существе, и нет ничего в этом существе, что не было бы чистым выражением идеи.
Таким образом, в прекрасном три отдельных стороны, или, выражаясь философским термином, три момента: 1) идея, 2) чувственное проявление ее, отдельный предмет и 3) един-
ство идеи с проявляющим ее предметом, соединение их в одно целое.
Идея на философском языке значит совсем не то, что простое отвлеченное понятие. Составляя себе отвлеченное понятие о предмете, мы отбрасываем все определенные, живые подробности, с которыми предмет является в действительности, и оставляем только его общие существенные черты; у действительно существующего человека есть определенный рост, определенный цвет волос, определенный цвет лица, но рост у одного человека большой, у другого маленький, у одного человека цвет лица бледный, у другого румяный, у одного белый, у другого смуглый, у третьего, как у негра, совершенно черный, — все эти разнообразные подробности не определяются общим понятием, выбрасываются из него. Потому в действительном человеке всегда находится гораздо больше признаков и качеств, нежели сколько находится их в от- влеченном понятии человека вообще. В отвлеченном понятии остается только сущность предмета, но сущность мертвая, неподвижная, не определенная жизненными подробностями; такого предмета, каким остается он в отвлеченном понятии, не может существовать в действительности. Напротив, идеею предмета называется сущность его в том виде, в каком она проявляется в действительности; идеею предмет определяется до мельчайших подробностей, потому что без совершенно определенных подробностей не существует предмет в действительности. Потому мир идей и, следовательно, мир прекрасного начинается только с областью жизни.,
Когда мы смотрим на живое существо только со стороны его полезности для нас, не обращая внимания на его внутренние чувства и потребности, мы смотрим на него как на мертвый предмет; так, лошадь для извозчика ничем не отличается от телеги, которую везет она: он бережет лошадь, но он также бережет и телегу, он кормит лошадь, но также он подмазывает и телегу; потому только, что на не подмазанной'телеге не увезешь большой клади, что на некормленной лошади не увезешь много клади. Когда мясник откармливает корову на убой, он смотрит на нее теми же глазами, какими огородник смотрит на свою капусту. Живое, рассматриваемое только со стороны его полезности для человека, перестает быть живым для нас; потому оно перестает быть и прекрасным в наших глазах. Таким образом, животные и природа должны быть рассматриваемы в их самостоятельности, независимо от выгод человека, для того, чтобы в них была видна идея прекрасного, иначе мы увидим в них только существа полезные или вредные, но не существа прекрасные. В пример того, каким образом в области прекрасного должны быть рассматриваемы даже домашние животные, повидимому, существующие только для удобств челопека, приведем описание из книги Иова:
«Копытом копая, на поли играет и исходит на поле с крепо-стию; сретая стрелы посмеявается, и не отвратится от железа… Трубе же вострубившей глаголет: «благо же», издалеча же обоняет рать со скаканием и ржанием» — здесь рисуется конь боевой, слуга воина, но рисуется как самостоятельное существо, Со своими собственными ощущениями, со своим восторгом при чуянии битвы.
Мы сказали, что, переходя в действительность, общая идея всего существующего разветвляется на частные идеи, которые проявляются в действительности как различные роды существ, так что каждый род существ должно рассматривать как осуществление особенной частной идеи. Одни из частных идей проявляют в себе общую идею всего существующего в мире не так полно, другие полнее и потому выше стоят в ряду частных идей. Так, 'идеи животного выше идеи растения, идеи млекопитающего выше идеи птицы. Но все вместе частные идеи составляют одну неразрывную цепь. Чем выше в этой цепи стоит какая-нибудь отдельная идея, тем выше, тем полнее и прекраснее прекрасное предмета, в котором она проявляется; так что при одинаковой степени совершенства то произведение искусства будет выше, которое будет заключать в себе высшую идею, и, напр., картина, изображающая человека, при одинаковом достоинстве отделки, будет прекраснее картины, изображающей животное. Но в самых низших идеях есть существенное условие красоты; потому что и в них до некоторой степени отражается полнота и богатство общей идеи жизни. Так, даже дерево, если только идея дерева хорошо выразилась в нем, содержит в себе, по крайней мере, как намек на высшие степени развития природы, с которыми неразрывно связана эта жизнь, всю полноту жизни природы, которая, конечно, яснее выражается, напр., в коне.
Во всем чувственном мире человек самое высшее существо^ потому человеческая личность есть высшая красота в мире, доступном нашим чувствам, и все другие степени существующего в нем имеют значение прекрасного только в той степени, в какой намекают на человека и напоминают о человеке. Отдельные люди соединяются в одно целое — в общество; и потому самая высшая сфера прекрасного — человеческое общество.
Каждая частная идея, рассматриваемая сама по себе, независимо от всех внешних отношений существ, в которых она проявляется, заключает в себе много разных сторон; и чем выше, значительнее идея, тем богаче и определеннее развиваются ее разнообразные стороны и тем живее, крепче проникаются они единством, связывающим их в одно целое. Так, даже в неорганических предметах мы замечаем очень много различных сторон, и в них есть своего рода жизнь, конечно, слабая в сравнении с жизнью органической природы. Так, с другой стороны, в животном повторяются все процессы растительной жизни (животное питается и размножается, как растение); но к ним прибавляются в животном новые процессы, новые стороны жизни (движение и ощущение), от которых самые процессы растительной жизни в животном получают другой вид, принимают новое, более глубокое значение.
Высочайшее прекрасное, — сказали мы, — находится в человеческом обществе, соединении отдельных личностей для достижения общими силами нравственных целей, добра (das Gute). Потому прекрасное, по своему содержанию, — тожественно с добрым. Даже неодушевленную природу можно рассматривать, как проявление доброго; оттого-то и были обоготворяемы древними силы природы, как символы доброго начала. Если под истинным (das Wahre) разуметь то, что идея постигается нами так, как проявляется в действительности, что мы видим в предметах действительно то, что в них есть, что мы не имеем ложных понятий о предметах, то истинное такя^е совпадает с прекрасным в том значении, в каком до сих пор мы его рассматривали, и должно быть принято аксиомою: все прекрасное истинно; потому что и чувство прекрасного и чувство истинного одинаково видят в предметах ту идею, которая в них проявляется.
Мы говорили до сих пор об одной стороне (или, как будем выражаться теперь постоянно, об одном моменте) прекрасного, идее; по идее оно тожественно с добрым и прекрасным; но такое слияние исчезнет, когда мы обратим внимание на другой момент прекрасного — отдельный предмет, в котором проявляется идея, или на образ, употребляя техническое выражение.
В прекрасном идея должна нам являться вполне воплотившеюся в отдельном чувственном существе; это существо, как пол-, ное проявление идеи, называется образом (das Bild).
Общая идея проявляется в частных идеях, частная идея для своего осуществления нуждается в бесчисленном множестве предметов, ее выражающих, ее должно представить себе как силу, постоянно и повсюду стремящуюся производить предметы, которые бы осуществляли ее; но когда и где возникнет такой предмет, зависит уже не от самой идеи; это зависит от посторонних обстоятельств, которые способствуют проявлению идеи, делая возможным возникновение выражающего ее предмета. Так, напр., идея (или, как можно ее назвать в этом случае, сила) растительной жизни стремится проявиться на всех точках земного шара; но не везде есть все те разнообразные условия, в которых она нуждается для того, чтобы в самом деле проявиться; иначе сказать, не везде найдутся те условия и встретятся те обстоятельства, при которых может развиваться и жить растение. В степях Сахары, на льдах полюсов нет этих условий, — нет и растений; у нас на время зимы исчезают эти условия, — и прекращается растительность; они снова появляются с весной, — и начинается снова растительная жизнь. Итак, не от самой силы растительности зависит, что на некоторых местах земного шара есть растительность, что сна появляется с течением времени там, где ее прежде не было, а от внешних условий или, иначе сказать, от содействия других сил природы силе растительности. И мы вправе Сказать, что возникновение и жизнь отдельного предмета, в котором проявляется известная идея, или сила, зависит от случайного стечения обстоятельств: на философском языке это выразится так: «отдельный предмет случаен».
Прекрасное есть проявление идеи в одном отдельном предмете: потому случайность — необходимо^ свойство прекрасного. Так, идея «предсмертные грезы любящего — мысли о том, что его милая теперь инстинктивно чувствует свою потерю, что тяжело и ей теперь», должна принять, переходя в, область прекрасного, например, такую форму:
В полдневный зной, в долине Дагестана,
С свинцом в груди лежал недвижим я;
В моей груди, дымясь, чернела рана;
По капле кровь точилася моя.
Лежал один я на песке долины;
Уступы скал чернелися кругом;
И солнце жгло их желтые вершины И жгло меня, но спал я мертвым сном.
И снился мне блистающий огнями Веселый пир в далекой стороне;
Меж юных жен, увенчанных цветами.
Шел разговор веселый обо мне.
Но, в разговор веселый не вступая,
Сидела там задумчиво одна,
И в смутный сон ее душа младая Была бог знает чем погружена;
И снилась ей долина Дагестана…
Знакомый труп лежал в долине той,
В его груди, дымясь, чернела рана,
И кровь текла хладеющей струей 2.
Здесь все, с начала до конца, облечено формою случайности: и положение обоих лиц, и время, и место, и Бее подробности. Прекрасное всегда является. в подобном виде.
Множество условий нужно для возникновения отдельного предмета, они содействуют происхождению его, имеют некоторое влияние на его вид; при множестве и бесконечном разнообразии этих влияний каждый раз новый предмет должен являться не совсем одинаковым с другими предметами того же рода; а потому-то нет двух листочков на одном дереве, которые были бы совершенно сходны. Разнообразные предметы одного рода, происшедшие таким образом, во все продолжение своего существования опять остаются под влиянием условий и обстоятельств, чуждых общей родовой их идее, и еще более разнообразятся вследствие этих влияний; так, два брата, в детстве очень похожие друг на друга, делаются, мало-помалу, вовсе несходными по характеру и поступкам вследствие того, что обстоятельства жизни одного не
были похожи на обстоятельства жизни другого. Все эти разнообразные до бесконечности обстоятельства происхождения и жизни становятся причиною, что каждое отдельное существо не бывает никогда чистым выражением только именно своей родовой идеи, что всегда в отдельном существе родовая идея выражается не во всей своей чистоте, а с примесью многого, ей собственно чуждого.
Такое случайное разнообразие, такая случайность, чуждая всякой математической необходимости, необходимое условие прекрасного и в природе и в искусстве.'Так, напр., породою собаки, конечно, определяется, как она ложится: вытянувшись или согнувшись, кладет ли передние ноги одну на другую, и проч.; но случайные условия места, где она ложится, теплоты или холода, большей или меньшей усталости разнообразят положение, принимаемое собакою вследствие родовой привычки; и живописец, который не сумеет представить этой случайности положения в своей лежащей собаке, начинает механическую картину, которая будет верна, но не будет прекрасна. Случайность — необходимый закон прекрасного предмета, потому что без нее предмет не соответствовал бы закону осуществления идеи в действительности, по которому она, осуществляясь, подвергается посторонним влияниям, вносящим каждый раз в ее проявление случайное разнообразие; предмет без этой посторонней примеси ' не казался бы живым, действительным предметом, идея не казалась бы осуществившеюся, потому что она осуществляется только в живом, действительном предмете. Где нет жизни — нет идеи; где нет бесконечного разнообразия — нет жизни.
Если образ, в котором проявляется идея, так бесконечно разнообразен и случаен, то ясно, что не может быть найдено ника-, них определенных признаков или качеств, которые могли бы служить мерилом красоты, о которых бы можно было сказать: «где есть они, там есть красота; где нет их, нет красоты». Но было много попыток выставить такие признаки прекрасного. Живописцы (между прочим Пуссэн) пробовали даже определить про- порцию различных частей человеческого тела, от соблюдения которой зависит будто бы красота его; они определяли длину носа, величину глаз, размер рта, высоту лба, какую должна иметь человеческая фигура, чтобы быть прекрасною. Все попытки выставить такую пропорцию показывают, однако, только одно — невозможность вымерять красоту по вершкам и линиям. Платона и Аристотеля нельзя упрекнуть в желании определить красоту с меркою в руках; они искали внутренних, духовных признаков прекрасного и думали, что его специальное качество есть «гармония подробностей, единство в разнообразии». Но есть много родов такого единства в разнообразии, не имеющих ничего общего с прекрасным: есть единство математическое, единство философское и т. д.; в чем же состоит отличие от них единства красоты? «Единство в разнообразии» есть определение идеи вообще, а не прекрасного
частности. В другую крайность впадали английские сенсуалисты Пр,ішедшего столетия, из которых замечательнейший — Бёрк (Burke). Он восстает против мысли определить красоту вымериванием частей прекрасного. Предметы одного рода, говорит он, могут быть одинаково прекрасны при совершенном различии в пропорции своих частей; образ, составленный строго пропорционально, может быть вовсе не прекрасен, образ, много отступающий от пропорциональности, прекрасен: «не величина и не пропорция между частями, а качество предмета есть причина, производящая его красоту». Но потом он предается грубому сенсуализму; он берет за основание чувства прекрасного и возвышенного стремления к самосохранению и к общительности: прекрасное льстит чувству общительности, возвышенное потрясает чувство самосохранения. Потом, выпуская из виду и эту психологическую сторону, он говорит, что прекрасное и возвышенное действуют на душу «механически» через нервы, и впадает в чисто-физиологическое объяснение, которое, правда, имеет свое место в эстетике, но не в таком грубом виде, как у Бёрка, который понимает прекрасное и возвышенное прямо за качества самых тел, производящих на нас такие впечатления; качества эти будто бы действуют на нервы: от возвышенного благоприятно потрясаются нервы, от прекрасного приходят в состояние приятного расслабления, неги. Дальше говорит он, что прекрасные предметы должны быть невелики объемом, иметь гладкую поверхность, быть нежны, мягки, деликатны; далее, переходя к краскам их, — требует чистоты и мягкости оттенков, легких переливов и переходов; без всякой связи бросается к физиогномике, требуя нежного выражения души; бросая физиогномику, находит красоту даже для чувства осязания, которому, кроме нежного разнообразия очертаний, нужна мягкость и теплота; возвышенное, само собою разумеется, требует противоположных качеств. Наконец, доходит он до поэзии; слово, по его мнению, действует не тем, что ставит перед нашим воображением предмет как эстетический образ, а просто потому, что с известными словами привыкли мы связывать известные ощущения. И, таким образом, до понятия прекрасного в его целости Бёрк не доходит, потерявшись в случайных и внешних сторонах его проявления.
Признак прекрасного только один — сущность его, то, что в прекрасном идея представляется нам вполне проявившеюся в одном известном предмете; то, что родовая идея и отдельный предмет со всеми случайными чертами представляются совершенно слившимися в одно нераздельное целое. Возможность найти другие необходимые признаки, по которым было бы можно узнавать прекрасное, уничтожается тем, что родовые идеи, проявление которых в предмете есть прекрасное, до бесконечности многочисленны и разнообразны; что может быть необходимым качеством прекрасного, как проявление одной идеи, того вовсе может не быть в прекрасном, когда оно будет проявлением другой идеи. Так, человеческая красота не имеет ничего общего с красотою здания. Еще более противится попыткам отыскать общие признаки прекрасного происходящее от посторонних влияний бесконечное разнообразие отдельных предметов, посредством которых проявляется идея. Последнее препятствие, повидимому, может быть устранено тем, что все разнообразные стороны предмета связываются единством проявляющейся в нем идеи. Но в низших степенях развития жизни единство это слишком слабо для того, чтобы служить достаточным признаком прекрасного; так, напр., гора не имеет почти никакого единства; оно слишком слабо проявляется и в дереве; а на высших степенях жизни, где это единство крепче и резче, разнообразие в характере существ достигает чрезвычайно высокого развития, так что существа, принадлежащие к одному роду и одинаково прекрасные, не имеют между собою часто никакого сходства; что может быть общего, если говорить о телесной красоте, между красотою европейской женщины и негритянки? Общего у этих двух типов человеческой красоты так мало, что для непривычного глаза европейца все негры кажутся одинаково безобразными; как мало общего даже между красотою русского и итальянского типа! Еще больше разнообразия в прекрасном духовном.
Теперь легко решить вопрос, о котором очень много было споров со времени Винкельмана, который сказал в своей «Истории искусства», что высочайшая красота бесхарактерна; он говорит, что единство высокой красоты требует образа, который не был бы выражением какого-нибудь определенного состояния духа или какой-нибудь страсти, потому что через это вносятся в идею красоты черты, ей чуждые и нарушающие единство. Совершенно противоположного мнения Кант, который говорит, что совершенно правильное лицо не может иметь ничего характеристического, но что оно вовсе не будет первообразом красоты; а будет только иметь школьную правильность; «совершенно правильное лицо, — прибавляет он, — ничего не выражает, и опыт показывает, что такие лица принадлежат одним дюжинным людям». Как решить этот спцр? Если характеристичность состоит в том, что родовое понятие осуществляется, под влиянием особенных случайных обстоятельств, особенным образом в данном предмете, который через это становится отличен от других предметов того же рода, то характеристичность вообще необходима в прекрасном. Большая или меньшая степень характеристичности в данном случае зависит от большей или меньшей степени случайных оттенков; преобладание в прекрасном общей родовой идеи или случайных особенностей зависит, во-первых, от различного характера самого прекрасного (возвышенное-прекрасное, конечно, допускает меньше случайного разнообразия, нежели комическое-прекрасное); во-вторых, от различия искусств и их отраслей; и частные решения на вопрос: до какой степени характеристично, оригинально должно быть прекрасное, будут представлены впоследствии.
Итак, между родовою идеею и отдельным существом, как ее образом, стоит случайность, от которой происходит, что осуществление идеи в отдельном предмете всегда имеет черты, чуждые самой идее. А между тем в прекрасном значение отдельного существа от того и зависит, что оно служит осуществлением для идеи. Но те случайности, о которых мы до сих пор говорили, еще не мешают идее выразиться в отдельном предмете, потому что они еще не вносят в отдельное существо ничего противоречащего основным чертам идеи. В неорганической и растительной природе чрезвычайное разнообразие предметов одного рода не имеет прочного, существенного значения, потому что на этих степенях жизни сами отдельные предметы мало имеют самостоятельного значения: не только не уклонились они далеко от родовой идеи, они даже мало отделяются от всей целости природы. В эстетике очень ясно высказывается это в том, что, напр., никогда не изображается на картине облако, очертание земли (гора или долина) отдельно от всего, с чем связаны по местным отношениям (облако — без пейзажа, над которым носится; гора или долина — без атмосферы, без клочка неба, без растительности или снегового слоя, лежащего на ней, и других аксессуаров); никогда не изобразит живописец и дерева без атмосферы, без клочка земли, на котором растет оно, без ландшафта, часть которого оно составляет, без животного или человеческой фигуры. А между тем человека можно изобразить совершенно отдельно, без всех подобных аксессуаров; можно так изобразить даже животное, потому что и животное уже довольно резко выделяется из всего окружающего, как отдельное, самостоятельное существо. Так мало оригинальности, самостоятельности у отдельных предметов на низших степенях жизни: могут ли они, несмотря на все видимое разнообразие, уклониться от своей родовой идеи, может ли быть резкая разница между отдельным деревом и общим понятием дерева, когда нет еще резкой границы между отдельным деревом и остальною природою? Зато чрезвычайно сильно развивается самостоятельная оригинальность отдельных существ на высшей степени развития жизни — в человеческом роде. Но такая оригинальность только свидетельствует о том, что в этой личности, бросающейся в глаза, много силы: если человек резко отличается от других людей, то, значит, очень сильны были посторонние влияния, случайные обстоятельства, в зависимости от которых развилась его личность; но эти посторонние влияния не подавили его, не сделали его существом бесцветным, бесхарактерным, которое всегда сгибается в_ту сторону, куда клонит его какая-нибудь случайность, значит — еще сильнее были в нем обще-человеческие качества, выразившиеся в твердых чертах его характера; и потому такая личность получает всеобщее значение, делается представительницею человека — вообще именно по своей оригинальности, свидетельствующей о богатстве и полноте сил, в ней воплотившихся. В этом смысле необыкновенная личность самое лучшее выражение человека и человеческой природы вообще. Герой не урод между людьми; напротив того, в нем яснее, резче выказалось то, что есть, более или менее, в каждом человеке; потому что в каждом, самом робком человеке есть своя доля мужества; поэтическая личность — не уродство между людьми, потому что в самом прозаическом человеке есть своя доля поэзии. Бенвенуто Челлини чрезвычайно оригинальная личность; но именно по своей оригинальности он представитель своего века, своего народа, «может быть, даже человека вообще. Такие личности могут считаться фланговыми в ряду людей; они сильными жестами выказывают то, что, хоть часто слабыми, едва заметными чертами, выказывается в каждом человеке» (слова Гёте). Суворов — чрезвычайно оригинальная личность, Крылов — чрезвычайно оригинальная личность; но разве они не представители русского человека вообще? Хлестаков чрезвычайно оригинален; но как мало людей, в которых нет хлестаковщины! Оригиналами называют обыкновенно людей, в которых своеобразность дошла до какой-то болезненности; но мы найдем, что и в них выказывается, только резче, нежели в других, какая-нибудь существенная черта народного характера, так что и такие оригиналы — представители общего характера своего народа. Это уже давно замечено относительно английских эксцентриков, прекрасных представителей всей английской жизни и всего английского народа. Люди бесцветные, не отличающиеся ничем особенным, не имеющие оригинальности, почти никогда не бывают людьми в настоящем смысле слова; они прозябают, а не живут; великий человек, редкий человек — человек вполне; гениальный человек — настоящий человек и только гениальный полководец, гениальный ученый заслуживают имени полководца, ученого.
До сих пор мы говорили о посторонних обстоятельствах, не мешающих, а способствующих проявлению родовой идеи в отдельном предмете, придающих разнообразие проявлениям ее, но разнообразие, не скрывающее от нас идеи с ее основными качествами. Но сила (или идея), воплощающаяся в предмете, может встретиться*с обстоятельствами, враждебными ее сущности, и предмет вследствие такого столкновения часто является не таким, каким должен быть по своему родовому понятию; тогда будет он противоречить своей сущности, будет нелеп, уродлив. Наступает весна; деревья распускаются, расцветают цветы; но — поздний мороз, и все гибнет, не распустившись, не расцветши, как должно: зачем же распускались деревья, расцветали цветы? Смысл весны потерян, напрасно было наступать ей. Воин герой вступает в битву и гибнет от руки более сильной; тут нет противоречия мужеству его: оно выказалось, оно было в нем не ка-прасно; но он поскользнулся, и презренный, слабый трус убивает его: к чему послужило его мужество? Не все ли равно, если б он был и сам жалким трусом? Такая бессвязная случайность, мешающая проявлению идеи, противна идее прекрасного, и мы увидим в трактате о комическом условии, при котором она допускается в область прекрасного.
Как бы то ни было, но родовая идея вполне и во всей чистоте осуществляется только в целом ряду подходящих под нее отдельных предметов, а не в одном предмете. Между тем прекрасное требует, чтобы она казалась вполне осуществившеюся в одном отдельном предмете. Для этого нужно, чтобы все богатство идеи казалось сосредоточившимся из всего множества предметов одного рода в одном предмете и чтобы в этом предмете казалась уничтоженною всякая случайность. Это совершается посредством фантазии. Случайность в предмете происходит от влияния внешних обстоятельств — фантазия представляет нам его вне всех отношений, вне всякой связи с окружающим, влияние которого является причиною различия между родовою идеею и проявлением ее. Таким образом фантазия изменяет внешние отношения предмета, а не его внутреннюю жизнь. И потому в прекрасном имеем дело мы с поверхностью (die Oberfläche), а не с внутренними частями и внутренним устройством предмета; нам нужна только его оболочка, на которой выказывается его жизнь. Влияние фантазии производит в предмете изменение, подвергшись которому, он перестает быть неполным выражением идеи, и, вместе с тем, делаясь прекрасным предметом, перестает быть таким, каким существует он на самом деле во внешней действительности; прекрасное не предмет, как он существует в действительности, а создание фантазии по двум причинам; во-первых, в нем действует на нас не материя предмета, как это бывает при действительном предмете, а одна только поверхность предмета, отрешенная от предмета. Так, напр., изображение человека наша фантазия представляет нам человеком, но на картине взята только поверхность, наружный вид человеческого тела, а не самое человеческое тело, не какой-нибудь состав, который бы походил на материю человеческого тела; мы восхищаемся прекрасным зданием, — нам нет дела, из чего оно построено; мы обращаем внимание только на его план, т. е. на его очертания; если оно сложено из мрамора, оно будет великолепнее, но прекраснее не будет. Во-вторых, фантазия изменяет предмет, представляя нам его освобожденным от всех посторонних, случайных примесей, всегда находящихся в действительном предмете. Ѳба эти изменения технически выражаются так: «фантазия делает предмет чисто-формальным существом» (Formwfesen), прекрасное есть чисто-формальное существо.
Понятие о том, что в прекрасном форма отделяется от матег рии, развито Гёте и Шиллером. Но под матернею здесь пони-мается не идея, проявляющаяся в предмете: идея составляет не материю, а содержание предмета; именно для того-то и освобождается в прекрасном форма от материи, чтобы содержание, идея тем яснее просвечивала сквозь очищенный таким образом до прозрачности образ. А между тем часто понимали превращение прекрасного в чисто-формальное существо так, что идея, содержание не имеет в прекрасном никакой важности, лишь бы только форма была хороша. Напротив, через уничтожение в прекрасном материальной стороны идея только сливается совершенно с формою, и форма получает в прекрасном свое значение только от идеи, в ней выражающейся; как и наоборот, если идея не выразилась вполне через форму, то не будет иметь значения в области прекрасного. Говорят еще: «форма может быть хороша, идея дурна». В ответ на это скажем только, что безнравственная идея сама изобличает свою ложь, если ясно выразится в форме (а без ясного выражения идеи произведение не может быть прекрасным), и в таком случае произведение будет ложно и по форме: погибая сама от своей ложности, безнравственная идея погубит с собою и форму. Идея может быть «нехорошая» еще в другом смысле: она может быть несовременна; но истинный художник в основание своих произведений всегда кладет идеи современные. Впрочем, все это будет подробнее развито на своем месте.
Теперь видно, чем, в частности, прекрасное отличается от доброго: стремление к доброму заботится только о сущности, внешность не важна для него; прекрасное ценит внутреннее содержание только по его проявлению во внешней форме; стремление к доброму недовольно действительным миром, оно ведет борьбу с его недостатками; стремление к прекрасному успокаивается, удовлетворяется своим предметом.
Наконец, надобно сказать, что чувство прекрасного совершенно чуждо всякого личного интереса, всяких расчетов о том, что прекрасный предмет служит к чему-нибудь или полезен для чего-нибудь.
Мы изложили обыкновенные понятия о прекрасном и его сущности. Постараемся теперь изложить наши собственные мнения о том, в чем состоит сущность прекрасного. Нам кажется, что можно гораздо проще объяснить, почему некоторые предметы в природе и некоторые произведения в искусстве возбуждают в человеке то особенное чувство, похожее на бескорыстную радость и на восхищение, которое называется чувством прекрасного или эстетическим наслаждением.
Начнем с примеров, которые не будут еще относиться прямо к чувству прекрасного, а только наведут на точку зрения, с которой, по нашему мнению, должно его объяснить.
Предположим, что у меня (будем употреблять это местоимение для изложения скучного повторения слова человек) есть друг, к которому я чрезвычайно привязан. Я встречаю в обществе человека, очень похожего лицом на моего друга, — меня радует эта встреча, я засматриваюсь на этого человека, я любуюсь им. Причина очень проста: мне по необходимости должно нравиться все то, что походит на предметы, на существа, которые люблю я. Предположим, что этот мой друг, страстно любимый мною, далеко и надолго уехал; при прощании он подарил мне очень скучную книгу, положим, хоть какой-нибудь курс эстетики, читать который было для меня прежде истинным наказанием: но мой приятель занимался эстетикой, и все поля подаренной мне книги исписаны его замечаниями — потому-то и подарил он мне ее. Для меня становится мила эта книга; я часто беру ее в руки; читать, правда, не читаю, — скучно, но все-таки смотрю в нее, разбираю замечания своего приятеля; хотя, по совести сказать, мысли, заключающиеся в этих замечаниях, тоже сами по себе неинтересны для меня. Отчего же я полюбил эту книгу? Отчего я беру ее в руки с каким-то приятным чувством? Ответ опять очень прост: потому дорога, мила мне эта книга, что напоминает мне моего друга, напоминает мне о милом, дорогом для меня существе. И происходит это от причины опять очень простой: все напоминающее нам о том, что для нас мило и дорого, само становится для нас мило.
Что же милее всего для человека? Жизнь; потому что с нею только связаны все наши радости, все наше счастье, все наши надежды; живому естественен страх смерти, отвращение от всего мертвого, отвращение ко всему, что пагубно для жизни. И все, что мы находим напоминающим о жизни, тем более все, в чем видим мы проявление жизни, восхищает нас, приводит в то радостное, полное бескорыстного наслаждения состояние духа,' которое называется эстетическим наслаждением.
Ближе всего и милее всего человеку — человек и человеческая жизнь. Посмотрим теперь на то, что называется «прекрасным», «красотою» в человеке, и мы увидим, что прекрасным находим мы в человеке все то, в чем выражается радостная, полная, роскошная жизнь.
Понятия о красоте у простого народа несходны во многом с понятиями образованных классов общества. Отчего это? Нам скажут, что степень нравственного развития вообще и эстетического развития в особенности У простого человека не та, как у образованного человека. Согласны; но такое объяснение слишком еще неполно. Если бы дело состояло только в том, что у простого человека эстетическое чувство не так сильно развито, как у человека образованного, следствием было бы только то, что простой человек увлекался бы прекрасным не так сильно, как человек образованный, а не то, что бывает на самом деле, именно, что, увлеченный красотою не меньше образованных людей, простой человек ставит красоту человеческую не ровсем в тех качествах, которые считает необходимыми ее условиями человек образованного класса. Ведь понимают же красоту природы они оба совершенно одинаково, и невозможно отыскать пейзажа, который, нравясь человеку образованному, не казался бы хорош и простому человеку. Различие между ними только в понимании человеческой красоты; и оно совершенно объясняется тем, что простолюдин и член высших классов общества понимают жизнь и счастие жизни неодинаково; потому неодинаково понимают они и красоту человеческую, выражение во внешности полноты, довольства, раздолья жизни. Думая о счастливой, полной жизни, которая одна и стоит имени жизни, простой человек (поселянин) думает почти только о материальном довольстве; жизнь его будет хороша, когда он сможет сытно есть, жить в крепкой, теплой избе и не будет через меру обременен слишком тяжелою работою, — будет работать много, но не до истощения сил; но без работы жить и не думает он: тогда он и благодарит бога, когда много работы, лишь бы работа была ему в пользу, а не пропадала даром от засухи, града и тому подобных несчастий; он говорит: «без работы, с тоски пропадешь». Каковы же будут девушки, выросшие при таких условиях жизни? Девушки, которые много работают, едят и спят вдоволь? Они будут, что народ называет: «кровь с молоком», следствием жизни в довольстве у крестьянской девушки будет чрезвычайное здоровье, необыкновенная свежесть, румянец во всю щеку; девушка много работает, поэтому не может быть жирна, толста; от работы кровь ровно разливается и по оконечностям, а не остается в центральных частях: потому руки и ноги (les mains et pieds) у крестьянской девушки сильно развиты, и маленькие ножки, маленькие ручки, которыми так сильно восхищаются молодые люди высшего- полета в светских красавицах, показались бы простому человеку чем-то похожим на уродливость, если б он обратил на них внимание, но в наших народных песнях нет и помину о ножках красавицы; в них говорится и об руках ее только то, что они «белые» — и действительно такова сила здоровья, что у здорового человека кожа не так загорает, как загорела бы у другого при тех же обстоятельствах; кроме того, «белы ручки» доказывают, что красавица живет настолько богато, что может заботиться о своем туалете, может, вставши раненько, умываться шуйским мылом белешенько, что она не батрачка, которой некогда, не то что о руках, и о волосах подумать. При описаниях красавицы русские песни так же точно не говорят и о маленьких ушках, необходимой принадлежности светской красавицы; зато говорят они о роскошных волосах, о длинной густой косе — которая есть признак здоровой, крепкой организации, — потому естественно восхищаться ею поселянину, идеал которого жизнь, проявляющаяся цветущим здоровьем. Одним словом, в красавице, по понятиям простого русского человека, мы не найдем ни одной черты, которая не была бы выражением цветущего здоровья и его причины — жизни в умеренном довольстве при работе, не доходящей до изнурительности. Жизнь купца и торговца уже не похожа в материальном отношении на жизнь поселянина: он сам не работает, он только промышляет; и жена его, дочери его уже не имеют надобности заниматься материальными работами: у них есть прислуга; жена только надзирает за хозяйством, дочери его не делают и этого: они просто ничего не делают, ни о чем не думают, заботы у них никакой; девушкам в коренном русском купеческом быту остается только наедаться досыта, спать вволю и ночью и днем, как душе вздумается, да сидеть сложа ручки, когда уже не спится и не естся, забавляясь от скуки лакомствами. Каковы же бывают купеческие красавицы? Тучны; больше и сказать о них ничего нельзя — и, однако же, в этих тучных до безобразия девиц влюбляются люди, для которых идеал такая жизнь, которой необходимым следствием бывает тучность. Цвет лица у них от бездействия нездоровый и потому неприятный; они закрывают его белилами, от которых чернеют зубы; чернота зубов не есть недостаток в глазах почитателей разряженных и набеленных красавиц, потому что она только следствие заботливости о туалете; а как же не заботиться о туалете, когда деньги есть, а дела никакого нет? Теперь нам остается только просмотреть принадлежности красоты светских красавиц; восходя в эту высокую сферу, мы переносимся от специально русских понятий о красоте к общеевропейским, потому что жизнь высших слоев общества почти одинакова у главных европейских народов. У высших классов нет собственно так называемых материальных лишений и неудобств жизни; собственно говоря, и заботы у человека из этих классов не о материальных, а о нравственных потребностях, налагаемых не собственно телесными побуждениями, а душевными желаниями; напр., честолюбием, желанием жить не хуже других, не отстать от моды, составить себе карьеру; и у какого-нибудь французского rentier, человека, живущего своими доходами, есть много заботы о пище; может быть, иногда, почти столько жё, сколько у поселянина; но неужели он в самом деле боится быть голодным? нет, он боится только, что у него не будет такого хорошего стола, какой бы ему хотелось иметь, к какому привык он; точно таковы же заботы его о жилище и т. д. Люди высшего класса избавлены своим положением от материальной работы. Но зато у них развиваются другие нужды и другая жизнь — умственная и сердечная жизнь. Поселянин утомлен работою; он ищет отдыха; пропрьетера тяготит бездействие, он ищет деятельности, волнений, ощущений. Эта внутренняя жцзнь, при совершенном отсутствии физического труда, совершенно необходимого человеку для поддержания цветущего в полном
смысле слова здоровья, имеет следствием своим нарушение равновесия жизненных сил в человеке: мускулы, которым дела мало, слабеют, оставаясь неразвитыми; нервная система, на которой ближайшим образом опирается умственная и сердечная жизнь!* развивается, изощряется, делается впечатлительнее, нежнее, раздражительнее; при слабости мускульной системы это развитие нервной системы часто может доходить до болезненности. Руки и ноги мало работают, мало — к ним приливает и крови, как и Еообще ко всем конечностям; вся кровь остается в центральных органах и приливает к нервной системе. И, таким образом, кроме одного типа красоты — красоты цветущего здоровья, у людей из высших классов общества является другой тип красоты — красоты, которая служит выражением богатства умственной или сердечной жизни. Правда, что идеал жизни и для высших классов — жизнь в цвете здоровья; потому и они признают красоту свежести цвета лица, румянца в щеках; но для нравственно и умственно развитого человека мало этой одной стороны жизни: он хочет еще жизни мысли и чувства. Потому он требует, чтобы в красавице выражалась и эта сторона. жизни; она выражается преимущественно в глазах и выразительности физиономии, и оттого глаза чрезвычайно важное дело для Дон-Жуанов высшего полета; сельскому молодцу нужно только, чтобы цвет глаз у его красавицы был хорош; молодому человеку из высшего общества этого мало; он требует, чтобы глаза его красавицы были выразительны, чтобы в них светил развитой, деятельный, проницательный ум, чтобы они жгли пламенем чувства, чтобы в них блестела готовность к пылкой, безграничной любви, чтобы в них отражалась непреклонная сила характера. То же ищет он и в выражении лица своей красавицы, между тем как сельский молодец почти не знает о том, выразительно или не выразительно лицо его красавицы. Наконец, и этого мало, если наш Дон-Жуан — в самом деле Дон-Жуан, он хочет аристократической жизни; и красавицею он не може^ очароваться, если на ней нет отпечатка аристократической жизни, нет того, что Печорин, если не ошибаемся, называет «породою» в женщине. Признаки породы, во-первых, маленькие ручки и ножки; при отсутствии всякой материальной работы, кровь остается в центральных органах, очень мало приливая к оконечностям; от этого оконечности мало развиваются, и, наконец, через несколько поколений, делаются гораздо меньше, нежели у поколений того же народа, занимающихся физическою работою. Что, собственно, хорошего именно в том, что руки и ноги малы? Кажется, ничего; но это признак того, что наша красавица не жала, не мыла белья, не стряпала; что и мать ее вела такую же жизнь; что и отец ее не из чернорабочих; потому, любя жизнь без физической работы, мы любим маленькие ручки и ножки, ее следствие. То же самое должно сказать и о маленьких ушках. Тонкая талия также восхищает светских людей. Конечно, у женщины, хорошо
сложенной, всегда будет и талия довольно тонкая, но не будет еще она тонка до такой степени, чтобы очаровывать светских ценителей красоты. Она достигает этого совершенства, во-первых, от той же причины, которая производит маленькие ручки и ножки; еще больше от ношения корсетов и тому подобных туалетных средств; поэтому служит лучшим свидетельством, что о нашей красавице заботились с детства, что она выросла в семействе, которое вело жизнь, какая одна и может называться жизнью по мнению человека, принадлежащего к «порядочному обществу». До сих пор, однако, мы не говорили еще о том типе красоты, который является в «обществе» и решительно неизвестен и непонятен народу. Внутренняя жизнь может развиться до такой степени, что будет подавлять здоровье; бездейственная жизнь, не благоприятствующая развитию здоровья, также обнаружится слабостью, слабонервностью в человеке, которого предки прежде уже в течение нескольких поколений вели такую жизнь. И вот в обществе начинают появляться молодые дамы и девицы с бледным цветом лица, с бледными губами, с томным взглядом, худенькие, слабенькие: простой народ не станет и смотреть на них. Что за жизнь, не дышащая здоровьем и свежестью? Но их слабость, томность, болезненность — выражение «породы» или сильной внутренней жизни; и человек, почитающий высшею жизнью такую жизнь, будет очарован бледными, слабыми, томными, болезненными красавицами. Нам кажется, что из этих примеров довольно ясно видно, что красотою а человеке нам представляется то, в чем видим мы выражение жизни, и, в частности, такой жизни, какая очаровывает нас, такой жизни, к которой мы сами чувствуем влечение. Что удивительного, если нас очаровывает все, в чем проявляется наш идеал, цель и предмет наших желаний и нашей любви?
Посмотрим мы теперь, что мешает человеку быть красавцем, или, чтобы продолжать говорить о предмете, нами взятом для примера, какие свойства делают женщину некрасивою в наших глазах. Во-первых, нехорошо, если у женщины груба на лице кожа; это признак нездоровья или грубого образа жизни, материальных лишений и неудобств; нездоровье и лишения, неудобства не милы нам в жизни, портят жизнь. Что портит жизнь, то портит и красоту. Как дурно, если у женщины лицо нечисто, если на нем угри, веснушки и т. п.! Все это признаки некоторого худосочия, некоторой болезненности или, по крайней мере, не такого здоровья, не такой комплекции, которая хороша для жизни. Смуглый цвет лица не портит красоты, и брюнетка такая же красавица, как блондинка; но пусть не белый цвет лица будет следствием болезни, он не нравится нам, хоть может быть очень похож на цвет лица, который нас восхищает в какой-нибудь брюнетке. Румянец прекрасен, потому что в нем просвечивается здоровье; но чахоточный румянец чрезвычайно дурен, — а много ли он отличается от
здорового румянца? Часто его даже нельзя отличдть: но как скоро заметили мы, что это румянец болезни, а не здоровья, он перестает нам нравиться. Чаще всего мешают назвать женщину красавицею самые черты ее лица, неправильные или не гармонирующие между собою, — то и другое следствие не совсем правильного т. е. не совсем здорового развития. Уродливость есть следствие болезни или пагубного для человека случая, очень естественно, что урод не можёт казаться красавцем; но человек, худо сложенный, тоже урод, только в меньшей степени, нежели настоящий урод. Горбатый человек урод; но сутуловатый — тот же горбатый, только в меньшей степени. Что же удивительного, что худо сложенные люди не кажутся нам красавцами? Когда лицо человека худо сложено, тогда-то и говорят, что «черты лица некрасивы». Таким образом, всякая некрасивость, все, мешающее красоте, подходит под понятие вредного для жизни, пагубного для жизни.
Но довольно о человеческой красоте. Посмотрим, что выражается в тех предметах из царства природы, которые нам кажутся прекрасными. Нашу Мысль постараемся, по мере возможности, провести по всем разнообразным отраслям прекрасного в природе. Животные ближе всего в природе напоминают о человеке и его жизни, потому в них более, нежели во всей остальной природе, мы находим и красоты и безобразия. Одно из красивейших животных — лошадь, потому что в ней кипит жизнь; но, напр., нога лошади вовсе не так прекрасна, как нога льва или тигра: нога лошади слишком костлява, суха; нога тигра вся покрыта мускулами, она, если можно так выразиться, живее, здоровее; то же самое надобно сказать и о голове лошади: она слишком суха; сухость нам представляется следствием недостатка жизненных сил, и потому не нравится. Зато полный, здоровый корпус лошади, так легко лежащий на ногах, ее широкая грудь, eg крутые бедра, как их называют наши песни, чрезвычайно красивы. Есть люди, восхищающиеся даже коровою, но мы не можем никак согласиться, чтоб это глупое и полезное животное было красиво: корова сухопара, сутуловата, вообще дурно сложена. Но кошка (и все животные кошачьей породы) — красавица: какие полные, мягкие очертания у всех ее членов, как стройно вся она сложена! Одним словом, в животных нам нравится умеренная полнота и стройность форм; почему же? потому что в этом находим мы сходство с выражением цветущей здоровьем жизни у человека, также выражающейся полнотою и стройностью форм.
Особенно к животным прилагается мысль Гогарта, что кривая линия — линия красоты. В самом деле, органические существа всегда имеют фигуру, очерченную закругленными линиями, и всякая угловатость в них кажется нам некрасивою, потому что сила и полнота органической жизни придает округлость формам живых существ, и всякая угловатость в них бывает или следствием худого сложения и болезненности, или прямо уродливостью. В птицах мы больше всего обращаем внимание на цвет перьев. Цвет жизни и здоровья — чистый, ровный, светлый цвет; потому яркость, светлота колорита, чистота цвета нравятся нам везде. Серый дикий гусь не кажется нам красивым, — цвет его перьев представляется нам как будто полинявшим, поблекшим: поблеклость, увядание — болезненность, упадок жизни у человека. Но прекрасен белый, как снег, цвет перьев домашнего гуся (чтобы не поминать о лебеде); чистый сильный цвет — здоровый цвет. Рыбы кажутся нам гораздо менее прекрасными, потому что нет у них ни таких округленных, напоминающих о человеке, форм, как у млекопитающих животных, ни таких прекрасных цветов, как у птиц. Но у них есть много прекрасного в движениях: как легко, непринужденно плывет рыба. Легкость и непринужденность движений очаровательны в человеке, потому что возможны только при хорошем сложении, стройности: у человека, дурно сложенного, не будет ни хорошей походки, ни грациозности в движениях; потому легкость и грациозность движений, знак правильного, стройного развития в человеке, нравится нам везде; она придает прелесть полету ласточки; в ней красота серны или скаковой лошади. Некоторые амфибии нравятся нам яркостью и пестротою цветов своей кожи и живостью своих движений (некоторые породы змей, некоторые породы ящериц); на их формы не обращаем мы в этом случае внимания; но если формы амфибии резки и нельзя не замечать их, то они произведут на нас неприятное впечатление, потому что жизнь амфибий слишком отлична от жизни, какую мы привыкли видеть, и потому формы, в которых выражается такая жизнь, покажутся нам уродством, безобразием; фигура змеи очень проста, незамысловата, она не бросается в глаза. Но лягушка имеет очень резкую фигуру, так что нельзя не обратить на нее внимания; а между тем эта форма кажется нам нескладною, негармоническою, потому что устройство лягушки вовсе не похоже на устройство четвероногого; не сравнивать же лягушку по виду с четвероногим нельзя, — она слишком напоминает его; лягушка кажется нам каким-то уродливым четвероногим; потому вид ее чрезвычайно отвратителен, представляясь искажением фигуры четвероногого. Но еще более отвращения к лягушке мы получаем, дотронувшись до нее руками: фи, как она холодна! Мы привыкли во всем живом находить жизненную теплоту; холоден труп; лягушка ненавистна, потому что холодна, как труп; мало того, она покрыта какою-то слизью, похожею на холодную слизь, которою покрывается труп: как гадка лягушка!
В царстве животных мы видим жизнь; царство растений напоминает нам о жизни. Какой пейзаж покажется нам прекрасным? Мы стоим на холме, от которого тянется в обе стороны ряд других холмов; мимо их извилинами течет речка; за нею тянутся нивы, уже начинающие желтеть, и луга, покрытые густою зеленью; вдали горы, покрытые лесом; у подошвы их село, с мельницами и скирдами хлеба, с белеющеюся, как снег, церковью, на которой ярко горит золотой крест; все это освещено золотистыми лучами заходящего солнца, пробирающимися между кучками пурпуровых облаков (сантиментально, но, неправда ли, восхитительно?); недоставало одного стада с пастухами и верными собаками — но вот и оно показалось вдалеке, коровы бредут домой п живописном беспорядке; коровы мычат, пастухи кричат на отстающих или слишком далеко уходящих вперед; а вот скачет и тройка с звонким колокольчиком, а это — помещик едет в свое село к уборке хлеба! Прекрасно, очаровательно! и в сладком забытье смотрит на все это чувствительный поэт, не замечая, как прошло полчаса. Но пора и ему и нам приниматься за дело; посмотрим же, что придает очаровательность пейзажу. «Все, все прелестно!» — Тем лучше для нас, создавших такую картину; но отчего же она хороша? Во-первых, в ней много разнообразия; разнообразие — прелесть жизни; затем и река у нас течет излучинами; затем и луга перемешаны с нивами; затем и земля взволнована холмами, чтобы разнообразия было больше. Монотонность утомительна в жизни, утомительна и в природе. Но вы согласитесь, что без села и’ нив, без стад и пастуха наш пейзаж был бы неполон: нам нужен человек, нужно, по крайней мере, что-нибудь напоминающее о человеке, потому что жизнь природы без человека слишком слаба и темна для нас. Но все-таки давайте нам живую, а не мертвую природу! Все-таки нам нужна зелень лугов и темно-зеленый лес, а не серый солончак и не глинистые желто-грязные горы. Лучше какая-нибудь жизНь, чем совершенная безжизненность. Потому зеленый луг мил, прекрасен, когда вспомнишь о голых степях, о жалкой траве солончаков. Но мы въезжаем с луга в лес, — тут больше жизни: и растительность сильнее, и шум дерев напоминает о шуме и говоре человеческой жизни; луг позабыт нами, луг ничто в сравнении с роскошной жизнью растительного царства в лесу. Но по лесу начинают порхать и щебетать птицы: это уже ближе к нашей жизни, и самый лес теряет большую часть своей прежней красоты; он становится просто жилищем птиц, сам он уже кажется нам почти мертвым: птицы придают ему жизнь. Но вот, наконец, заехали мы в такую глубь, что мимо нас начинают пробегать зайцы, — и птицы позабыты нами; чу! вдали послышался лай собак, шум охоты, — и мы забыли обо всем: близок человек, и лес со всем его населеньем становится для нас только рамою для картины; картина — человек.
Но что всего очаровательнее в природе, что составляет душу всякой красоты в природе, это — солнце и свет. Да разве солнце и свет не главное условие всякой жизни на земле? Разве природа не мертва там, куда не светит, где не греет солнце?
Но мы хотим, чтобы наши статьи были живы, а разиообра-эие — условие всякой жизни. Довольно же нам толковать о том, что жизнь — красота для нас. Нам будет еще много случаев досказать свои доказательства.
Мы говорим: «красота — жизнь, безобразие — то, что представляется исключением жизни»; обыкновенные эстетические понятия выражаются так: «красота — полное проявление идеи в живом существе». С первого раза может показаться, что наши понятия только в словах расходятся с обыкновенными понятиями, которые мы изложили выше. И обыкновенные понятия о прекрасном говорят, что только живое прекрасно, что только царство жизни — царство прекрасного. Но там не сама жизнь красота, а полнота осуществления идеи в живом существе; живое не само по себе прекрасно, а только как орган, в котором осуществляется идея; для нас прекрасна сама жизнь, нам нет дела до того, какая идея проявляется в этом существе, нет дела до того, вполне или не вполне она осуществляется в нем, нам нужно только то, чтобы существо представлялось нам живым. В обыкновенных понятиях главное — идея; у нас главное — жизнь, которая там принимается в область прекрасного только как проявление идеи, а для нас составляет сущность прекрасного. Потому нам не кажется прекрасное существо, как оно существует в действитёльности, прекрасным не вполне; мы не думаем, чтобы красоту вкладывало в него вмешательство фантазии; мы думаем, что прекрасное в природе действительно прекрасно и вполне прекрасно; обыкновенно думают, что прекрасное в природе не действительно прекрасно, не вполне прекрасно, что оно только нашею фантазиею представляется нам, как вполне прекрасное. По нашему мнению, человек видит в природе прекрасное простыми глазами; по обыкновенным понятиям видит он его только через очки фантазии; разница, если угодно, мож-ет быть выражена так, если взять пример из пошлой ежедневной жизни: я любуюсь на Неву просто, не думая при этом ни о чем, кроме того, что Нева — хорошая река; эстетик обыкновенных понятий любуется ею потому, что Нева представляется ему лучшею, единственною рекою в мире, и в минуту его эстетического наслаждения думается ему, что весь мир со всею красотою своею слился в этой реке.
«Прекрасным называется тот предмет, в котором полно осуществилась идея», — так нам определяют прекрасное. Но это определение в переводе на простой язык будет значить: «Прекрасно то, что хорошо в своем роде», потому что именно то и называется хорошим в своем роде, что в точности соответствует своей родовой идее; так, напр., идея, которая выражается в перочинном ножичке, — хорошо резать гусиное перо; и тот ножичек хорош, который режет хврошо гусиные перья. Но такое определение слишком широко; оно прилагается ко многим предметам вовсе не прекрасным. Найдется много лягушек, в которых идея лягушки очень хорошо выразилась, — а между тем они все-таки очень гадки. Лужа, которая была на главной и единственной площади Миргорода (см. «Ссору Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем»), бьіла удивительная, чудная лужа; она была чрезвычайно хороша в своем роде, в ней «казалась вполне осуществившеюся идея лужи», — а вы согласитесь, однако, что на нее гадко было смотреть и еще гаже было нюхать ее испарения. Дело в том, что очень много есть разрядов существ й вещей на свете, которые вовсе не прекрасны. Не во всем выражается идея прекрасного: а по обыкновенному определению красоты большая или меньшая степень красоты находится во всем на свете. Обыкновенное определение смешивает идею прекрасного с идеею вообще. Наше определение не подлежит этому упреку.
Оттого, по обыкновенному понятию о прекрасном, прекрасное оказывается в сущности одинаково с добрым и истинным; различие между этими идеями только в подробностях, в частностях. Этого мало: если быть строго последовательными, то мы должны сказать, что прекрасное в своей сущности по обыкновенным понятиям тожественно со всяким общим понятием; так, напр., с понятием существования; потому что существовать, значит — быть проявлением какой-нибудь идеи; с понятием качества, потому что в качестве опять выражается какая-нибудь идея; с понятием деятельности, потому что в деятельности опять выражается какая-нибудь идея. Нам скажут: «Вы забываете, что в прекрасном идея должна проявляться вполне, а не во всяком качестве какого-нибудь предмета проявляется вполне идея этого качества»; но ведь идея «никогда не проявляется в отдельном предмете», она только кажется вполне проявившеюся; после этого каждое качество, каждый предмет будет прекрасным, <^как^> только нам «покажется», <^что^> идея в нем проявилась вполне. Это будет самообольщение? Но сами же эстетики нам говорят, что «видеть прекрасное в предмете — самообольщение», что «прекрасное есть призрак».
Одним словом, обыкновенное понятие о прекрасном смешивает прекрасное в частности со всем существующим вообще; оно заставляет, кроме того, по странному противоречию с этим первым своим недостатком, утверждать, что «прекрасного в действительности нет, оно только создание нашей фантазии». «Все существующее прекрасно», и «нет ничего прекрасного в действительном мире». Следствия такой запутанности понятий мы увидим в понятиях о возвышенном и комическом, о прекрасном в природе и, наконец, в понятиях о сущности искусства и об отношениях искусства к прекрасному в природе.
Справедливо или несправедливо наше собственное понятие о сущности прекрасного, это будет решено не нами; но что обыкновенные понятия о сущности прекрасного должны быть оставлены, не подлежит никакому сомнению; потому что они — следствие идеализма и одностороннего спиритуализма, который господствовал в немецкой философии до последнего времени, последним великим представителем которой был Гегель. Теперь философские системы, основывающиеся на идеализме и одностороннем спиритуализме, разрушены; вместе с ними падает и господствующее до сих пор в умах большинства понятие о сущности прекрасного.
Но мы признаем вполне справедливыми очень многие из частных понятий о прекрасном, развитых немецкой эстетикою. Сюда принадлежит, напр., понятие о том, что в области прекрасного господствует образ и что все общие понятия в области искусства должны облекаться в живые лица и выражаться посредством событий и ощущений, а не оставаться сухими общими понятиями; что потому в прекрасном общая мысль прикрывается частными примерами, которые служат выражением для нее.
Мы такого мнения, что самая лажная, самая односторонняя мысль должна иметь в себе что-нибудь справедливое или, по крайней мере, опираться на чем-нибудь справедливом, если ей верят, если ее принимают за истину. Для доказательства и понятия возьмем примеры из ежедневной жизни. Сколько людей ограниченных прослыло умными людьми! Но если знакомые какого-нибудь господина прославляют его ум, то нельзя же не предполагать, что он действительно выше своих нелепых поклонников по уму, следовательно, хоть по сравнению с кружком, в котором гремит его слава, действительно умный человек. Что может быть нелепее сплетен? Но если сплетне верят, она должна заключать в себе сколько-нибудь истины. Если я держу себя медведем, то никто ие поверит сплетням о каких-нибудь маскарадных приключениях со мною; если я известен за человека холодного и рассудительного, то никто не поверит сплетням о том, что у меня была дуэль из-за того, что мие в театре наступил мой сосед на ногу; чтобы этому поверили, надобно, чтобы я был известен за безмозглого фанфарона. Если клевета коснется женщины, которая своими поступками не подает никакого повода к ней, на которую клевещут единственно из зависти или из злобы, клевета падает; но если клевета распространяется, находит слушателей, это значит, что оклеветанная дама, может быть, но наивности, может быть, по неопытности, может быть, по самой невинности своего сердца, не совсем осторожно держала себя в некоторых случаях, и эти случаи были подмечены и перетолкованы клеветниками, и о них припомнили те, которые верят клевете. Отелло ревновал несправедливо; но были же у него основания к тому, чтобы ревновать; пока их не было, он и не думал ревновать. Одним словом, нет, общепринятого мнения, в котором нельзя было бы отыскать какой-нибудь истины, может быть, обезображенной, или какого-нибудь намека на истину, можег быть, ложно понимаемую. Просмотрим же с таким образом мыслей обыкновенные понятия о прекрасном, стараясь везде отыскать истину или, по крайней мере, справедливые основания, из которых возникли ложные понятия. Это будет лучшею критикою; потому что открыть во лжи истину или показать, из какой истины выведена ложь, значит — уничтожить ложь.
Прежде всего покажем происхождение той странной философии, которая породила понятие, что «прекрасное есть проявление идеи», и которую можем пока назвать идеалистическою филосо-фиею; она, может быть, приносила пользу в свое время, но теперь она делает много вреда и в науке, и в искусстве, и везде, куда ни посмотрим.
Очень трудно человеку понять, и долго не понимает он, что могут быть вещи и не так, как они бывают у него. У нас в простом народе говорят по-русски, а кто умеет говорить «по-иностранному», тот учился этому и положил на то много труда и много лет. И вот русский мужичок, проездом побывавши в какой-то немецкой колонии, с удивлением рассказывает, что «мальчишка, по земле ползает, а по-немецкому, разбойник, болтает» (ходячий анекдот); у нас бабы (т. е. замужние женщины) носят повязку на голове, — русский человек дивится, как же это у немцев бабы ходят с открытою головою, «точно девки, срамно смотреть»; у нас в черноземных губерниях родится хлеб еще без унавожения, и какой-нибудь мужичок из воронежского или саратовского захолустья, побывавши где-нибудь на севере России, с изумлением толкует «землякам», — какой у них там порядок заведен: «где хлеб сеять, так прежде навозу накладут», и слушатели его потом толкуют: «ишь ты, парень; как им есть-то не гадко». Простому человеку надобно, чтобы везде и все было так, как у него; иначе он ничего не поймет. Такими глазами простой человек (если угодно, назовем его дикарем) смотрит на природу: ему все в ней представляется так, как бывает у него. Если он идет, — он спешит куда-нибудь по делу или к приятелям; течет река — это она тоже хочет куда-нибудь пробраться; к кому он оборачивается, на того он смотрит; цветы оборачиваются к солнцу, — это они хотят любоваться на него; человек кричит, когда ему больно; дерево скрипит, ломаясь, — это оно тоже кричит от боли: как же иначе? Человеку больно будет, если у него сломать руку, а дереву будто не больно, когда у него ломают сук? Если он сам притащил к соседу бревно, это будет подарок соседу, сделанный от расположения или по доброте души; ему самому река выбросила ко двору бревно, — это река делает ему тоже подарок — добрая река! Он «с сердцов» пошел да и побил соседа; его самого дерево хлестнуло ветвью, — это дерево побило его, сердится на него. Одним словом: неразвитой человек видит в природе что-то похожее на человека, или, выражаясь технически, вносит в природу антропоморфизм, предполагает в ней жизнь, похожую на человеческую жизнь; река у него живое существо, лес — все равно, что толпа народа. Когда человек что-нибудь сделает — он хочет привести в исполнение (или, выражаясь, по ученому, осуществить) какую-нибудь мысль; стало быть, и природа, когда производит что-нибудь, приводит в исполнение, осуществляет какую-нибудь — свою мысль. Я наделал себе платья, — это потому, что я хочу одеться; на земле вырастает трава, лес, — это потому, что земля хочет одеться. Я завел у себя соловья — веселее, когда в комнате поет соловей; и на земле живут птицы, животные — это потому, что на земле веселее, когда на ней есть животная жизнь. Вот каким образом возник взгляд на природу, который выразился в философии странною аксиомою; «все существующее есть осуществление идеи». Не правда ли, смешной и ребяческий взгляд?
Если наша статья найдет себе читателей, мы знаем наперед, что найдутся между этими читателями охотники до мудреного, которым наше немудрое объяснение покажется неглубокомысленным; а те из них, которые посердитее, назовут, пожалуй, наше объяснение «ребяческим», а нас неспособными проникать в глубину философии. Что делать, если глубокомысленное — повиди-мому, оказывается на деле ребяческим? Надобно и объяснять его ребячески.
Как же в самом деле следует смотреть на природу? Так, как велят смотреть химия, физиология и другие естественные науки. В природе нечего искать идей; в ней есть разнородная материя с разнородными качествами; они сталкиваются — начинается жизнь природы. Но это завело бы нас слишком далеко, и не время теперь нам излагать общие понятия из естественных наук в статье об эстетике, а не об естественных науках. Нам нужно было только показать неосновательность того начала, из которого выводится обыкновенное понятие о сущности прекрасного.
«Прекрасно то, в чем, кажется, вполне осуществляется родовая идея», — нам теперь уже не нужно повторять, что идей нечего искать в природе и нечего толковать о том, вполне или не вполне выразилась идея в отдельном предмете. Но справедливо будет выставляемое обыкновенно определение прекрасного, если понимать его так: «прекрасным казаться может только то, что хорошо в своем роде». Напр., лошадь прекрасное животное; но нечего искать красоты в плохой лошаденке: только хорошая лошадь производит эстетическое впечатление. Хорошо в своем роде то существо, которое может быть названо представителем своего рода, и это бывает тогда, когда в своем развитии существо не подвергалось вредным влияниям и произошло при благоприятных обстоятельствах, о чем говорили мы в изложении обыкновенных понятий об эстетике, с которыми в этом случае нельзя не согласиться.
«Прекрасным предмет является нам только тогда, когда мы рассматриваем его как самостоятельный предмет, в независимости от нашей собственной пользы от него». Это не всегда; особенно эстетическое наслаждение неодушевленною природою очень часто сопровождается темною мыслью о том, какую пользу или какое наслаждение доставляет она человеку. Так, напр., мы не можем оторваться от подобной мысли, когда любуемся «желтеющею нивой», как называет ее Аермонтов. Эстетическое наслаждение всегда бывает бескорыстно только в том смысле, что я любуюсь, напр., на чужую ниву, не думая о том, что не мне она принадлежит, что не в мой именно карман пойдут деньги, вырученные за хлеб, на ней растущий, но я не могу не думать: «слава богу, чудный будет урожай; чудно поправятся мужички от нынешней жатвы! Боже мой, сколько человеческого счастья, сколько радости людям зреет на этом поле». И надобно сказать, что эта мысль, может быть, смутно, неясно для меня самого действующая на меня, более всего и настраивает меня к эстетическому наслаждению нивой. Мы очень хорошо понимаем, что эстетическое наслаждение и радостное чувство владельца — совершенно различные ощущения, но не всегда одно мешает другому. Случалось ли вам, читатель, бывать в подобном положении: небогатый чиновник, заложивши свой флигель о трех окнах, начинает строить домик о пяти окнах на каменном фундаменте; он отделывает его как игрушечку, чтобы жили в нем хорошие люди, чтобы дали ему за его домик девяносто целковых в год (действие в провинции); домик почти готов; сколько стоил он хлопот и лишений своему строителю! Лес ему поверил в долг знакомый лесовщик, кирпич тоже дал в долг знакомый заводчик; все готово; только остается оклеить стены «обоями», — эх, нехватает денег! Но вот нашелся и «постоялец»; он дал в задаток 25 рублей (серебром, заметьте, — славный будет постоялец!) — и вот домик готов; завтра переедет жилец; слава богу, теперь как-нибудь расплатимся и с долгами; спасибо добрым людям, поверили мне в долг, когда была нужда! И вот в один из этих радостных дней вы зашли по делу к чиновнику, — он вас начинает водить везде, все показывать и рассказывать: помните ли вы, какое действие производил на вас этот хозяин со своим рассказом и с новеньким, чистеньким своим домиком? Не знаю, как на вас, а на меня подобные сцены действовали поэтичнее, эстетичнее всяких рассказов о девственных лесах Америки, о роскошной растительности Индии. А что же тут выражалось? Разве не «пошлое» чувство собственника? Нет, воля ваша, даже корыстное чувство владельца возвышается до трогательной поэзии, когда в нем выражается не гадкое скряжничество, а порыв к жизни, радость об обеспечении своего существования. — «Какие пошлые примеры! Какие пошлые понятия!»— Любуйтесь своим Аполлоном Бельведерским, о высокие умы, для которых низко все, что ходит по земле, а не стоит мертвою статуей на мраморном пьедестале! Для людей, не достигших вашей бесстрастной высоты, молоденькая хозяйка, детски радующаяся на то, как она мило убрала свою скромную квартирку из трех-четырех комнат, поэтичнее всех Медицейских и Луврских Венер, и мы дерзаем думать, что ее чувство поэтичнее вашего, если вы всю жизнь толковали только о греческих статуях да об «Ифигении в Тавриде». «Пошлость, тривиальность!» — твердите вы. Нет, человек не пошлость, и в холодных истуканах ваших меньше поэзии, нежели в Акакии Акакиевиче, радующемся на свою шинель и дивящемся, как можно носить такой гадкий «капот», в каком ходил он до получения из рук Петровича своей чудной шинели.
«Прекрасно то, з чем выражается вполне родовая идея; потому великий человек, истинный человек в благороднейшем смысле слова, как представитель человечества — самый лучший предмет для искусства». Предрассудок, что искусство должно изображать «героев», теперь уже сильно ослабевает; «герой» остается почти только в трескучих романах: у Диккенса и Теккерея нет героев, а есть очень обыкновенные люди, которых каждый из нас встречал десятками на своем веку. Лежачего не бьют, потому и мы не будем ратовать здесь против пристрастья к «необыкновенным» личностям в романах и в эстетике; тем более, что нам еще будет случай говорить о том, какое различие между «идеалом» и «типическим лицом».
«Фантазия — та сила, которая действительный предмет обращает в прекрасный предмет», — мы выражали свое мнение, что прекрасное существует в природе, а не вкладывается в природѵ нашею фантазиею; кому наше мнение кажется еще недостаточно доказанным, того мы просим подождать нашей статьи о прекрасном в природе. Но фантазия действительно участвует очень много в том, что мы находим известный предмет прекрасным; только не таково ее действие при этом, как думают обыкновенно; она действует не как сила, изменяющая предмет, нами созерцаемый, а как сила воспоминания и сравнения. Мы находим прекрасным то, что обнаруживает или напоминает жизнь, какою мы понимаем ее, потому, находя предмет прекрасным, мы необходимо должны для этого сличать его с нашим понятием о жизни — без сличения нельзя судить о сходстве или несходстве. Воображение участвует в чувстве прекрасного как сила воспоминания, не больше. Так думается нам. Не так думают обыкновенно.
«Действие фантазии при этом превращении действительного предмета в прекрасный предмет состоит, во-первых, в том, что в этот отдельный предмет собирает она все богатство, всю полноту идеи, рассеянную в бесчисленном множестве предметов». Мы думаем, что этого не бывает, но и в этой мысли есть справедливая сторона: вообще всякий предмет напоминает нам о похожих на него предметах; так, смотря на баржа, мы припоминаем и тигра, и леопарда; тем более напоминает нам он о таких же точно предметах, которые видали мы прежде: так, смотря на тигра в зверинце Зама, припомнишь невольно всех других тигров, которых видывал прежде в других зверинцах. Не всегда, но часто, и прекрасный предмет напоминает нам о других прекрасных поед-метах того же рода; говоря о действии, производимом на нас произведениями искусства, мы увидим, что от этого действительно усиливается впечатление, производимое прекрасным предметом. Но не всегда бывает сопровождаемо эстетическое наслаждение таким воспоминанием; говоря об отношении прекрасного в природе к прекрасному в искусстве, мы увидим, что сильное и живое наслаждение прекрасным в природе затемняет все наши воспоминания, и что мы ни о — чем не помним, кроме именно того предмета, которым восхищаемся. И такое наслаждение, не соединенное ни с какими воспоминаниями, — самое высокое наслаждение.
«Кроме того, фантазия уничтожает материальную сторону предмета и оставляет только его оболочку, поверхность» — это, во-первых, не всегда бывает — странно говорить об оболочке или поверхности пения соловья или звуков скрипки; но то справедливо, что большею частью прекрасное мы видим, а не слышим; слушаем мы только музыку, все другие роды прекрасного действуют на глаза наши, а не на уши; а зрение наше действительно видит поверхность, оболочку предмета, а не «внутреннее устройство его»; потому справедливо, что в прекрасном предмете собственно прекрасна его оболочка, его форма: но это зависит от природы нашего зрения, а не следствие вмешательства фантазии. О том, что мы, наслаждаясь прекрасным, уничтожаем в нем материальную сторону, странно кажется нам и говорить; прекрасный в действительности предмет остается в наших глазах таким, каков он в действительности, и вся его материальная сторона остается при нем: неужели для того, чтобы эстетически наслаждаться пейзажем, надобно воображать его себе театральною декорацией) или чем-нибудь вроде картин панорамы Палермо, а не действительным пейзажем, с рекою, в которой мокрая вода, с лесом, в котором дубовые деревья очень крепки и массивны, с добрыми дойными коровами, из которых иная принесет домой целое ведро молока? Неужели, эстетически любуясь красавицею, необходимо надобно воображать, что она — воздушное видение, что если она подает нам руку, то мы, сжимая эту руку, почувствуем, что это не живая рука, а пустая лайковая перчатка?
Если наша статья удостоится внимания читателей, то можно предвидеть нам вперед, что многие из читателей будут ею недовольны.
Одни будут скандализированы тем, что последняя половина ее написана «слишком поверхностно», что «господин, так строго судящий и рядящий о философии, не имеет философского взгляда на предмет, не понимает философии»; что он не понимает ее, видно уже из того, как «тривиально, поверхностно» объясняет он глубочайшие, «глубокомысленнейшие» философские идеи. Что делать, ныне уже проходит век мудреного; ныне думают, что простой взгляд на вещи — самый верный взгляд; что «мудрено»
бывает только то, что плохо понятно или ложно понято; что глубокомыслие нужно только для того, чтобы открыть истину, а что открытая истина делается проста, удобопонятна до того, что странным кажется, как не видали ее, как не пришла она в голову с первого разу первому, кто подумал об этом предмете.
Другие будут скандализированы «тривиальностью изложения» последней половины статьи: в каких пошлых предметах находит автор прекрасное! в каком-то чудаке, показывающем встречному и поперечному свой новенький домик, в какой-то — не то чиновнице, не то мещанке, восхищающейся тем, что завела у себя диван и дюжину стульев! Что делать! Аполлон Бельведерский и Венера Медицейская давно описаны, воспеты, и нам остается восхищаться только живыми людьми и живою жизнью, которую забывают в эстетиках, толкуя о Геркулесе фарнезском и картинах Рафаэля.
Многие будут скандализированы тем, что увидят в авторе человека с притязанием на произведение реформы в эстетике. Реформа в эстетике будет произведена и отчасти уже произведена, но автор и не думает о притязаниях на то, что изложенные им понятия — его изобретение. Они принадлежат ему только потому, что он усвоил их, а вовсе не потому, чтобы он был создателем их. Он имеет одно только притязание — притязание быть собирателем материалов, отрывками разбросанных по разным страницам сочинений, большая часть которых и не носит на себе заглавия «Курс эстетики», а касается эстетических понятий только случайно. Он охотно сознается, что большую часть тех мыслей, которые признает он справедливыми, можно отыскать не далее, как, напр., в «Отечественных Записках». Он даже не обидится, если вы назовете его просто переписчиком. Помилуйте, в наше ли время претендовать на «самоизобретенный» образ мыслей? Хорошо и то, если мы познакомимся с тем, что уже сказано другими; большая честь нам и то, если мы в силах понять и верно передать то, что вычитано нами. Мы и не думаем утверждать, что, подобно Тяпкину-Ляпкину, «до всего своим умом дошли».
ВОЗВЫШЕННОЕ И КОМИЧЕСКОЕ
Прекрасным называется тот отдельный предмет, в котором видим мы осуществление родовой идеи. Потому в прекрасном, как мы уже видели, две стороны или два момента: отдельный предмет, служащий, так сказать, рамкою, в которой проявляется нам идея, и проявляющаяся посредством этого предмета идея.
Если обе эти_стороны представляются нам в равновесии, так
что, созерцая предмет, мы замечаем только единство, полное соединение идеи с. образом, мы видим то, что называется собственно прекрасным. Но если этого равнрвесия не существует, если нам | бросается в глаза не единство идеи с образом, а только преимущественно одна идея, не удовлетворяющаяся своим выражением в отдельном предмете, или образ, не удовлетворяющий нашему стремлению видеть в нем идею, то мы получаем особенные видоизменения прекрасного вообще — прекрасное возвышенное или прекрасное комическое. Я вхожу к моему знакомцу, с которым не видался несколько лет; он женат уже, и за чайным столиком я знакомлюсь с его молодою, хорошенькою женою; она мила, предупредительна со мною, как с давнишним приятелем ее мужа; она мне кажется женщиной без претензий, обходится со мною просто, без жеманства и без кокетства. Я радуюсь счастью моего приятеля и говорю ему, оставшись наедине с ним: «У тебя жена очень милая и, можно без лести сказать, красавица». Я вижу в ней прекрасное в собственном смысле. Но вот я встречаю свою красавицу на блестящем бале; она, бедняжка, выросла в глуши провинции, а хочет играть из себя светскую красавицу; она ослеплена, увлечена балом, это видно по ее глазам, слышно в каждом ее слове, — да и как не увлечься, — она всего еще во второй раз на таком чудном бале! А между тем она говорит, что бал утомляет ее, что ей уже надоел «этот большой, но пустой свет», — и я не могу не улыбнуться над моей красавицей; ее красота почти позабыта мной, я вижу только, что она смешна со своими претензиями: «какою милою могла бы она быть на этом бале с своею свежею радостью, и как забавна она теперь», думается мне, и моя краса-
вица только напоминает мне о том, чего недостает ей для того, чтобы быть в самом деле светской дамой, которой балы не в диковинку. «Отдельный предмет выказывает то, что идея, о которой напоминает он, мало или дурно выражается в нем» — это называется комическим. Но через месяц я опять являюсь к моему знакомцу вестником несчастья: его завод, единственное состояние его, сгорел. Он поражен, он потерял голову. «Не унывай, мой ДРУГ, — говорит моя смешная красавица мужу, — продадим наши вещи, продадим мое серебро и уборы: этого достанет на расплату с долгами. Я могу ходить пешком, могу, если понадобится, сама готовить кушанье — этому недолго выучиться; ты молод; не теряй только энергии, все со временем поправится». — «А ты? разве не убьет меня мысль, что ты, не привыкшая к нужде, терпишь нужду?» — «Мой друг, только люби меня попрежнему, я буду счастлива попрежнему». Нет, красавица моя не просто красавица, она женщина в полном, благороднейшем смысле слова; и я почти забываю о красоте ее: так много, так сильно выражается в ней идея благородной, твердой привязанности, что заставляет забывать обо всем остальном. Это называется возвышенным.
ОБЫКНОВЕННЫЕ ПОНЯТИЯ О ВОЗВЫШЕННОЙ (DAS ERHABENE) И КРИТИКА ИХ
Возвышенным называется та форма прекрасного, в которой идея кажется переходящею за пределы отдельного предмета, в котором выражается, говорит о себе прямо, отдельно от предмета, служащего ей выражением. Таким образом, в возвышенном идея нам является в своей всеобщности, безграничности, перед которой, как ничтожные, исчезают отдельные предметы и их жизнь. Но тем не мнее проявляется нам такою она только через посредство отдельного предмета. Потому отдельный предмет является необходимым для идеи и с тем вместе исчезающим перед идеею. В этом противоречии сущность возвышенного. Муций Сцевола спокойно жжет свою руку, чтобы спасти Рим; о, как велика сила патриотизма! Что перед нею любовь человека к жизни, страх физического страдания! Что перед нею сам человек! Он сам жертвует собою для отечества, сознавая, что отечество — все, он — ничто: в возвышенном отдельное существо является ничтожным. Но безграничная сила патриотизма выказывается в этом отдельном ничтожном перед нею человеке; нет Муция Сцеволы, нет и патриотизма: отдельный предмет, уничтожаясь перед
идеей, необходим для нее, как средство для ее проявления.
Для того, чтобы идея представлялась нам безгранично проявляющеюся посредством предмета, необходимо сравнение этого предмета с другими однородными или близкими; потому что только из сравнения можно видеть, что идея слишком полно
проявляется в каком-нибудь предмете. Чтобы оценить величие Муция Сцеволы, надобно помнить, что он один изо всех римлян пошел на верную смерть, что никто другой не мог 'бы хладнокровно держать руку на огне. Таким образом, все близкие предметы, все подобные существа кажутся ничтожными перед предметом, в котором является нам возвышенное, подавляются, уничтожаются им. Что все остальные граждане Рима перед Муцием Сцеволою? Но может быть, наконец, что величие, проявляющееся в предмете идеи, подавит и самый предмет, в котором она проявляется, заслонит его, уничтожит его, — что же, наконец, и самый подвиг Муция Сцеволы? Нет пределов силе патриотизма, нет предела и жертвам для отечества — и мы, погрузясь в мысль об отечестве, о самоотвержении патриотизма, забываем и о Муции Сцеволе, вызвавшем в нас мысль эту. Такая полнейшая, высшая степень возвышенного называется отрицательным возвышенным, потому что в ней уничтожается и самый тот предмет, который служит слабым орудием для ее проявления. По противоположности можно назвать положительным возвышенным то, когда отдельный предмет сам еще не уничтожается от величия проявляющейся в нем идеи, а уничтожаются только перед ^ним^> предметы, с которыми он сравнивается.
В том и другом случае сущность возвышенного одна — пре-возможение идеи над образом или формою предмета. Превозмо-жение это выражается двояко: или уклонением предмета от обыкновенной, строго правильной формы; так, например, гора с неправильными очертаниями, представляющаяся грудою гор, наваленных одна на другую, более пробуждает мысль о беспредельности сил природы, взгромоздивших такую массу гор, нежели гора с правильным, спокойным очертанием; или тем, что форма предмета, оставаясь правильною, расширяется до того, что в ней пропадают отдельные части предмета, что мы уже не видим ясно его очертаний, его границ. Потому туманность, неясность (Dunkel) от неопределенности или громадности формы — существенный; постоянный признак возвышенного. Микроскопическая точность, микроскопическое рассматривание противны возвышенному: «для камердинера герой не герой».
Просмотрим различные роды возвышенного. Возвышенное в пространстве может быть положительное и отрицательное. Положительное рождается тогда, когда предмет превосходит все окружающие предметы своею величиной до такой степени, что они кажутся пред ним ничтожными. Величественною кажется гора, перед которой мелко все, что окружает ее. Потому на этом предмете не должно быть слишком резких разрезов, слишком резких переходов цвета; иначе нам будет казаться, что с каждым разрезом, с каждым резким переходом цвета начинается новый предмет, и подавляющее единство громадности будет потеряно. Так, например, здание, крылья которого резко отличаются по архитектуре своей от центральной части, покажется нам не одним зданием, а тремя рядом стоящими зданиями, из которых ни одно не может подавить огромностью двух остальных, и впечатление будет ослаблено. Множество одинаковых предметов, наполняющих пространство, также производит впечатление возвышенного; например, звездное небо, лес, войско; нет числа бесконечному множеству этих звезд, этих деревьев — и взгляд на них, естественно, пробуждает идею бесконечности, безграничности. Это уже переход к отрицательному возвышенному в пространстве; но собственно является нам оно в пустоте (Leere); пустота, отсутствие предметов, действует грозно, возбуждая ожидание, что явится в ней что-нибудь столь же громадное, как она сама; она грозит нам чем-то страшным, неведомым; или она пробуждает в нас страшную мысль о том, что все, наполнявшее это пространство, погибло, уничтожилось, — таково действие, производимое опустевшими зданиями древнего Египта.
Возвышенное во времени, во-первых, то, что остается цело, неизменно среди гибели и изменения всего окружающего: где его начало, когда его конец? Они так далеко, что исчезают для нашего взора (положительное возвышенное). Таково впечатление, производимое старинными зданиями. Но если и такой предмет является нам не вечным, гибнущим, то в нас рождается мысль о беспредельном потоке времени, этой всепоглощающей бездне — отрицательная форма возвышенного во времени.
Возвышенное сил природы проявляется в предмете, когда он до того превосходит силою все окружающее, что оно не может и быть сравниваемо с ним в этом отношении. Степень силы измеряется тем, какие препятствия, какое сопротивление она побеждает. Силы природы действуют слепо, сокрушая все, встречаемое ими на пути. Так действует разлив реки, ураган; а сам зритель видит себя в кругу этого сокрушаемого, и должен также ждать погибели, если его коснется эта сила; потому возвышенное сил природы вообще является страшным (furchtbar). Сила в природе проявляется различно: в низших царствах природы, особенно в природе неорганической, сила видна только в действительном движении, в толчке; тут ее необходимое условие — массивность движущегося предмета. Водопад, обвал действуют на нас огромностью массы низвергающегося снега или воды. На более высоких ступенях жизни сила выказывается в самом предмете, а не только в толчке, сообщаемом этим предметом; но она остается еще дикою, слепою, страшною силою; такова сила льва, тигра, слона; массивность, громадность уже начинает здесь терять свое значение: тигр страшнее слона. Здесь важнее интенсивность, сосредоточенность силы, нежели огромность предмета. Когда сила выражает в известном животном, или некоторых органах его, свой перевес над формою, следствием бывает нарушение гармонии формы; так что в некоторых членах животного является непро-щего разрушения: мор, поле битвы; как сильны, крепки были эти люди, и никто из них не устоял! Что могло быть крепче их?.. И сила, сокрушившая эту великую силу, кажется нам безграничною. Когда подробности разрушения благородного живого существа непосредственно действуют на чувства, безобразное превращается в отвратительное. Таковы раны, гниение, вид и запах трупа. Эти подробности действуют прямо на чувство и действуют отталкивающим образом. Отвратительное в этом смысле опаснейший враг прекрасного; так что, например, истинно-прекрасный предмет, если только он будет случайно в отвратительной обстановке, возбуждает отвращение. Но если отвратительное страшно, то и оно может быть моментом в прекрасном. Таковы, например, многие подробности в картине «Воздвижение медного змия в пустыне».
порциональность с формою остальных членов: они более развиты, нежели требовалось бы для строгой пропорциональнрсти; это будет безобразие; безобразие (das Hässliche) допускается прекрасным, если оно страшно. Так, например, челюсти и лапы у льва развиты чрезвычайно сильно, до того, что выступают из пропорциональности с другими частями тела; у человека особенно сильного руки бывают толще и плечи шире, нежели требует тип обыкновенной человеческой красоты. Но особенно видно это в безобразных животных, например, в крокодиле, у которого пасть развита до такой степени, что весь крокодил кажется движущейся пастью; он потому чрезвычайно безобразен; но пасть его страшна, сам он под своею крепкою бронею невредим, непреодолим; безобразие его страшно и потому эстетично. Иногда формы сохраняют свою гармонию, но выказывают чрезвычайную силу своей крепостью, интенсивностью. Есть люди не очень широкие в плечах, не с толстыми руками, но очень сильные — у них в руках и в плечах все-таки видна сила по твердости и упругости очертаний этих форм. Все это положительная форма возвышенного сил природы. Но когда предмет, в котором выказывался нам страшный перевес силы,~сам~~разрушается. гибнет, встретившись с но-' вою, еще-большею силою, мы видим отрицательное возвышенное сил природы. "Такое действие производят на нас картины всеоб
Но возвышенное в природе мы видим только потому, что влагаем сами в природу то, чего в ней нет; возвышенный предмет представляется нам бесконечно, безгранично великим; а в природе нет предметов бесконечно великих: только наша фантазия расширяет, возвышает их до бесконечности; и Монблан, и Казбек не бесконечно высоки, а море имеет берега — только наша фантазия представляет нам море безбрежным, вершину Казбека уходящею в небо. Нет в природе и неизмеримых сил: все в ней взвешено, и каждая сила имеет свои пределы, встречает препятствия, которых не победить ей; лишь наша фантазия одевает ее торжественным покрывалом бесконечности. Не природа возвы-
шснна, возвышенна фантазия наша, и от нее заимствует в глазах наших свою возвышенность природа.
Итак, истинная возвышенность — в самом человеке, в его внутренней жизни. В человеке есть воля, есть различные стремления. И в некоторых людях воля так сильно направлена к известной цели, стремления так сильны, что все другие люди кажутся перед ними в этом отношении слабыми, бессильными, и они — бесконечно сильными в сравнении с людьми, их окружающими. И такие люди, такие стремления — возвышенны.
Когда мы обращаем внимание только на силу стремления, не рассматривая предмета этого стремления, нравственности или безнравственности его, мы видим то, что называется страстью (die Leidenschaft), когда стремление так сильно, что поглощает в себе всю жизнь человека. Страсть страшна, как силы природы, потому что, подобно им, слепо низвергает все, что становится на пути ее. Подобно силам природы, сила страсти выказывается тем, как велики сокрушаемые ею препятствия, на которые гневно обращается она. Потому главная форма слепой страсти — гнев (der Zorn). Даже слепая любовь является сокрушающим гневом, уничтожая все, что препятствует, что хочет связать ее.
Когда человек стремится со слепою страстью, не обращая внимания на нравственный закон, и стремление его не мгновенно, а сделалось постоянною пружиной его действий, в нас пробуждается мысль, что его свободная воля подчинилась его страсти по самоволию: «я делаю так, потому что хочу так, и ничего, кроме себя, знать не хочу»; вот основание действий такого человека, и такого человека, ставящего <Свыше всего^> свое личное стремление, мы называем злодеем, в нем проявляется злое (das Böse). Злое возвышенно, когда оно так сильно, что всякое сопротивление окружающих людей такому человеку ничтожно, падает перед могуществом его воли и ума. Потому, чтобы злое являлось нам, как возвышенное, оно должно сопровождаться необыкновенною силою страсти, проницательностью, гибкостью высокого ума и способностью злодея жертвовать второстепенными своими стремлениями и наслаждениями для достижения главной цели. Злое есть безобразие в настоящем смысле слова, безобразие, какого нет в природе.
Когда вся личность, вся жизнь человека посвящается какому-нибудь нравственному стремлению, и с такою силою, что все другие люди в <этом> отношении кажутся ничтожными перед этим человеком, мы получим возвышенное добра в человеке. Но в области прекрасного все должно являться живым и действительным. А без, разнообразия в стремлениях нет живого человека. Потому возвышенно добрый человек в искусстве должен являться со всем разнообразием стремлений, какое бывает в живом человеке: герой драмы, у которого только одно чувство, который не видит, не слышит и не чувствует ничего, кроме голоса своего нрав-
ственного стремления, будет мертвым, сухим скелетом, а не человеком. Но все эти разнообразные стремления, увлекающие человека с возвышенным нравственным характером, он побеждает, подчиняет своему главному стремлению; правда, ему часто бывает нужна для этого борьба с собой; но чем тяжелее борьба, тем лучше, сильнее выкажется могущество, возвышенность его нравственного стремления.
Страстная преданносц) нравственному стремлению называется пафос0 мГМапрасн0"-называли «страстью» только низкие, грубые, эгоистические, злые страсти. Любовь к отечеству, дружба, любознательность также, могут доходить до степени страсти, поглощающей всего человека, со всеми его остальными привязанностями, как и любовь к вішу, к игре и т. п. И никогда еще не совершал ничего великого человек, не одушевленный страстною преданностью.
Отдельные формы возвышенного, о которых мы говорили до
сих пор, соединяются; в одном предмете проявляется и возвышенное в природе, и возвышенное в человеке: такое соединение называется трагическим (das Tragische). Чтобы понять трагическое, как оно'"понимается у новейших эстетиков, нам должно начать свое объяснение довольно издалека.
Весь мир составляет одно целое, и, действуя на известнукЛ часть природы, мы до некоторой степени имеем дело со всею при- \ родою, потому что все части вселенной связаны между собою так,) ч^ изменение одной влечет за собой некоторое изменение во всех. J Не так легко доказать эту связь на высших степенях жизни; но очень ясна она в природе неорганической. Приведем старинный пример. Я бросаю в реку камень^ вода взволНовывается, и во все стороны катятся по воде круги; они все расширяются и делаются слабее, незаметнее для глаза, расширяясь. Но где же круги эти прекращаются на самом деле? Математика доказывает нам, что нигде; незаметные для нашего глаза, они пробегают всю реку. Потому Лейбниц, если не ошибаемся, говорит: песчинка, брошенная в Атлантический океан, производит волнение во всех океанах, и волны, произведенные ею, ударятся о берега Англии и Америки, Китая и Новой Голландии. Таким образом, весь мир, как одно целое, стоит под законом, необходимо связывающим все части его. Но точно так же господствует неизбежный закон и в нравственном мире, и нравственный закон владычествует4 надо всею человеческою жизнью. Действуя в силу нравственного закона, человек необходимо вступает в борьбу с законом необходимости, обнимающим всю природу, он нарушает однообразное действие сил ее, стараясь изменить природу по своим потребностям. Так борется с природою земледелец, заставляя природу производить то, чего не произвела бы она сама; так борется с природою горожанин, создавая себе удобства жизни, которых не
доставляет ему сама природа, не переделанная руками человека. Подобным образом всякая человеческая деятельность есть до некоторой степени борьба с природою, нарушение естественной деятельности природы. Но природа не отказывается от своих законов, и дело человека вдруг или мало-помалу сокрушается, по-видимому, природою, сокрушается природою и сам человек. Она заглушает человеческую пиву своими травами, она разрушает своими непогодами дом и все труды горожанина. Законы природы побеждаются на время человеком, но природа берется против дел человека и самого человека; борьба эта имеет следствием для человека страдание (das Leiden). Этот закон тяжелой борьбы человека с внешним законом необходимости, господствующим в природе и 6 деятельности других людей, есть трагическое.
Низшая форма трагического — борьба и погибель человека, в котором отразилось простое могущество, чуждое нравственной идее: могущество красоты, могущество силы, богатства ' и т. п. Таково трагическое судьбы Крюза и Поликрата, о которых рассказывает Геродот. У древних было господствующим мнение, что судьба завистлива и любит низвергать высокое.
_ Вторая форма трагического то, когда человек погибает или страдает, потому что совершил преступление или ошибку, или, наконец, просто обнаружил слабую сторону своей сильной, глубокой натуры и через это стал в противоречие с законами, правящими судьбою людей, которые подавляют его своею силою, несмотря на все его величие. Так Дездемона погибает от своей доверчивости, непредусмотрительности, наивности, возмутившей спокойствие мужа; так Офелия погибает от легковерия своей любви к Гамлету, которая заставляла ее во всем слушать Гамлета, вполне отдаться ему, — Здесь проступок так мал, что его должно назвать простой ошибкой; но, тем не менее, Дездемона и Офелия через ошибку свою вызвали против себя силу, под бременем которой падают. Ужасно и возвышенно в их положении то, что следствие ошибки неизбежно необходимо: такая простодушно неосторожная женщина, как Дездемона, должна непременно вызвать не тем, так другим ревность мужа; такая доверчивая девушка, как Офелия, должна непременно и потерять свою честь, и потерять своего милого, потому что не понимает, как может ее милый не любить ее так же безгранично, как она любит его. Необходимо, с другой стороны, и впасть им в эти ошибки: если бы не была Дездемона так простодушно и неосторожно невинна, не могла бы так любить Отелло, как любит, а Офелия не была бы Офелиею, не была бы существом, которое способно чувствовать безграничную любовь, если б могла угадывать, чем кончится ее любовь к Гамлету. Виною столкновения с грозною судьбою у Дездемоны и Офелии только ошибка; но точно так же бывает причиною такого столкновения преступление или преступная страсть, источник целого ряда
преступлений; примеры этого — Отелло и Макбет. И в их участи опять двойная необходимость: характер их таков,' что они не могли иначе действовать; погибель их неизбежное, необходимое следствие самого их преступления. Возвышенность трагического заключается здесь, во-первых, в непобедимой неизбежности рокового события при данном характере действующего лица и при данной обстановке, во-вторых, в неизбежном падении его ог самого того дела, в котором выказывается сила его характера: велика сила его мощного характера, все преодолевает она; но со всей этой силою сокрушается он, как слабое, ничтожное существо, тою непреклонною силою законов, правящих миром, которые вызвал он на борьбу с собою, — и вот в этом-то падении такого сильного человека и открывается нам все беспредельное могущество силы, правящей миром. Это называется трагическим проступка или преступления. Но есть еще высшая форма трагического — трагическое нравственного столкновения.
Поступок и следствие поступка в судьбе Офелии и Дездемоны, Отелло и Макбета связаны неизбежно; тем не менее связь их, повидимому, зависит от случайных обстоятельств: не будь Яго с его ненавистью к Родриго — и ревность Отелло не пробудилась бы; не будь у Дункана детей — и Макбет не имел бы себе соперников. Но борьба и падение могут не иметь и по внешности этого случайного характера. Общий нравственный закон дробится на частные требования, которые часто находятся в противоположности между собою, так что, удовлетворяя одному, человек необходимо оскорбляет другое. Борьба эта, не приводимая никакими случайными внешними обстоятельствами, истекает из самого нравственного требования, ищущего себе удовлетворения в противность другим нравственным требованиям. Она может оставаться внутренней борьбой в сердце одного человека. Такова борьба в сердце Антигоны у Софокла; она сама чувствует, что похоронить проклятого брата — преступление, но она чувствует, что не может изменить и братской любви, требующей от нее похоронить брата. Но так как искусство все олицетворяет в отдельных образах, в отдельных лицах, то обыкновенно борьба двух требований нравственного закона представляется борьбою двух лиц. Так Фауст изображает борьбу духовных стремлений к бесконечному и наклонности человека привязываться к мимолетнему, ограниченному наслаждению; борьба эта происходит в сердце Фауста; но, тем не менее, сам Фауст является, по преимуществу, представителем духовных высших стремлений, а страсть к мимолетным, чувственным наслаждениям выражается Мефистофелем. В истории <Сесть^> две противоположные нравственные идеи, из которых каждая имеет на своей стороне справедливость, и борьба их выразилась, например, в борьбе эвпатридов и демоса в Афинах, потом в борьбе Афин и Спарты, в борьбе патрициев и плебеев, потом римских граждан и итальянских союзников (bellum sociale),
наконец, в борьбе Мария и Суллы, Помпея и Цезаря, Брута и Октавия; в средних веках мы находим такую же борьбу между немецкими императорами и папами, гвельфами и гибеллинами; и, вообще, все великие эпохи и все великие события истории состоят в борьбе двух идей, из которых каждая имеет на своей стороне право. Но одно из этих двух противоречащих стремлении справедливее и потому сильнее другого; оно сначала побеждает, уничтожает все противоположное ему, и тем самым становится уже несправедливо, подавляя законное и справедливое право противоположного стремления. Теперь справедливость на стороне противоположной, и стремление, бывшее в сущности более справедливо, погибает под тяжестью собственной несправедливости, под ударами противоположного стремления, которое, будучи оскорблено им в своем праве, имеет за себя всю силу истины и необходимости, и само, в свою очередь, точно таким же образом Епадает в несправедливость, которая влечет за собою погибель или страдание. Прекрасно все это развивается в «Юлии Цезаре» Шекспира: Рим стремится к монархической форме правления; республиканская обветшала, сделалась негодною для римского государства, и представителем этого направления является Юлий Цезарь. Оно справедливее, потому сильнее, нежели противоположное направление, стремящееся сохранить настоящее, издавна установившееся устройство Рима, и Юлий Цезарь сильнее Помпея, представителя последнего принципа. Юлий Цезарь быстро кончает борьбу победою над своим противником. Но существующее также имеет право существовать; оно разрушено Юлием Цезарем, и законность, этим оскорбленная, восстает против Цезаря в лице Брута; Цезарь погибает, но заговорщики сами мучатся сознанием того, что Цезарь, погибающий от них, выше их, и, наконец, погибают и сами от той силы, против которой восстали и которая воскресает в триумвирах. Но на гробе Брута Антоний и Октавий высказывают свое сожаление о Бруте и признают справедливость его стремления. Так совершается, наконец, примирение противоположных стремлений, из которых каждое и справедливо, и несправедливо в своей односторонности; односторонность эта постепенно сглаживается падением и страданием каждого из них, и из борьбы и погибели возникают единство и новая жизнь. ’
Впечатление, производимое на нас возвышенным в природе, — страх и благоговение; возвышенное страсти действует, с одной стороны, как страх, с другой стороны, оно пробуждает нашу гордость, или, лучше сказать, чувство собственного достоинства, возвышает нас мыслью о том, как силен человек. Так же действует и трагическое, но к этому прибавляется в нем еще благоговение перед силою закона нравственной необходимости. Погибель и страдание великого лица, которое является нам в возвышенном страсти и в трагическом, возбуждает. сострадание к нему.
Очень естественно читателю, который не позабыл еще нашу первую статью и наш взгляд на сущность прекрасного, ожидать, что мы не согласимся и с определением возвышенного, которое представляет нам возвышенное, как «превозможение идеи над формою». Мы не будем, впрочем, останавливаться над этим определением, потому что оно только самообольщение; самый беглый озгляд на обыкновенные понятия о возвышенном, изложенные нами, может убедить, что, определяя возвышенное, как перевес идеи над формою, только удовлетворяют своему желанию подвести под одно начало прекрасное, возвышенное и комическое: сочетание идеи с формою общее у всех этих понятий; в прекрасном— равновесие идеи и формы, в комическом идея не нагііол-няёт'формы, в возвышенном идея переполняет форму. Но так только говорится, чтобы поддержать систематичность науки; в самом же деле под возвышенным понимают то, что возбуждает в нас идею бесконечного; такое понятие о возвышенном проглядывает постоянно в нашем изложении, представляющем верный, по возможности, очерк господствующего теперь взгляда: если мы не могли изложить всего так ясно, как нам хотелось бы, то, по крайней мере, не внесли ничего от себя в это изложение.
Итак, вместо мнимого понятия о возвышенном, рассмотрим настоящее понятие о возвышенном, теперь господствующее. Оно выразится так: возвышенное есть тот род прекрасного, в котором видим мы идею бесконечного.
Во-первых, справедливо ли, что возвышенный предмет наводит нас на идею бесконечного и кажется возвышенным только потому, что наводит нас на эту идею, пробуждает ее в нас? Не будем входить в рассмотрение того, в самом ли деле мы имеем идею бесконечного, или она не вмещается нашим разумом, а тем более нашею фантазиею; это завело бы нас слишком далеко; ограничимся только тем, что скажем: беспристрастное наблюдение над своими понятиями (или даже идеями, если угодно), показывает нам, что мы в этом случае обольщаем сами себя, а что идея бесконечного — ложное понятие, которое мы, ободряемые наукой, толкующей нам о бесконечном, усиливаемся составить себе, но никак не можем составить; потому что оно — понятие, противоречащее само себе, вроде понятий: холодный огонь, сладкое безвкусие, беззвучная трескотня, или, как выражается Гоголь, «сапоги всмятку». Мы имеем понятие только о чрезвычайно большом, можем даже говорить себе в своем воображении: «пусть этот предмет, эта поверхность растягивается в моем воображении до беспредельности», — но в самом деле не можем вообразить себе этого. Как все противоречащее само себе (например: холодный огонь или мягкий лед), идея бесконечного чрезвычайно туманна или, выражаясь ученым языком, «непостижима». Потому она прекрасный ключ ко всему, что не может быть объяснено при настоящем положении нравственных наук. Но она темна, а проницательность ума в том и состоит, чтобы понимать темное, и вот великие умы напрягают все свои усилия, чтобы прояснить эту идею, и начинают нам толковать об «абсолюте». Когда слишком напряжено зрение, перед нашими глазами начинают носиться призраки, или, попросту говоря, у нас начинает рябить в глазах. Так и великим (истинно великим) умам Шеллинга и Гегеля (особенно Гегель обладал действительно страшною силою ума), погруженным в напряженное созерцание темной пустоты слова «абсолют», явился, наконец, фантом, одному один, другому другой. Они поняли «абсолют» и начали объяснять его. С одной стороны, увлекающая сила гениального ума, с другой — стыд перед самим собою сказать: «я не в силах понять того, что понимает, по его словам, очень ясно гений», были причиною, что почти всем показалось, будто бы «теперь абсолют объяснен, идея абсолютного стала ясна», и пустое слово стало краеугольным камнем всех философских мнений.
Но если, наконец, и оставить без оспаривания «идею абсолютного», то все же нельзя согласиться с тем, что «возвышенный предмет — тот предмет, который пробуждает в нас идею бесконечного». Строго и без всякого предубеждения замечая, что происходит в нас, когда мы созерцаем возвышенное, мы убедимся, что нам представляется возвышенным сам предмет, который производит на нас впечатление возвышенного, и что в то же самое время он нисколько не кажется нам беспредельным или неизмеримым. Величественный пейзаж, например, горы Швейцарии или Кавказа, — но неужели, в самом деле, какой-нибудь Казбек или Монблан кажется нашим глазам или нашей фантазии неизмеримо высоким? нет, он просто кажется нам очень высоким, и в самом деле очень высок. Неужели нам кажется бесконечно высоким «величественный лес»? Нет, он только очень высок. «Возвышенным» предметом все согласно называют море; но если виден берег, нечего и говорить о безграничности моря; если же берега и не видно, то море ограничивается пределами горизонта и представляет простую поверхность, лежащую под нами и далеко не занимающую всего поля зрения, большая часть которой занята небом. «В природе нет бесконечных предметов», это всякому давно известно, и предметы в природе, кажущиеся нам возвышенными, продолжают в то же время оставаться для нас предметами ограниченной, но только очень большой величины. Силы природы гораздо скорее могут навести на понятие бесконечности; но строгое рассмотрение возбуждаемых ими в нас чувств и мыслей также показывает, что и они не представляются нам бесконечными. Г ром и молния или общая картина грозы чрезвычайно возвышенное явление. Но простой человек, живущий в маленькой избушке, очень хорошо помнит, что гроза не снесет, не «разломает» его избушки, если она держится «не на куриных ножках»; а наши каменные дома и подавно не уступят грозе. Молния убьет человека, зажжет сильный пожар, — но более ничего сделать она не в силах. Разлив, наводнение страшнее, но мы очень хорошо знаем, что первый пригорок преграда ему. Еще страшнее сила землетрясения; перед нею, в самом деле, кажется нам, не устоит ничто… так, но припомните, что о землетрясениях, подобных Лиссабонскому, и землетрясениях Южной Америки мы знаем только по слухам, и уже, конечно, не по землетрясениям составилась идея о возвышенности сил природы у немцев, англичан, французов, у русских: о землетрясениях, бывающих у нас, например, в Киеве, наши летописи выражаются так: «В лето 6630 Анфилофий, епископ Володимерский, умре; и земля потрясеся мало; и Володаря яша Ляхове лестью». «Но истинно возвышенное в человеке, а не в природе», — отвечают нам эстетики. Правда, вы говорите это; но, по вашему мнению, и в природе есть истинно возвышенное; кроме того, мы хотели только показать, что предметы и силы природы (все равно, сами ли они возвышенны или наша фантазия одевает их возвышенностью) вовсе не возбуждают идеи бесконечного, производя впечатление возвышенного. Возвышенность силы в человеке очень велика; но сила человека далеко не кажется нам непреодолимой: всякий всегда очень хорошо помнит, что «какую бы страшную силу» ни проявлял человек, он не перервет хорошей веревки, толщиною в полтора пальца; и разве крайняя трусость заставит четверых бежать от одного, как бы «могуч» ни был он. «Сила страсти» гораздо непреодолимее; но разве мы не знаем, что страсть всесильна только над той грудью, в которой кипит, что другие люди очень легко могут устоять перед притязаниями человека, пожираемого страстью, и что на природу наши страсти, со всем их пламенем, не могут произвести никакого действия. А от владычества над отдельным человеком до возбуждения идеи бесконечности еще очень далеко. Уже скорее, нежели непобедимая потребность любить или порыв всесокрушающего гнева, которые испытывать на себе и видеть в других достается нам так редко (и большею частью в жалком виде), могла бы назваться «непреодолимою силою» потребность есть и пить: она всегда и надо всеми людьми господствует, и из-за этой потребности совершается гораздо больше гораздо труднейших подвигов и преступлений, нежели от любви или от гнева. Проявления страстной любви, самоотверженной дружбы и т. д. действительно увлекательны, очаровательно или страшно возвышенны, но вовсе не потому, чтобы они- пробуждали идею «бесконечной силы», а просто потому, что они — важнейшие, интереснейшие моменты жизни, что они — все равно, ядовитый или благоуханный цвет, но цвет жизни человеческой.
Мы просмотрели «возвышенное объективное», или возвышенное в природе, «возвышенное субъективное», или возвышенное в человеке, и не нашли, чтобы эти роды возвышенного пробуждали в нас идею бесконечности. Нам остается рассмотреть «возвышенное объективно-субъективное», или трагическое. И в нем не найдется этого. Но трагическое рассмотрено будет нами отдельно, в конце наших замечаний о возвышенном, и мы надеемся, что мыслящий читатель очень легко может приложить наш взгляд и к трагическому, если согласился с нами во взгляде на то, пробуждается в нас или нет идея бесконечности возвышенным в природе и в человеке?
В чем же состоит сущность возвышенного по нашим понятиям?
Было бы утомительно для читателя, если бы мы начали приводить примеры того, какие предметы и какие явления представляются нам возвышенными. Стоит читателю припомнить примеры, которых так много было уже приведено в нашем изложении и в нашей критике, чтобы увидеть, что «возвышенный предмет — тот предмет, который много превосходит своим размером те предметы, с которыми сравнивается; возвышенное явление то явление, которое гораздо сильнее других явлений, с которыми сравнивается». Монблан выше Других гор, Волга шире какой-нибудь Тверцы или Клязьмы, «величественный лес» выше в двадцать раз ничтожного кустарника; Юлий Цезарь гораздо выше всех окружающих его людей по уму и по характеру и выше всех полководцев своего времени; Дездемона любит сильней, Отелло любит и ревнует сильней тех госпож и господ, которых мы дюжинами встречаем на каждом шагу; Дездемона страдает с такою преданностью любви, какой не встретишь на каждом шагу. Давши такое определение возвышенного, мы должны сделать два замечания.
Во-первых, вместо общеупотребительного термина «возвышенное» (das Erhabene), нам кажется гораздо более соответствующим нашему определению термин «целикое» (das Grosse). О словах нечего спорить, но «великое» гораздо проще, нежели «возвышенное»; das Erhabene по-немецки и «возвышенное» по-русски одинаково напыщенные, реторические слова; и слово «великое» по-русски не совсем свободно от этого упрека, но гораздо менее отзывается схоластикой, нежели «возвышенное». Для нас оно кажется очень удобным потому, что очень хорошо выражает сущность понятия, как мы ее определяем; «велико» то, что «гораздо больше» всего остального, с чем сравнивается.
Во-вторых, мы должны высказать, до какой степени оригинальна мысль наша о сущности возвышенного, или, как мы будем впредь называть его, великого. Ту же самую мысль, какая развита нами, встречаем у многих эстетиков; они говорят: «мы сравниваем возвышенный в пространстве предмет с окружающими его предметами; для этого на нем должны быть какие-нибудь подразделения, дающие возможность считать, сколько раз, положим, высота дерева, растущего на горе, заключается в высоте горы; этот счет до того длинен, что, не дошедши до конца, мы уже теряемся, сбиваемся со счету, и должны, дошедши до конца, опять считать с начала, и опять теряемся в счете; таким образом, гора кажется нам, наконец, так велика в сравнении с деревом, что мы не в силах и определить, во сколько раз она больше его, и говорим: «гора бесконечно выше дерева». «Сравнение с окружающими предметами необходимо для того, чтобы предмет представился возвышенным». Следовательно, в нашей мысли нет оригинальности; оригинальность только в том, что мы возеодим ее в основную мысль, между тем как в обыкновенной эстетике она занимает второстепенное место; кроме того, мы прилагаем ее в равной степени ко всем видам великого, между тем как обыкновенно приложение ее ограничивают одним великим в пространстве. Мы говорим: «превосходство великого над мелким и дюжинным состоит в гораздо большей величине (великое в пространстве и во времени) или в гораздо большей силе (великое сил природы и великое в человеке)»; обыкновенно говорят: «великое состоит в превозможении идеи над формою, и это превозможение на низших степенях возвышенного узнается сравнением предмета по величине с окружающими предметами». Нам кажется, что наша не оригинальная мысль дает оригинальность нашему взгляду, потому что из второстепенного признака некоторых родов великого становится у нас сущностью всякого высокого.
Когда мы будем говорить об отношении искусства к природе, вся важность различия между нашим взглядом и обыкновенным взглядом на великое выкажется сама собой. Теперь заметим кратко, что по нашим понятиям великое в природе существует действительно, а не вносится в нее нашею фантазиею, как думают обыкновенно (точно так же, как, по цашему мнению, прекрасное действительно существует в природе, а не вносится в нее нашею фантазиею). Заметим еще, что если, с одной стороны, мы придаем самостоятельную независимость от человеческой фантазии прекрасному и великому, то, с другой стороны, мы выставляем на первый план отношение к самому — человеку и к его понятиям того, что находит человек прекрасным и великим: прекрасное то, в-чем видим мы жизнь так, как мы понимаем и желаем ее, как она радует нас; великое то, что гораздо выше предметов, с которыми сравниваем его мы. Обыкновенные понятия говорят совершенно противное: прекрасное остается вне всякой связи с нашим взглядом на вещи; великое не имеет никакой связи с нашими понятиями о том, что велико, что мало.
Теперь посмотрим, что именно великого находит человек в мире и в самом человеке, почему и как действует на него это величие.
В природе неорганической нас поражает громадность предметов, мы видели это в изложении обыкновенных понятий, с которыми в этом случае мы, конечно, вполне согласны; почему же это? просто потому, что не может не поражать предмет, который гораздо больше других Нам говорят, что громадная гора возбуждает. в нас мысль о безграничности сил природы, ее воздвигнувши** —н0 очень немногие, даже теперь, имеют понятие о том, чТ° горы подняты из недр земли силою подземного огня; а прежде и никто не знал этого; да и теперь кому из людей, имеющих понятие о геологии, приходит в голову, что Казбек поднят из недр земли, когда эти люди восхищаются Казбеком? Они думают о том, как стоит Казбек, а не о том, как поднялся он и как велика должна быть сила, поднявшая такую громаду. Какое чувство производит громадная гора в человеке? Чувство удивления— и больше ничего. Приятно или не приятно это чувство? Так себе, ни то, ни се. Но, конечно, интересно глядеть на Казбек, потому что интересно глядеть на всякую диковинку. Другое дело, если обратим внимание на стремнины, пропасти, которыми испещрена всякая большая гора, пропасть всегда страшна, потому что всегда пробуждает мысль о том, как нам приводилось ехать мимо какой-нибудь пропасти, или хоть, по крайней мере, по крутому косогору: того и смотри, обрушишься! Сердце невольно замирает от страха у человека, стоящего на краю пропасти; но отчего этот ужас? От личной опасности — и только. Совершенно другое впечатление производит река: если она спокойна, она своей широкою поверхностью говорит нам о приволье, раздолье жизни — и у нас рождается какое-то радостное, раздольное разгульное чувство; кроме того, эта река поит целую страну, без нее на сотни верст была бы мертвая пустыня, — и в человеке еще сильнее бьется сердце при мысли о жизни, расцветающей вдоль реки. Но если река взволновалась, она ужасна, потому что поглотит все, что на ней. О том, что силы природы страшны потому, что не щадят человека и человек бессилен перед ними, говорят и обыкновенные эстетические понятия.
Сила характера, сила ума, сила страсти производит на нас совершенно другое впечатление: с одной стороны, мы чувствуем себя мелкими перед человеком, в котором видим чрезвычайную силу страсти, ума и т. п., нами овладевает что-то вроде зависти или стыда; но гораздо сильнее и слышнее другое, противоположное чувство: он человек и я человек; как велик и могуществен человек! Следовательно (в скобках): как велик и могуществен я! И взгляд на великого человека заставляет нас гордиться тем, что мы — люди, возвышает чувство человеческого достоинства. Видя великого человека, я испытываю то же самое, что испытываю при мысли, что у меня, мелкого и бедного человека, есть брат, знатный И богатый человек. С одной стороны, легкая досада и зависть: зачем я не такой же? С другой — гораздо сильнейшее чувств0 самодовольства: блеск знатности и богатства моего брата отражается и на мне; из-за него почитают и меня другие, через него Я возвышаюсь и в собственных глазах.
Прекрасное то, что проявляет в себе жизнь или напоминает о жизни; великое или возвышенное то, что гораздо больше предметов или явлений, с которыми сравнивается: ясно, что понятие пре-
красного и понятие возвышенного или великого — совершенно различные понятия, не имеющие между собой никакой внутренней связи; великое в природе и в человеке может быть прекрасно, может быть гнусно или отвратительно (например, аллигатор; подлый, трусливый, лживый себялюбец), так же точно, как, например, истинное, доброе может быть прекрасно и не прекрасно. Нам потому кажется ошибкою, что возвышенное считают видоизменением прекрасного. И потому, если эстетика — наука о прекрасном, в нее не может входить трактат о возвышенном или великом; но она должна говорить о великом, если смотреть на нее, как на науку об искусстве; потому что искусство изображает, между прочим, и великое, как изображает комическое, доброе, как изображает все, что может быть интересно для нас в жизни. Нам должно будет развить это понятие об искусстве впоследствии, когда мы будем говорить собственно об искусстве и о том, какая потребность нашего духа создает искусство. Великий предмет, великое явление отличны от прекрасного предмета, прекрасного явления по своей сущности; точно так же различно и чувство великого от чувства прекрасного; главная черта в чувстве прекрасного — какая-то нежная радость; мы видели, что характер ощущения, производимого в нас великим, совершенно не такое: мы чувствуем, созерцая великое, или страх, или удивление, или гордое сознание собственной силы и человеческого достоинства, или падаем перед ним в сознании собственной нашей мелочности, слабости.
Переходим теперь к понятию трагического, которое, может быть, и справедливо считают высшим родом великого.
Уже и самое наше изложение обыкновенных понятий о трагическом достаточно показывает, что понятие трагического обыкновенно соединяют с понятием судьбы; так что «трагическая участь человека» представляется обыкновенно, как «столкновение чело- * века с судьбою», как «следствие вмешательства судьбы». А.между тем мы старались в изложении своем очистить обыкновенные понятия о трагическом ото всех посторонних понятий, которые почти все эстетики примешивают к ним, и в большей части трактатов о возвышенном понятие судьбы, как причины трагической участи человека и человеческих дел, высказывается гораздо яснее и сильнее, нежели в нашем изложении. Понятие судьбы очень часто искажается в новых европейских книгах, переделывающих его по нашему обыкновенному образу мыслей; и потому нам кажется необходимо представить его во всей его чистоте и наготе; оно через это избавится от нелепого смешения с понятиями, совершенно отличными от него, и вместе с тем выкажет всю свою неосновательность, которая прячется при новейших переделках его на наши нравы.
Живое и неподдельное понятие о судьбе было у старинных греков и до сих пор живет у арабов, персиян и турок; посмотрим
же, как понимают они судьбу* Для этого рассмотрим из круга их сказаний два-три примера действия судьбы.
В «Тысяча и одна ночь» есть прекрасная сказка о Календере, вся участь которого была делом судьбы. У царя родится сын; отец, в восторге, гадает о том, какова будет участь его сына; он хочет узнать, какие несчастья грозят ему, чтобы иметь возможность предотвратить их. Астрологи отвечают ему, что на двадцатом году жизни сыну его будет грозить страшное несчастье; но что если этот год пройдет благополучно, то царевич будет жить долго и счастливо; отец хочет укрыть сына от всякой опасности, и перед началом его двадцатого года посылает его за море к своему брату, где он проживет опасный год инкогнито, следовательно, вне всякой опасности; но корабль разбивается, и царевич выкинут один на необитаемый остров — первое несчастье, первое действие судьбы, и от чего произошло оно? Именно от старания избежать опасности и несчастья; не будь отцу царевича сказано, что должно опасаться несчастья, не вздумай он укрывать сына от несчастья — он не подвергся бы никакой опасности, никакому несчастью. Во сне является царевичу старик, велит ему повалить статую железного всадника, а потом перевозит царевича на другой остров, также необитаемый; но царевичу тут хорошо, потому что на нем растут прекрасные плоды. Скоро замечает он приближающийся к берегу корабль и, чтобы избежать всякой опасности от экипажа, влезает на густое дереве, на котором его нельзя заметить. Из корабля выходит старик-купец с сыном, прячет сына в подземелье и уезжает. Царевич входит в подземелье и дружит с оставленным там молодым человеком; молодой человек рассказывает ему, что отец его, богатый купец, получил предсказание, что в течение сорока дней по низвержении железной статуи сын его будет убит царевичем, низвергшим эту статую, и, чтобы скрыть сына от царевича, приготовил для него это подземелье на острове, к которому никогда не пристают корабли. Через сорок дней он приедет за сыном. На сороковой день царевич хочет разрезать дыню; нож висит над диваном, на котором лежит молодой человек. Царевич становится на диван, снимает нож, запутывается ногою в платье молодого человека, падает, — и нож вонзается прямо в сердце молодому человеку — опять несчастие случилось именно потому, что предвидели его и хотели его избежать. История царевича продолжается в этом же духе. Припомним еще историю Эдипа, знаменитейшее из греческих сказаний о судьбе. Фиванский царь Лаий получил предсказание, что сын его убьет его; он велит «забросить» младенца, грозящего ему смертью. Но брошенный младенец найден пастухами и представлен коринфскому царю, который воспитывает его как собственного сына; выросши, Эдип спрашивает оракула о своей судьбе; оракул отвечает ему, чтобы он не возвращался в отечество, потому что, если встретится он с отцом своим, то убьет его; считая Коринф оте-
чеством своим, Эдип бежит из Коринфа; на дороге через узкое ущелье встречается он со стариком, нечаянно завязывается ссора, и Эдип убивает старика — этот старик и есть отец его, Лаий. Если б Лаий не знал о том, что сын убьет его и не старался бы избежать этого, он не был бы убит сыном; если бы Эдип не избегал своего отца, он не встретился бы с ним; если бы не знал он, что убьет отца и не старался бы избегнуть этого, он не убил бы отца.
Вот что называется судьбою. Это какая-то непобедимая сила, которая хочет губить людей; но, Чтобы резче выказать их бессилие перед собою, она нарочно предостерегает их; предуведомленный о грозящем ему ударе, человек старается избежать удара; но именно этого-то и хочет судьба: на самой безопаснейшей дороге она и настигает бегущего. Она не просто губит человека — она хочет посмеяться над его умом, над его предосторожностями, она непременно губит его тем самым, чем он думает спастись.
Мы надеемся, что в настоящее время не найдется ни одного образованного человека, который бы не признал такого понятия о судьбе детским и несообразным с нашим образом мыслей. Образ мыслей старинных греков (старинными греками называем мы греков до появления у них философии) и полудиких азиатцев неприличен европейцу нашего времени. Я хочу купить сукна; мой знакомый говорит мне: «не покупайте в лавке NN, там дадут вам дурного, гнилого сукна; берите сукно в магазине DD, под таким-то нумером». — Что выйдет из этого совета по нашим понятиям? То, что я действительно куплю сукно в магазине DD, и мне дадут прекрасного сукна по сходной цене; по мнению старинных греков, напротив: если бы я не посоветовался с опытным человеком, если бы я не взял предосторожности против того, чтобы получить за дорогую цену плохое сукно, может быть, моя покупка и была бы удачна; но теперь я непременно куплю втридорога и куплю дурного, гнилого сукна, имейно потому, что остерегаюсь этого; я действительно беру сукно в магазине под тем нумером, который рекомендован мне; но что же? Под этим нумером магазин, от которого предостерегал меня мой приятель; он занял лавку, оставленную магазином DD, который переведен уже на другое место. Я отправляюсь в дорогу; меня предупреждают: когда будете проезжать через такое-то место, надобно будет вам вылезть из экипажа, потому что тут очень крутой спуск; я следую этому совету. Что будет по нашим понятиям? То, что я избег всякой опасности и благополучно сошел вниз; по понятиям старинных греков, напротив: стараясь избежать опасности, я нашел погибель: экипаж мой благополучно проехал по крутому спуску, я шел пешком — на меня напали разбойники и убили меня.
Подобные идеи так мало клеятся с нашими понятиями о вещах, что могут иметь для нас только интерес фантастического; и
трагедия, которая основана на идее греческой судьбы, для нас будет иметь одно достоинство — достоинство народной сказки, обезображенной переделкою. Может показаться смешно наше ра-тование против идеи греческой судьбы; но мыслящий читатель без большого труда увидит, что эта идея, изменяясь и прикра-шиваясь, проникает во многие из наших обыкновенных эстетических понятий.
Каким же образом возникла она? Мы уже имели случай говорить о том, что природа и сила ее представляются полудикому человеку каким-то похожим на человека существом; полудикий человек олицетворяет, очеловечивает, если так можно выразиться, природу и все ее силы. Море для него — Нептун, солнце — Аполлон, соловей — превращенная в птицу красавица, содрогание Сицилии от подземных сил огня — содрогание великана, заваленного этой грудою земли, которая образует остров Сицилию, подсолнечник для него — девушка, влюбленная в солнце (Аполлона), потому-то она и поворачивает свое лицо туда, где солнце. Олицетворяя, очеловечивая все, полудикий человек олицетворяет и силу случая.
Всякий из нас очень хорошо знает из опыта, что вперед рассчитывать наверное нельзя, что всегда между нашим намерением и приведением его в исполнение стоит множество случайностей, непредвидимых и неотвратимых. Если десять человек уговори ч-сь сойтись на другой день в шесть часов, то можно быть увег.ну, что одному или двоим обстоятельства помешают явиться, что другие явятся раньше или позже шести часов, потому что одних задержат обстоятельства, у других обстоятельства расположатся так, что им придется явиться раньше назначенного времени. Это пример мелочной; но чем важнее событие, тем реже оно совершается именно так, как мы рассчитывали; потому что тем- более нужно сил и условий, — а все они подвержены случайностям, — для того, чтобы наши расчеты осуществились. Этот мешающий, препятствующий случай кажется полудикому человеку делом человекоподобного существа; случай уничтожает наши расчеты — значит, это существо (судьба) любит уничтожать наши расчеты, любит смеяться над человеком; случай сильнее наших расчетов, значит, судьба всесильна; случай капризен, значит, судьба капризна, делает так, а не иначе потому только, что ей так угодно; случай часто пагубен для нас — значит, судьба любит вредить человеку — и, в самом деле, у греков судьба человеконенавистница; капризный, очень могущественный человек любит выказать свое могущество, говоря наперед тому, кого хочет уничтожить: «я хочу сделать вот что; попробуй помешать мне». Так делает и судьба: она вперед объявляет свое решение, чтобы доказать нам наше бессилие бороться с ней, уйти от нее и иметь злую радость посмеяться над нашими слабыми, неловкими, безуспешными попытками бороться с ней. Так понимали судьбу старин-иые греки; такою она является в их мифах и в их трагедиях, из которых выводится до сих пор понятие трагического.
Нам кажется, что подобные понятия, как бы пи' переодевались, как бы ни прикрашивались они, должны быть решительно оставлены. Странно было бы нам верить в «буку», так же странно толковать о судьбе. Религия, поклоняющаяся судьбе, низшая степень язычества; она ниже даже самого идолопоклонства. Но такова сила народных преданий, что греческие философы, отвергая не только идолопоклонство, но даже и многобожие, не могли оторваться от идеи судьбы и только старались приладить ее к понятиям науки; и, действительно, силою своего гения они успели замаскировать се так, что она успела под разными формами и названиями удержаться надолго в науке и отчасти отразиться даже там, где с первого раза нельзя и предполагать ее.
Но довольно толковать о идее судьбы. Посмотрим, как она отразилась в эстетических понятиях о трагическом.
Нам говорят: свободное действие человека возмущает естественный ход природы; природа и ее законы восстают против оскорбителя, нарушителя своих прав; следствием этого бывает страдание и погибель действующего лица, если действие было так могущественно, что противодействие было вызвано серьезно. Таковы основание и сущность трагического.
Не правда ли, что природа и ее силы здесь представляются каким-то живым и чрезвычайно раздражительным существом, которое очень щекотливо насчет своей неприкосновенности и ни "за что не позволит безнаказанно наступить себе ha ногу? Неужели в самом деле природа оскорбляется? Неужели она в самом деле мстит? Не странно ли представлять <Сее^> себе чем-то похожим на отдельного человека и человеческое общество в этом случае? Смотря на жизнь человеческую глазами рассудка, а не фантазии, мы должны сказать: «всякое важное дело человека требует сильной борьбы с природой или другими людьми; но будет ли эта борьба трагична или нет, зависит от случая». Земледелец, конечно, постоянно борется с природою; не спорим, случается, что засуха, град, поздний мороз, дожди во время уборки губят его труды, но все это «случается» только, необходимости нет в погибели трудов земледельца; и должно сказать, во-первых, что гораздо чаще труд его бывает удачен, нежели гибнет: на один неурожайный год приходится пять урожайных; а удачная, счастливая борьба — не страдание, а радость. Во-вторых, надобно с. казать, что тем реже будут неурожаи, чем лучше, больше земледелец обработает и переработает землю; то есть чем сильнее, неослабнее будет он бороться, тем удачнее и радостнее борьба; и наука сельского хозяйства подает нам надежду, что, обработызая землю как должно и принимая ві е предосторожности против сил природы, мы совершенно избавим свой посев от опасности погибнуть: от засухи предохранит искусственная поливка, от чрезмерных дождей — канавки и водоспуски, от града — градоотводы. Природа не раздражительна; она только беззаботна и не обращает никакого внимания на человека, потому что не способна чувствовать. А общество? Если в людях есть наклонность завидовать величию, то в них еще больше наклонности уважать величие, и общество будет благоговеть перед великим человеком, если не будет особенных случайных обстоятельств, которые заставляют общество считать великого человека вредным для себя: трагична или не трагична судьба великого человека, зависит от обстоятельств, и гораздо менее можно в истории встретить великих людей, которых судьба была трагична, нежели таких, в жизни которых было много драматизма, но не было трагичности. Крез, по рассказу Геродота, Помпей, Юлий Цезарь имели трагическую судьбу; но Нума Помпилий, Марий, Сулла. Август окончили свое поприще очень счастливо; что можно найти трагического в судьбе Карла Великого, Генриха Восьмого, Петра Великого, Фридриха Второго? Борьбы в их жизни много; но, взглянув на нее вообще, мы должны признаться, что счастие и удача были на их стороне.
Как нам говорят о трагическом проступка или преступления? «В характере великого человека есть всегда слабая сторона; в действовании великого человека есть всегда что-нибудь ошибочное или преступное; эта слабость, проступок, преступление губят его, а между тем они необходимо лежат в глубине, в сущности его характера; так что великий человек гибнет от того же, в чем источник его величия». Не подвержено никакому сомнению, что часто бывает в самом деле так; войны, бесконечные войны возвысили Наполеона, они же и низвергли его; Кромвель нашел источник мучения в том же самом, в чем был источник его величия. Но не всегда это бывает; очень часто великий человек погибает, просто от недостатка предусмотрительности, которая составляет случайную черту в его характере; так погибли намерения Тюрго и Иосифа П; нам скажут: великий преобразователь всегда действует по гениальному и благородному порыву, чуждому расчету и осторожности; напротив, Ришелье и Петр Великий были люди очень предусмотрительные и расчетливые. Наконец, очень часто человек погибает безо всякой вины со своей стороны; не будем приводить примеров из истории, потому что нам легко могут отвечать: «в этих случаях нет ничего трагического»; но неужели Дездемона в самом деле сама была причиною своей погибели? Всякий видит, что одни только гнусные хитрости Яго погубили ее. Конечно, если мы захотим непременно в каждом гибнущем видеть виноватого, как велят нам обыкновенные эстетические понятия, то у нас все будут виноваты: и Дездемона виновата, зачем она была так невинна? и Ромео и Джульетта сами виноваты в своей погибели: зачем они любили друг друга? и Дон-Карлос виноват, и маркиз Поза виноват, зачем они были так некстати благородны? и, нако-
нец, ягненок в басне, пьющий из одного ручья с волком, виноват: зачем шел к ручью, где мог встретить волка, а главное, зачем не запасся такими зубами, чтобы самому съесть волка? Нам кажется, что мысль видеть в каждом погибающем виноватого, мысль натянутая и жестокая до того, что возмущает человеческое чувство.
Наконец, о трагическом нравственного столкновения обыкновенные эстетические понятия говорят: «Два противоположных стремления, из которых каждое до некоторой степени справедливо, вступают в борьбу; более справедливое сначала побеждает; но, становясь несправедливым от подавления справедливости, находящейся также и на стороне противоположного стремления, гибнет под ударами его; другое стремление остается, повиди-мому, победоносным, но смерть и страдание овладевают им потому, что оно, наконец, сознает само справедливость того дела, которое разрушено им. Обыкновенно противоположность двух стремлений выражается в искусстве посредством борьбы двух лиц, служащих им представителями; одно из этих лиц погибает, сначала победивши; другое, пережив противника, само скорбит о нем, и жизнь становится ему мучением».
Мы видели одно понятие, служащее, по обыкновенному мнению, основанием величия трагической судьбы: каждое бедствие и — особенно величайшее из бедствий — погибель есть следствие преступления или проступка, и в каждом бедствии, постигающем человека, зритель видит грозную силу вознаграждения со стороны природы и общества равным за равное. Теперь эта же самая идея представляется нам с другой стороны, и, по нашему мнению, также не основательны ее притязания на всегдашнюю приложимость ко всякому отдельному случаю: «за преступлением всегда следует наказание преступника; преступник или погибает, или страдает внутренно».
Мы очень хорошо знаем, что преступления, которые может наказывать государство, в благоустроенном государстве всегда наказываются. Но, кроме преступлений против государственного благоустройства, есть преступления против нравственности, которых государство не может уследить и для которых нет наказаний в уголовных законах; они могут быть наказаны только стечением обстоятельств, общественным мнением и совестью самого преступника. И в противность эстетическим понятиям о трагическом, утверждающим, что преступление всегда наказы-зается одним из этих путей, мы думаем, что часто преступления против нравственности остаются совершенно без наказаний. Давно мы уже подсмеиваемся над старинными повестями, в которых всегда под конец торжествовала добродетель и наказывался порок внешним образом; правда, мы подсмеиваемся, но и в наше время часто пишутся подобные романы, где с явною натяжкою порочные под конец терпят наказание, а гонимая добродетель
выходит суха из воды; в пример укажем на большую часть дик-кенсовых романов. Как бы ни было, но мы уже знаем, что на земле порок знешним образом наказывается не всегда, добродетель внешним образом награждается не всегда, что порочный может умереть спокойно в богатстве, что добродетельный может всю жизнь страдать и умереть страдая. Но все-таки нам хочется, чтобы порок и преступление необходимо, непременно наказывались, — и вот явилась теория, следы которой находим в обыкновенном понятии о трагическом: порок и преступление необходимо подвергают порочного или преступника проклятию от Общества и угрызениям собственной созести, которые тяжелее несноснее всякого наказания. Но, увы, и это бывает не всегда, далеко не всегда. Что касается до общественного мнения, то оно преследует не все гнусности, не все преступления. Не будем исчислять гнусностей, которые не роняют человека в общественном мнении в нынешней Европе: так как преступная снисходительность к ним наша снисходительность, то многие из нас готовы защищать ее, готовы утверждать, что те пороки и преступления против нравственности, на которые указали бы мы, не пороки и не преступления. Мы не хотим вдаваться в излишние споры, а укажем лучше на те гнусности, которые терпело общественное мнение у греков и римлян, надеясь, что этих гнусностей уже никто не будет защищать. Честные спартанцы были честны только со своими; всех неспартанцев (даже греков, не говоря уже о варварах, которых считали греки не совсем животными, но и не совсем людьми) спартанец мог обманывать, не переставая быть «честным и почтенным» в глазах своего народа. Известно, что вся внешняя политика Спарты бесчестна и вероломна в высшей степени. Мало того: спартанец должен был «выкинуть» — технический термин — своего младенца, если он родился хилым: государству нужно здоровых, сильных граждан, хилые и слабые для него обременение. Преступление здесь вменяется в обязанность. И неужели вы думаете, что спартанец мучился упреками совести, «выкинув» свое дитя? А охота за илотами, когда людей травили и били, как зайцев? Афинская внешняя политика также была решительно бессовестна; гнуснее политики Рима относительно соседних народов ничего не может быть. Но посмотрим, каковы были «гуманные» афиняне дома. Они держали своих жен взаперти — по нашим понятиям, это бесчеловечно; а разве афинянина мучила совесть за это? Они открыто жили с гетерами — и это не было позором; хорошо было бы, если бы они ограничивали этим свой разврат… Римские законы уполномочивали отца убить сына или продать его; освободившись, сын опять мог быть продан отцом; только после третьей продажи прекращалось право отца снова продать его — вероятно, было время, когда общественное мнение не преследовало таких поступков, если они были освящены законом. Если общественное мнение прежде было так не строго противу многих пороков и гнусностей, го мы вправе думать, что и теперь оно не так строго, как требует чистый закон нравственности. А если общественное мнение не вооружается против какого-нибудь порока или преступления, не пробуждает своим проклятием совести виновного, то редко, очень редко проснется ока.
Нам кажется неоспоримою истиною для всякого человека, успевшего понять, что судьбы нет, если под судьбою понимать то, что понимали полудикие греки, а иначе понимать ее значит нелепым образом смешивать истины науки со взглядами не понимающего ни природы, ни жизни невежества, — нам кажется неоспоримою истиною для всякого человека, смотрящего на мир и жизнь глазами образованного человека, что в страдании и погибели великих людей нет ничего необходимого; нам кажется, и нравственное преступление не всегда наказывается своими последствиями, столкновением обстоятельств, общественным мнением, даже угрызениями совести; что поэтому не идея необходимости пробуждается в нас зрелищем трагической участи человека. Что же нас поражает в трагическом? Во-первых, трагическое всегда бывает великим в том смысле, какой мы придаем этому слову: трагическое событие, великое, т. е. очень важное событие в человеческой жизни, трагический герой — замечательный, великий человек. Но этого мало. Трагическое есть страдание или погибель человека — этого совершенно достаточно, чтобы взволновать, поразить нас, наполнить нас ужасом и состраданием, хотя бы в этом страдании, в этой погибели и не проявлялась никакая «бесконечно могущественная и неотразимая сила». Случай или необходимость причина страдания и погибели — все равно, страдание и погибель ужасны. Нам говорят: «случайная поги
бель — нелепость в трагедии», — в трагедиях, писанных «сочинителями», так, в действительной щизни — не так. Об этом мы поговорим больше, когда будем говорить о мнимом превосходстве созданий искусства перед действительной жизнью. Там увидим, хорошо или не хорошо делают писатели, везде вводя «необходимую, вытекающую из самой сущности завязки» развязку. В жизни развязка часто бывает совершенно случайною, часто бывает совершенно случайною и трагическая участь, нисколько не теряя от этого своей трагичности. Мы согласны, что трагична участь Макбета и лэди Макбет, необходимо вытекающая из их положения, характеров и дел. Но неужели не трагична участь Густава Адольфа, который погиб совершенно, случайно в битве под Люценом, на пути победы и торжества? Неужели не трагична участь герцога Орлеанского (старшего сына Людовика Филиппа), который — надежда всей Франции, — выходя из коляски, оступился, ударился виском о мостовую и умер через несколько часов? Где же была необходимость его смерти? Нам кажется, что трагическое можно и должно определить просто так:
«Трагическое есть великое страдание человека или погибель великого человека».
В первом случае сострадание и ужас возбуждаются тем, что страдание велико, во втором — тем, что гибнет великое. Объяснять, почему страшно, трагически действует на человека великое, ужасное страдание или погибель великого, того человека, которым гордится, на которого радуется всякий человек, — кажется нам совершенно излишним. Так определяется то трагическое, о котором обыкновенно говорится в эстетике. Но она забывает о третьем роде трагического, говоря только о трагическом страдания и трагическом погибели, — забывает о трагическом злодейства, преступления, порока, о трагическом злого. О нем действительно легко позабыть: от преступления обыкновенно страдают или погибают люди, и потому кажется, что трагический эффект производится собственно только страданием или погибелью людей, гибнущих от преступления. Но бывают злодейства и преступления милые, веселые, от которых терпит явным образом нравственное достоинство человека, терпит все общество, а не отдельные лица. Чтобы яснее была наша мысль, приведем пример. Представим себе какого-нибудь английского лорда, который эпикурейски проживает на удовлетворение своей страсти к чувственному наслаждению свои огромные доходы. Он человек, любящий комфорт во всех возможных отношениях, даже в отношении своей совести; потому не подумает он о «низких» или «преступных» средствах удовлетворения своей страсти; он не будет даже и соблазнителем, не говоря уже о том, что не прибегнет к насилию и тому подобным уголовным мерам. Он просто будет утопать в сладострастии с женщинами, которые не через него лишились чистоты своего сердца. От него не пострадала, не погибла, ни одна из них. Он очень милый человек, и счастливы его милостями все те, кого он удостоивает своих милостей; не несчастны и те, которые уже надоели ему, потому что не с пустыми руками они оставляют его сераль. Он пагубен только для общества, заражаемого, оскверняемого им; он враг только одной «суровой» нравственности. Нам кажется он злодеем, преступником хуже всякого преступника, потому что он развратитель хуже всякого развратителя; его жизнь говорит: «не бойтесь порока, порок может быть никому не вреден, порок может быть добр, кроток». Правда, что такой личности не изображало, сколько нам помнится, искусство; но, изображенный в настоящем своем виде, такой человек будет самым страшным, самым трагическим лицом, и картина его жизни трагичнее картины жизни Макбета или Яго. В нем выразится ужас порока, ужас самого зла, а не отдельных злодейств, порождаемых злом. В истории много таких личностей; таков, например, Дюбуа.
Если мы обратим внимание и на этот род трагического и захотим определить трагическое так, чтобы одно выраже-
Ш
пне равно обнимало все роды трагического, из которых некоторые, может быть, и забыты нами, как другими ' забываемо было трагическое зла 4, то у нас получится такое определение: «трагическое есть ужасное в человеческой жизни».
КОМИЧЕСКОЕ
Так надписываем мы это отделение, потому что понятия о комическом, выражаемые обыкновенно в эстетиках, кажутся нам в сущности справедливыми. Если мы и будем во многом не согласны с ними, то в сущности мы с ними совершенно согласны.
Одна крайность вызывает другую крайность. Так и возвышенное, сущность которого состоит в перевесе идеи над формою, находит себе противоположность в комическом, сущность которого — перевес образа над идеею, подавляющий идею, как в возвышенном образ подавляется идеею. Но форма без идеи ничтожна, неуместна, нелепа, безобразна. Безобразие — начало, сущность комического. Правда, безобразие является и в возвышенном, но там является оно не собственно в качестве безобразного, а в качестве страшного, которое заставляет забывать о своем безобразии ужасом, возбуждаемым в нас громадностью или силою, проявляющеюся через безобразие. Но, когда безобразное не ужасно, оно пробуждает в нас совершенно другое чувство — насмешку нашего ума над своею нелепостью. Безобразное кажется нам нелепо только тогда, когда становится не на свое место, хочет казаться не безобразным, и только тогда оно возбуждает смех наш своими глупыми притязаниями, своими неудачными попытками. Собственно говоря, безобразно только то, что не на своем месте; иначе предмет будет некрасив, но не будет безобразен. И потому безобразное становится комическим только тогда, когда усиливается казаться прекрасным; мы должны замечать это безуспешное притязание, чтобы найти некрасивое безобразным, иначе некрасивое, оставаясь просто некрасивым, не войдет в область эстетики.
В природе неорганической и растительной не может быть места комическому, потому что в предметах на этой ступени развития природы нет самостоятельности, нет воли и не может быть никаких притязаний. Пейзаж может быть очень некрасив: пожалуй, можно назвать его и безобразным; но смешным не будет он никогда. Есть очень некрасивые растения; кактусы решительно безобразны; но что же в них смешного? Мы и не требуем от кактуса ничего, потому что в нем нет желания казаться красивым; растение не щеголяет, не любуется собой. Говоря строго, и животные мало представляют комического; но они уже несколько думают о себе, нежат себя, довольны собою, любуются собою — по крайней мере, в них заметно что-то подобное, — и галка, которая охорашивает своего галчонка, как будто из него можно сделать что-нибудь хорошее, — так сказать, любующаяся на него, — уже смешна, смешна потому, что нам кажется, будто бы она находит своего галчонка красавцем. Но гораздо больше мы смеемся над животными потому, что они напоминают нам человека и его движения; и некрасивое животное с неграциозными движениями смешно потому, что напоминает нам урода и нелепые движения нескладного и неловкого человека. Например, очень смешна походка утки, потому что напоминает походку какого-нибудь толстяка, переваливающегося из стороны в сторону на своих коротеньких ножках. Наконец, животные смешны и потому, что бывают «глупы», как бывают и «умные» животные. Но самое умное животное при столкновении с человеком часто не может не казаться глупым. Все смеются над «глупою» овцою; но часто и собака забавляет нас своими соображениями. Но во всех этих случаях мы, смотря на животное, припоминаем о человеке, и только сближение с человеком делает для нас смешным животное.
Но истинная область комического — человек, человеческое общество, человеческая жизнь, потому что в человеке только развивается стремление быть не тем, чем он может быть, развиваются неуместные, безуспешные, нелепые претензии. Все, что выходит в человеке и в человеческой жизни неудачно, неуместно, становится комическим, если не бывает страшным или пагубным. Так, например, чрезвычайно смешна страсть, если она не величественна или не грозна: раздраженный человек необыкновенно смешон, если гнев его пробужден какими-нибудь пустяками и не приносит никому серьезного вреда, потому что человек в этом случае гневается совершенно неуместно, и порывы страсти нелепы, если не обращены на сокрушение чего-нибудь важного. Точно так же смешна бывает и любовь, если возбуждается предметом, не заслуживающим серьезной любви, и не выказывается величественным
самопожертвованием; что может быть смешнее человека, влюбленного в нарумяненную и набеленную кокетку пожилых лет? Но он смешон только до тех пор, пока эта смешная привязанность не влечет за собою серьезного вреда ему или другим; иначе, губя себя, он становится жалок, и может быть жалок до того, что перестает быть смешным; вредя другим из-за своей глупой, смешной страсти, он делается презренным или отвратительным, и опять перестает быть смешон. Злое всегда так страшно, что перестает быть смешным, несмотря на все свое безобразие. Но в человеке часто бывает только претензия быть злым, между тем как слабость сил, ничтожность характера не дают ему возможности быть серьезно злым; и такой бессильный злодей, никому не страшный и не вредный, — комическое лицо; смешна бывает и погибель его, если он гибнет от собственной слабости и глупости; а это бывает очень часто, потому всякая злость, всякая безнравственность в сущности глупа, нерасчетлива, нелепа. Что может быть смешнее ярости Пирогова (в «Невском проспекте»), когда он собирается погубитъ Гофмана и Шиллера, и успокоивается, съевши несколько пирожков в кондитерской и попавши на вечер, где отличается в мазурке? Самое трагическое обращается в комическое тогда, когда остается пустою претензией); так, например, очень смешны будут приготовления к смерти и ужасы человека, идущего на дуэль, когда он предчувствует, что дуэль будет только чистою формальностью и много, много если кончится ничтожною царапиною; смешон ужас человека, опасающегося нападения разбойников там, где их быть не может, и чрезвычайно комичны господа, которые, едучи из «Казани в Рязань», как выражается, Гоголь, запасаются парою пистолетов, когда нужно запастись только парою тяжей, на случай, если. тяжи порвутся. Область всего безвредно-нелепого — область комического; главный источник нелепого — глупость, слабоумие. Потому глупость — главный предмет наших насмешек, главный источник комического.
В частности, комическое называется фарсом, когда ограничивается одними внешними действиями и одним наружным безобразием. К этому роду комического относятся длинные носы, толстые животы, долговязые ноги и т. п.; к нему же относятся все неловкости, всякая неуклюжесть; например, нелепая, неловкая походка, смешные приемы и привычки, например, привычка беспрестанно моргать, беспрестанно утираться, привычка обдергиваться и охорашиваться и т. п.; к области фарса принадлежат, наконец, все глупые, нелепые приключения с. человеком, например, когда он падает, когда его бьют, одним словом, когда он является игрушкою глупого, но безвредного случая или посмешищем других людей. Настоящее царство фарса— простонародные игры, например, наши балаганные представления. Но фарсом не пренебрегают и великие писатели: у Раблэ он решительно господствует; чрезвычайно часто попадается он и у Сервантеса. Фарс должен ограни-
чиваться внешними приключениями и внешним безобразием; потому чаще всего он нарушает приличия, самое внешнее в человеческом обществе, и в этом случае обращается он в цинизм. У Гоголя находят много цинизмов; но цинизмы его еще очень благопристойны в сравнении с тем, что находим у Раблэ, Сервантеса, Шекспира и даже у Вольтера.
Второй вид комического — острота (der Witz); ее можно разделить на остроту собственно и насмешку. Сущность ее в том и другом случае — неожиданное и быстрое сближение двух предметов, в сущности принадлежащих совершенно различным сферам понятий и сходных только по какому-нибудь особенному случаю, по какой-нибудь черте, правда, очень характеристической, но ускользающей от обыкновенного серьезного взгляда. Но простая острота только играет этим сходством, хочет только блеснуть, между тем как насмешка хочет кольнуть, уязвить; в простой остроте даже мало чисто-комического, в ней больше веселости и развязности ума, в ней нет гордого презрения; собственно комическое— принадлежность насмешки; приведем два примера насмешки, еще неизвестные у нас: Шиллер говорит о миннезингерах: «у них все мимолетно; вечно только одно — скука» — это насмешка, состоящая в игре словами; другой род насмешки играет образами, играет самыми вещами: какой-то поэт воспользовался смертью сестры, чтобы написать целый ряд элегических стихотворений; вместо всякой оценки его произведений один из его знакомцев рассказал ему следующий анекдот: «У рыбака пропала жена, три дня не было о ней ни слуху, ни духу. На четвертый день муж вытащил сетями ее бездыханный труп: несчастная утонула! Как велика была скорбь нежного супруга! Но в тело впилось множество раков; он обобрал их и продал за хорошую цену». В самом деле, острая и язвительная насмешка над людьми, которые, по выражению Лермонтова, «влюбляются страстно в свою нарядную печаль», которые «напевом заученным» повествуют нам о своих мнимых страданиях. Но высшей степени своей резкости насмешка достигает в иронии.
Лица, которые выводятся в фарсе, смешны сами, но не знают о том, что они смешны; острота, напротив того, смеется над другими, но уважает и щадит сама себя: для нее все глупо и смешно, но сама она не смешна и не глупа для себя. Юмор смеется сам над собою. Говорить подробно о фарсе и остроте казалось нам совершенно излишним, потому что они всякому очень хорошо известны; но довольно многим у нас. еще не так хорошо известно, что именно такое юмор и чем отличается он от простой остроты, от простой шутливости или насмешливости; потому нам кажется нужным о юморе сказать несколько подробнее.
К юмору расположены такие люди, которые понимают все величие и всю цену всего возвышенного, благородного, нравственного, которые одушевлены страстною любовью к нему. Они чувствуют в себе много благородства, много ума, истинно-человеческих достоинств, и потому уважают и любят себя. Но этого мало для того, чтобы быть наклонным к юмору. Люди, расположенные к нему, люди с деликатною, раздражительною и вместе наблюдательною, беспристрастною натурою, от взгляда которых не скроется ничто мелочное, жалкое, ничтожное, низкое. Очень много нсего этого замечают они и в себе. Сознавая свое внутреннее достоинство, человек, расположенный к юмору, очень хорошо видит исе, что есть мелкого, невыгодного, смешного, низкого в его положении, в его наружности, в его характере. Все эти слабости, мелочи, которых так много почти во всяком человеке, тем невыносимее для него, чем возвышеннее характер и ум его, чем восприимчивее, раздражительнее, нежнее его натура.’Есть люди, для которых довольно ничтожного, глупого недостатка, чтобы отравить их жизнь: как, например, мучило Байрона то, что он хром! А между тем в глазах других его хромота вовсе не делала его уродом; сколько есть людей, которые в отчаянии оттого, что у них «нет характера», между тем другие вовсе не находят, чтобы они были слабого характера; сколько людей считают себя презренными трусами, между тем как другие вовсе не считают их трусами. И, однако же, такие люди отчасти правы: почти в каждом человеке найдется своя доля трусости, бесхарактерности; есть ома и в них; они только «слишком живо принимают все к сердцу». Таким образом, человек, наклонный к юмору, представляется сам-себе смесью нравственного величия и нравственной мелочности, слабости, представляется себе обезображенным всякого рода недостатками. Но он понимает, что корень его слабостей в том же самом, в чем корень всего возвышенного, благородного и прекрасного в нем, что его недостатки необходимо связаны со всею его личностью. Он, предположим, недоволен своею трусостью, но трусость необходимо связана с его предусмотрительностью (не думать о беде может только тот, кто не виДит ее), с его мнитЬль-ностью, а мнительность только следствие того, что у него не узкий, не односторонний взгляд: как не быть мнительным, нерешительным, когда и с той и с Другой стороны столько побуждений и столько причин отказаться? Предположим, что он недоволен своею вспыльчивостью, опрометчивостью, но он видит, что вспыльчивость только следствие впечатлительности и живости. Потому, оскорбляясь своими слабостями, смешными и жалкими сторонами своего характера, своей наружности, своего положения в обществе, он в то же время любит их. Юмористическое расположение духа составляет смесь самоуважения и самоосмеяния, самопрезрения. Но почему же оскорбляется юморист слабостями своего характера, невыгодными сторонами своего положения в свете?. Почему он осмеивает их? Только потому, что они мешают ему быть «настоящим человеком», кажутся ему противоречащими достоинству человека вообще. Оттого недовольство юмориста самим собою распространяется на целый мир, который повсюду поражает его своею мелочностью и своими слабыми сторонами. Как уважает и вместе презирает он себя, так уважает и вместе презирает он и всех людей; как он любит и вместе осмеивает самого себя, так любит и вместе осмеивает он весь свет. Он смеется над собою, но через это самое смеется он надо всеми людьми, потому что в себе смеется он над тем, что больше или меньше есть в каждом человеке. И, наконец, юмористическое расположение духа доводит человека до того, что все на свете представляется ему жалким, достойным и насмешки и сострадания. Юморист везде и во всем находит «и смех и горе».
Юмор, насмешка над собою и над людьми, выказывается фарсом и остротою; человек в юморе позволяет себе фарс и шутовство, потому что считает себя и хочет выставить себя смешным; остроты его бывают большею частью иронические, потому что он оскорбляется, а ирония — острота оскорбленного, едкая острота. Гамлет позволяет себе делать глупости и говорить смешные и грубые остроты в шутовском роде. Юморист может до того теряться в остротах, шутках, фарсах, дурачествах, что для не понимающих юмора может в самом деле казаться шутом или отчасти помешанным, как и думают о Гамлете. Но его дурачества — насмешка мудреца над человеческою слабостью и глупостью; его смех — горестная улыбка сострадания к себе и к людям.
В каждом юморе есть и смех и горе; но если расположенный к юмору человек, видя, что все высокое в человеке сопровождается мелочным, слабым, жалким, находит это смешение только нелепым, не понимая всей глубины замечаемого им нравственного противоречия, то в его юморе будет гораздо больше смеха, нежели горя. Такой юмор немецкие эстетики называют Laune; мы затрудняемся, как назвать его по-русски одним словом; скорее!?сего можно назвать его шутливостью; если же это слово не совсем хорошо отвечает понятию, то можно будет назвать его весельем или простодушным юмором. Представителем его у Шекспира являемся шут; в русском простом народе много встречается шутливых юмористов, но почти всегда их юмор едок, несмотря на свою веселость; юмор малороссов простодушнее.
Такая шутливость, более подсмеивающаяся над слабостями и низостью в себе и в других, нежели скорбящая о ней, в человеке порочном может доходить до бесстыдства, до насмешливого самохвальства своими пороками. Такое лицо у Шекспира Фальстаф, который очень хорошо понимает всю свою низость, порочность, гнусность, но до того погряз в ней, что думает уже быть правым, подсмеиваясь над нею, и через насмешку над своими и чужими пороками примиряется с ними.
Зато люди, одаренные нежною натурою и горячей любовью к нравственной чистоте, очень легко доходят до того, что во всем смешном, нелепом, мелочном видят одну только мрачную, тяжелую сторону противоречия с нравственностью и с высшим достоинством человека; недовольство собою и миром берет щ них решительный перевес над тем, что в юморе может быть веселого. Их юмор печален, доходит до отчаяния, переходит в ипохондрию и меланхолию. Таков был юмор Байрона. И сам Шекспир под конец жизни сделался, кажется, мрачен, грустен в своем юморе.
Впечатление, производимое в человеке комическим, есть смесь приятного и неприятного ощущения, в которой, однако же, перевес обыкновенно на стороне приятного; иногда перевес этот так силен, что неприятное почти совершенно заглушается. Это ощущение выражается смехом. Неприятно в комическом нам безобразие; приятно то, что мы так проницательны, 470 постигаем, что безобразное — безобразно. Смеясь над ним, мы становимся выше его. Так, смеясь над глупцом, я чувствую, что понимаю его глупость, понимаю, почему он глуп, и понимаю, каким бы он должен был быть, чтобы не быть глупцом, — следовательно, я в это время кажусь себе много выше его. Комическое пробуждает в нас чувство собственного достоинства, как пьяные илоты напоминали спартанским детям о том, что «гражданин» не должен напиваться пьян.
Изложив понятие о прекрасном и о двух мнимых его видоизменениях— великом и комическом, теперь мы будем говорить о том, что есть прекрасного в мире или «о прекрасном в природе», понимая под природою весь мир действительности, в противоположность миру фантазии. Здесь мы уже не будем обыкновенно отделять своих собственных понятий от обыкновенных, потому что обыкновенные понятия почти всегда справедливы; а если не всегда достаточно полны, есл:: не всегда замечают все прекрасное в предмете, то, дополняя их по мере наших сил, мы нисколько им не противоречим. Мы только оставляем за собою право замечать неполноту или односторонность обыкновенных понятий там, где она слишком резка и где мы своими дополнениями существенно изменяем взгляд на эстетическую сторону какого-нибудь предмета.
Прекрасное в природе материальной, как мы видели в нашей первой статье, то, что напоминает нам человека. Человека напоминать прямым образом могут только живые существа. Потому, казалось бы, неорганическая природа, в которой, собственно говоря, нет жизни, которая только служит источником для поддержания жизни растений и животных, не может представлять ничего прекрасного человеческому взгляду. И действительно, главным образом, является она в мире прекрасного только как рамка для живых существ, дает только приличную обстановку для прекрасной картины. Но человеку, чтобы находить ее прекрасною, довольно и того, что он видит в ней общее лоно, из которого возникает и питается жизнь, и видит в ней игру сил, напоминающую о игре сил в его собственной жизни. (Превосходные, совершенно
верные понятия. Видите ли, что в сущности и обыкновенная эстетика чувствует, что прекрасное — человек и его жизнь, и что только идеалистический взгляд туманит для нее эту истину.) Повидимому, вся неорганическая природа так далека от личной жизни человека, что он не может в ней находить напоминовение о себе; и потому кажется, что в неорганической природе есть только предварительные условия, из которых составится прекрасное целое только тогда, когда к ним присоединится органическая жизнь; для прекрасной картины, кроме света, воздуха, воды, земли, нужно еще дерево, животное, человек, которые питаются ими, живут на них. Но и без живых существ явления и картины природы могут быть прекрасны; но не в отдельности своей, а тогда, когда несколько различных элементов неорганической природы соединятся вместе: море при ясной и тихой погоде производит эстетическое впечатление отражением и переливами света; при хорошем освещении удовлетворяет глазу гора и не покрытая растительностью, особенно когда подле есть вода. Одним словом, ландшафты могут быть прекрасны и без всякой примеси растительности и животных фигур. Нам довольно и того, что мы представляем себе этот ландшафт частью природы, питающей животных и человека и родящей растительную жизнь.
Свет входит в прекрасную картину прежде всего тем, что, освещая предметы, очерчивая формы их, выставляя ярко освещенными их выпуклости, оставляя в тени углубления, он делает для нас видимыми предметы; и не просто делает видимыми, а выставляет их самостоятельными, резко отделяющимися от всего окружающего. Кроме того, свет солнца прекрасен потому, что он оживляет всю природу, источник всей жизни на земле; мы не только думаем об этом, мы сами чувствуем на себе это, потому что днем, на свете солнца мы чувствуем себя живее, радостнее, сильнее, свежее, нежели в темноте, нежели в холодной ночи. Дневной свет, источник жизни в природе, благодатно оживляющий, согревающий и нашу жизнь, без него мрачно-унылую, восхитительно прекрасен. Потому так радостно-прекрасен восход солнца, когда со свежими, юношескими силами пробуждается природа, пробуждаемся и мы; потому задумчиво любуемся мы заходящим солнцем, как будто прощаясь с жизнью, припоминая, воскрешая в «прощальный час» все радости, всю полноту дневной жизни. Все блестящее напоминает нам о солнце и заимствует от него часть его красоты.,
Беспокойный, волнующийся свет огня производит в нас какое-то беспокойство; беглые, изменчивые очертания огня обольщают нас разнообразием своим. Свет молнии действует на нас как страшный внезапный удар своим страшным контрастом с темнотою, которую на миг перерывает он. Но главным образом различные роды освещения эстетически действуют на нас, смотря по тому отношению, какое они имеют к жизни. Багряное, раскален-
ное солнце производит в нас тяжелое чувство, какой-то глухой ужас, потому что оно предвестник бури; ужасно действует освещение заревом пожара, потому что оно говорит нам о погибели всего, что создано человеком, и часто самого человека. Полусвет, производимый луною, смотря по обстоятельстам, пробуждает или спокойное чувство какого-то томного раздумья, или опасение безызвестности, которая только увеличивается неверным светом луны.
Цвет производит на нас раздражающее или успгжочгающее действие, во-первых, смотря по тому, раздражает или успокоивает он наши нервы: цвета яркие раздражают нервы, особенно красный цвет; голубой и зеленый цвет успокоивают нервы, на них отдыхает глаз, успокоивается и душа. В радуге семь цветов; но главных из них только четыре: красный, желтый, зеленый и голубой; оранжевый цвет — смесь красного с желтым, фиолетовый — смесь синего с красным; синий цвет только густой оттенок голубого цвета. Красный и желтый раздражают глаз, голубой и зеленый успокоивают его. Но эстетическое действие их зависит также и от того, какие предметы напоминают они. Красный цвет — цвет крови, цвет бешеной страсти, от которой вся кровь бросается в лицо; цвет гнева — он раздражителен и вместе страшен; зеленый цвет — цвет растительности, цвет роскошных лугов, цвет одетых листьями дерев: он напоминает нам о спокойной и цветущей. жизни растительной природы. Светлоголубой цвет — цвет ясного неба, его действие спокойно-радостное. Но, главным образом, цвет нравится или не нравится нам потому, кажется ли он цветом здоровой, роскошной жизни или цветом болезни, внутреннего расстройства. Мы говорим не только о цвете различных частей человеческого лица, но и о тех цветах, которые нам нравятся в природе. Мы любим свежие, чистые оттенки цвета — потому что здоровый цвет лица — свежий, чистый цвет; тусклый цвет лица — болезненный цвет; потому нечистый, мутный, цвет вообще неприятен. Нехорош желтый цвет увядающих листьев — потому что он признак их увядания; нехорош поблекший белый или розовый цвет розы — потому что он цвет поблекшей розы. Главная прелесть в цвете то, чтобы он был свежим.
Физика говорит нам о дополнительных цветах: они происходят оттого, что глаз, утомленный напряжением, которое производит в нем какой-нибудь цвет, ищет отдыха себе в противоположном ему цвете; так, если мы довольно долго и внимательно будем смотреть на яркий розовый цвет, а потом взглянем на белую бумагу, то она покажется зеленою; если на белый кружочек бумаги мы наклеим другой, красный, несколько поменьше, то узенькие поля белого кружка будут казаться зелеными. Ясно, что наш глаз требует подле красного цвета — зеленого; потому сочетание розового или красного с приличным оттенком зеленого очень приятно для глаз; точно так же сочетаются желтый с фиолетовым, синий или голубой с оранжевым. О сочетании цветов должно
сказать вообще, что хорошо сочетаются те цвета, которые совершенно не похожи один на другой; если же соединяются два цвета, различные, но очень сходные, то впечатление будет вовсе не эстетично; так, например, желтый и зеленый, синий и зеленый, синий и фиолетовый, фиолетовый и красный и т. д. производят неприятное впечатление, как в музыке аккорд из тонов, очень близких друг к другу, производит диссонанс (например, С и D; D и Е; Е и F и т. д.). Черный и белый цвет идут ко всем цветам одинаково, потому что они, собственно говоря, не цвета; белый — соединение всех цветов; черный — отсутствие всякого цвета. Соединение черного и белого — серый цвет также идет ко всем цветам. Само собою разумеется, что впечатление, производимое соединением двух цветов, много зависит от густоты или оттенка каждого из них.
Общий тон (оттенок), в котором представляется нам пейзаж, много зависит от воздуха, который, смотря по отдаленности предметов, одевает их в светлоголубой, темноголубой, совершенно темный цвет; так что, чем ближе к нам предметы, тем светлее они кажутся, тем яснее их собственные оттенки и очертания; чем дальше предмет, тем больше сливаются в один густой цвет все его оттенки. Когда воздух наполнен парами, он делается не так прозрачен, как обыкновенно, и придает пейзажу желтоватый или зеленоватый оттенок. Чистая, светлая атмосфера сообщает природе веселый, блестящий, праздничный вид; перед бурею она придает пейзажу зловещий, страшный оттенок. Некоторая туманность атмосферы дает пейзажу таинственно-величественный характер. Ясная погода радуег природу и человека; мрачная — подавляет жизнь природы, делает и расположение нашего духа тоскливым, пасмурным.
Легкое движение, которое всегда есть в воздухе, придает новую жизнь природе для нашего слуха: шелестят листья на деревьях — а едва заметен ветерок: деревья как будто живут, как будто бы шепчутся; высокая трава, золотая нива, наш седой ковыль волнуется, расстилается, и ежеминутно играют на нем новые оттенки. И природа делается разнообразнее, живее: повсюду легкий шум, движенье. Но ветер делается сильнее и сильнее; начинается буря; природа в самом деле живет страшною жизнью: мы слышим рев ее, мы видим, как силы ее потрясают, ломают все, что попадается им на пути. Эстетическое действие бури так часто и так великолепно было описываемо, так знакомо каждому из нас, что толковать о нем было бы вещью совершенно излишнею.
Наконец, в атмосфере мы встречаем отдельные, совершенно самостоятельные предметы; это облака. Но формы их, часто заманчивые, обворожительные своим сходством с горою, башнею, животным, человеком, еще так неопределенны, что большую часть своего эстетического интереса получают они от освещения, от своего серебристого илн пурпурно-розового блеска, от своей грозной, седой или черной мрачности, от своего страшного багрового зарева; смотря по своему освещению, они прекрасны кли величественно-ужасны.
Но самое ужасное из воздушных явлений — гроза, с черною темнотою своею и страшным сверканием молнии, с ревом и свистом ветра, с раскатами грома, с шумом дождя, со стуком все убивающего града. Мрачно, тоскливо состояние задыхающейся природы перед грозою, освежается, веселеет она после грозы. И простой дождь иногда бывает, серебристо-прекрасен. Свежо и мило бриллиантами сверкает роса. Ослепительно прекрасен и сверкающий разноцветными искрами снег: он, как роса, усеивает природу драгоценными камнями. Прекрасен он и по своей ослепительной белизне.
Вода прекрасна бывает своими очертаниями. Огромная, совершенно ровная поверхность спокойной воды действует на нас величественным образом. Кипучий водопад поражает своею силою и привлекателен своими прихотливыми формами. Вода очаровательна своею светлою прозрачностью, своим голубовато-бесцветным блеском; она живописно отражает, игриво колебля все, что окружает ее, в ней мы видим первого живописца. Лед прекрасен СЕоею блестящею прозрачностью; пена — своими беглыми формами на волнах и отражением в ней солнца, когда она летит, как пыль, от разбивающихся волн.
Вода вечно струится, вечно играет — в реке и потоке; она бежит, извивается, как живая. Журчащий поток говорит и нашему слуху, как что-то живое. Игривы, шаловливы волны моря при легком ветерке, страшно-беспокойны в бурю.
В очертаниях земли прежде всего поражают своею громадностью горы'; они производят на нас впечатление величественного. Но их изрытые ущельями бока, их изло…
(Здесь рукопись обрывается.)
1853
БИБЛИОГРАФИЯ <ИЗ № 7 «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИС0К»> О СРОДСТВЕ ЯЗЫКА СЛАВЯНСКОГО С САНСКРИТСКИМ
Составил А. Гильфердииг. Санктпетербург, 1853.
В 8-ю д. л. VI и 288 стр.1
Г. Гильфердииг составил книгу, в которую часто будет заглядывать всякий занимающийся славянскими наречиями сравнительно с другими индоевропейскими языками. Скажем похвалу еще выше: эта книга должна быть переведена на французский или немецкий язык, потому что она заслуживает быть известною европейским филологам. Впрочем, сочинение г. Гильфердинга не нуждается в наших похвалах: лучшая похвала ему то, что Второе Отделение Академии Наук сочло его достойным помещения в своих «Известиях», потому что книга, лежащая перед нами, только отдельный оттиск из «Прибавлений» ко II тому «Известий Второго Отделения Академии Наук».
Предоставляя самим «Известиям» Второго Отделения и другим специальным изданиям специальную критику подробностей, займемся только рассмотрением метода г. Гильфердинга и общих его выводов из сравнений. Прекрасно написанное предисловие значительно облегчает труд наш. Справедливо заметив, что немецкие филологи, при сравнительном исследовании индоевропейских языков, обращают на славянский язык меньше внимания, нежели он заслуживает по своему богатству и по своей важности в системе индоевропейских языков, г. Гильфердииг продолжает:
«Пополнить несколько этот недостаток науки и языка и, приняв за средоточие исследований язык славянский, как совокупность всех славянских наречий со всем лексическим и грамматическим их богатством, указать настоящее его место в семье индоевропейской и гем самым определить его отношение к прочим языкам этой семьи: вот задача моего труда. Без сомнения, она не может быть решена окончательно, с одной стороны, по недостатку многих данных, с другой — по огромному количеству представляющихся
обработке материалов, предлагаемых частию славянскими наречиями, частию родственными им языками. Обилие и разнообразие этих материалов таково, что не было бы никакой возможности одним разом сравнить славянские языки со всеми языками индоевропейскими и определить их отношение ко всем им вместе и к каждому в особенности: вместо объяснения некоторых вопросов языковедения, мы получили бы безобразный хаос. Потому я решился разделить свой труд. В каждом отделе буду рассматривать отношение языка славянского к одному из родственных ему языков или к нескольким, составляющим одно целое.
Наука Дает языку санскритскому первое место в семье индоевропейской: ибо он, сохранив в органической целости свойства, являющиеся рассеянно в прочих ее. членах, составляет, так сказать, средоточие всей этой семьи. Потому сравнение языка славянского с санскритским должно быть основою моего исследования. Оно составит первую часть его. За ним должно следовать непосредственно изучение языка литовского, который, при непосредственном сходстве с санскритским, так близок к славянскому, что недоумеваешь, принять ли их за два наречия одного языка или за два языка отдельные.
Только когда определится отношение языка славянского к санскритскому, можно будет приступить к изучению отношений его к другим языкам индоевропейским. Однако и тогда мы не станем сравнивать их прямо с языком славянским, а будем, по возможности, возводить соответствующие явления рассматриваемых языков к общей коренной их форме, которую большею частью предложит нам язык санскритский. Следуя этому методу, мы узнаем, по каким путям разошлись сравниваемые языки, выделившись из первобытного единства, и каким законам они подчинились. Таким образом, исследование мое не представит общего сближения языков славянских с прочими индоевропейскими, а будет состоять из ряда монографий. В первой будут изучены языки славянский и литовский в сравнении с санскритским; во всех других будет являться, с одной стороны, язык славянский, с другой — один или несколько родственных языков, и между ними, как начало связующее, общее обоим членам сравнения, язык санскритский».
Идея г. Гильфердинга прекрасна; нельзя было выбрать лучшего пути; и с этой стороны мы с ним совершенно согласны: сличать язык славянский с одноплеменными ему языками поодиночке, начиная с санскритского — превосходная мысль. Но вслед за тем у г. Гильфердинга излагается per anticipationem 2 — общий вывод из его сравнения славянского языка с санскритским. К сожалению, с этим выводом уж никак нельзя согласиться:
«Но кроме этой причины (что санскритский язык средоточие всех индоевропейских языков, по превосходному выражению г. Гильфердинга), которая заставляет всякого, занимающегося сравнительным изучением языков индоевропейских, основывать свои выводы на санскритском, есть другая, частная, по которой язык этот получает особенную важность при научном исследовании языков славянского и литовского. Именно, из всех родственных языков славянский и литовский имеют наибольшее сходство с санскритским: исследование, которое мы предпринимаем, покажет, что наш язык гораздо ближе к древнейшему языку отдаленной Индии, чем к языкам соседних племен греческого и германского. Этого свойства мы не заметим ни в греческом языке, ни в латинском, ни в немецком, ни в кельтском, ни в албанском и прийдем к заключению, что, кроме общего родства между языками санскритским, славянским и литовским, какое находится между всеми языками индоевропейскими, существует между ними родство ближайшее, семейное. Вот почему сравнение славянского языка с санскритским и литовским имеет і-глазах моих особенную важность».
Эту же самую мысль повторяет г. Гильфердинг в конце книги, как первый вывод из своих сравнений (стр. 285):
«Язык славянский во всех своих наречиях сохранил корни и слова, существующие в санскритском. В этом отношении близость сравненных нами языков необыкновенная. Как ни хорошо обработаны новейшими учеными прочие языки европейские, однако ни в одном из них не найдено столько слов, родственных с санскритским, сколько случилось нам открыть в славянском при первой попытке изучить сравнительно его лексический состав; и можно смело сказать, что более продолжительное н внимательное исследование, соединенное с новыми материалами, которые, без сомнения, предложены будут Велами, а равно и некоторыми славянскими наречиями, теперь для нас недоступными, раскроет еще гораздо больше сближений, чем мне удалось здесь представить».
Далее г. Гильфердинг выражается еще резче (вывод 3):
«Язык славянский, взятый в совокупности, не отличается от санскритского никаким постоянным, органическим изменением звуков… Это свойство разделяет с ним язык литовский, тогда как все прочие индоевропейские языки подчинились разным звуковым законам, которые исключительно свойственны каждому из них в отдельности. Таким образом, в лексическом отношении языки славянский и литовский находятся в ближайшем родстве с санскритским и вместе с ним составляют в индоевропейском племени как бы отдельную семью, вне которой стоят языки персидский и западноевропейские».
В четвертом выводе представлены доказательства такого мнения:
«Это ближайшее сходство языков санскритского, литовского и славянского еще яснее доказывается тем, что в них равномерно развиты многие звуки, чуждые прочим ветвям индоевропейского племени. Таковы в особенности носовые звуки (славянские Ж, А, санскр. anusvâra с преды
дущею гласною: an, in, ип); с заменяющее коренное к (санскр. f); чижи наконец г гласная (санскр. г, слав, ръ). Все эти звуки без сомнения вторичного образования, тогда как у прочих европейских народов существуют только первичные. Это показывает, что сии последние удалились из древней родины своей, когда этих звуков еще не было. Славянский же и литовский языки далее развивались вместе с тем языком, который, обособившись, получил название санскритского, и хотя по многим признакам видно, что, когда они выделились из общей семьи, образование поименованных звуков не было вполне окончено, и потом еще продолжалось у санскритской отрасли отдельно, однако оно так глубоко проникло в их состав, что успело всему их звуковому организму придать особенное сходство с санскритским».
При всем желании, не можем согласиться с мнением, доведенным до такой крайности. Что из всех языков европейской отрасли индоевропейского корня литовский самый близкий к санскритскому, это, кажется, достоверно: признано всеми и то, что славянский чрезвычайно близок к литовскому: потому превосходно намерение г. Гильфердинга заняться специально сравнением славянского с литовски^. Но если г. Г ильфердинг желает, чтоб наука приняла его мнение о теснейшей связи славянского и литовского
с санскритским, нежели с европейскими языками, то он должен подтвердить это мнение доказательствами гораздо более строгими, нежели те, какие находим в его книге; потому что его мнение резко противоречит прежним выводам из сравнения языков. Теперь филологи думают вот каким образом:
По степени родственности, индоевропейские языки делятся на две половины — азиатскую отрасль (санскритский, зендский, новоперсидский) и европейскую отрасль (греческий, латинский, германский, литовский, славянский); каждый язык азиатской отрасли ближе к другим языкам той же отрасли, нежели к какому бы то ни было из языков европейской отрасли, а каждый язык европейской отрасли ближе к другим языкам той же отрасли, нежели к какому бы то ни было языку азиатской отрасли, не исключая и самого санскритского, хотя в нем уцелели формы корней и флексий в наилучше сохранившемся виде; родство санскритского с европейскими языками уж не так близко, как его родство, например, с зендским. Потому Гримм в своей «Истории немецкого языка» при сличении корней довольно мало говорит о санскритском, сосредоточивая свое внимание почти исключительно на европейских языках. Г. Гильфердинг думает иначе. Пересмотрим его доказательства.
1. Носовые звуки существуют в языках санскритском, литовском, славянском; в других родственных языках нет их. Этот факт замечен и Боппом в его «Сравнительной грамматике* (стр. 7—11 и 1079); но из него не было выводимо такого заключения, какое делает г. Гильфердинг. Носовые звуки теперь существуют в немецком и французском, а между тем их нет в итальянском; неужели из этого можно вывести, что французский ближе к немецкому, чем к итальянскому?
2. G заменяет коренное к, санскритское д; но санскритское д заменяется посредством сив латинском, и в греческом, и в немецком (смотри таблицу соответствия звуков у Потта, Eti/m. Forsch. I Theil, стр. 82–83); особенного тут ничего не представляет славянская фонетика. Правда, в латинском, греческом и немецком д заменяется не одним s, а также и к; но посредством к заменяется оно и в славянском, по словам самого г. Гильфердинга (стр. 161).
3. Ч и ж соответствуют санскритскому tsh и dsh (заменяем в этом случае значки г. Гильфердинга правописанием Потта); но они заменяются и в новоперсидском особыми звуками — tsh посредством ч, дж, з; dsh посредством з. Такое соответствие не показывает еще более продолжительного жигья вместе, а означает только одинаковую любовь к шипящим звукам, которая не развилась в греческом и латинском.
4. Гласная г санскрит, соответствует славян, ръ. Но санскритский глухой звук является при одном г, потому гласная г, действиіельно явление исключительное в санскритском; а славянское ръ вовсе не одинокое явление: в славянском глухой гласный звук является при всех согласных — бъд'£ти, вънѣ, rtöeHeje и т. д. Потому значение ръ не то в славянском, как гласной г в санскритском.
На подобных двух-трех сходных явлениях нельзя основываться. И в греческом, и в латинском, и в немецком найдется много таких случаев особенного сходства с санскритским. Нужно показать, что вся система славянской фонетики особенно близка к фонетике санскритской, если хотим доказать особенную близость санскритского и славянского.
Так и говорит г. Гильфердинг, утверждая, что, за исключением нескольких звуков, составляющих исключительную принадлежность санскритского, «мы получим в двух сравниваемых язычках (славянском и санскритском) систему звуков, почти одинаковую» (стр. 11). Чтоб наше доказательство противного не было слишком длинно, ограничимся одним вокализмом.
Но прежде нам должно сказать, что г. Гильфердинг представляет и общее доказательство близости славянского к санскритскому, именно, что в славянском языке нет ни одного случая органического изменения звуков, между тем как во всех других языках звуки санскритские подвергаются органическим изменениям (см. нашу выписку). Против этого положения должно сказать, что если г. Гильфердинг считает органическим изменением в греческом исчезновение полугласных j и ѵ между двумя гласными, то органическим же изменением должно считать и постоянное йотирование в славянском гласных, стоящих в начале слога. Таким же органическим изменением должно считаться и смягчение согласных: вместо коренного нэ в славянском делается не (церков. — славянск. ні-э), вместо коренного лэ — ле (церк. — слав. лі-э) и т. д. Доказывать, что это смягчение различно от перехода санскритских согласных из одного разряда в другой, мы считаем ненужным.
Посмотрим же, до какой степени наш вокализм близок к вокализму санскритскому, в котором отличительная черта — решительное преобладание (по количеству) слогов с первобытными гласными а, и, у над слогами с гласными позднейшими и двое-гласными. Берем древнейшее, ближайшее к санскритскому славянское наречие — церковнославянский язык.
Прежде всего раскрываем Остромирово Евангелие и пересчитываем число разных гласных в первом чтении («В начале, по Остр. Ев., искони бѣ слово»). Поправляя несколько описок переписчика для восстановления церковнославянского вокализма во всей чистоте и исключая иноязычные слова (напр., Иоанъ), не принадлежащие нашей фонетике, получаем в первом чтении всех слогов или всех гласных 411; в том числе а 39, и 67, у 5 (считая йотированные гласные за одно с нейотированными); всего первобытных гласных — 111.
е — 39; 0 — 74; всего гласных вторичного образования, общих почти всем языкам, — 113;
ъ — 62; ь — 42; всего глухих гласных 104; ѣ — 41; м— 17; всего специально-славянских чистых гласных позднейшего образования 58;
А —17; Л —8; всего носовых гласных 25.
Таким образом, первобытные гласные удержали за собою в церковнославянском только четвертую часть слогов.
Не говорим о том, что готский. вокализм гораздо ближе к санскритскому в этом отношении; посмотрим еще на латинский вокализм и, для избежания упрека в произвольности, берем первые строки первой цицероновой речи (pro Р. Quinctio: Quae res…
pertimesco). В 109 первых слогах находим:
а — 18; і — 29; и — 8; всего первобытных гласных 55 е — 27; о — 23.' ое — 4; всего гласных вторичного образования и двоегласных 54.
В латинском вокализме первобытные гласные занимают половину слогов; в церковнославянском — только одну четверть: латинский вокализм гораздо ближе к санскритскому, нежели славянский.
Г. Гильфердинг может возразить нам: я говорю о корнях, вы принимаете в счет и флексии; во флексиях первобытные гласные исчезли, в корнях сохранились. В ответ берем Radices Миклошича («Корнеслов церковнославянского языка») и считаем гласные в корнях на буквы б, в, г, д.
Всех гласных в этих корнях 286. Из них:
А — 51; И — 21; У—18; всего первобытных гласных 90 — только третья часть. Несколько больше сохранились гласные первобытные в корнях, нежели во флексиях, это правда; но все-таки сохранились они довольно плохо. Число санскритских корней с гласными вторичного образования совершенно ничтожно перед числом корней с а, и, у.
Итак, пока не представит г. Гильфердинг более убедительных доказательств, наука не может принять его мнения, и остается непоколебимым результат, выведенный немецкими филологами из их сравнений и высказанный Гриммом так: «Немцы, славяне и литовцы должны были оставаться долго вместе по отделении своем от остальных народов индоевропейского племени; но в некоторых случаях славянский язык в теЪнеишей связи с греческим» («История немецкого языка», стран. 14). Мы должны продолжать думать, как думали до появления книги г. Гильфер-динга: ближайшая связь у славянского и литовского языков — с немецким; более отдаленная — с греческим; еще дальше родство его с латинским. С санскритским языком расстались все европейские языки гораздо прежде, нежели совершенно отделились друг от друга, и потому далеко отошли от него; но он чрезвычайно важен для объяснения корней и флексий этих языков, далеко не
похожих на него, потому что обыкновенно в гораздо большей, нежели они, первообразности сохранил он смысл и форму корней и флексий.
Переходим теперь к рассмотрению метода г. Гильфердин-га, предоставляя критику частных его выводов специальным трудам.
Прекрасна его идея сравнивать славянский язык поочередно сначала с одним, потом с другим языком, а не со всеми вдруг индоевропейскими языками, чтоб не запутаться в хаосе от изобилия материалов. Нам кажется, что книга его была бы еще лучше, если б он с такой же осторожностью ограничил и другой элемент своего сравнения — славянский язык, как ограничил один, выбрав изо всей массы родственных языков санскритский. И самые сравнения и выводы его из этих сравнений приобрели бы гораздо большую степень достоверности, если б он ограничился только несомненно древними и несомненно славянскими корнями, то есть взял бы за основание своих сравнений не прямо все богатство лексиконов всех славянских наречий, а одни только те корни, которые находятся или в церковнославянском языке, или, если не находятся в нем, то существуют в нескольких славянских наречиях. Нам кажется, что, желая подыскать как можно более славянских слов, сходных с санскритскими, и для того вводя в круг своих сравнений все слова, употребляемые славянами, он был иногда вовлекаем в ошибки чрезвычайным богатством своего материала, слишком еще мало разработанного.
Ограничимся немногими примерами.
Амбар он производит (стр. 13) от санскр. ambarjâmi, коплю, собираю. Но амбар (правильнее анбар) — чисто арабское слово, перешедшее к нам от татар, подобно словам сходного значения «казна» и «сундук». Якшаться, которое отмечено в «Областном Словаре» 3 как вологодское, но которое употребляется на всем востоке России, производит он от санскр. jaksh, чтить (стр. 39): оно происходит от татарского «якши», хороший, друг. Подобных слов арабско-татарского происхождения много возведено г. Гильфер-дингом к санскритским корням. Великорусские областные говоры, особенно говоры восточных провинций, приняли много таких слов, и г. Гильфердинг не всегда' их остерегался.
Желание найти сходство между славянским и санскритским словом часто не оставляет автору времени определить истинный корень слова. Так, болгарское слово до-сушъ, «совершенно», он относит (стр. 32) к санскритскому?usa, сила, между тем как онэ происходит от прилагательного «сухой» (досуха, до дна), а не от какого-нибудь особенного корня. Так же точно сибирское «шатость», «измена», относит он (стр. 37) к корню?ath, обманывать, между тем как оно произведено от глагола «шатать, шататься» (непостоянство, шаткость в слове). «Дыльница», арханг. слово = подойник, сравнено им с санскр. druni, ведро (стр. 94), между тем
как оно происходит от корня «доить» (= доильница, ои = ы, как въ «пымать» вм. поймать).
Вообще должно заметить, что г. Гильфердинг очень часто останавливается на готовой форме слова, нередко испорченной, не отыскивая корня его. Часто бывает он слишком смел в своих сравнениях. Нам кажется, что беспристрастные знатоки дела согласятся с нами и в том, что желание как можно более сблизить славянский язык с санскритским заставляет г. Гильфердинга часто прибегать к натяжкам. Скажем, наконец, что по просмотре книги г. Гиль-фердинга невольно рождается мысль, что он писал ее не столько с целью исследовать, до какой степени славянский язык близок к санскритскому, сколько с целью доказать, что славянский необыкновенно близок, ближе, нежели все другие индоевропейские языки, к санскритскому.
Мы высказали свое мнение о слабых сторонах сочинения г. Гильфердинга; выскажем и свое общее о нем мнение. Но прежде изложим содержание книги. Г. Г ильфердинг не касается грамматики: он ограничивается' фонетикою и сравнением слов. Прежде всего представляет он список слов, совершенно одинаковых по звукам и в славянском, и в санскритском; потом рассматривает правильные и неправильные переходы одних санскритских звуков в другие сходные славянские звуки. Каждый из отдельных сравнивающих списков сопровождается общими относящимися к нему объяснениями, выводами и замечаниями.
Сочинение г. Гильфердинга свидетельствует прежде всего о чрезвычайной любви его к своему предмету, которая одна могла заставить его с такою ревностью заботиться о всевозможной пол- ' ноте материалов: он успел вполне воспользоваться для своих сравнений даже «Областным Словарем», который напечатан всего за несколько месяцев до появления его книги; мало того, он воспользовался даже теми материалами, которые, по недавности присылки их в Петербург, еще не вошли ни в какое издание Академии и Географического Общества. Не боимся ошибиться, если скажем, что до последней корректуры продолжал он пополнять свои списки… Наука может рассчитывать на такого добросовестного деятеля.
Как полно воспользовался г. Г ильфердинг всеми материалами для славянской части своих списков, так же хорошо изучил он и сочинения западных филологов, так что стоит совершенно наравне с современным положением науки. Потому с ним иногда можно не соглашаться, но нельзя не уважать его дельного, добросовестного труда, которого продолжение принесет несомненную пользу индоевропейской филологии.
Dichterkanon. Ein Versuch die vollendesten Werke
der Dichtkunst aller Zeiten und Nationen, auszuzeichnen.
Von Dr. Neukirch. (Собрание поэтов. Опыт исчисления совершеннейших произведений поэзии всех времен и народов. Доктора Нейкирха.) Киев. 1853.
В университетской типографии. В 8 д. л.
XXIV и 546 стран.
Характеристично второе заглавие книги, на 71 стран., после введения: Список (Verzeichnhs) важнейших поэтов и поэтических произведений всех времен и народов.
Верный заглавию, автор дает нам действительно «список», то есть не связанные ничем одна с другою статейки о замечательных, по его мнению, поэтах. Мы не можем надивиться странной его прихоти: стараясь о полноте книги, он не позаботился о единстве ее; собрав все нужные, по его мнению, для истории поэзии сведения, он не захотел дать нам историю поэзии, а бросает лоскутки, связанные только нитками переплетчика. Желая показать, в какой невообразимой степени бессвязны статейки г. Нейкирха, выписываем его отдел о датских поэтах:
«Датская поэзия получила высокое развитие (положим, не очень высокое, потому что г. Нейкирх не считает Ломоносова и Карамзина, занимающих такое же место в русской литературе, как в датской Гольберг, достойными особых статеек) только с первой половины XVIII века и была после того обрабатываема многими замечательными талантами».
Конец общему введению! ни словечка, которым связывались бы следующие за ним четыре статейки:
«1. Гольберг. Людовик фон Гольберг родился в Бергене, в Норвегии, 1684 года; учился в Копенгагене; объехал большую часть Европы; после был профессором, сначала философии, потом красноречия и истории при Копенгагенском университете; получил баронский титул и умер в Копенгагене в 1754 году. Его должно признать истинным творцом датской литературы. Лучше всего он в своих комедиях».
Содержание трех комедий рассказывается. Статья кончается указанием переводов Гольберга на немецкий язык.
«2. Эленшлегер. Адам Готлиб Эленшлегер, по происхождению родителей немец, родился…» и т. д.
«3. Герц. Генрих Герц родился…» и т. д.
«4. Андерсен. Ганс Христиан Андерсен, сын бедного сапожника, родился…» и т. д.
Что может быть бессвязнее? И что мешало г. Нейкирху прибавить полстранички о том, как развивалась датская поэзия, каким влияниям она подвергалась, каков ее отличительный характер? Ничто не мешало! Ему просто не казалось это нужным. Что мешало ему сказать, какое влияние имели предыдущие датские поэты на последующих? Ничто не мешало! Ему просто не казалось это нужным… Странно, очень странно!
Автор хочет говорить о «поэтических» произведениях. Из всего видно, что прозою написанные произведения кажутся ему не совсем заслуживающими титул «поэтических». Нечего и говорить о том, как несправедливо такое понятие. Оно заставило его пройти молчанием Эзопа, Апулея и многих других поэтов.
Он считает ненужным говорить о теоретиках, о великих критиках, вообще о людях, имевших влияние на дух поэзии в известное время. Потому нет в его сочинении даже Буало. Нельзя, впрочем, и упрекать его за этот недостаток в частности: он только следствие общего правила, принятого г. Нейкирхом, — говорить с произведениях поэзии, не обращая никакого внимания на те влияния, под которыми образовались они. Ни слова не найдете вы у него о влиянии на поэзию исторических событий и тому подобных безделицах. И не вправе мы этому дивиться: такое пренебрежение ко всему, что может объяснить происхождение и смысл произведений, о которых говорится в книге, очень естественно со стороны автора, не подумавшего о том, что сложенные без цемента кирпичи — не дом, что бессвязный ряд сгатеек — не книга: куда уж думать о связи фактов, когда нет связи между словами!
Посмотрим, до какой степени систематичен и полон в принятых автором размерах список его.
В отделе «Индийцы» не говорит он о Ведах, может быть, не считая их поэтическим произведением. Но давно решено, что религиозные книги языческих народов составляют древнейший и" важнейший памятник их поэзии. Точно так же в отделах «Персы» и «Арабы» не говорит он о Зенд-Авесте — пропуск решительно непростительный. Нет ни слова и о Моаллакатах, о которых говорится даже в «Истории» г. Смарагдова. *
Но такой краткий список, как «Dichterkanon», мог легко обойтись без мало известных имен Сомадевы-Батты, Низами, Амриль-каиса и Мотенебби.
Между греческими поэтами нет Гезиода, Эзопа, Анакреона, Сафо; зато есть Бабрий; зато возведены в звание поэтов — угадайте, кто? Ксенофонт и Платон!
Между римскими поэтами нет Катулла (а двойник его, Тибулл, есть); нет Лукана и Апулея, нет Лукреция…
Ограничимся этим. Мы взяли для разбора отдел восточной и классической поэзии, потому что — здесь поэтические репутации совершенно установлены, и при выборе имен не остается места произволу и разногласию. А между тем, сколько тут произвола у г. Нейкирха и как неудачен этот произвол!.. Не можем пропустить еще одной странности: г. Нейкирх почти нигде не говорит о народной поэзии. У него есть испанские романсы, Рейнеке-Фукс, Нибелунги и Оссиан, но нет ни полслова об Эдде и скандинавской народной поэзии, о шотландских балладах, новогреческих песнях; нет ни слова даже о провансальской поэзии, даже о сербских исторических песнях, которые по художественному достоинству не уступают гомеровским, а возвышенностью содержания далеко их превосходят.
Но довольно о том, чего нет в книге г. Нейкирха; посмотрим, как он говорит о тех поэтах, которые вошли в его список. Для примера берем две статейки: одну, длинную, о Гёте; другую, коротенькую, стоящую с нею рядом, о Фоссе. Статейка о каждом поэте начинается его коротенькою биографиею; за нею следует или не следует (как вздумается автору) несколько строк вроде характеристики поэта; потом рассказывается содержание замечательнейших его произведений (важнейшая по объему часть в книге), и статейка заключается указанием немецких переводов, если поэт не немец. Взглянем, как все это делается.
ГЕТЕ
«Иоганн Вольфганг фон Гёте, сын значительных и почтенных родителей, родился во Франкфурте-на-Майне в 1749 году, учился в Лейпциге и Страсбурге юриспруденции и другим наукам (что учился он юриспруденции — сведение ненужное, потому что из этих занятий никакого результата не вышло; что он учился и другим каким-нибудь наукам — само собою разумеется; следовало сказать, чем занимался он преимущественно, или не говорить ничего); сделан в 1776 году легационсратом в Веймаре (следовало сказать, что он жнл при веймарском дворе, а не то, какую должность ему далн); в 1779 году действительным тайным советником сопровождал герцога Карла Августа в путешествии по Швейцарии, где был, впрочем, уже прежде; сделан в 1782 году камер-президентэм и возведен в дворянское достоинство; объехал Италию до Сицилии в 1786–1788 годах (это путешествие важно, но важно по влиянию на поэтическую деятельность Гёте, о чем вдесь не упоминается); сопровождал герцога в 1792 году на походе в Шампань; жил с 1794 г. в дружбе с Шиллером; женился в 1806 году на девице Вульпиус (не нужно), матери его сына. Августа фон Гёте (что это?), который 1830 года умер в Риме великогерцогским гофкамерратом и камергером (зачем вто?); сделай 1815 года первым государственным министром; в 1816 году лишился жены и умер в 1832 году в Веймаре, удалившись от государственных дел с 1828 года. С 1791 до 1818 по должности интенданта управлял придворным веймарским театром».
Можно ли набрать более сведений, опустив все главные факты? Так составлены все биографии у г. Нейкирха. Они сухи и бессвязны донельзя, и нет возможности приискать в них что-нибудь имеющее связь с поэтическою деятельностью поэта. За биографиею Гёте следует его характеристика:
«Гёте величайший поэт Германии, одни из величайших поэтов мира. По гениальности н силе изобретения не равняется он со многими другими поэтами; вообще канвою своих произведений он выбирал события из собственной жизни или сюжеты, которые находил уже довольно подробно развитыми. Но не было другого поэта, ум которго был бы так всесторонне развит и образован, как ум Гёте. Оттого в его сочинениях такое богатство мыслей, что его по преимуществу должно назвать писателем, из которого можно научиться многому».
Но богатство мыслей найдется у всех великих писателей. Были поэты ученее самого Гёте: не в учености дело, а в том, что, не увлекаясь до пристрастия ничем, Гёте вполне сочувствовал всему, «что просит у сердца ответа». Ученость его была только следствием этого всеобъемлющего сочувствия.
Вслед за тем г. Нейкирх начинает рассказывать содержание замечательнейших произведений Гёте, и прежде всего содержание первой части «Фауста». Посмотрите, как оно рассказывается:
«Первая часть «Фауста» одно из замечательнейших и величественнейших произведений во всемирной литературе. Герой этой драмы, доктор Фауст, живший в половине XVI века, которого не должно смешивать с типографщиком Фаустом или Фаустом, жившим до него за столетие (лишнее предостережение, уместное только в подробном рассказе о материалах гётева «Фауста»). Доктор Фауст, человек лет пятидесяти, врач и профессор, отличающийся многосторонними познаниями, но мучимый сознанием их ограниченности; вместе с этим любит он и земные наслаждения, которых ему уделено, по его мнению, слишком мало…»
Вы видите, что опущен пролог; а в э. том прологе смысл всего «Фауста»; в нем тема; все следующие сцены только ее развитие. Кроме того, Фауст вовсе не особенный любитель сердечных или чувственных наслаждений. Такая черта в его характере была бы неуместною прибавкою со стороны Гёте. В том, как Фауст бросается в чувственные наслаждения, как сильно закипает в нем любовь, Гёте выразил не случайную черту фаустова характера, а глубокую мысль. Фауст хотел, ограничась жизнью ума, подавить в себе жизнь сердца, — и Гёте представляет его в ту минуту, как заглушенные на время стремления пробуждаются в нем с неудержимою силою.
«Он ищет отрады в магии; ему является дух земли, не удовлетворяет, однако, его ожиданиям; и он, на пасхальную ночь, хочет прекратить свое отчаянное состояние, приняв яду; как внезапно раздающееся пасхальное пение удерживает его (каким же образом?). На пасху идет он с тупоумным своим фамулюсом Вагнером прогуливаться (зачем же? что выражает у Гёте прогулка эта?); тут к ним пристает пудель и провожает Фауста домой; там принимает человеческий вид и объявляет себя Фаусту «духом, вечно отрицающим», духом зла, Мефистофелем, и говорит Фаусту: «Я буду служить тебе здесь, с тем, чтобы ты был моим рабом там», — «Согласен, говорит Фауст, если ты доставишь мне хоть миг полного удовлетворения здесь». Договор заключен. С презрением к прежним стремлениям говорит Фауст; «Бросимся в шумный поток времени, в пучину жизни».
Где же тут связь? Где смысл сцен? Кто узнает «Фауста» из этого рассказа, почтет его бессмысленным набором фантастических сцен…
«И вот Мефистофель ведет Фауста в буйно-веселую компанию ауэрба-хова погреба в Лейпциге, потом в кухню ведьм, где он молодеет от волшебного питья, имеющего притом такую силу, что Фаусту всякая женщина покажется красавицею», и т. д.
Вместо прибавления подробности о том, как Фаусту каждая женщина будет казаться красавицею — подробности, только вводящей в недоумение насчет красоты Гретхен, надобно бы сказать, что Фауст, не нашедши покоя в тихом кругу бюргеров, бросается в буйную, грязную оргию (ауэрбахов погреб); но грязь эта противна его душе, и он ищет радости, удовлетворения сердцу в чистой, возвышенной любви — тогда было бы все связно и ясно; теперь же в рассказе г. Нейкирха «Фауст» кажется бессвязен, произволен, нелеп. Дальше рассказ идет короче; но так же бессвязны, непонятны остаются в нем приключения Фауста. Переходим прямо к заключению отдела о «Фаусте», общему взгляду автора на его смысл:
«Все зло, в котором становится виноват Фауст, совершает он только после упорной борьбы, и не удовлетворяясь тем, чего достигает посредством зла. Фауст и Мефистофель собственно составляют одно лицо; Мефистофель— олицетворение отрицающего, злого начала в Фаусте. И это одно лицо — Гёте, который в свою очередь является здесь представителем духа человеческого вообще. Целое представляет борьбу живущих в человеке высших и низших стремлений Ъдних с другими».
Опять бессвязно, как будто бы это не отрывок из книги, а отрывок из конспекта или оглавления!
Но Гёте писатель глубокомысленный, «Фауст» вещь очень мудреная. Посмотрим, какова статейка о Фоссе, поэте не головоломном.
«Иоганн Генрих Фосс родился в Зоммерсдорфе в 1751 году, умер а Гейдельберге в 1826 году. Он замечательнее как филолог, особенно как переводчик греческих и римских писателей, нежели как творящий поэт (еле- _ довало бы сказать, что Фосс перевел «Илиаду»: правда и то, что его перевод уже указан в статье «Гомер» — что еще за повторения!). Важнейшее из его произведений «Луиза», сельская поэма в трех идиллиях, в которых, вместе с обыденным, тяжелым и натянутым, попадается много истинно хорошего. Лица, в них выводимые: Луиза, ее отец, седой пастор в Грюнау, вымышленном гольштииском селе (удивительно, как нужно знать нам, что Грюнау село вымышленное!), ее мать и ее жених, молодой богослов Вальтер. В первой идиллии празднуется день рождения Луизы сначала обедом, потом прогулкою в лес, где пьют кофе и ужинают. Во второй идиллии Вальтер, который был гувернером, делается пастором и приезжает навестить свою невесту.
В третьей Луиза выходит за Вальтера».
Очень хорошо рассказано содержание «Луизы»!
Выбор сочинений у г. Нейкирха так же произволен, как и подбор поэтов. У Лесажа, например, выставляет он «Тюркаре» и «Криспена», забывая «Хромого Беса»; лучшею драмою Виктора Гюго называет «Эрнанн», и т. д.
Странна до невозможности та щедрость, с которою высчитывает г. Нейкирх переводы на немецкий. Понятно, что можно и должно указать несколько переводов Гомера, Шекспира, Байрона; но к чему же высчитывать дюжинные переводы новых французских и английских прозаиков — например, 4 перевода стернова
«Сантиментального путешествия», 6 переводов гольдсмитова «Векфильдского священника», по 3 перевода тэккереевых романов, по 3 перевода романов и повестей Аесажа, Бернардэна-де-сан-Пьерра, Жоржа Занда, даже довольно жалких романов Ферри и Луи Ребо? Довольно было бы указать на лучший, по мнению автора, перевод.
Г. Нейкирх написал свою книгу по-немецки.
Книга г. Нейкирха — серьезная книга, и поэтому не считаем приличным смеяться над удивительным разглагольствованием нескольких немцев и немок в начале книги о поэзии, любви и т. п. Автор поместил этот диалог, дышащий простотою детских драм, в виде «предисловия и введения». Если б книга была хороша, диалог этот не повредил бы в наших глазах ее достоинству, потому что мы обрезали бы его и переплели бы книгу отдельно. Теперь этого делать не нужно.
Точно такое же забавное впечатление, нисколько не приличное ученой книге, производит напечатанный в начале книги, вместо посвящения, сонет «Каролине» — «An Karolinen». В нем автор напоминает Каролине, как «из уст ее часто текли тоны, которые в авторе создавали чудные миры и свивали венки из золотых учений».
По доброму старому обычаю, в конце извлечем заключение из нашего разбора:
Люди, достойные всякого уважения, часто пишут плохие книги. Нам хорошо известно, что г. Нейкирх основательный и добросовестный ученый; всякий увидит доказательства его учености на каждой странице его книги: а между тем, книга у него вышла очень плохая. Как могло это случиться?.. Как могло случиться — не знаем, а что действительно так случилось, читатели могут видеть из нашего разбора.
14 Н, Г. Чернышевский, т. Ц
1854
КРИТИКА РОМАН И ПОВЕСТИ1 М. Авдеева. Два тома. Спб. 1853
Господин Авдеев — милый, приятный рассказчик. Его повести не оставлялись неразрезанными в книжках журналов: это много значит. И если бы какой-нибудь господин, вследствие мудрого правила не читать ничего в ужас или скуку приводящего, редко заглядывающий в русские книги, спросил нас, раскается ли он, прочитав «Роман и повести» господина Авдеева, мы поручились бы ему головою, что не раскается, — поручились бы даже, что он прочитает их с удовольствием. Но если б он был так неделикатен в выражениях, что предложил бы нам свой вопрос в отрицательной форме: «должен ли я жалеть, что не читал повестей и романа г. Авдеева, и необходимо ли мне загладить свой Проступок?», то… то мы не знаем, что бы мы сказали ему.
Отчего же мы не знаем наверное, что бы мы сказали? Оттого, что г. Авдеев — полная честь ему за это — хороший, очень хороший рассказчик; но… но мы не знаем, может ли найтись в его «Романе и повестях» что-нибудь хорошего, кроме того, что рассказаны они хорошо.
Говорят, будто бы достоинство платья зависит единственно от того, хорошо ли, изящно ли оно сделано; но говорят иногда и то, что как бы ни изящно сделано было платье, а все-таки не годится оно, если сделано из поношенной материи или сделано не по мерке. Мы боимся, чтобы последнее замечание не было приложимо к произведениям г. Авдеева, которые субтильным изяществом напоминают произведения модного искусства: написаны они хорошо; но в романе нет свежести, он сшит из поношенных лоскутков, а повести не приходятся по мерке нашего века, готового примириться скорее с недостатками формы, нежели с недостатком содержания, с отсутствием мысли. Мы боимся, что строгие люди скажут: в чем нет мысли, до того нам нет и дела. Впрочем,
мало ли что могут сказать строгие люди! Их нечего слушать; лучше посмотрим, что нам должно сказать о романе и повестях одного из любимых наших беллетристов.
Когда явились первые части «Тамарина» (Варинька и Записки Тамарина), которыми дебютировал г. Авдеев, все в один голос сказали, что это буквальное подражание «Герою нашего времени»; многие сказали еще, что в этом подражании, как и во всех буквальных подражаниях, искажен дух, смысл подлинника; что Лермонтов — мыслитель глубокий для своего времени, мыслитель серьезный — понимает и представляет своего Печорина как пример того, какими становятся лучшие, сильнейшие, благороднейшие люди под влиянием общественной обстановки их круга, а что г. Авдеев добродушно выставляет своего Тамарина истинно великим человеком и добродушно преклоняется перед ним. Г. Авдеев хочет придать своему произведению другой смысл. В предисловии к своему роману он говорит: «Автор разбора сочинений Пушкина2 заметил, что Онегин и Печорин составляют один тип, изменившийся при последовательном развитии. Это замечание дало мне мысль проследить дальнейшее развитие типа «героев своего времени». Вот цель, с которой я задумал Тамарина. Лермонтов увлекся своим героем и поставил его в каком-то поэтическом полусвете, который придал ему ложную грандиозность. Ослепленное ярким эффектом красок и искусной драпировкой героя, большинство увлеклось им и, вместо того, чтобы увидать в нем образец своих недостатков, стало рядиться в него, стало ему подражать; он породил Печориных в-обществе. С этих-то действительных Печориных писан мой Тамарин. Показать обществу и человеку, как они обманывались, и показать разоблачение этого обмана — вот в чем была моя задача». Действительно, такова цель и смысл последней из повестей этого романа — «Иванов». Но «Иванов» (о нем речь впереди) писан через два года после «Рассказа Ивана Васильича», и автор мог измениться и изменить взгляд на своего героя в это время, мог — при помощи критики — разочароваться в Тамарине и позабыть, что был им прежде очарован, мог после увидеть в своих первых повестях не то, что действительно в них было. Примеров такой забывчивости о своем прежнем нравственном положении — множество, и мы желали бы указать их, если бы не боялись, что и без того наш разбор будет слишком обширен Одним словом, мы верим в искренность объяснения (или, скорее, оправдания); но до какой степени оно справедливо? Нет, не с подражателей Печорину писан портрет Тамарина, а черта в черту, сцена в сцену переписаны две первые повести этого романа с Бэлы и княжны Мери из «Героя нашего времени». Копия так буквальна, что нет возможности видеть в ней что-нибудь, кроме копии, нет возможности видеть в первой половине романа хотя тень самостоятельности в изложении, не толь-
ко самостоятельного взгляда. Попробуем сделать краткий обзор этой первой половины романа.
В «Герое нашего времени» две главные повести: «Бэла», рассказываемая простодушным Максимом Максимычем, и «Княжна Мери», дневник Печорина. И у г. Авдеева две повести: «Варинь-ка», рассказываемая Иваном Васильичем, и «Я, тетрадь из записок Тамарина» (это гордое «Я» исчезло во втором, отдельном издании: автор лишил своего уважения это «Я» Тамарина, которое прежде величественно красовалось, внушая читателю глубокое уважение). Но если Максим Максимыч рассказывает своим языком и действительно своими глазами смотрит на вещи, то Иван Васильич, говоря фразами Максима Максимыча, беспрестанно проговаривается и отдает свой язык в распоряжение Печорина, Тамарина или самого г. Авдеева. Примеров первого не нужно приводить: они составляют фон рассказа; вот примеры второго, эпизодически прорывающегося тона:
Описание на целой странице Джальмы, коня Тамарина; Джальма, чуть проедет несколько шагов, из серого в яблоках «делался розовый: так тонка была у него кожа!» Кому, кроме Печорина, имеющего страсть говорить о лошадях тем тоном, каким говорят о женщинах, придет в голову эта «тонкость»? И действительно, вслед за этим Иван Васильич принужден делать такое же описание Вариньки, у которой был «тонко схваченный стан» и темноголубые глаза, спокойно смотревшие на божий мир, как будто в нем не было ни горя, «ни длинного ряда заблуждений и обманов, в конце которого часто стоит разочарование и могила». Помилуйте, разочарования и не понимает, несмотря на все объяснения Тамарина, Иван Васильич, а о могиле не думает он, глядя и на старушку Мавру Савишну, не только на свеженькую, полную здоровья дочку ее. Никто, кроме разочарованного, не может заключить описание этою фразою. Потом Иван Васильич, имеющий понятие только о том, что дочь должна быть доброй, послушной дочерью, говорит, что мать «не имела на нее никакого морального влияния» — ну где же ему думать о моральных влияниях? Опять об этом толкует (и очень подробно) Тамарин (смотри его объяснения с Варинькою). В угодность княжне Мери и артистическим вкусам Тамарина, Иван Васильич даже украшает виртовским роялем комнаты простодушной помещицы средней руки, между тем как выписные из Петербурга рояли и теперь попадаются еще только в самых аристократических провинциальных домах. Он замечает перемену в пении Вариньки, когда она влюбилась в Тамарина: «в ее голосе была такая полнота звуков, такая сила, такой грустный и вырвавшийся из души плач», что, очевидно, недаром Иван Васильич (читай: Тамарин), умевший оценить и описать это, был постоянным посетителем итальянской оперы. Дурно только то: мы знаем, по какому поводу и кому рассказывает «Бэлу» Максим
Максимыч, и решительно не знаем, с какой стати Иван Васильич. дарит нас рассказом своим, из которого видно, что недаром он бывал в опере и читал Гоголя. Лирических заимствований из Гоголя у него бездна:
«Как вздумается ему (Тамарину) окрестить тебя так, шутки ради, каким-нибудь словцом, холодно, мимоходом, как он иногда это делает, а огорошит им тебя хуже пули, и насмеется над тобою всякой, и дурак, и умный, и пойдет это словцо из уст в уста…» и т. д. Сравнить с этим можно еще воспоминания Ивана Васильича о меткости школьных прозвищ. Или: «И странна показалась ей (Мавре Савишне, матери Вариньки) эта перемена в голосе дочери, безотчетно забилось сильнее обыкновенного ее любящее, материнское сердце, и опустила она чулок, и не окончила фразы, и задумалась Мавра Савишна, слушая песню своей Вариньки.» и т. д.
Одним словом, если Максим Максимыч умеет рассказывать, как Максим Максимыч, то Иван Васильич умеет рассказывать, как Иван Васильич и г. Авдеев вместе. Ясно, что похожие то на себя, то на других рассказчики могут быть только подражателями. О том, что Тамарин в своих записках переписывает все размышления Печорина, нечего и говорить. Но это сходство преднамеренное? В том и дело, что сходства нет, а есть только буквальная, ко не похожая на оригинал, по своей неудачности, копировка. У Лермонтова видно, что Печорин страдал и высох и действительно утомился жизнью; из записок Тамарина этого ничего не видно: он хочет, по очевидному желанию автора, выставить себя Печориным, но выставляет себя решительно Грушницким.
Но, может быть, этого и хотелось автору? Может быть, он в самом деле хотел «разоблачить» своего героя? Нет, он не разоблачил: он просто не сумел одеть его; а ему хотелось, очень хотелось одеть его в самый поэтический наряд. Вот один из. бесчисленного множества примеров поклонения автора разукрашаемо-му им в герои лицу:
«Тамарин (в нашем избитом экземпляре чья-то досужая рука, зачеркнув «Тамарин», приписала: Наполеон) сидел и думал. О чем он думал, бог ведает: это лицо так привыкло не выдавать тайных дум, что и наедине, как в гостиной (та же рука, зачеркнув «в гостиной», приписала: в битвах), оно было, по привычке, холодно, спокойно и безмолвно. Только в больших темных глазах было выражение. Это не было выражение мелочного самодовольства, удовлетворенного самолюбия. Нет, в них было гордое выражение человека, сознавшего собственную силу (на поле tc>jo же рукою приписано: се лев, а не собака), что-то похожее на торжество оскорбленного самолюбия, которому отдали должную справедливость. Светло и гордо смотрели эти темные глаза, и странно было их выражение, полное жизни, ва холодном, спокойном лице, в пустой, полуосвещенной комнате».
Увы! никакие потоки оправданий не смоют блестящего лака, не докажут, что есть хоть малейшая возможность видеть в этом не апофеозу, не простодушное поклонение; увы! ясно, что автор рисует льва, и вина кисти, а не живописца, если вместо льва нарисовалась собака! Слушайте дальше:
«Перед его внутренними очами рисовалась картина его прошедшей, неведомой нам жизни, должно быть, бурной и обильной происшествиями жизни, в которой выработался этот твердый, холодный характер, выдержался мощный ум (которого, однако, не заметно), жизни, которая должна была разбить его и из которой он вынес новые силы».
Если это писано без поклонения своему герою и своим фразам, то мы вправе предполагать, что и г. Котляревский написал своих «Крымских цыган»3 для разоблачения Муллы Нура и Ам-малаг-Бека,4 а г. Бенедиктов пишет свои стихи для того, чтобы показать суетность исковерканно-напыщенных фраз. Нет, не критику, а восторженный панегирик Тамарину писал г. Авдеев, руководствуясь не действительностью, а ложно понятым романом Лермонтова.
Лица у него взяты целиком из Лермонтова: кроме Печорина и Максима Максимыча, в «Герое нашего времени» есть Вера — она стала баронессою Б., муж Веры — бароном Б., Бэла и княжна Мери слились в Вариньку; даже доктор Вернер нашел себе буквальную копию в Федоре Федорыче (тоже, очевидно, русский немец Фридрих Фридрихович); Грушницкого брать было уже нельзя: он, неведомо от автора, отождествился с Тамариным, который также толкует Вариньке: «Да что я вам? Поймете ли вы меня? Моя судьба — тайна между небом и мною…» и т. п., как толковал это, по предположениям Печорина, Грушницкий какой-нибудь деревенской барышне перед своим поступлением в юнкера. Да, мы и многие другие ошибались, думая, что Тамарин — Печорин: это — Грушницкий, явившийся г. Авдееву во образе Печорина.
Да, г. Авдеев написал пародию, но не на тип Печорина, а на Лермонтова, как Козлов написал в1 своем* «Чернеце» 5 пародию на Байрона: оба они не ведали, что творили. Но г. Авдеев имел перед Козловым ту выгоду, что критики его были проницательнее критиков пушкинского времени и показали ему истинное значение его Тамарина.
И надобно отдать полную справедливость прекрасной способности г. Авдеева заметить недостатки, на которые укажут ему, — прекрасной способности, доказывающей, что его развитие еще впереди. Он совершенно изменил понятие о своем герое, когда ему показали, что за петух этот лже Печорин-Тамарин-Груш-ницкий; он постарался придать по возможности другой смысл своему роману и приписал к прежним рассказам — окончание записок Тамарина и «Иванова».
В «окончании записок Тамарина» (сцены после замужества Вариньки) вместо прежнего Печорина и княжны Мери являются Онегин и Татьяна, вместо сцен из «Героя нашего времени» — последняя глава «Евгения Онегина». Положения, оправдания и мольбы, раскаяние и возродившаяся любовь Тамарина, гордый в страдании ответ Вариньки, — все слово в слово взято из «Онегина». Тамарин говорит:
«Послушайте, я прежде не умел вас понимать; я не мог вас понять; я не был к этому подготовлен; но теперь я ваг люблю, Варинька. Я вас так люблю, что заставлю вас забыть прошлое и простить меня… Вы простите меня?»
Варинька отвечает:
«Что мне в этом? Разве я кокетничала с вами, чтобы возбудить вашу любовь? Напротив, она глубоко огорчает меня, потому что больше заставляет жалеть невозвратимое. И вы думаете, легко мне теперь? Знаете ли, что я делала сейчас до вашего прихода? я мечтала о деревенской девочке, которая увидела одно загадочное, интересное для нее существо. Как она была счастлива!.. Прошло полгода, и в этой неопытной, наивной девочке я не узнала себя!..» и т. д.
Хотели было мы заметить, что в Татьяне действительно могло измениться все, потому что она переехала из деревни в высшее петербургское общество и прожила в нем несколько лет, а между Варинькою до замужества и через полгода после замужества такой огромной разницы быть не могло, потому что ничто в ее обстановке не изменилось. но если бы стали мы говорить об этом, то могли бы забыть похвалить точность и близость, полноту перевода. Хотели было мы сказать, что переписывать и „Пушкина, как Лермонтова, трудно, не испортив стройности и смысла картины; но лучше заметить, что гораздо легче браться за переделку, правда, не колоссальных, а просто очень хороших произведений, напр., хоть за переделку «Полиньки Сакс» е, превосходный снимок с которой заканчивает Тамарина.
Эпилог этот называется «Иванов». Тут под именем Иванова является в своем мундирном фраке подлинный Сакс, человек нового направления, перед которым окончательно стушевывается Тамарин, представленный уже решительно пасквилем на прежнего Тамарина. Точно так же, как Сакс, Иванов энергический защитник правды на поприще служебной деятельности, бесстрашно, неутомимо борется с лицеіщцятием и т. д., так- же спокойно и возвышенно говорит, так же ставит правду и дело выше личного счастия и любви, точно так же едет в командировку на следствие, — точно'Так же все, кроме того, что, сколько нам известны провинциальные служебные отношения, Иванов не умеет выдерживать их в подвигах своего служебного рвения.
Однйм словом, роман г. Авдеева с начала до конца — чистая, кажется, бессознательно переписанная копия сперва с «Героя нашего времени», потом «Героя нашего времени» и «Онегина», потом «Героя нашего времени» и «Полиньки Сакс». В нем воскрес-
ла перед нашими глазами русская литература XVIII века с трагедиями Княжнина, о которых еще Мерзляков говорил, что в них нет ни слова своего.
M>j! говорили о «Тамарине» подробнее, нежели будем говорить об остальных произведениях г. Авдеева, потому, что на «Тамарине» основана известность г. Авдеева, и потому, что хоть в наше время совестно объявлять себя защитником подражательного рода, но во все времена говорили: давайте нам лучше хорошее чужое, нежели. не то, чтобы дурное, — напротив, очень милое, но не заключающее в себе ровно ничего своего. «Тамарин» заставил нас ожидать от г. Авдеева нового и лучшего, показав в нем способность к развитию, стремление принять в себя мысль, стремление к содержанию; но ни одна из его изданных до сих пор повестей не может еще назваться произведением человека мыслящего. Нам кажется, что если о господине Авдееве будут говорить, как о замечательном писателе, то уже никак не упоминая о его доселе изданных повестях; а если придется говорить только о них, то о нем ничего не будут говорить. Потому и мы теперь можем быть кратки. После «Тамарина» г. Авдеев написал шесть повестей и рассказов: «Ясные Дни», «Горы», «Деревенский Визит», «Нынешняя Любовь», «Поездка на Кумыс», «Огненный Змий». Мы обратим внимание только на две лучшие повести: «Ясные Дни» и «Нынешняя Любовь», потому что из остальных заслуживала бы разбора только одна — «Огненный Змий»; но мнение о ней найдут читатели в другой статье, в следующей книжке «Современника» 7, и здесь только для полноты обзора мы повторим отзыв об «Огненном Змие», слышанный нами от одного из людей, очень любящих изящество во всем и решительно не думающих поставлять народность или даже простонародность рассказа в дубоватости языка: «от Огненного Змия пахнет лоделавандом». А что касается до других трех рассказов, они едва ли были и замечены кем-нибудь. «Горы» ровно наполовину состоят из длиннейшего, но легко читающегося приступа, в котором сначала объясняется, почему автор любил приезжать в гости с Локтевым и почему Локтев достоин любви: потому, что он никогда не сделает неловкости, никогда не заставит вас покраснеть за то, что вы вместе с ним вошли в гостиную, — как будто бы ныне в порядочном обществе, не только петербургском, но и провинциальном, много наберется таких невыполиров'анных молодых людей, которые могут своими неловкостями заставить покраснеть вошедшего вместе с вами в гостиную или на вечер? Галантерейные рассуждения этого начала напоминают «Тамарина». Потом в приступе очень подробно, мило и легко пересказывается двухчасовая causerie втроем (рассказывающий, Локтев и хозяйка) у m-me К. Наконец, начинается повесть: Локтев рассказывает, как он имел в башкирской деревне rendez-vous с хорошенькой башкиркой Изикэй и как муж ее, подстерегши измену, не показал и виду, что знает все шашни, а потом, когда, при переезде через горы, представился удобный случай, столкнул жену с лошадью, на которой она сидела, в овраг, на дне которого отыскивают ее раздробленным трупом. М-me К. приходит в ужас от кровавого описания; тогда Локтев говорит с улыбкою: «вы непременно хотели, чтобы я вам рассказал ужаснейший случай моей жизни; ужасного ничего со мной не случилось, и я придумал для вас этот рассказ». Но «умысел другой тут был» у Локтева: он хотел пощекотать ревность m-me К., потому что они забавляются, строя друг другу куры. — М-me К. дивится живым подробностям импровизации; готовы дивиться и мы, если только «Горы» действительно импровизация, и это избавит нас от необходимо сти заметить, что хитрый башкирец не выдерживает своего лице-мерства в решительную минуту и не отправляется отыскивать жену, упавшую, по его словам, случайно. Не изъявляя участия к ее судьбе, он может возбудить против себя подозрение. И зеленеет он, столкнув жену, совершенно без причины: ведь по башкирским понятиям он поступил не дурно. «Деревенский Визит» и рассказан дурно, кроме анекдота о том, как Иван Игнатьевич видел русалку. Это — неудачнейшее из произведений г. Авдеева. «Поездка на Кумыс» — письма с дороги, вроде «Писем Русского Путешественника»; они занимают сто страниц, не наполняя их. Мы не говорим, чтоб их не стоило писать; но едва ли стоило их перепечатывать. Такого же мнения мы держимся и относительно «Деревенского Визита». Но и сам г. Авдеев, конечно, не придает большой важности ни этим двум своим произведениям, ни «Горам». Потому перейдем от них поскорее к его грациозной идиллии «Ясные Дни». Это действительно светлая, радужная идиллия, вполне оправдывающая свое заглавие; это действительно милая, привлекательная картина, писанная с любовью, и много чувства потратил автор на ее создание, много розовых теней — на ее иллюминовку: все в ней освещено розовым колоритом, все должно действовать на вас отрадно, примирительно, освежительно, оживительно — может быть, и подействовало, если вы читали эту повесть — в сладкий час ленивой полудремоты: прелестна показалась вам в этом счастливом случае повесть, и приснились вам ясные сны. Но… гадкое, неотвязное «но»! не должно бы тебе быть места, когда мы говорим о «Ясных Днях»., но если вы читали ее не в сладкий час ленивой полудремоты, то вы сказали, закрывая книгу: «Что за странность! Все это мило, но Bte это будто бы неправда, будто бы не клеится, будто бы не так». И если не хотите погубить прекрасной, светлой идиллии, постарайтесь не думать о ней, потому что в самом деле все в ней не так, все не клеится, все не ладится.
Что же не клеится? отчего не ладится? Ответа искать недалеко; но мы сначала украсим свой разбор грациозным стихотворением:
О домовитая совушка, О милосизая птичка! Грудь красно-бела, касаточка, Летняя гостья, певичка… и т. д.8Что за странность? Что-то не так! Грациозная песенка оказывается нескладицею! Виноваты, виноваты! мы вздумали про сову пропеть то, что можно пропеть только о ласточке!
Г. Авдеев хотел в «Ясных Днях» опоэтизировать, идеализировать все и всех в избранном им для идиллии кругу. Но дело известное, что не всякий кружок, не всякий образ жизни может быть идеализирован в своей истине. Трудно идеализировать бессмыслие и дрязги. Спору нет, в самом пошлом человеке, в самом отталкивающем тунеядце есть что-нибудь человеческое, и в жизни его есть или были светлые, человеческие отношения, есть или были поэтические минуты. Идеализируйте их, если у вас идеализирующий, примиряющий взгляд; и ваше дело будет правдивое, благородное дело, потому что в пошлом или ничтожном человеке будете учить нас любить человека. Но говорить нам: люби в этом человеке все, — нет! это не дело истины и поэзии: это — дело поверхностной, апатической, антипоэтической непроницательности.
А г. Авдеев говорит нам: полюбуйтесь на всех выводимых мною людей всецело, во всей обстановке, полюбите их жизнь: посмотрите, какая светлая, чистая, славная эта жизнь! Посмотрим же, что это за люди и какова их жизнь! Идут ли к ней розовые краски? Не будем даже рассматривать, прикрашивает или нет он своих милых идиллических любимцев; возьмем их такими, какими он их выводит нам на аркадский лужок, и посмотрим, каковы они — хоть друг с другом. Может быть, эти голуби в сущности вовсе не голуби, а просто-напросто осовевшие под розовыми красками коршуны и сороки; может быть, от этих сов плохо приходится очень многим, потому что тунеядцы должны же кого-нибудь объедать… Но теперь нам некогда говорить об этом, и мы посмотрим только, по-голубиному ли живут хоть между собою эти голуби. Театр — деревня.
Начнемте с почтенного Василья Сергеича. Это — олух и пентюх в полной форме, тупой, лежебокий и оглупевший донельзя. Таких мужей и желают и образуют себе дамы, подобные его домовитой хозяюшке. Много ли достается таким мужьям (ведь немногие же родятся пентюхами: людьми родятся, олухами делаются, скажем в Подражание изречению о поэтах и ораторах), много ли достается им от учительницы, пока они пройдут курс учения. Наш домохозяин, по уверению г. Авдеева, «спокойно отдал и себя и хозяйство в управление распорядительной супруги»: счастливец! он избежал ужасов междоусобный войны за власть в доме. Но, как вы думаете, кисло или сладко ему жить под крылышком голубицы своей? Ведь и крылышком может довольно изрядно похлыстать бойкая птичка. Как вы думаете, ведь у него есть же какие-нибудь свои желания? Позволяется ли ему исполнять их? Дадут ли ему теперь, например, 170 рублей на покупку хорошего ружья, какое удалось ему купить 'встарину? Боля ваша, ходить по струночке — плохая жизнь. А как вы думаете, по скольку раз в день колят ему глаза тем, что он < н:і во что не вступается, потакает людям, дает людям жену в обиду» и т. д.? Может быть, и мягкий у него диван, да много в этом диване натыкано булавок.
О его распорядительной супруге нечего распространяться. Вы знаете, что если сердце у распорядительных хозяек часто бывает мягкое, то рукавицы у них всегда ежовые. Она, конечно, счастливее всех; но довольна ли она своим положением? Как вы думаете, только бранит она мужа, или в самом деле негодует на него, презирает его? И от чистого ли сердца она жалуется на него своим прихлебательнипам? Поверьте, что часто от чистого сердца, потому что ее положение выгодно, но неестественно и очень тяжело. В самом деле, ей приходится надсажать себе горло и отбивать ноги. Деревнею править — воз везти: тяжело.
А хороший ли человек этот идеал смиренства и глупости, Иван Иваныч, над которым все хохочут, которым помыкает даже Василий Сергеич? Вероятно, потому, что он не взял к себе своей тетки, хоть она ходит пешком из своей усадьбы в деревню к Марье Степановне, хоть у нее парадное платье — холстинковое, а у него, холостого байбака, 80 душ. Родственные-то чувства процветают в Аркадии г. Авдеева, и глупцам в ней счету нет; но глупость глупостью, а копейки из рук никто не выпустит.
Прекрасные соображения о счастии и душевном благорасположении ко всем близким и остальных членов кружка также легко сделать.
Вот в этот кружок приезжают двое мальчиков или юношей: сын Марьи Степановны и его товарищ, в отпуск на 28 дней, и в нем-то растет Лиза, дочь Марьи Степановны, и в нем-то разыгрывается идиллия. Не сомневаемся, что можно и должно было осветить розовыми лучами хорошенькие личики этой веселой, пока еще доброй, пока еще не оглупевшей и не совсем опошлившейся молодежи; но если г. Авдеев хотел нарисовать картину одними розовыми красками, то надобно было для этих полудетей выбрать другую обстановку или, по мере возможности, оставить в таинственном полусвете все их окружающее. Но г. Авдеев до того любит розовые фигуры, что вывел в полном розовом освещении всех, кто попался ему под перо: и мужиковатую, полную претензий и неуступчивости бой-бабу Татьяну Терентьевну, и дебело-плотную фигуру распорядительной хозяйки Марьи Степановны, у отсыревшего, ленивого байбака Василья Сергеевича, и ничтожного олуха Ивана Иваныча. Все это Тирсисы и Хлои.
И сахару класть в чай слишком много не годится, а он угощает нас патокою.
Хотите ли, мы расскажем, как на самом деле проходили его слишком «Ясные Дни?» Приезжим обрадовались, это правда: минута приезда действительно была идиллическою; потом молодежь любезничала и веселилась, и это правда. А остальные лица грызлись, сплетничали, скучали при них, как без них.
Да и молодежь так ли идиллически веселилась, как рисует г. Авдеев? едва ли. По крайней мере, нет сомнения, что ни один осьмнадцатилетний юноша, выпивший, подобно его Волжину, не одну бутылку «редерера», не будет, как Волжин, сам не знать, какое чувство влечет его к Лизе; по крайней мере несомненно, что ныне девушки или девочки болтают о любви гораздо раньше его Лизы. А его Волжин и Лиза не влюбились друг в друга — нет! они просто находили «неизъяснимую для них самих прелесть быть вместе»; нет, идиллия г. Авдеева слишком уже эфирна; она слишком хитро идеализирует.
Дезульеровские пастушки — просто забубённые головы в сравнении с его пастушками.
«Бедная Лиза» — гоголевская повесть по естественности в сравнении с «Ясными Днями».
И как жаль, что эта приторная до странности сантиментальность уживается вместе с прекрасным уменьем рассказывать!
Лучшая из повестей г. Авдеева, по нашему мнению, «Нынешняя Любовь». Она так же хорошо рассказана, как и «Ясные Дни»; но в ней более содержания и менее увлечения тем, что не заслуживает любви. В ней найдется много справедливо подмеченного. Не так ныне любят, как должно любить — вот тема автора: слишком осторожно, слишком расчетливо приступают к любви: выбирают предмет страсти, осматриваясь, будут ли этим выбором соблюдены все условия света, и т. д. — тема, видите, которую развивал еще Рахманный в своей великолепной повести: «Любовь Петербургской Барышни», из чего и надобно заключить, что и в былые времена нашей литературы любили светские люди точно так же и были осуждаемы поэтами с возвышенным взглядом на любовь точно так же. А когда же, смеем спросить, не так любили? Разве в средние века, в классическое время любви, рыцарь избирал в дамы своего сердца горожанку? Разве не старался он отыскать какую-нибудь графиню или герцогиню? А красавицы разве обращали взоры на оруженосцев или бюргеров? Справиться об этом можно не далее, как в X томе полного собрания сочинений А. Пушкина, в котором помещены «Сцены из рыцарских времен». Увы, всегда люди старались, по возможности, не нарушать того, что в их время считалось «условиями света». Всегда они искали не достойнейших своего сердца, а достойнейших своей руки. Может быть, это и дурно; но если дурно теперь, то еще хуже было прежде, и наш идеал не в прошедшем, а в будущем. Но ныне холоднее прежнего любят, осмотрительнее предлагают и принимают руку? А прежде разве женились на тех, 220 кто понравился, не справляясь о средствах к жизни? Многое можно сказать против нынешней любви, но не то, что говорит г. Авдеев, который говорит, впрочем, так, что и нельзя составить себе ясного понятия о том: что же он говорит? и за что нападает на нынешних людей? Да полно, и представители ли нынешнего времени те лица, о которых он говорит? По крайней мере, если молодые люди теперь читают Débats 9, то не с любовью, а с отвращением, только потому, что у них под руками нет менее пошлых газет. Да и не газеты читают они, а книги, о содержании которых, кажется, не имеет и понятия Чернов. Нам кажется, что Черков виноват только тем, что, подобно очень многим из наших молодых людей, не получил направления и так поверхностен, что не сумел сам образовать себя. Не так любят истинные представители и представительницы нашего времени, как Черков и Сашенька. Разве думаете вы, что Печорин, уже не говоря о Бель-тове, будет спрашивать у своей избранной, сколько за нею душ, если вздумает жениться? Нет, он просто скажет ей: «у меня вот какие средства к жизни; за вами приданого столько-то; следовательно, мы будем должны вести вот какой и вот какой образ жизни. Подумайте хорошенько, будете ли вы им довольны при нашей любви? Я думаю, что вы будете довольны, иначе и не вздумал бы говорить вам об этом; а впрочем, подумайте хорошенько». Нет, Черков, колеблющийся между возможностью тратить деньги на «Дебаты» и между любовью, человек не нашего времени. Человек нашего времени думает проще и благороднее, нежели эти отсталые, недопеченые умники; он думает: «я буду с нею счастлив, надобно теперь подумать о том, будет ли она со мною счастлива». Нам кажется, что никогда умные люди не любили так благородно, так бескорыстно, как в наше время, никогда не любили так независимо от пошлостей, против которых еще долго будет надобно бороться любви.
Но довольно. Скажем же свое общее мнение о литературной деятельности г. Авдеева.
Он обнаружил несомненный талант повествователя, — обнаружил в заменении Тамарина Ивановым и способность к принятию лучшего, серьезнейшего взгляда. Но мы еще не читали его произведений, в которых бы отразилась своя, не избитая и не отсталая мысль. Может ли он со временем дать нам свое и такое, что действительно принадлежало бы современной жизни по развитию мысли? Может, если серьезно подумает о том, какие люди, с какими понятиями о жизни истинно современные люди, истинно современные писатели; если увидит различие между элегантною отсталостью или выполированною causerie и серьеэ-!ым пониманием жизни, если убедится, что мысль и содержание даются* не безотчетною сантиментальностью, а мышлением.
И тогда он, может быть, даст нам много истинно прекрасного-
ТРИ ПОРЫ ЖИЗНИ
Роман Евгения ТУР. Три части. Москва. 18541
Полезно ли перелистывать старинные плохие романы? «Без всякого сомнения, бесполезно, — скажут в ответ многие, — плохих романов и новых читать не стоит; а старинные плохие романы, конечно, еще хуже их». «Неопытность говорит вашими устами, — возразим мы людям, хулящим старые плохие романы, и тем, которые покушаются перечитывать эти книжки, маленькие, но многочисленные, — да, неопытность и отсталость от века. Каждое слово вашего ответа ложно. Во-первых, предполагая, что новые плохие романы не так плохи, как старые, вы отвергаете прогресс: прогресс состоит в том, что с течением времени хорошее делается еще лучше, плохое еще хуже; следовательно, по закону прогресса нынешние плохие романы должны быть еще хуже старинных. Si non, non: если нет, прогресса не существует…» — «Позвольте вас остановить, — прервет нас на этом месте защитник новейших плохих романов, — ваши умозаключения несовременны и неосновательны, потому что выведены из общих отвлеченных понятий, а не из фактов, опираются на синтезе, а не на анализе». — «Позвольте возразить вам, — будет наш ответ, — что наши заключения основаны на строжайшем анализе фактов, и общие соображения о прогрессе выставлены нами вперед только потому, что проверены над фактами. Если бы вы не прервали наши слова, вы сами увидели бы это». — «Позвольте же потребовать доказательств». — Извольте же слушать; вот факты.
Прочитав несколько глав романа, заглавие которого выставлено в начале нашей статьи, мы узнали, что у Александры Николаевны Огинской было две дочери, из которых старшая, Катя, была честолюбива и любила наряжаться, а младшая, Анюта, была добра, мила, скромна, добропохвальна по нежности сердца; узнали потом, что старшая начала отыскивать себе богатого и знатного жениха и отыскала князя Рамирского… виноваты, Гра-ницкого, и так как вышла за него, не принимая в соображение его характера, то и была несчастна. Прочитав это, мы задума-
лись: где-то мы читали что-то подобное, но где именно? Боже мой, неужели в «Семействе Холмских» 2 — романе, доставившем в 1830 годах автору такую громкую известность в публике (несмотря на насмешливые отзывы журналов), что на последующих сочинениях своих он, вместо фамилии, выставлял славную фирму «сочинения автора Семейства Холмских», как Вальтер-Скотт на своих романах выставлял титул «автора Уэверли» 3, — неужели в «Семействе Холмских» читали мы подобную историю? Неужели там у вдовы Холмской точно так же старшая дочь, Елизавета, одарена тем же характером и выходит замуж за князя Рамир-ского точно так же^ и живет не совсем счастливо точно так же, как в «Трех порах жизни»? Считая необходимостью следить за веком, мы поставили себе за правило наводить при малейшем поводе библиографические справки и потому тотчас же принялись за «Семейство Холмских», и вы, читатель, не можете себе представить, как интересен, жив, полон наблюдательности и блестящих следов великого таланта показался нам этот забытый роман, в свое время считавшийся очень плохим, после нового романа г-жи Тур. «Я очень хорошо помню, — говорите вы, читатель, — что «Семейство Холмских» роман очень незавидного достоинства; у меня даже остались некоторые воспоминания о его содержании; докажите же мне, во-первых, что, начав читать его после «Три поры жизни», всякий найдет его превосходным, как найдет очень гармоничным незатейливое чиликанье простодушного воробья, наслушавшись итальянских романсов иной модной певицы. Кроме того, должны вы показать мне, какую же положительную пользу принесло вам перелистывание «Семейства Холмских». С величайшим удовольствием исполним ваше второе требование, недоверчивый приверженец новых плохих романов, удовлетворив первому, и с величайшею готовностью (хоть, может быть, и не с величайшим удовольствием, потому что «скучно припоминать скучное», — говорит один из неизданных афоризмов Кузьмы Пруткова) спешим рассказать вам содержание нового романа г-жи Тур.
В некотором царстве, в некотором государстве, может быть, в России, но может быть, и в Бразилии, может быть, и в Японии, потому что русских нравов и русской жизни в романе столько же, сколько и бразильских, — итак, в некотором государстве жила-была молодая вдова Александра Николаевна Огинская (за Огин-скою появится князь Границкий, княгиня Воротынская, Зина, Клодина, Тата — чисто бразильское, как видите, имя, — Лина, Валентин, Змеев, Силкова, Леон Армалев и т. д.; главные лица: Валентин, княгиня Зинаидѣ Воротынская и Тата). Вам угодно знать, красавица ли была Огинская? Фи! красавица! это слишком тривиально! Нет, в последние тридцать или сорок лет отыскан и в тридцати тысячах романов описан другой, высший тип красоты, которая лучше, нежели ничтожная красота красавиц; и может ли Александра Николаевна не принадлежать к этому новому типу идеалов? «Те, которые не любят или не понимают красоты, так сказать, внутренней, конечно, могли бы назвать ее дурною; но если бы им случилось вглядеться в ее глубокие, серые глаза, сколько привлекательного нашли бы они в них! Она была белокура, волосы ее вились от природы, а потому она никогда не могла овладеть ими; выбиваясь из-под гребня и щетки (??), ложились они причудливыми волнами, образуя вокруг всей головы легкую, едва заметную паутинную ткань, бледнозолотистый цвет которой, при свете лампы, окружал ее каким-то фантастичным сиянием». О, зачем судьба не дала мне счастия видеть Александру Николаевну при свете лампы! Я оценил бы эти волоса, которые выбивались из-под щетки! Но, увы! я не видел этой паутинной ткани; а кроме меня никто не очаровался фантастичным сиянием, окружавшим ее голову, и если вы думали, что г-жа Тур с такою любовью описывает внутреннюю красоту волос Александры Николаевны потому, что нашлись поклонники этой дивной женщины, вы жестоко ошиблись: люди не пленились ею, как, вероятно, не пленятся и «Тремя порами жизни»; и г-жа Тур описывает волосы молодой вдовы с внутреннею красотою так подробно не потому, чтобы это было нужно для романа, а просто из любви к фантастическому сиянию. Александра Николаевна занимается воспитанием детей; из них особенно замечателен Валентин, будущий главный герой романа, у которого «розовая кровь струилась под тонкою кожею и нежным румянцем, а темнозеленые (!!) глаза, опушенные темными ресницами, блистали веселостью», которая, как увидите, угаснет от страданий любви. Он вырос под влиянием доброй, но слабой матери и сотни мамок и нянек; потому остался жалким на всю жизнь; но г-жа Тур постоянно рисует его вялую и дрянную фигуру самыми поэтическими красками. Точно так же воспитана и младшая сестра его, Анюта. Но старшая сестра, Катя, воспитывается теткою, помешанною на знатности и светскости, и потому из нее выходит бездушная кокетка, которая приучается заманивать знатных женихов «блестящими звуками рояля». Очень длинно расписывается «Первая пора жизни», детство Валентина и Анюты; но читатель может судить по приторной аффектации выписанных нами фраз, много ли искренности и теплоты в описании детства: оно холодно и экзальтировано, и мы, подражая молодой вдове с бледнозолотистым сиянием паутинной ткани вокруг всей головы, которая (вдова) «становилась неѵмолима и холодна, сталкиваясь с ложью и экзальтацией», неумолимо и холодно пройдем молчанцрм все детство наших героев, не останавливаясь ни на доброй карлице Фене, которая «подносит детям пенки и свежий, теплый, мягкий хлеб» (когда же подается к чаю заплесневелый и черствый?), ни на докторе-еврее в черном парике, с огромной тростью в руках (отчего же нет на ней обычного золотого набалдачника?), ни на Ипполите Федо-
рыче, учителе детей, у которого огромная голова, страшные брови, широкие колена (?) и широкие плечи; он, конечно, пугает детей наружностью, пугает огромною книгою; но на половине пространства между широких колен и плеч его широкое и добрейшее середе, а в страшной книге — чудные рисунки; и суровый метод его воспитания смягчается, потому что он обаятельною мягкостью Александры Николаевны, проливавшей на все окружающее доброту, нежность и счастье, «мало-помалу увлечен был в этот магический круг и вскоре вошел в него совершенно и составил с ннм одно нераздельное целое». Чтобы сносно описать детство, надобно иметь любовь к детям, а не к вычурным фразам. Но вот дети выросли, Огинские переехали в Москву, старшая сестра Валентина, Катя, отыскала себе жениха, князя Границ-кого, — и начинается роман: родственница Границкого, княгиня Воротынская, делает бал: Валентин должен ехать, как брат невесты, — и влюбляется в княгиню; это очень естественно, взгляните только на портрет ее:
«Воротынская была женщина лет двадцати шести, довольно полная, с удивительно красивыми очертаниями плеч и талии. Черные глаза ее были живы; их разрез продолговатый, как миндалина, придавал какую-то томность ее физиономии» и т. д. Преобладающая черта в ее характере доброта, доходящая до слабости; и она решительный сколок с самой матери Валентина, хотя, очевидно, автор и не думал об этом сходстве. Она полюбила младшую сестру Валентина, Анюту, и Валентин часто ездит с сестрою к ней. Само собою разумеется, что и княгиня не остается равнодушна к прекрасному молодому человеку, хотя он держит себя с нею как простяк. Отношения их становятся короче и короче (какая старая тема! и сколько надобно таланта, чтобы сносно писать на нее! А в «Трех порах» ничего, кроме экзальтации и аффектации, читатель, вероятно, еще не заметил). Объярнениям влюбленных вечно мешают: то Силкова, то тетка Воротынской; это еще больше разжигает страсть влюбленных и растягивает скучные сцены. Но вот Воротынская уезжает к другой больной тетке, наполовину только объяснившись с Валёнтином, и некто г-жа Силкова начинает ловить в свои сети Валентина. И как не стараться завлечь? На 113 странице 1 части, точно так же, как на 6 (см. выше): «Тонкая кожа его, под которою текла молодая кровь, нежным румянцем покрывала его белые щеки» и т. д. Но не в силки Силковой, а в объятия наяды, сирены, вакханки, спутником которой избран Змеев (о! страшно! за Валентина страшно мне!), попадает юноша, у которого щеки были не покрыты, а окрашены кожею! Вообразите у Силковой маскарад, нарочно сделанный с целью изловить Валентина; он не хотел ехать (бедный юноша! чует фсду вещее сердце!), но маменька послала его на бал (за^іем без няньки? Добрая и опытная Федосьевна сохранила бы неопытное дитя!)… вообразите же, входит он в зал — и
«Вдруг внимание его приковалось к женщине, подходившей все ближе и ближе. Она предстала ему, как видение, как чудный, давно знакомый образ: об руку с мужчиной (уф, это верно Змеев!) шла женщина, одетая вакханкой, но одетая так грациозно, так пристойно (увидим, что не совсем), что никто не мог бы найти для ней слова порицанья. (Следует описание белого газового ее платья, см. «Мода, журнал для светских людей» 1853 года № 15.) Тигровая кожа была наброшена на одно плечо ее и спадала с другого. Золотые застежки, представлявшие когти тнгра, ее придерживали: они впивались в ее белое матовое плечо и покрывали его легким розовым оттенком…»
Нет, я опасаюсь и за себя и за читателя, если буду продолжать выписку; скажу только, что столь же роскошно и пластично описана «полуоткрытая талья» вакханки, «полная, но небольшая, антично созданная грудь ее» и т. д., все по принадлежности. «Восклицание (вероятно, неудобное для печати, потому что не приведено автором) сорвалось и с языка Валентина», когда она проходила мимо него. Потом она «пронеслась мимо него в вихре вальса, и за ней (дело очень понятное, при быстроте движений застежки могли соскользнуть с плеча), как облако, нескромно рисуя стан, вилось ее легкое платье. Не помня себя, бросился Валентин, пробился меж танцующих», но «смутился, оробел» и попросил только ее вальсировать. Описание трех туров вальса с очаровательницею так же хорошо, как и все предыдущее. Но впереди еще много великолепных сцен, мы должны спешить к ним. Вакханка — Ельцова, светская дама довольно легкого поведения. Она приглашает Валентина к себе. Он бывает у нее каждый день и т. д. Но если он влюблен в роскошную Ельцову, то в него влюбляется Тата, кузина Ельцовой, на изображение которой потрачено еще больше красок.
Тата играет у Ельцовой роль немногим лучше горничной девушки; горе и оскорбления развили в ней удивительный ум, энергическую волю, смуглый цвет кожи. Можно вообразить, как она влюблена в1 Валентина и с какою твердостью (зато и с какими страданиями!) таит она в своей груди змею неразделенной любви. Но о ней после, когда Валентин обратит на нее внимание; теперь он занят одною Ельцовой, с которою каждый день под вечер, пока съедутся другие молодые люди, просиживает наедине, запершись в ее кабинете по нескольку часов. Это, конечно, для него очень приятно, но нравственность, нравственность страждет! Что скажут об этом дамы! Притом эти платонические беседы непостижимы и для нас, мы помним, что Ельцова — вакханка. Но вот она теряет терпение; на подмогу берет князя Симанского, принимается кокетничать с ним, и тогда происходит следующее: Валентин сидит у Ельцовой; является Симанский, ему велят отказать, и — опишем все по порядку… впрочем, зачем описывать? все происходит по обыкновенному порядку. «Огонь желаний. жаркое дыханье… он задрожал…», и, наконец, Валентин поскакал в лес, и «гордо глядел он на восходящее солнце, глядел прямо» — удивительно крепкие глаза! Если таков же был весь
его организм, то Воротынская и Ельцова основательно находили его очаровательным молодым человеком. Но вот он приехал домой и лег спать: «Как сладок, как живителен ты, сон юности, впервые узнавшей всю сладость жизни!» Да, это совершенно справедливо. Мать замечает похождения сына и предостерегает его; но Валентин продолжает ездить к Ельцовой. Конечно, скоро Ельцова чувствует потребность обратить свое внимание на Симанского, который, по выражению автора, «колосс». Сначала Валентин не замечает ничего; Тата объясняет ему кокетство Ельцовой; начинаются сцены ревности, примирения, восторгов и т. д. Но вот Воротынская воротилась из деревни и требует к себе зашалившегося мальчишку. Она объясняет ему — трогательная сцена: ведь она втайне любит его и должна скрывать свою любовь — что за женщина Ельцова, и т. д.; Валентин держит себя ктк школьник уже довольно развязный и рассуждает о непобедимости страсти: наконец, однако, дает слово уехать от пагубы в деревню: там его ждет больная мать. Но скоро он возвращается и опять увлекается прежнею «сладостью» пуще прежнего. Остановимся здесь. Почему не рассказывать и подобных эпизодов жизни? Но как рассказывать их, вот в чем дело. Неужели глупые похождения бесхарактерного и слабого мальчика надобно описывать, как благородный пыл первой, чистой страсти? раскрашивать его восторги с сочувствием и увлечением? Кто пишет о них так, тот не имеет права браться за подобные сюжеты. Надобно стоять выше их, чтобы описания их были верны и поучительны. Иначе мы напишем нечто фальшивое и жалкое во всех отношениях, начиная с художественного. Возвращаемся к роману. К жалкому, ничтожному Валентину приезжает из Петербурга бойкий приятель, Ар-малев, и, узнавши положение дел, принимает на себя труд спасти бедного мальчика, обративши к себе милости Ельцовой. Достигнув своей цели, он показывает Валентину очень недвусмысленную записочку Ельцовой. Валентин, конечно, страдает; его страдания, глупые, как все прежние восторги, описываются с таким же участием. Но мы ошиблись, сказав, что приятель спас его от погибели — нет, Валентин опять впадал в Прежние пароксизмы любви; он окончательно бросил Ельцову, только подслушав, как она осмеивает и передразнивает его. Фи, какой пустой и мелочной человек! Ему изменили, он узнал, что его всегда обманывали, что о любви к нему никогда и не думали. Это еще ничего для него; затронули его тщеславие — и он исцелился. И усеивая подобными чертами портрет своего героя, автор думает, что изображает человека благородного, с великою, возвышенною, страстною душою и т. д., но только несчастного в любви и погибающего от нежности сердца! Чтобы спастись от таких жалких промахов, автору необходимо соразмерять свой сюжет с своею, опытностью и силами, не описывать того, что не испытано им или не понято — и слава богу, конечно, что не испытано.
Но вот прошел год. Ничтожный наш герой опять влюбляется и опять в первый предмет своей страсти, Воротынскую. Скучно и жалко было бы описывать их воркованья и страданья Оба они бессильны, оба они смешны и оба описываются с прежним глубоким участием. Тата живет уже у Воротынской и мучится ревностью, глядя на их нежничанья. Не понимаем, как она с умом своим и энергическим характером может находить плаксивого Валентина достойным чего-нибудь, кроме жалости, смешанной с пренебрежением. Второй том, повествующий обо всем этом, еще аффектированнее, экзальтированнее первого. Чтобы дать вам понятие о впечатлении, которое производят все приторные сцены любви и страданий (причиною страданий — жалкая и бессильная тетка Воротынской, напоминающая племяннице о приличиях и условиях света) Воротынской и Валентина с неизбежным аккомпанементом сердечных мучений Таты, скажем, что такое впечатление могла бы произвести разве картина жеманной влюбленности беззубого старика (так старчески вял и бессилен Валентин) и жеманно-стыдливой, нервной, плаксивой 45-летней девы в бальном платье, с набеленными щеками и плечами; прибавьте, что полная жизни молоденькая красавица с ревностью и завистью плачет о том, что не она на месте счастливой девы. Но приезжает Армалев. Ему надобно сыскать себе богатую жену, потому что он живет открыто, потому что он честолюбив, потому что у него много долгов, — он избирает предметом своих исканий Воротынскую и, конечно, без всякого труда отбивает ее у Валентина. Не знаем, как удалось объяснить себе этот факт автору при его понятиях о его любимце и любимице, идеалах любви, воркованья и всевозможных нежностей. С его понятиями о своих героях такая измена Воротынской, такая вялая (конечно, вместе и слезливая) уступка со стороны Валентина просто непостижима. Для нас все это кажется очень естественным: Воротынская — пустая жен
щина? Валентин — тряпка, которую оттолкнуть ногою не стоит ни малейшего труда. А с каким пафосом выставляет их автор великими людьми, у которых одна только слабая сторона — нежность сердца! С какою странною любовью описывает он их радости и горести! Да если в них была хоть капля какого-нибудь чувства, кроме фальшивейшей, натянутейшей экзальтации, зачем же они не женились? кто им мешал? Нет, Валентин с своими горестями решительно похож на здоровенного парня, который горькими слезами плачет о том, что у него на носу сидит муха. «Да ты бы согнал ее, братец!» — «Не смею». — «Да что же ты не смеешь?» — «Она рассердится, меня съест!» Валентин, видите ли, боялся тетки своей возлюбленной, старухи, не имевшей никаких прав над племянницею, у которой жила она. Разумеется, такой человек имеет полное право говорить с Чайльд-Гарольдом: «Теперь я один в целом свете» и т. д. (Часть II, стр. 278.) Жалкий и смешной человек! Нет, не испытал или не понимал серьезного горя такой человек и неспособен был он живо чувствовать и наслаждений. Тряпка, тряпка и тряпка! И хорошо сделала эта тряпка, что поехала от нас подальше, за границу. Но нет, не принесет ему пользы эта поездка. Другое дело, если бы пришлось ему остаться без своего богатства и самому трудиться, тогда бы, может быть, позабыл он о своих Ельцовых и Воротынских и стал бы хоть сколько-нибудь похож на дельного человека. Но нет, он сел бы, сложа руки, на улице и плакался бы целый день на судьбу, пока «жареная утка ему в рот влетит».
Наконец, мы принимаемся и за третью часть. Тут являются большею частью' новые лица. Возвратившегося из-за границы Валентина уже и сам автор, кажется, признает тряпкою; по крайней мере, в продолжение всей третьей части куда угодно водит его за нос племянница, дочь старшей сестры, вышедшей в начале романа за князя Гранипкого. Эта хитрая девушка вознамерилась кругом обобрать богача-дядю для поправления расстроенных дел своего семейства. Но Огинский еще не потерял качества быть всеобщим возлюбленным, и если бывшей княгине Воротынской муж не позволит уже предаваться пустому препровождению времени с милым Валентином, хотя, может быть, она была бы и непрочь от этого, несмотря на Валентиновы 40 с хвостиком, а свои 50 с хвостиком лет; если Тата (сердечно жалеем, что не могли, за недостатком места, описать чудного ее портрета во весь рост) после катастрофы с Воротынской или прежде, не припомним хорошенько, пошла в монастырь, то у Таты была подруга Лина — может ли 45-летний Валентин не влюбиться в нее? Может ли она быть избавлена от неприятной, но неизбежной обязанности влюбиться в поэтического Валентина? Правда, Лина имеет жениха, который уже 5 лет состоит в этом качестве. Правда, ей уже под 30 лет; правда, она очень солидная, скромная, рассудительная девушка, и мы готовы были бы, основываясь на всем этом, ручаться головою, что она не впадет в такую неосновательную любовь к ничтожному человеку, несообразную ни с летами возлюбленного всеми Валентина и ее собственными, ни с ее характером; но приказ от автора дан: «извольте влюбиться,
m-lle Lina». — «Слушаю-с», — отвечает Лина и влюбляется. Конечно, коварная племянница, чтобы не лишиться дядина наследства, расстраивает любовь, на этот раз решительно уже подходившую к свадьбе, и Лина куда-то убегает. Огинский в третий раз убит. Мы боимся, что все еще не наповал: посмотрите, лет через десять отдохнет опять, и опять обзаведется восторгами и муками любви.
Вот, подумаешь, счастливые люди! До 45 лет только и дела делают, что влюбляются да влюбляют в себя! Зато какие же фальшиво экзальтированные и пустые люди!
Может быть, благосклонный читатель и согласится теперь, что самые плохие старинные романы не могут выдержать сравнения с иными нынешними. Но слабый и краткий наш очерк, как угадывают, конечно, сами читатели, так же далеко не мог передать и сотой доли красот романа в трех частях, как гравюра не может передать сотой доли красот рафаэлевской картины. Чтобы дать возможность хотя несколько познакомиться из нашей рецензии с блестящими достоинствами романа, мы выпишем одну из последних, но далеко еще не самых поразительных страниц. Лина уже почти невеста Огинского, предостерегает его ог хитростей племянницы, которая поет ему соловьиные песни, чтобы выманивать у него деньги. «И вы говорите мне это!» — восклицает Огинский совершенно неправдоподобно, потому что имел уже миллион случаев удостовериться в благородстве, бескорыстии, самоотверженности Лины: «Кто скажет мне, что слова ваши искренни, что вы, говорящая так много о деньгах, не любите их сами?»
«Я!» — сказала Лина так глухо, что Огинский взглянул на нее наконец. Он был поражен ее бледностью. Мысль, что Лина побледнела потому, что он угадал ее, как молния, сверкнула в уме его (как это правдоподобно! Что за умница в самом деле был этот Валентин) и сообщила мрачный вид всему прошлому любви их и уничтожила ее остатки.
«Да, вы!» — продолжал он с холодным, отчаянным порывом. «Кто мне поручится за вашу искренность, за ваше простодушие, за вашу привязанность? Деньги, все деньги! везде! всюду! все можно купить! (Нет; ума, например, нельзя и таланта тоже.) Блажен тот, кто верит, что вы ему отдались, да, отдались (NB. если Валентин не хвастается небывалым, то плохи же ее дела!) за груду золота, но это-то и называют куплею люди дальновидные! Я проклинаю тот час, когда увидел вас, поверил вам!»
Лина вся дрожала; она оперлась на стул машинально; хотела говорить — и не могла; хотела итти — ноги ее подкашивались. Она задыхалась (воды! воды! спирту! барышне дурно!), в глазах ее потемнело. Но сильная воля ее превозмогла это сражающее потрясение; громкий вздох, будто вопль растерзанной души (а разве вздох не в самом деле вопль растерзанной души?), вырвался из сжатых, стиснутых (фигура напряжения, действующая на чувство читателя. См. «Реторика Кошанского», § 57), побелевших губ ее; она крепко прижала руку к сердцу, приказывая ему молчать и не биться — и, повинуясь силе воли, сердце как бы замерло в ее груди (как же такая сильная женщина ие имела достаточного влияния на слабого Огинского?).
«Бог с вами, Огинский!» — произнесла она едва слышно и пошла к двери медленно, но твердо.
Он бросился за ней стремительно и схватил ее за руку.
«Куда вы?» — закричал он порывисто и повелительно: — «отвечайте! отвечайте же мне!»
Но Лина, задыхаясь, уклонилась от него и, указывая на дверь, сказала глухо, задыхаясь:
«Где вы, там меня не будет! Идите или пустите меня!»
Он отступил от нее. Она вышла.
Через два часа Огинский одумался и раскаялся. Он бросился в комнату Лины. Она была пуста».
Так же, как «Три поры жизни»? если позволительно предложить вопрос. Нет, еще не гак: в комнате Лины «на полу валя-\ись бумаги- и лоскутья», — одним словом-, хоть что-нибудь
было. А в «Трех порах» нет ни мысли, ни правдоподобия в характерах, ни вероятности в ходе событий; есть только страшная аффектация, натянутость и экзальтация, представляющая все в «каком-то фантастическом сиянии» и как раз навыворот против того, что бывает на белом свете. Над всем этим владычествует неизмеримая пустота содержания. Но вам, читатель, угодно было знать, какую пользу может принести чтение плохих старинных романов? Всякому читателю может принести такую пользу — навести на него гораздо менее безотрадной тоски, нежели, например, чтение нового романа г-жи Евгении Тур; рецензенту оно может принести еще более выгоды — иногда снять с него часть работы, доставив ему готовый уже отзыв о книге; последнее случается, например, вот как: автор «Семейства Холмских», недовольный отзывами журналов о его романе, написал длинное предисловие, в котором собрал — и, конечно, опроверг — эти отзывы. Все они чрезвычайно — хорошо применяются и к «Трем порам жизни»; особенно отзывы «Телескопа» и еще одной газеты, почему же нам и не применить их? вот они (см. предисловие к третьему изданию «Семейства Холмских», Москва, 1841).
1) «Семейство Холмских» (читай: «Три поры жизни») нисколько не удовлетворяет современным требованиям; излишество бесполезного прозябания хуже бесплодия.
2) Чтение «Семейства Холмских» (читай: «Три поры
жизни») можно уподобить путешествию от Тобольска до Белостока.
БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК Комедия А. Островского. Москва. 18541
Первая комедия г. Островского, «Свои люди — сочтемся», была принята читателями с единодушным одобрением2. Мы встречали даже таких, которые, в порыве увлечения, ставили эту комедию выше «Недоросля» и «Горе от ума», наравне с «Ревизором»3. И такое увлечение не сердило тех, которые не разделяли его, — так оно было естественно. Чгоез два года явилась «Бедная невеста»4, не уронившая известности автора, но и не поддержавшая ее. Третья комедия его — «Не в свои сани не садись»5 — заставила некоторых из самых жарких почитателей первого произведения г. Островского опасаться, что он уже не в силах создать что-нибудь достойное автора «Своих людей». Но большая часть публики не разделяла еще этих опасений; многие оставались так увлечены «Своими людьми», что все, выходившее из-под пера их автора, считали равно замечательным. Явилась «Бедность не порок», и большинство публики убедилось в основательности опасений за талант г. Островского; и если мы скажем, что, по нашему убеждению, г. Островский еще может иметь силы — если только будет иметь желание — создать после «Бедность не порок» что-нибудь замечательное, то большинство читателей, мнение которых имеет вес в деле искусства, едва ли не назовет нас людьми, которые все еще не хотят отказаться от надежд и тогда, когда уже невозможно надеяться. Мы не можем найти эпитета, который бы достаточно выражал всю фальшивость и слабость новой комедии; не можем найти потому, что воспоминание о «Своих людях» не позволяет нам прибегнуть к эпитетам, которыми характеризуются произведения кичливой бездарности. Потому скажем только: новая комедия г. Островского слаба до невероятности. А между тем находятся люди, которые продолжают называть ее «ценным и долговечным вкладом в сокровищницу русской литературы»6. Этого мало; находятся люди, которые решаются говорить так: мы видели
«Гамлета», «Отелло», «Ричарда III», «Короля Лира»; эти гени-
альные создания сильны тем, что в них правдиво изображается человек, и могущественно их «правда» действовала на нашу душу, но пришло время, и мы увидали произведение еще высшего достоинства (т. е. «Бедность не порок»).
И вот пришла пора другая, Опять в театре стон стоит; Полусмеясь, полурыдая, На сцену вновь толпа глядит, И с нею истина иная Со сцены снова говорит. Но эта правда не похожа На правду прежнюю ничуть: Она простее, но дороже, Здоровей действует на грудь. Дай ей самой здоровья, боже. Пошли и впредь счастливый путьі Поэт, глашатай правды новой, Нас миром новым окружил, И новое сказал ои слово. Хоть правде старой послужил. Вот отчего театра зала От верху до низу одним Восторгом вновь затрепетала: Любим Торцов пред ней живой Стоит с поникшей головой. Бурнус напялив обветшалый, С растрепанною бородой… и проч., н проч.(См. «Москвитянин», 1854, № 5.) г
Для не читавших «Бедность не порок» прибавим, что Любим Торцов — лицо из этой комедии. Нас нисколько не удивляет, что есть люди, не умеющие отличать посредственных или плохих пьес от гениальных и добродушно ставящие «Бедность не порок» выше шекспировских произведений: ведь есть же люди, думающие, что Основьяненко (или Гребенка) выше Гоголя, что «Пан Халявский» 8 лучше «Мертвых Душ», и т. д.; но тем не менее удивительно, что подобные люди решаются печати» высказывать, что «Бедность не порок» выше «Гамлета» и «Отелло»9. Примеров такой забавной решительности не бывало в русской литературе с тех пор, как С. Г линка говорил, что в «Димитрие Самозванце» Сумароков, в отношении развития волнения душевного, превосходнее того, что Шекспир предъявлял в своем «Макбете» (Очерки жизни А. П. Сумарокова, изданные С. Глинкою, часть 3, стр. 120) 10. Что могло придать этим неосторожным поклонникам слабой комедии такую смешную смелость? Только имя г. Островского, как автора «Своих людей». Блеск его так ослепил их, что они не могут видеть прискорбного различия между первою комедиею г. Островского и его последними произведениями. А различие до того велико, что автора «Бедность не
порок», не будь выставлено его имени на этой комедии, невозможно было бы признать автором «Своих людей»: он кажется только его подражателем, усвоившим себе до некоторой (только до некоторой) степени его манеру, но не имеющим и тени его таланта. Только подпись одного имени на обоих произведениях убеждает нас, что оба они писаны одним и тем же человеком.
Но мало того, что успех «Свои люди — сочтемся» доставил — автору известность; у него явились подражатели, но какие?
В карикатурных подражаниях «Своим людям», — мы говорим о недавно появившихся пьесах: г. Потехина «Брат и сестра» (Москвитянин, №№ 3 и 4) иг. Красовского «Жених из ножевой линии» (Отечественные Записки, № 3), — нет и тени того, что составляет достоинство «Своих людей», в них только развиты до крайности все слабые стороны «Своих людей» в художественном отношении и утрирован до совершенного искажения оригинальный язык этой комедии. Как же могло от «Своих людей» произойти такое потомство, как «Не в свои сани не садись», «Жених из ножевой линии», «Брат и сестра» и, особенно, «Бедность не порок»? Общий ответ на это ясен для всякого, знающего, что такое значит «подражать». «Подражать» значит: не понимая существенных достоинств, не понимая смысла произведения, ослепившего нас своим успехом, механически воспроизводить его внешнюю сторону и, не имея сил передать его красоты, со всею силою безвкусия скопировать в громадных размерах его недостатки, принимая их за красоты.
После «Своих людей» автор их написал «Бедную невесту». Комедия была очень хороша; ее все похвалили, но в восторг не привела она никого11. Почему же так? Потому что она действительно не имела ни одного из блестящих достоинств первой комедии г. Островского. Идея в ней была, если хотите; а если хотите, то можете сказать, что и не было, потому что идея эта была вовсе не новая. Милая, достойная всего лучшего девушка должна — потому, что у нее нет приданого, для того, чтобы спасти себя и мать от нищеты — выйти замуж за человека, который не пара ей ни по образованию, ни по чистоте сердца, ни даже по летам: это человек пошлый, необтесанный, довольно пожилой, которого она будет стараться, но не успеет, облагородить, которого она будет усиливаться полюбить, но не будет в состоянии любить; ее жизнь погибнет невозвратно (все это сама она чувствует), погибнет ее красота и молодость; сотни хороших, если не гениальных произведений были писаны уже на эту тему, и если она всегда останется прекрасна, то свежесть и эффектность может придать ей только колоссальный талант. А г. Островский написал прекрасное, но вовсе не колоссальное по исполнению произведение. Мало того, что идея не имела достоинства новизны: она принадлежала слишком тесному кругу частной жизни.
Недовольный сомнительным успехом этой комедии, г. Островский написал новую: «Не в свои сани не садись». В этой комедии ясно и резко было сказано: полуобразованность хуже невежества, но не прибавлено, что лучше и той и другого: истинная образованность. Вообще, эта комедия как бы служила переходным звеном между «Своими людьми» и «Бедность не порок», к которой мы теперь и обратимся, так как то, что было не совсем определенно в «Не в свои сани не садись», совершенно выяснилось в «Бедность не порок». Эта комедия явилась всего три месяца назад; потому большей части наших читателей содержание ее, может быть, еще неизвестно, и мы должны рассказать его довольно подробно.
Но прежде, нежели начнем говорить о содержании, скажем об именах действующих лиц. В «Не в свои сани не садись» представитель (мнимо) русских по преимуществу понятий назывался уже Русаковым, представитель верности старинным обычаям — Бородкиным, представитель модной пустоты и ветрогонства — Вихоревым. Такое блистательное нововведение, заимствованное из комедий старого времени, понравилось г. Островскому; в «Бедность не порок» все фамилии лиц «заимствованы» от их качеств: Коршунов (фабрикант свирепого нрава), Гуслин (русский виртуоз), Разлюляев (т. е. гуляка и весельчак). И надобно сказать, что это чрезвычайно прилично новой комедии г. Островского, столь же неумеренной в неудачной идеализации, столь же наивно написанной, как и самые плохие комедии старого времени. В наших романах тридцатых годов герой, образец скромного поведения и всех добродетелей, в отличие от остальных лиц (Звонских, Греминых, Блестовых и т. д.12) не имел даже фамилии; он назывался просто Владимир или Александр; так и у г. Островского герой именуется просто Митя (отличие от старых романов только в том, что там уменьшительными Митя, Ваня, Андрюша титуловались юродивые). Действие комедии опять в уездном городе.
Егорушка, мальчик, племянник богатого купца Гордея Кар-пыча Торцова, читает сказку о «Бове Королевиче», прерывая свое чтение ответами на вопросы Мити, приказчика Торцова; чтение «Бовы Королевича» решительно не связано с пьесою и введено только в качестве народного элемента для украшения сцены. Между прочим, и это главное, Егорушка рассказывает, как несколько дней тому назад Гордей Карпыч прогнал из дому своего промотавшегося брата Любима за то, что Любим начал при гостях за столом «разные колена выкидывать», — Мите, живущему в доме, очень естественно было целую неделю, если не больше, не слыхать о таком шумном и скандальном происшествии. Оставшись один, Митя объясняется в любви к Любови Гордеевне, дочери Гордея Карпыча, и объявляет, что он теперь не может работать, потому что «все бы думал о ней». Митя Человек очень бедный и поэтому, нам кажется, мог бы уже давно привыкнуть поступать так, как все бедные люди, обязанные каждый аккуратно работать, чтобы не терпеть нужды: тоска сама по себе, а работа все-таки идет у них как следует. Итак, вот вам элементы комедии во вкусе трагедии Корнеля и Расина: сначала (решительно неуместный по положению лиц) пролог для объяснения публике предшествующих событий; потом лирический монолог, в котором изливает свою сантиментальную любовь герой. Потом входит Пелагея Егоровна (лицо бесцветное, повидимому, добрая старуха) и, продолжая пролог, начатый Егорушкою, объясняет публике положение дел, рассказывая Мите, который уже пятьсот раз все это знает, что Гордей Кар-пыч совсем испортился и помутился от знакомства с богатым фабрикантом Коршуновым, от которого перенял манеру стыдиться старых простых обычаев и гоняться за нынешним светом. Чтобы ободрить к продолжению объяснений для публики Пелагею Егоровну, которая сама должна чувствовать, что совершенно неуместно объясняет Мите давно известные ему дела, Митя подталкивает ее рассказы расспросами и предположениями. Тотчас после ухода Пелагеи Егоровны является третье лицо с ролью корнелевских наперсников — Гуслин, которому Митя открывается в любви своей к Любови Гордеевне, прибавляя:
Что на свете прежестоко?
Прежестока есть любовь.
Нам кажется, что человек, восхищающийся подобными стихами, еще не в состоянии находить Кольцова порядочным поэтом; но, по воле г. Островского, Митя (юродивый или нет!) восхищается Кольцовым и сам пишет песни а Іа Koltzoff — нельзя не согласиться с отзывом об этом Гордея Карпыча: «Какие нежности при нашей бедности!» Но не удивляйтесь. Дальше будет еще лучше. Входит Разлюляев, сын богатого фабриканта, веселый, удалой малый — и с чем бы, вы думали, входит он? с гармониею!! сколько известно читателям, на «гармонии» играют одни только дворовые люди и беднейший класс мещан; но Разлюляев купил ее, конечно, по приказанию автора, потому не осуждаем его за это. Без особенной воли своего прихотливого повелителя, Разлюляев, конечно, нанял бы музыкантов, как всегда делают богатые гуляки из купеческого класса. Как он входит, начинается пение различных песен, ни к чему не ведущее в пьесе; между прочим, Гуслин, успевший в несколько минут положить на музыку песню Мити а Іа Koltzoff, разумеется, довольно плохую, поет ее и «во все время (по точным словам г. Островского) Разлюляев стоит как вкопанный и слушает с чувством. По окончании пения все молчат» — от глубокого чувства, по мнению г. Островского, а по нашему мнению оттого, что песня плохая и хвалить ее совестно, хоть на это и решается, наконец, Разлюляев; потом опять поэтическое трио принимается петь — за этим
застает их Гордей Карпыч и бранит (по нашему мнению, совершенно справедливо) Митю за то, что он не занимается своим делом. Но Разлюляев по уходе Гордея Карпыча соглашается с Митею, что его жизнь очень горька. Входит с подругами Аюбовь Гордеевна, предмет страсти поэтического Мити, и опять начинается ни к чему не ведущее пустословие и пенье песен. Наконец «начинается нить завязки романа»', как говорит Гоголь. Митя остается наедине с Любовью Гордеевною и объясняется ей в любви — каким бы вы думали способом? Читая ей «собственно для нее сочиненные стихи» о том, что
Понапрасну свое сердце парень губит,
Что иеровнюшку девицу парень любит.
Нам казалось бы еще правдоподобнее объяснение полуграмотного русского парня с безграмотною девушкою, если бы они принялись (по примеру Шатобриана, см. его «Замогильные записки») читать Ариосто, и на каком-нибудь патетическом месте их уста слились бы в поцелуй. Тогда Митя, рассказывая об этом Гус-лину, мог бы выказать понимание не только Кольцова, но и Данте, воскликнув:
Quel giorno vi non leggemo avante! 13.
На что Гуслин мог бы ему отвечать: «Эх, брат, тогда был счастлив, а теперь еще больше стал тосковать! Правду, Митя, говорит Данте:
Nessun maggior' dolore и т. д. 14
Разумеется, Любовь Гордеевна пишет Мите ответ и уходит, вручив его.
Конечно, скажете вы, пламенный Митя сейчас же прочитал решение своей судьбы? Г. Островский не считает этого нужным. К Мите приходит Любим Торцов, брат хозяина, и на восьми страницах повествует Мите свои приключения ‘(как будто бы Митя, столько времени живший с ним в одном доме, не слышал уже их от него тысячу раз, но в «Бедность не порок» все рассказывается, ни одно лицо не знает ничего из того, что давно должно знать), и Митя, с решительным ответом своей милой в кармане, имеет терпение, непостижимое ни для кого, кроме героев г. Островского, слушать битых полчаса его рассказы, не догадываясь даже отвернуться в сторону, чтобы взглянуть: «да» или «нет» написала ему Любовь Гордеевна. Надобно отдать справедливость Любиму Торцову, что рассказывает он превосходно; но рассказ его — ненужный для пьесы эпизод, как три четверти всех разговоров, рассказов и песен. Нам необходимо послушать вместе с Митею, что такое за человек Любим Торцов, который, по мнению некоторых,
Душе так прямо кажет путь
* (Москв Ситяний^>, 1854, -Nä 5) l5.
надобно посмотреть, что это за путь, по которому предлагается идти вслед за Любимом.
По смерти отца, разделившись с братом, поехал он повеселиться в Москву и повеселился так, что пропил все деньги.
«Как же вы жили, Любим Карпыч?» — спрашивает Митя, дослушавши похождения его до того времени, пока не осталось у него ни копейки денег.
«Как жил? Не дай бог лихому татарину. Жил в просторной квартире между небом и землей, ни с боков, ни сверху нет ничего… Есть ремесло хорошее, коммерция выгодная — воровать. Да не гожусь я на это дело: совесть есть; опять же и страшно: никто этой коммерции не одобряет. Говорят, в других землях за это по талеру платят, а у нас добрые люди по шеям колотят. Нет, брат, воровать скверно! Эта штука стара, ее бросить пора… Да ведь голод-то не тетка, надобно что-нибудь делать! Стал по городу скоморохом ходить, по копеечке собирать, шуга из себя разыгрывать, прибаутки рассказывать, артикулы разные выкидывать. Бывало, дрожишь с утра раннего в городе, где-нибудь за углом от людей хоронишься да дожидаешься купцов. Как приедет, особенно кто побогаче, выскочишь, сделаешь колено — ну и даст, кто пятачок, кто гривну. Что наберешь — тем и дышишь день-то, тем и существуешь».
Если подражать Любиму Торцову советуют в том, чтобы не заниматься коммерциею, которой никто не одобряет, то нет сомнения, что он полезный, хотя несколько обидный, образец для читателей. Ну, а если некоторые читатели подумают, что им предлагают идти к нравственной высоте путем Любима Торцова, т. е., пропившись, сделаться скоморохами и выкидывать артикулы по улицам? Воля ваша, они могут обидеться еще сильнее. Наконец, наш идеал — не трезвый, как всегда — засыпает, и Митя может прочитать записку, полчаса лежавшую у него в кармане.
«Читает: «И я тебя люблю. Любовь Торцова». Схватывает себя за голову и убегает».
Мы так подробно рассказывали первое действие, что, вероятно, читатели, утомленные даже сокращенною передачею всех этих неклеящихся с настоящим содержанием пьесы нескладиц и несообразностей, утомленные всеми этими наперсниками, прологами, монологами, в которых нет ни тени драматизма, попросят нас сократить рассказ о двух остальных действиях. С величайшею радостью исполняем их желание.
Две трети второго действия заняты святочным вечером, спраьляемым матерью Любови Гордеевны в отсутствие мужа. Все эти сцены с плясками, играми, песнями и так далее решительно лишние и не связаны с пьесою ничем, кроме воли автора. Наконец, приезжает Гордей Карпыч с Коршуновым, прогоняет наряженных, называя такие увеселения «мужичеством», и объявляет, что просватал дочь за Коршунова. Та умоляет отца не губить ее. Отец не хочет слушать, и простой святочный вечер обращается в помолвку. Но Любим Карпыч не дремлет: он в доме брата оскорбляет Коршунова, высчитывая в глаза ему все его мошенничества. Раздраженный'Коршунов требует, чтобы Гордей Карпыч1 извинился перед ним, что позволил обидеть его в своем доме. «Попросить прощенья, — говорит он нареченному тестю, — потому что другого жениха здесь твоей дочери нет». — «Врешь, — говорит Гордей Карпыч (заметьте, как натурально подведена развязка), — с деньгами, которые я за нею дам, всякий человек будет…» В эту самую минуту, неизвестно зачем, в дверях показывается Митя, который давно уже простился, чтобы уехать домой от горести по разлуке с Любовью Гордеевною… «Вот за Митьку отдам». Митя валится ему в ноги, жена (знающая о любви между Митею и дочерью) умоляет мужа исполнить свое слово; Гордей: в нерешимости; тогда опять является идеал человека, Любим, и в монологе, достойном автора шекспировской пьесы «Раздумье артиста» (см. Ералаш при II нумере Современника) 16, просит брата сжалиться над ним, отдать дочь за Митю, который даст ему приют и кусок хлеба. По обыкновенному порядку вещей вмешательство, даже одно появление Любима, который так жестоко уязвил гордость Гордея, обрамив его перед всеми и расстроив свадьбу, должно было бы безвозвратно испортить дело; но у г. Островского выходит не так: выслушав монолог брата, Гордей «утирает слезу» и говорит ему: «Ну, брат, спасибо, что на ум наставил!», и благословляет Митю и Любовь Гордеевну (как это правдоподобно!). Читатели теперь видят, что почти вся пьеса состоит из ряда несвязных и ненужных эпизодов, монологов и повествований; собственно для развития действия нужна разве только третья доля всего вставленного в пьесу. Чем это объяснить? Во-первых, небрежением автора к требованиям искусства — он, пови-димому, считает каждую написанную им строку драгоценностью, которая будет приятна читателям и в том случае, когда решительно ненужна и неуместна; во-вторых — и это едва ли не главное, — автор действительно прав до некоторой степени' с своей точки зрения, вставляя в свою пьесу по всевозможным поводам песни, пляски, игры: он пишет апотеозу старинного быта, каким представляется ему современный быт некоторой части купеческого общества; потому он старается выставить на вид все поэтические черты его; для этой цели он вставил в свою небольшую пьесу 16 или 17 песен (не считая того, что Разлюляев несколько раз поет «Ах, как гусара не любить», и несколько же раз поется «Одна гора высока»), выставил на сцене целый святочный вечер с переодеваньями, загадками, гаданьями и т. д., заставил действующих лиц ' раз десять плясать, и т. д., и т. д. Почему же, спросит нас автор, недовольны вы таким намерением? Не об намерении теперь мы говорим, а об исполнении. А исполняли вы свое намерение, нисколько не заботясь о целости и стройности вашего произведения, и написали не «комедию», не художественное целое, а что-то сшитое из разных лоскутков на живую нитку. «Бедность не порок» относится к тому же роду произведений, как «Мельник» Аблесимова 17 — она сборник народных песен и обычаев; разница только та, что у Аблесимова народные мотивы ловко введены в самое действие пьесы, а у вас приставлены к пьесе очень неловко и большею частью не имеют с нею никакой связи. Не говорим уже о том, что «Мельник» был первою пьесою, в которой услышала публика народные мотивы, — а ваша пьеса вовсе не новость в своем роде, когда мы видели на сцене весь ряд свадебных обрядов, а песни со сцены слушали уже десятки раз.
Недовольны будут читатели пьесою г. Островского еще по другой причине — гораздо важнейшей.
В ней правды нет, в ней жизни нет,
В ней фальшь, не вечное искусство '9,
говоря словами одного из восторженных ее поклонников. Коршунов мелодраматический злодей — это дурно; но еще хуже то, что все остальные лица (под конец пьесы даже злочинствующий сначала Гордей Карпыч) облиты тою патокою, с которою Егорушка пляшет на святочном вечере, припевая:
Ай патока, патока.
Вареная, сладка!
В особенном изобилии пролита она на Любима Торцова, который, по собственным словам (истинная скромность!), «пьяница, но лучше всех», и на Митю, подслащенных до совершенного искажения действительности. ’
Мы должны были бы сказать еще очень многое по поводу «Бедность не порок», но наша статья и без того слишком длинна. Отложим до другого случая то, что еще остается нам высказать о ложной идеализации устарелых форм. В двух своих последних произведениях 19 г. Островский впал в приторное прикрашиванье того, что не может и не должно быть прикрашиваемо. Произведения вышли слабые и фальшивые. Но, по нашему мнению, он, повредив этим своей литературной репутации, не погубил еще своего прекрасного дарования; оно еще может явиться попрежнему свежим и сильным, если г. Островский оставит гу тинистую тропу, которая привела его к «Бедность не порок». Пусть он не слушает восторженных и безотчетных похвал, пусть не увлекается стихотворными дифирамбами, в которых провозглашают его героем «Искусства и Правды», но пусть лучше строго подумает о том, что такое правда в созданиях искусства. В правде сила таланта; ошибочное направление губит самый сильный талант. Ложные по основной мысли произведения бывают слабы даже в чисто художественном отношении.
ОБ ИСКРЕННОСТИ В КРИТИКЕ1
В статье, написанной по случаю нового издания «Сочинений А. Погорельского» («Современник», № VI, библиография) 2, мы говорили о бессилии нынешней критики и указали на одну из главнейших причин этого грустного явления — уступчивость, уклончивость, мягкосердечие. Вот наши слова:
«Причина бессилия современной критики (между прочим) та, что она стала слишком уступчива, неразборчива, малотребовательна, удовлетворяется такими произведениями, которые решительно жалки, восхищается такими произведениями, которые едва сносны. Она стоит в уровень с теми произведениями, которыми восхищается: как же вы хотите, чтобы она имела живое значение для публики) Она ниже публики; такою критикою могут быть* довольны писатели, плохие произведения которых она восхваляет; публика остается ею столько же довольна, сколько теми стихами, драмами и романами, которые рекомендуются вниманию читателей в ее нежных разборах».
И мы заключили статью словами: «нет, критика должна стать гораздо строже, серьезнее, если хочет быть достойною имени критики». Мы указывали, как на пример того, какова должна быть истинная критика, на критику «Московского Телеграфа», и, конечно, не по недостатку лучших примеров. Но мы удерживались от всяких — не говорим указаний, даже от всяких намеков на те или другие статьи того или другого журнала, нежность, слабость которых ставит ныне в необходимость напоминать критике о ее правах, о ее обязанностях — и мы не хотели приводить примеров наверное уже не потому, чтобы трудно было набрать их сотни. Каждый из наших журналов за последние годы мог представить не мало материалов для таких указаний; разница была только в том, что один журнал мог представить их больше, другой — меньше. Поэтому нам казалось, что делать выписки из статей того или другого журнала значило бы только без нужды придавать полемический характер статье, писанной с намерением указать недостаток, общий до некоторой степени всем журналам, а вовсе не с целью попрекать тот или другой журнал. Мы считали излишним указывать примеры потому, что, желая, чтобы критика вообще вспомнила о своем достоинстве, мы вовсе не хотели ставить тот или другой журнал в необходимость защищать свои слабые стороны и через это прилепляться к прежним слабостям — известно, что, принужденный спорить, человек делается склонен увлекаться положениями, которые сначала защищал он, может быть, только по необходимости отвечать что-нибудь, и которых неосновательность или недостаточность он, может быть, готов был бы признать, если бы его не заставляли признаваться открыто. Одним словом, принятие общего принципа мы не хотели делать затруднительным ни для кого и потому не хотели затрогивать ничьего самолюбия. Но если кто-нибудь сам, без всякого вызова, провозглашает себя противником общего начала, кажущегося нам справедливым, то он уже ясно выразил, что не признает справедливости общего начала, а напротив.
После всех этих долгих оговорок и смягчений, очень ясно доказывающих, как глубоко прониклись духом нынешней критики и мы, восстающие против ее слишком мягких, мягких до неосязаемости приемов, можем приступить к делу и сказать, что «Отечественные Записки» недовольны прямотою некоторых наших отзывов о слабых, по нашему мнению, беллетристических произведениях, хотя и украшенных более или менее известными именами (ниже мы представим этот отзыв вполне), и что мы с своей стороны также не исключали довольно многих критических статей «Отечественных Записок» из общей массы робких и слабых критик, восставать против размножения которых мы считали и считаем настоятельною необходимостью. Цель нашей статьи вовсе не та, чтобы выставить на вид чужие мнения, а та, чтобы яснее изложить наши понятия о критике. И если примеры критики, несогласной, по нашему мнению, с истинными понятиями о серьезной критике, мы заимствуем из «Отечественных Записок», то вовсе не потому, чтобы мы желали упрекнуть в слабости критики исключительно «Отечественные Записки». Повторяем, что мы восстаем против слабости критики вообще: если бы она была слаба только в том или другом журнале, стоило ли бы так много хлопотать? Касаемся же мы преимущественно «Отечественных Записок», заимствуя исключительно из них примеры, потому что они взяли на себя труд защищать и хвалить «умеренную и спокойную критику» — где же, как не у защитника, и надобно искать истинных образцов защищаемого?
Вот, например («Отечественные Записки» 1853, № 10), разбор романа г. Григоровича «Рыбаки». Здесь главный предмет критики — рассмотрение вопроса о том, действительно ли можно ловить пискарей одинокому старику удочкою, а не бреднем (для которого нужны двое людей), и действительно ли можно видеть на Оке во время половодья ласточек, стрижей, дроздов и скворцов, или они прилетают не во время половодья, а несколькими
днями позже или раньше; одним словом, тут говорная не столько о романе, сколько о том,
Какая птица где живет,
Какие яйца несет 3.
Без всякого сомнения, говорить о недостатках и достоинствах романа с этой точки зрения можно и должно очень хладнокровно.
Вот еще разбор романа г-жи Т. Ч. «Умная Женщина» 4 («Отечественные Записки» 1853, № 12); сущность отзыва состоит в следующем:
«Вот сюжет «Умной женщины», одной из лучших повестей г-жи Т. Ч. Сколько в этом рассказе умного, нового и занимательного. Мы пропустили в рассказе всю прежнюю жизнь холостяка и умной женщины, жизнь которой занимает по крайней мере три четверти романа. Но эта жизнь до нас не касается».
Хорош и занимателен должен быть роман, в котором по крайней мере три четверти не стоит и читать.
Вот отзыв о другой повести того же автора (г-жи Т. Ч.) «Тени прошлого» («Отечественные Записки» 1854, № 1).
«Лицо, взятое автором, очень интересно; но для полной обрисовки его автор как будто пожалел красок, в которых у него нет недостатка (отчего же лицо бледно, если автор имеет дарование ярко обрисовывать лица?). Мы, кажется, не ошибемся, если скажем, что г-жа Т. Ч. мало заботилась о том, как воспользоваться сюжетом; достаточно прочесть выписанные нами сцены, чтобы убедиться, что она могла как нельзя лучше выполнить такую задачу».
Т. е. «автор не сладил с сюжетом; но не потому, что не мог сладить», ведь нельзя же прямо сказать: автор взял сюжет не по силам.
Действительно, такие отзывы состоят из «загадок», как и называет рецензент свой разбор «Умной Женщины», принимаясь за него («от рассуждения о литературе переходим к диссертации о старых холостяках и на их счет задаем читателю загадку. Пусть отгадает, кто может». Но, во-первых, никто не может разгадать ее; во-вторых, кому же и охота разгадывать критические разборы? Шарад и ребусов не требует от русских журналов ни один читатель).
Таковы же отзывы о стихотворениях г. Фета, о романе «Мелочи Жизни» 5 и т. д. Никто не отгадает, хороши или дурны, превосходны или несносно плохи эти произведения по мнению рецензентов. На каждую похвалу или порицание у них всегда готова совершенно равносильная оговорка или намек в противоположном смысле. Но нам нельзя утомлять читателей всеми этими примерами; ограничимся одним только отзывом о романе г-жи Тур «Три поры жизни» 6.
«Слабые стороны повестей и романов г-жи Тур стали вдруг ярче н заметнее» (вы ожидаете, что смысл этой фразы: г-жа Тур
стала писать хуже прежнего? нет), это «обстоятельство, в котором наша романистка должна винить не себя, а своих ценителей», потому что ее уже слишком много хвалили (вы думаете, что эта фраза значит: ее захвалили, она стала писать небрежно, перестала заботиться об исправлении своих недостатков? нет, вовсе нет), журнальные похвалы и порицания не могут возмущать собственного суждения автора о своем таланте, потому что «лучший критик для романиста — всегда сам романист» (вы думаете, что это относится к г-же Тур? нет, потому что) «женщина всегда зависит от чужого суда» и «в самой гениальной женщине не отыщется той беспристрастной самостоятельности», которая дает мужчине возможность не подчиняться влиянию критики; «на всякую даровитую женщину вредно действует восторг друга, комплимент вежливого ценителя», вследствие их «она дает своему таланту не самобытное направление, сообразное заблуждениям своих жарких приверженцев» (это ведет, по вашему предположению, к объявлению, что новый роман г-жи Тур несамостоятелен, что «она сочинила слова на чужой мотив»? нет), «в последнем романе г-жи Тур мы видим довольно много самостоятельности», «взгляд романистки на большую часть ее героев и героинь принадлежит ей собственно»; но эта самостоятельность «затемнена оборотами, очевидно зародившимися под чужим влиянием». (Вы думаете, что это недостаток? нет, не в этом он.) «В романе г-жи Тур недостает внешнего интереса сюжета, интриги событий» (итак, в нем нет интриги событий? нет, есть, потому что из слов рецензента) «не следует», чтобы «он принадлежал к разряду романов, в которых важнейшее событие — наем квартиры или что-нибудь в этом роде». Роман г-жи Тур незанимателен не по недостатку интриги, а потому, что «герой его, Огинский, не может занять читателей» (почему же? потому что он бесцветен? нет, потому что) «г-жа Тур не рассказала нам, как он служил, путешествовал, управлял своими делами» (но ведь это именно и погубило бы интригу, сюжет, которого вы требуете); Огинский три раза влюблен (вот целых три интриги, а вы говорили, что нет ни одной), а «жизнь мужчины состоит не из одной любви» (потому-то и надобно было рассказать о всех, ненужных для романа, подробностях службы и путешествий Огинского!). Лицо Огинского испортило роман; «он принес много несчастия произведению» (следовательно, это лицо в романе дурно? нет, хорошо, потому что он) «мог бы принести еще более несчастия произведению, если бы несомненный ум сочинительницы не исправлял дела везде, где можно» (хороша похвала! да зачем же выбран такой герой?). В истории всех трех нежных привязанностей Огинского «перед нами действует слабость, соединенная то с аффектацией, то с экзальтацией» (итак, роман испорчен аффектациею и экзальтациею? нет, напротив), «сочинительница питает к ним глубокое отвращение» (но если они изображены с отвращением, в истинном свете, то это достоинство,
а не недостаток). «Разговор жив», хотя «по временам испорчен научными выражениями»; и хотя «многие афоризмы1 и тирады, влагаемые даже в уста молодых девушек, кажутся нам достойными ученого трактата, а все-таки разговор представляет квинтэссенцию живой речи». — «Слог г-жи Тур может быть во многом исправлен к лучшему, если того будет угодно самой сочинительнице» (!!).
Вот до каких противоречий, колебаний доводит критику стремление к «умеренности», то есть к смягчению всех легких сомнений в абсолютном достоинстве романа, какие только позволяет себе на минуту предложить смиренный рецензент. Сначала он как будто бы хочет сказать, что роман хуже прежних, потом прибавляет: нет, я не это хотел сказать, а я хотел сказать, что в романе нет интриги; но и это я сказал не безусловно, напротив, в романе есть хорошая интрига; а главный недостаток романа тот, что неинтересен герой; впрочем, лицо этого героя очерчено превосходно; однако — впрочем, я не хотел сказать и «однако», я хотел сказать «притом»… нет, я'не хотел сказать и «притом», а хотел только заметить, что слог романа плох, хотя язык превосходен, да и это «может быть исправлено, если того будет угодно самому автору».
Какой отзыв можно сделать о подобных отзывах? Разве следующий, в том же роде: «Они очень подробно исчисляют сотни крупных достоинств, хотя с еще более крупными оговорками, впрочем, не без новых похвальных оговорок, и потому хотя в них сказано обо всем, но не сказано ничего; из этого, однако, не еле- ' дует, чтобы они были лишены достоинства, которого существование хотя и незаметно, однако, неоспоримо». Можно еще выразиться о них словами самих «Отечественных Записок» так: «что разумеют у нас под словом «критика»? — статью, в которой автор много наговорил, не сказав ничего». Можно- еще сказать, что к подобной критике вполне прилагается начало одного романса:
Не говори ни «да», ни «нет»,
Будь равнодушна, как бывала,
И на решительный ответ Накинь сомненья покрывало.
Но что особенно дурного сделает критика, если будет прямо, ясно и без всяких недомолвок высказывать свое мнение о достоинствах и даже (о, ужас!) недостатках литературных произведений, украшенных более или менее известными именами? Ведь этого именно и требуют от нее и читатели, и самая польза литературы!* За что ее будет можно упрекнуть в этом случае? Это скажут нам «Отечественные Записки»; эпиграфом к выписке мы возьмем слова также «Отечественных Записок», сказанные довольно давно:
«У нас еще надо толковать о таких простых и обыкновенных понятиях, о которых уже не толкуют ни в одной литературе 1.
«В последнее время о отзывах наших журналов о разных писателях привыкли мы встречать тон умеренный, хладнокровный, если же и читали подчас приговоры несправедливые, по нашему мнению, то самый тон статей, чуждый всякой запальчивости обезоруживал нас. Мы можем не соглашаться с мнением автора, но каждый вправе иметь свое собственное мнение. Уважение к чужому мнению — порука за уважение к нашему собственному. Все журналы не мало способствовали к обузданию рецензентов, ничего не принимающих во внимание, кроме своих личных мнений, желаний и часто выгод. Но мы должны признаться, что в последнее время некоторые рецензии «Современника» крайне удивили нас своею опрометчивостью суждений, ничем не доказанною. Взгляд, противоречащий тому, что недавно говорил еще сам «Современник», и несправедливость отзыва, обращенная к таким писателям, как г-жа Евгения Тур, г. Островский, г. Авдеев, придали какой-то странный вид библиографии «Современника» последних месяцев, поставленной в решительное противоречие с самой собою. Что она говорила год назад, то теперь отвергает положительнейшим образом. Еще другие мысли приходят в голову. Пока, например, в «Современнике» печатались повести г. Авдеева, журнал этот хвалил г. Авдеева; точно то же должно сказать об отзывах его об Евгении Тур. Или рецензент не справился с мнениями, прежде высказанными в этом журнале? или он знал их, но хотел отличиться резкой оригинальностью? Вот что, например, было сказано в «Современнике» Новым Поэтом в 1853 году в апрельской книжке, по поводу комедии г. Островского «Не в свои сани не садись» 8 (следует выписка; мы их будем здесь выпускать, потому что сличим и объясним их мнимую противоположность ниже). Одним словом, комедия расхвалена. Теперь посмотрите, что сказано о той же комедии и еще о другой, новой, «Бедность не порок» в библиографии майской книжки «Современника» 1854 года, то есть спустя один только год (выписка). Такие отзывы получил на свою долю г. Островский. Вот что сказано в той же книжке о последнем романе г-жи Евгении Тур «Три поры жизни» (выписка) 9. Можно ли так выражаться об авторе «Племянницы», «Ошибки», «Долга», если б даже новый роман г-жи Евгении Тур был и неудачен? Приговор несправедлив, потому что произведение талантливого писателя, как бы оно ни удалось, никогда ие может быть безусловно дурно; но странно встретить этот отзыв в «Современнике», где до настоящего времени о таланте г-жи Евгении Тур говорили совсем другое. Перечтите, например, что было сказано г. И. Т. в 1852 году о произведениях г-жи Евгении Тур 10 (выписка). Как кстати после этого приведенный нами выше отзыв о даровании г-жи Тур, где нет даже и слова о таланте этой писательницы! С какою горькою усмешкою должны после этого писатели смотреть на журнальные хвалы и порицания? Неужели критика игрушка? Но всего более несправедливый отзыв сделай в «Современнике» нынешнего же года о г. Авдееве, одном из лучших наших рассказчиков, которого прежде (когда г. Авдеев» печатал свои произведения в «Современнике») этот журнал в своих объявлениях о подписке и в своих обозрениях литературы всегда ставил наряду с первыми нашими писателями. Доказательств этому так много, что их трудно и перечислить. Возьмите, например, обзор литературы за 1850 год п, где исчисляются наши лучшие повествователи: там г. Авдеев поставлен наряду с Гончаровым, Григоровичем, Писемским, Тургеневым. Что же говорится в февральской книжке «Современника» за 1854 год? 12 (выписка). А не угодно ли, мы скажем вам то, что «Современник» говорил в 1Я51 году? 13 Но, может быть, рецензенту нет дела до мнений «Современника»? В таком случае рецензенту не мешало бы подписать свое имя под статьей, опровергающей мнение журнала, в котором он пишет. Мы ниже приведем, что говорил «Современник» в 1851 году, теперь выпишем еще одно место, поражающее своею иецеремонностью, далеко не фешенэбльною (выписка; в ней, как самые нефе-
шенэбльные выражения, подчеркнуты слова «Тамарин… показал в нем способности к развитию… Ни одна из его повестей не может назваться произведением человека мыслящего»). Позвольте, г. мысляіций рецензент, заметить вам, что, * кажется, вы понимаете мысль только тогда, когда она выражена в виде сентенций; иначе, как бы не видеть мысли хоть бы и в «ТамаршТе» (там рецензент был облегчен «Введением», где изложена мысль произведения) и в других повестях г. Авдеева? Но допустим, что в них нет новой мысли, пусть так. А какую особенную мысль рецензент найдет в «Обыкновенной истории» или во «Сне Обломова» г. Гончарова, в «Истории моего детства- г. Л. 14 — рассказах увлекательных? И наоборот: какую прелесть
г. рецензент найдет в драме г. Потехина «Гувернантка», где в основании лежит мысль умная, благородная? Отчего ж такое презрение к мастерскому рассказу, который виден во всех произведениях г. Авдеева? Вы говорите, что г. Авдеев исключительно является подражателем в своем «Тамарине» |5. Но мы заметим… Впрочем, зачем нам говорить? Об этом уже сказал свое мнение «Современник» в обозрении литературы за 1850 год. Вот оно (мы извиняемся перед читателем за длинные выписки, но полагаем, что читатель видит, как важны в этом случае цитаты из «Современника», который некогда хвалил, а теперь бранит тех же самых писателей) (выписка). Что после этого сказать об отзывах рецензента «Современника», рецензента, от которого этот журнал стал в такое странное положение относительно своих собственных мнений? Хвалить и отрицать всякое достоинство, говорить в одно время и да и нет, не значит ли это — не знать, что сказать о трех лучших наших писателях? Хотеть вычеркнуть из списка литераторов трех таких писателей, как гг. Островский, Евгения Тур и Авдеев, не значит ли брать на свои плечи тяжесть не по силам? И за что же такое нападение? Вопрос этот мы оставляем на разрешение самому читателю» 16,
Для чего мы выписали это длинное место? Мы желаем, чтобы оно послужило образцом того, до какой степени нынешняя критика позабывает иногда о самых элементарных началах всякой* критики. Наши замечания будут говорить только о таких понятиях, не сознавая которых решительно невозможно составить понятия о критике. А между тем, пробежав наши замечания, пусть потрудится читатель еще раз прочитать выписку: при всевозможном внимании не найдет он никакого следа того, что недовольный нами критик имел в виду эти понятия; они не отразились ни на одной фразе, ни на одном слове.
«Отечественные Записки» недовольны «Современником» за то, что он непоследователен, противоречит сам себе. Непоследовательность «Современника» состоит в том, что поежде он хвалил произведения гг. Островского, Авдеева и г-жи Тур, а теперь позволил себе сделать очень неблагоприятный отзыв о произведениях тех же самых писателей. Неужели же надобно объяснять, что такое последовательность? Вопрос действительно очень мудреный, едва ли не труднее примирения «да» и «нет» в одной статье об одной и той же книге; потому попробуем изложить его самым важным тоном.
Последовательность в суждениях состоит в том, чтобы о предметах одинаковых суждения были одинаковы. Например, в том, чтобы все хорошие произведения хвалить, все плохие, но полные претензий, одинаково осуждать. Напр., хваля «Героя нашего вре-
меня», хвалить и «Песню про Калашникова»; но отозваться о «Маскараде» так же, как о «Герое нашего времени», было бы непоследовательно, потому что хотя в заглавии «Маскарада» выставлено то же имя, как на «Герое нашего времени», достоинство втих произведений совершенно различно. Из этого осмелимся вывести правило: если хочешь быть последовательным, то смотри исключительно только на достоинство произведения и не стесняйся тем, хорошими или дурными находил ты прежде произведения того же самого автора; потому что одинаковы вещи бывают по существенному своему качеству, а не по клейму, наложенному на них.
От суждений об отдельных произведениях писателя мы должны перейти к общему суждению о значении всей литературной деятельности писателя. Последовательность, конечно, будет требовать: одинаково хвалить писателей, имеющих право на похвалу, и одинаково не хвалить не имеющих. С течением времени все изменяется; изменяется и положение писателей в отношении к понятиям публики и критики. Как же поступить, если справедливость потребует от журнала изменить суждение о писателе? Как, например, поступали «Отечественные Записки»? Было время, когда они очень высоко ставили Марлинского и проч., и мы не хотим упрекать их за то: общее мнение об этих писателях было тогда таково; потом общественное мнение о тех же самых писателях изменилось, может быть, оттого, что прошел первый пыл, что ближе и хладнокровнее всмотрелись в их произведения; может быть, оттого, что они сами стали писать не лучше и лучше, а хуже и хуже; оттого, говоря техническим языком, что они «не оправдали надежд» (выражение, имеющее в нашем языке почти столь же обширное применение, как занемог, умер ит.п.); может быть, оттого, что другие писатели затмили их — все равно, отчего бы то ни было, но мнение пришлось изменить, и оно было изменено. Неужели последовательность требовала продолжать поклоняться Марлинскому и другим? Какая же последовательность была бы в журнале, который бы считал себя обязанным, сначала бывши ратником за лучшее в литературе, потом сделаться ратником за худшее только из привязанности к именам? Такой журнал изменил бы себе. Не говорим уже о том, что он лишился бы своего почетного места в литературе, потерял бы всякое право на сочувствие лучшей части публики, подвергся бы общему осмеянию наравне с своими клиентами. В самом деле, вообразим себе, что «Отечественные Записки» в 1844 или 1854 году продолжали бы называть, как называли в 1839 году, лучшими нашими писателями авторов, признанных посредственными, какое место в литературе и журналистике было бы занимаемо этим журналом?
Мы осмелимся ожидать, что и в «Современнике» беспристрастными судьями будет почтено не виною, а — не хотим говорить достоинством — по крайней мере исполнением обязанности не отставать от мнения просвещенной части публики и требований справедливости, изменяющихся с течением времени, если «Современник», говоря о г. X или Z в апреле 1854 года, будет думать более о том, что по справедливости надобно сказать об этом писателе теперь, нежели заботиться о том, чтобы сколько возможно буквальнее переписать тот самый отзыв, который можно и должно было сделать о произведениях этого писателя в апреле 1853, 1852 или 1851 года. «Современник» надеется, что ему не поставят в вину равным образом и того, если последовательность понимает он как верность своим эстетическим требованиям, а не как слепую привязанность к стереотипным повторениям одних и тех же фраз о писателе, от самого его литературного отрочества до самой его литературной дряхлости. Что же делать, если писатель, «подававший надежды», заслуживавший симпатии лучшей части публики и ободрительных похвал критики, «не оправдал надежд», потерял право на симпатию и похвалы? «Говори, что надобно сказать теперь, а не то, что надобно было говорить прежде», и если твои приговоры — будут основаны на одних началах, ты будешь последователен, хотя бы сначала пришлось сказать тебе «да», а через год «нет». Совершенно другое дело, если приговор однажды произнесен на основании одних начал, а в другой раз па основании других — тогда мы будем непоследовательны, хотя бы в оба раза сказали одно и то же (например: «один роман г-жи NN хорош, потому что в нем видна, сквозь экзальтацию, искренняя теплота чувства; стало быть, и другой роман г-жи NN хорош, хотя в нем видна только приторная экзальтация»). Но говорится, как мы видим, не об этой измене принципам, а просто о неодинаковости суждений о разных произведениях одних писателей. Такое внешнее разноречие не всегда тяжкая вина; иногда от него зависит даже самая последовательность и достоинство журнала. Но достоинство или недостаток — изменение прежних приговоров сообразно изменению в достоинстве предметов, о которых произносится приговор, во всяком случае ни недостатков, ни достоинств нельзя признавать за собою, не рассмотрев, до какой степени справделиво они приписываются нам. Взглянем же, как велика на самом деле разница между прежними и нынешними мнениями «Современника» о гг. Островском, Авдееве и г-же Тур; действительно ли она ставит «Современник» в «решительное противоречие с самим собою». Противоречие отзывов «Современника» о комедии г. Островского «Не в свои санн не садись» заключается в том, что Новый Поэт, в апрельский книжке 1853 года, говорил:
«Комедия г. Островского имела блистательный и вполне заслуженный успех на двух сценах: петербургской и московской. В ней люди грубые, простые, необразованные, но с душою и с прямым здравым смыслом поставлены рядом с людьми полуобразованными. Автор очень ловко- воспользовался втим контрастом. Как прекрасны эти мужики в своей простоте и как жалок тот промотавшийся Вихорев. Все это превосходно и в высшей степени верно действительности. Русаков и Бородкин — это живые лица, взятые из жизни без всяких прикрас».
В февральской книжке 1854 года сказано:
«В двух последних произведениях г. Островский впал в приторное при-крашивание того, что не может и не должно быть прикрашиваемо. Произведения вышли слабые и фальшивые».
Противоречие между этими отдельными выписками решительное; но оно совершенно сглаживается, если мы прочитаем их в связи с тем, что им предшествует в той и другой статье. Новый Поэт рассматривает «Не в свои сани не садись» в отношении к другим произведениям нашего репертуара, говорит о превосходстве этой комедии перед другими, играющимися на Александрийской сцене, комедиями и драмами. Что касается до существенного достоинства «Не в свои сани не садись», Новый Поэт, кажется, довольно ясно высказывает свое мнение, прибавляя:
«Но, несмотря на это, все-таки в художественном отношении эта комедия не может быть поставлена наряду с первою его комедиею («Свои люди — сочтемся»). Вообще, «Не в свои сани не садись» — произведение, не выходящее из ряда обыкновенных талантливых произведений».
И так как статья из № II «Современника» нынешнего года сравнивает эту комедию, «не выходящую из ряда обыкновенных произведений», с истинно замечательным первым произведением г. Островского, то, называя ее «слабою», эта статья, кажется нам, не впадает в противоречие с Новым Поэтом, говорящим, что «Не в свои сани не садись» не может быть поставлено наряду с «Своими людьми». Одна сторона противоречия — о художественном достоинстве комедии — не существует. Остается другое противоречие: Новый Поэт назвал Бородкина и Русакова «живыми лицами, взятыми из действительности, без всяких прикрас»; через год «Современник» говорит, что г. Островский впал (в комедиях «Не в свои сани не садись» и в «Бедность не порок») «в приторное прикрашиванье того, что не должно быть прикрашиваемо, и комедии вышли фальшивыми». Здесь мы опять принуждены приняться за изложение элементарных начал и объяснить, во-первых, что в художественном произведении, общность которого проникнута самым фальшивым воззрением и которое поэтому до нестерпимости прикрашивает действительность, отдельные лица могут быть списаны с действительности очень верно н без всяких прикрас. Или не распространяться об этом? Ведь все согласны, что, например, так и случилось в «Бедность не порок»: Любим Торцов, беспутный пьяница с добрым, любящим сердцем — лицо, сходных с которым найдется в действительности очень много; а между тем «Бедность не порок» в целом — произведение в высшей степени фальшивое и прикрашенное; и — главным образом — фальшивость и прикрашенность вносятся в эту
комедию именно лицом Любима Торцова, которое, отдельно взятое, верно действительности. Это происходит оттого, что, кроме отдельных лиц, в художественном произведении бывает общая идея, от которой (а не от одних отдельных лиц) и зависит характер произведения. Есть такая идея и в «Не в свои сани не садись», но она еще довольно ловко прикрыта искусною обстановкою и потому не была замечена публикою: замечавшие фальшивость идеи в этой комедии надеялись (из любви к прекрасному таланту автора «Своих людей»), что эта идея — мимолетное заблуждение автора, может быть, даже неведомо от самого художника вкравшееся в его произведение; потому и не хотели говорить об этой прискорбной стороне без крайней необходимости; а необходимости не было, потому что идея, искусно спрятанная под выгодною обстановкою (противопоставлением Русакова и Бородкина Вихореву, пустейшему негодяю), не была замечена почти никем, не произвела впечатления и, следовательно, не могла еще иметь влияния; изобличать ее, казнить ее не было поэтому никакой еще надобности. Но вот явилась «Бедцость не порок»; фальшивая идея смело сбросила всякое прикрытие более или менее двусмысленною обстановкою, явилась твердым, постоянным принципом автора, была шумно провозглашена за животворную истину, была замечена всеми и, если не ошибаемся, произвела очень сильное неудовольствие во всей здравомыслящей части общества. «Современник» почувствовал обязанность обратить внимание на эту идею и дать, по мере возможности, выражение общему чувству. Заговорив о идее «Бедность не порок», «Современник» считал нелишним сказать два-три слова о прежних произведениях автора и, само собою разумеется, должен был сказать, что «Не в свои сани не садись» была предшествеником «Бедность не порок», чего, конечно, не будет ныне отрицать никто; идея «Не в свои сани не садись», теперь объясненная для всех читателей последнею коме-диею г. Островского, уже не могла быть пройдена молчанием, как это возможно было прежде, когда она не имела никакого значения для публики, и к прежнему отзыву о верности некоторых лиц комедии (чего и не думал отрицать разбор «Бедность не порок») пришлось прибавить, что идея комедии фальшива17.
Что касается до отзывов «Современника» о г. Авдееве и г-же Тур, то противоречие исчезает даже без всяких объяснений — стоит только сличить мнимо противоречащие отзывы. «Современник» находил изрядным ромзн г-жи Тур «Племянницу» и находит дурным через три года написанный ею роман «Три поры жизни», ни слова не говоря о других произведениях этой писательницы; где же тут противоречие? Выписки из последнего отзыва не представляем по решительной ненужности ее для объяснения дела; просмотрев № V «Современника» за нынешний год, читатели могут убедиться, что наша рецензия последнего романа не говорит ни одного слова о «Племяннице», «Долге», «Ошибке»
и потому не может никаким образом противоречить какому бы то ни было отзыву об этих произведениях. Остается только попросить читателей взглянуть на статью о «Племяннице» (№ I «Современника» за 1852 г.); просмотрев ее, читатели увидят, как много и тогда уже «Современник» принужден был говорить о недостатках таланта г-жи Тур; правда, в этой статье сказано, что есть сходство между хорошими сторонами таланта г-жи Тур и талантом г-жи Ган и что «блестящие надежды, возбужденные г-жею Тур, оправдались настолько, что перестали быть надеждами и сделались достоянием нашей литературы», но эти похвалы (более снисходительные и деликатные, нежели положительные, как убеждает весь тон статьи) далеко перевешиваются местами, подобными следующему:
«У нее (г-жн Тур), по поводу истин, всем известных, является тон полувосторженный, полупоучнтельнын, как будто она сама только что их открыла, но и это может статься. Но и это можно извинить. Таланта, того независимого таланта, о котором мы говорили в начале статьи, в г-же Тур или нет, или очень мало; ее талант лирический… неспособный создавать самостоятельные характеры и типы. Слог г-жи Тур небрежен, речь ее болтлива, почти водяниста… Неприятно нам было встречать на иных страницах «Племянницы» следы реторикн, что-то такое, от чего пахло «Собранием образцовых сочинений», какие-то претензии на сочинительство, на литературные украшения» («Современник», 1852 г., № 1, Критика, статья г. И. Т.).
Спрашиваем, что к этим упрекам прибавлено нового в отзыве о «Трех порах жизни»? Ровно ничего; вместо обвинения в противоречии, скорее можно было обвинять рецензента этого последнего романа в том, что он слишком пропитался статьею г. И. Т. Правда, рецензент не мог повторить тех похвал, которыми смягчены упреки в статье г. И. Т., но что же делать? Достоинства «Племянницы» померкли до незаметности, а недостатки развились до крайности в «Трех порах жизни».
Но более всего «Отечественные Записки» недовольны отзывом «Современника» о сочинениях г. Авдеева («Современник» 1854, № 2). Этим отзывом «Современник» стал в «самое странное противоречие с самим собою, потому что (признаемся, это «потому что» очень трудно понять) теперь «Современник» говорит, что у г. Авдеева замечательный талант рассказчика, а прежде «причислял г. Авдеева к нашим лучшим повествователям», именно, в 1850 году говорил:
«В первых произведениях г. Авдеева найдем явные признаки таланта (досадная осторожность! почему бы не сказать «блестящий талант»? нет, только «признаки» его). Лучшим доказательством, что г. Авдеев силен не одною подражательною способностью (а! так уж и до 1850 года находили,* что г. Авдеев пока силен только подражательною способностью!), послужила идиллия г. Авдеева «Ясные дни». Эта повесть очень мила, в ней много теплого, искреннего чувства (а ясности понятий о мире и людях много? Вероятно, нет, если это достоинство не выставлено на вид, — а рецензия, которою недовольны «Отеч. Записки», нападает на этот недостаток). Прекрасный язык, которым постоянно пишет г. Авдеев, вероятно, замечен самими читателями».
Попросим читателя просмотреть разбор, который будто бы противоречит этому отзыву, — и мы не знаем, найдут ли читатели, не говорим, противоречия, а хоть какое-нибудь разногласие в нем с этою выпискою из прежнего отзыва. Прежде «Современник» причислял г. Авдеева к лучшим нашим повествователям, — но и последняя рецензия начинается именно словами: «Г. Авдеев милый, приятный рассказчик» и т. д. в этом роде; на следующей странице (41-й) опять читаем: «Г. Авдеев — полная честь ему за это — хороший, очень хороший- рассказчик»; после многократных повторений той н$е фразы, кончается рецензия словами (стр. 53): «он обнаружил несомненный талант рассказчика»… и предположением, что, при соблюдении известных условий18, «он даст нам много истинно прекрасного» (самые последние слова рецензии). Прежний отзыв говорит, что в «Ясных днях» нет подражания — и последняя рецензия не думает подвергать этого сомнению; прежний отзыв не думает отрицать, что «Тамарин» подражание; и последняя рецензия доказывает это; прежний отзыв видит в «Ясных днях» теплоту чувства — и последняя рецензия не подвергает это ни малейшему сомнению, называя лица этой идиллии «любимцами» г. Авдеева, людьми, ему «милыми». Нам кажется, что противоречия во всем этом нет ни капли. Нам кажется даже, что скорее можно обвинить последнюю рецензию в слишком щепетильном изучении прежних отзывов, точно так же, как можно обвинить и разбор романа г-жи Тур «Три порц жизни» в слишком близком сходстве с статьею г. И. Т. о «Племяннице».
Одним словом, всякий, кто внимательно сличит с прежними. отзывами «Современника» рецензии, которыми так недовольны иные, найдет между этими рецензиями и прежними отзывами не противоречие, а самую обыкновенную между статьями одного и того же журнала одинаковость во взгляде. И хотя очень приятно было бы «Современнику» как можно чаще давать своим читателям статьи, отличающиеся новостью взгляда, но он должен признаться, что этим-то именно достоинством всего менее отличаются рецензии, вызвавшие неудовольствие. И мы свое элементарное изложение понятий о последовательности должны заключить ответом, какой делали в свое время сами «Отечественные Записки» на подобные неудовольствия против них за новизну, будто бы, мнений о значении разных знаменитостей нашей литературы, именно: «Мнения, о которых идет речь, «не новы и не оригинальны»19,—особенно для читателей «Современника». Чем же они могли привлечь на себя нерасположение?» Неужели тем, что высказаны прямо, без обиняков, недомолвок и оговорок? Не тем ли, что, сказав: «Тамарин» — подражание», мы не прибавили, по обыкновению, укореняющемуся с некоторого времени в нашей критике: «впрочем, мы этим не хотим сказать, что г. Авдеев в «Тамарине» был подражателем; мы находим в этом романе много самостоятельного и с тем вместе прекрасного», и т. д.; сказав;
«Три поры жизни» — экзальтированный роман без всякого содержания», не прибавили: «впрочем, в нем очень много светлого и спокойного понимания жизни и еще больше многозначительных идей, свидетельствующих о том, что автор недаром думал о многом»? и не тем ли, что не прибавили к этому общих мест о «несомненных дарованиях», о том, что разбираемые книги «составляют отрадное явление в русской литературе», и т. д. Если так, то ответ на это уже есть готовый в «Отечественных Записках»: «В нашей критике заметно владычество общих мест, литературное низкопоклонничество живым и мертвым, лицемерство в суждениях. Думают и знают одно, а говорят другое» 20. Напомнив это место, мы перейдем к изложению «самых простых и обыкновенных понятий» о том, что такое критика и до какой степени она должна быть уклончива и может обходиться без прямоты, — перейдем к учению о том, до какой степени хорошо делает критика, когда, по выражению «Отечественных Записок», говорит «голосом обезоруживающим», даже при несправедливости, своею смиренностью.
II
Полемическая форма в нашей статье — только средство заинтересовать сухим и слишком незамысловатым предметом тех, которые не любят сухих предметов, как бы они важны ни были, и считают ниже своего достоинства обращать хоть от времени до времени к размышлению о простых вещах свое внимание, постоянно занятое «живыми и важными» вопросами искусства (например, о том, как велико достоинство какого-нибудь дюжинного романа). Теперь мы можем оставить эту форму, потому что читатель, пробежавший более половины статьи, вероятно, не оставит без внимания и ее окончания. Мы будем прямо излагать основные понятия, напомнить о которых мы считали нужным.
Критика есть суждение о достоинствах и недостатках какого-нибудь литературного произведения. Ее значение — служить выражением мнения лучшей части публики и содействовать дальнейшему распространению его в массе. Само собою разумеется, что эта цель может быть достигаема сколько-нибудь удовлетворительным образом только при всевозможной заботе о ясности, определенности и прямоте. Что за выражение общественного мнения — выражение обоюдное, темное? Каким образом дает критика возможность познакомиться с этим мнением, объяснить его массе, если сама будет нуждаться в пояснениях и будет оставлять место недоразумениям и вопросам: «да что же вы думаете в самом-то деле, г. критик? да в каком же смысле надобно понимать то, что говорите, г. критик?» Поэтому критика вообще должна, сколько возможно, избегать всяких недомолвок, оговорок, тонких и темных намеков и всех тому подобных околичностей, только мешающих прямоте и ясности дела. Русская критика не должна быть похожа на щепетильную, тонкую, уклончивую и пустую критику французских фельетонов; эта уклончивость и мелочность не во вкусе русской публики, нейдет к живым и ясным убеждениям, которых требует совершенно справедливо от критики наша публика. Следствия уклончивых и позолоченных фраз всегда были и будут у нас одинаковы: сначала эти фразы вводят в заблуждение читателей, иногда относительно достоинства произведений, всегда относительно мнений журнала о литературных произведениях; потом публика теряет доверие к мнениям журнала; и потому все наши журналы, желавшие, чтобы их критика имела влияние и пользовалась доверием, отличались прямотою, неуклончивостью, неуступчивостью (в хброшем смысле) своей критики, называвшей все вещи — сколько то было возможно — прямыми их именами, как бы жестки ни были имена. Приводить примеры считаем излишним: одни в памяти у всех, другие мы напомнили, говоря о старых разборах сочинений Погорельского21. Но как же надобно судить о резкости тона? Хороша ли она? даже позволительна ли она? Что отвечать на это? c’est selon 22, каков случай и какова резкость. Иногда без нее не может обойтись критика, если хочет быть достойною имени живой критики, которую, как известно, может писать только живой человек, то есть способный проникаться и энтузиазмом, и сильным негодованием, — чувства, которые, как тоже всем известно, изливаются не в холодной и вялой речи, не так, чтобы никому от их излияния не было ни тепло, ни холодно. Примеры указывать опять считаем излишним уже и потому, что у нас есть пословица: «кто старое вспомянет, тому глаз вон». А для осязательного доказательства, как необходима иногда бывает в живой критике резкость тона, предположим такой случай (еще не из самых важных). Та манера писать, которая была изгнана из употребления едкими сарказмами дельной критики, начинает опять входить в моду вследствие различных причин, между прочим, и ослабления критики, быть может, уверенной, что цветистое пустословие не может оправиться от нанесенных ему ударов. Вот опять, как во времена Марлинского и Полевого, появляются на свет, читаются большинством, одобряются и ободряются многими литературными судьями произведения, состоящие из набора реторических фраз, порожденные «пленной мысли раздраженьем» 23, ненатуральною экзальтациею, отличающиеся прежнею приторностью, только с новым еще качеством — шаликовскою грациозностью, миловидностью, нежностью, мадри-гальностью; появляются даже какие-то новые «Марьины рощи» с Усладами 24; и эта реторика, оживши в худшем виде, опять угрожает наводнить литературу, вредно подействовать на вкус большинства публики, заставить большинство писателей опять забыть о содержании, о здоровом взгляде на жизнь, как существенных достоинствах литературного произведения. Предположив такой случай (а бывают еще более горькие), спрашиваем: обязана ли критика вместо изобличений писать мадригалы этим хилым, но опасным явлениям? или она может поступать в отношении к новым болезненным явлениям так, как в свое время было поступаемо относительно подобных явлений, и без околичностей говорить, что в них нет ничего хорошего? 25 Вероятно, не может. Почему же? Потому что «талантливый автор не мог написать дурного сочинения». Да разве Марлинский был талантлив менее нынешних эпигонов? Разве «Марьину рощу» написал не Жуковский? А скажите, что хорошего в «Марьиной роще»? И за что можно похвалить произведение без содержания или с дурным содержанием? «Но оно написано хорошим языком». За хороший язык можно было прощать жалкое содержание тогда, когда главною потребностью нашей литературы было выучиться писать не тарабарским языком. Восемьдесят лет тому назад было особенною честью для человека знание орфографии; и действительно, тогда кто умел ставить на месте букву Ѣ, тот по справедливости мог назваться образованным человеком. Но не совестно ли было бы теперь знание правописания ставить в особенную заслугу кому-нибудь, кроме Вити 2б, выведенного г. Островским? Писать дурным языком— теперь недостаток; уменье писать недурно теперь не составляет особенного достоинства. Припомним выписанную нами в статье о Погорельском фразу «Телеграфа»: «Неужели за то прославляют «Монастырку» 21, что она гладенько написана?», и оставим составителю «Памятного листа ошибок в русском языке» 28 приятную и многотрудную обязанность выдавать похвальные листы за искусство писать удовлетворительным языком. Эта раздача отняла бы слишком много времени у критика, да и вовлекла бы в слишком большие расходы на бумагу: сколько стоп потребовалось бы для похвальных листов, если награждать всех достойных?
Возвратимся, однако, к вопросу о резкости отзывов. Позволительна ли неподслащенная прямота осуждения, когда дело идет о произведении «известного» писателя? — Неужели вы хотите, чтобы позволялось «нападать разве уже на самого круглого и беззащитного сироту»? Разве во всеоружии бранном, с калеными стрелами сарказма итти на бой против какого-нибудь бедного Макара, на которого все шишки валятся? Если так, отдайте же свое критическое кресло тем гоголевским господам, которые «хвалят Пушкина и с остроумными колкостями говорят об А. А. Орлове». — Да, виноваты; мы начали писать неясно и неубедительно; мы позабыли о своем намерении — всегда начинать с самого начала. Пополняем опущение. Критика, достойная своего имени, пишется не для того, чтобы господин критик щеголял остроумием, не для того, чтобы доставить критику славу водевильного куплетиста, возвеселяющего публику своими каламбур-цами. Остроумие, едкость, желчь, если ими владеет критик,
должны служить ему орудием для достижения серьезной пели критики— развития и очищения вкуса в большинстве его читателей, должны только давать ему средство соответственным образом выражать мнения лучшей части общества. А разве общественное мнение интересуется вопросами о достоинстве писателей, никому неизвестных, никем не почитаемых за «прекрасных писателей»? Разве лучшая часть общества возмущается тем, что какой-нибудь ученик Федота Кузмичева или А. А. Орлова написал новый роман в четырех частях по 15 страничек каждая? Разве «Любовь и верность» или «Страшное место» (см. Библиографию этой книжки «Современника»), или «Похождения Георга милорда английского» 29 портят вкус публики? Если хотите, изощряйте и над ними свое остроумие, но помните, что вы занимаетесь в таком случае «журнальным пересыпаньем из пустого в порожнее», а не критикою. «Но строгим осуждением может огорчиться автор» — это другое дело; если вы человек, не любящий огорчать ближнего, то не нападайте уже ни на кого, потому что и малоизвестного автора столько же, сколько самого знаменитого, огорчит указание недостатков его литературного детища. Если вы думаете, что говорить кому-нибудь неприятное нельзя ни в каком случае, ни для какого блага, то положите на уста ваши палец молчания или откройте их за тем, чтобы доказывать, что всякая критика вредна, потому что всякая кого-нибудь огорчает. Но не торопитесь осуждать безусловно всякую критику. Каждый согласится, что справедливость и польза литературы выше личных ощущений писателя. А жар нападения должен быть сдразмерен степени вреда для вкуса публики, степени опасности, силе влияния, на которые вы нападаете. Следовательно, если перед вами два романа, отличающихся фальшивою вкзальтациею и сантиментальностью, и один из них носит имя неизвестное, а другой — имя, пользующееся весом в литературе, то на который вы должны напасть с большею силою? На тот, который более важен, т. е. вреден для литературы. Перенесемся за шестьдесят лет назад. Вы немецкий критик. Перед вами лежит превосходная в художественном отношении, но приторная «Hermann und Dorothea» 30 Гёте и какая-нибудь другая идиллическая поэма какого-нибудь посредственного писаки, довольно складно написанная и столько же приторная, как «художественно-прекрасное создание» великого поэта. На которую из этих двух поэм должны вы напасть со всем жаром, если вы считаете (как всякий умный человек) приторное идеальни-чанье очень вредною для немцев болезнью? И которую поэму вы можете разобрать уступчивым, мягким и, может быть, даже ободрительным тоном? Одна из них пройдет незамеченною, безвредною, несмотря на ваш уступчивый отзыв; другая вот уже 57 лет восхищает немецкую публику. Очень хорошо поступили бы вы, если б, бывши немецким критиком шестьдесят лет тому назад, излили всю желчь негодования на эту вредную поэму, отказались бы на время слушаться мягких внушений вашего глубокого уважения к имени того, кто был славою немецкого народа, не побоялись бы упреков в запальчивости, в опрометчивости, в неуважении к великому имени и, холодно и коротко сказав, что поэма написана очень хорошо (на это найдутся сотни перьев и кроме вашего), как можно яснее и резче напали бы на вредную сантиментальность и пустоту ее содержания, постарались бы, насколько сил ваших достает, доказать, что поэма великого Гёте жалка и вредна по содержанию, по направлению. Говорить о произведении Гёте таким образом было бы, конечно, не легко для вас: и вам самим горько восставать на того, кого хотели бы вы вечно прославлять, и дурно подумают о вас многие. Но что же делать? Того требует от вас обязанность.
Какой патетический тон! мы забыли, что Гёте между нашими литераторами давно уже не отыскивалось, следовательно, русской современной критике приходится говорить только о таких писателях, которые более или менее близки к простым смертным, и, вероятно, геройской решимости вовсе не нужно для того, чтобы осмелиться, когда кто-нибудь из них напишет плохое произведение, назвать произведение плохим без всяких околичностей и оговорок, а когда кто-нибудь выскажет это мнение, то не огорчаться его ужасным дерзновением.
Потому нам кажется, что если находить недостатки, напр., в рецензии «Современника» о «Трех порах жизни», то надобно было бы выставлять на вид не то, что знаменитый автор этого романа стоит выше критики, а, напротив, разве уже то, что едва ли стоило много толковать о такой книге, которой, по всей вероятности, вовсе не суждено наделать шуму в публике. И нам кажется, что читатели могли быть не совсем довольны нашею длинною рецензиею за ее длинноту; они могут думать, что было бы гораздо лучше и было бы совершенно достаточно ограничиться двумя-тремя словами, напр., хоть только теми, которые выписывают «Отечественные Записки» (в «Трех порах» нет ни мысли, ни правдоподобия в характерах, ни вероятности в ходе событий; есть только страшная аффектация, представляющая все как-раз навыворот против того, как бывает на белом свете. Над всем этим господствует неизмеримая пустота содержания); но «Современник» вовсе не потому и распространялся об этом романе, что роман сам по себе стоит большого внимания, — нам казалось, что он заслуживает некоторого внимания, как один из многих подобных ему аффектированных романов, число которых размножилось в последнее время очень заметно. Что входит в моду, то должно подвергнуться ближайшему рассмотрению уже по этому обстоятельству, хотя бы и не заслуживало того по своему существенному значению. И это подает нам случай пожалеть о том, что в последние годы наша литература развивалась слишком медленно; а как значительно бывало прежде развитие ее в течение пяти-шести лет! Но, скажите, на много ли ушла она вперед со времени появления «Племянницы», «Тамарина» и, особенно, прекрасного произведения г. Островского «Свои люди — сочтемся»? И по этому-то самому застою литературы суждения «Современника» о г. Авдееве и г-же Тур в 1854 году не могли значительно разниться от — мнений его об этих писателях в 1850 году. Мало изменилась литература, мало изменилось и положение писателей в литературе.
А все-таки застой в литературе был не совершенный — некоторые писатели (например, г. Григорович, с которым иные продолжают ставить наряду г. Авдеева, как ставили прежде) двинулись вперед, заняли в литературе гораздо более видное место, нежели в 1850 году; другие, например, г-жа Тур, еще значительнее подвинулись назад; третьи, немногие, как г. Авдеев, остались совершенно на прежнем месте; следовательно, прежние ряды уже расстроились, образовались новые. И теперь^ для всякого читателя показалось бы смешно, если бы стали ставить наряду, например, с г. Григоровичем г. Авдеева и тем более г-жу Тур. До некоторой степени понятия об этих последних изменились. И разве (будем говорить только Q г. Авдееве), разве каждый читатель не скажет теперь, что при появлении первых произведений г. Авдеева должно было надеяться от него гораздо большего, нежели до сих пор он мог произвести? Разве не всякий говорит, что до сих пор он «еще не оправдал надежд»? а прошло уже лет пять или шесть, он написал уже пять или шесть повестей, пора было бы оправдать эти надежды. И если от него надобно действительно ожидать чего-нибудь лучшего (надежда, которую мы разделяем и которую выразили в своей статье), то не пора ли, не давно ли уже пора обратить внимание «действительно даровитого» рассказчика на то, что до сих пор он еще ничего не сделал для упрочения своей известности? Когда он издает все свои произведения за пять или за шесть лет, не должно ли обратить его внимание на существенные недостатки всех его произведений (отсутствие мысли и безотчетность, с какою разливает он свое теплое чувство)? К счастию, исправить эти недостатки «он может, если ему будет угодно» (счастливое выражение!), потому-то и надобно яснее выставить их ему на вид — это может быть небесполезным. Другое дело коренная испорченность (истинного или предполагаемого?) таланта — этому едва ли можно пособить, как ни указывай недостатки; потому-то в одной из трех рецензий (не о «Тамарине» или «Бедность не порок»), о которых идет речь, «Современник» и не высказал никаких надежд. Но недостатки, которыми страждет таланіг г. Авдеева, могут исчезнуть, если он этого серьезно захочет, оттого, что лежат не в сущности его дарования, а в отсутствии тех необходимых для плодовитого развития таланта качеств, которые не даются природою, как дается талант; которые даются иному тяжелым опытом жизни, иному наукою, иному обществом, в котором он живет; на эти условия «Современник»
старался обратить внимание г. Авдеева всею своею рецензиею и по возможности ясно вдосказал их в конце. Жалеем, что не можем начать толковать о них здесь, отчасти уже и потому, что это значило бы повторять сказанное очень еще недавно. Но все толки об этих «простых и обыкновенных понятиях, о каких уже не толкуют ни в одной литературе», приводят нас к тому, чтобы сказать два-три слова о том, что такое «мысль» — понятие, приводящее в недоумение некоторых, конечно, очень немногих, и о котором поэтому считаем достаточным сказать только два-три слова, не распространяясь относительно предмета столь общеизвестного.
«Что такое «мысль» в поэтическом произведении?» Как бы это объяснить просто и коротко? Вероятно, всякому случалось замечать разницу между людьми, разговор которых приходилось ему слышать. Просидишь два часа с иным человеком — и чувствуешь, что провел время недаром; находишь по окончании беседы, что или узнал что-нибудь новое, или стал яснее смотреть на вещи, или стал больше сочувствовать хорошему, или живее оскорбляться дурным, или чувствуешь побуждение подумать о чем-нибудь. После иной беседы ничего такого не бывает. Поговоришь, кажется, столько же времени и, кажется, о тех же самых предметах, только с человеком другого разбора, — и чувствуешь, что из его рассказов не вынес ровно ничего, все равно, как будто бы занимался с ним не разговором, а пусканьем мыльных пузырей, все равно, как будто бы и не говорил. Неужели надобно объяснять, почему это так? потому, что один собеседник либо человек очень образованный, либо человек, видавший многое на своем веку и видавший не без пользы для себя, «бывалый» человек, либо человек, призадумывавшийся над чем-нибудь; а другой собеседник — то, что называется «пустой» человек. Неужели должно пускаться в доказательства и объяснения, что книги разделяются на такие же два разряда, как и разговоры? Одни бывают «пустые», — иногда с этим вместе и надутые, — другие «непустые»; и вот о непустых-то и говорится, что в них есть «мысль». Мы думаем, что если позволительно смеяться над пустыми людьми, то, вероятно, позволительно смеяться и над пустыми книгами; что если позволительно говорить: «не стоит вести и слушать пустых разговоров», то, вероятно, позволительно и говорить: «не стоит писать и читать пустых книг».
Прежде постоянно требовалось от поэтических произведений «содержание»; наши нынешние требования, к сожалению, должны быть гораздо умереннее, и потому мы готовы удовлетвориться даже и «мыслью», т. е. самым стремлением к содержанию, веянием в книге того субъективного начала, из которого возникает «содержание». Впрочем, быть может, надобно объяснять, что такое «содержание»? Но мы ведь пишем о многотрудных вопросах, а ученые трактаты не могут обходиться без цитат. Потому напомним слова «Отечественных Записок»:
«Иной, пожалуй, скажет, что эти слова употреблялись еще в «Вестнике Европы», в «Мнемознне», в «Атенее» и проч., были всем понятны назад тому лет двадцать и не возбуждали ничьего ни удивления, ни негодования. Увы! что делать! До сих пор мы жарко верили ходу вперед, а теперь приходится нам поверить движению назад» 31.
Хуже всего в этом отрывке то, что он совершенно справедлив. Поэтому жалеем, что «Обыкновенная история» и «Тамарин» или «Ясные дни» явились не за двадцать лет назад: тогда поняли бы, какое огромное различие между этими произведениями. Поняли бы, конечно, и то, что в основании драмы г. Потехина «Гувернантка» (т. е. «Брат и сестра»?) лежит мысль фальшивая и аффектированная, как это, впрочем, уже и было доказано «Современником».
Возвратимся, однако, опять к «резкости» тона. Мы говорили, что во многих случаях это единственный тон, приличный критике, понимающей важность предмета и не холодно смотрящей на литературные вопросы. Но мы также сказали, что резкость бывает разных родов и до сих пор говорили только об одном случае, — том, когда резкость тона происходит оттого, что мысль справедливая выражается прямо и по возможности сильно, без оговорок. Другое дело — неразборчивость в словах; ее, разумеется, нехорошо позволять себе, потому что быть грубым значит забывать собственное достоинство. Мы не думаем, чтобы в этом могли упрекнуть нас, потому что вот каково самое жесткое из выражений, подчеркнутых за «нецеремонность, далеко не феше-нэбльную»: *
«Тамарин» заставил нас ожидать от г. Авдеева нового и лучшего, показав в нем способность к развитию; но ни одна из его изданных до енх пор повестей не может еще назваться произведением человека мыслящего».
Едва ли эти слова осудят и гоголевские дамы, говорящие: «обойтись посредством платка»; но уже ни в каком случае не должен «поражаться» ими тот, кто сам тут же позволяет себе выражения, гораздо менее фешенэбльные. Да, нехорошо быть неразборчивым на слова; но все еще это гораздо простительнее, нежели позволять себе темные намеки, заподозревающие искренность того, кем вы недовольны. Их мы не советовали бы употреблять никому, оттого, что они, именно по своей темноте, прилагаются ко всему; и если, например, «Отечественные Записки» намекнут, что «Современник» несправедлив к г. Авдееву и г-же Тур потому, что произведения этих писателей не печатаются более в «Современнике», то как легко (удержимся от других намеков) объяснить этот намек такою фразою: «Отечественным Запискам» мнения «Современника» о г. Авдееве и г-же Тур кажутся несправедливыми потому, что эти авторы печатают ныне свои произведения в «Отечественных Записках». Но лучше оставить все подобные мелочи, решительно смешные: неужели «Отечественные Записки» перестали хвалить г. Бенедиктова потому, что
произведения этого поэта, украшавшие первые нумера журнала, потом перестали появляться в «Отечественных Записках»? Неужели не ясно для всякого, что могло не быть между этими фактами никакой связи, что, наконец, дело могло быть и наоборот? Оставим это. Критика не Должна быть «журнальною перебранкою»; она должна заняться делом более серьезным и достойным — преследованием пустых произведений и, сколько возможно, обличением внутренней ничтожности и разладицы произведений с ложным содержанием.
И в каком бы журнале ни встречал «Современник» критику с подобным стремлением, он всегда рад встречать ее, потому что потребность в ней действительно сильна.
О ПОЭЗИИ Сочинение Аристотеля. Перевел, наложил и объяснил Б. Ордынский. Москва. 18541
Г. Ордынский заслуживает полного одобрения и благодарности за то, что предметом своего рассуждения избрал «Пиитику» Аристотеля: это первый и капитальнейший трактат об эстетике, служивший основанием всех эстетических понятий до самого конца прошедшего века 2. Но точно ли его выбор удачен? Ныне довольно много найдется людей, не считающих эстетики наукою, заслуживающею особенного внимания, готовых даже сказать, что эстетика ни к чему не ведет и ни на что не нужна и что пустоту ее мешает видеть разве только темнота ее. Но, с другой стороны, едва ли из этих многих найдется хоть одцр, который бы не говорил с улыбкою сострадания о Лагарпе, что «у этого действительно умного и ученого историка литературы нет никаких прочных и определенных оснований для оценки писателей», и который бы не примолвил с сожалением о Мерзлякове, что «этот критик, действительно замечательный по тонкости вкуса, к несчастью, — был только «русским Лагарпом» и потому наделал русской критике, может быть, больше вреда, нежели пользы». Такие отзывы, от которых не откажется, вероятно, ни один из современных недоброжелателей эстетики, почти избавляют нас от надобности защищать необходимость этой науки от людей, столь сильно к ней нерасположенных и, однакож, не сомневающихся в необходимости «ясных и твердых общих начал» для критика или историка литературы. Что ж такое и понимается под эстетикою, если не система общих принципов искусства вообще и поэзии в особенности? Мы очень хорошо понимаем, что эстетика заслуживала сильнейших преследований в те времена, когда из-за нее позабывали об истории литературы, на двадцати пяти листах толкуя об «отличных», «очень хороших», «посредственных» и «плохих» строфах какой-нибудь оды, 'а кончив эту сортировку, опять на стольких же листах разбирали «сильные» или «неправильные» выражения в этих «отличных», «посредственных» и т. д. строфах. Но когда ж было у нас это время, еще и доселе, к несомненному удовольствию французов, ^презирающих всякую эстетику, продолжающееся во французской литературе? Оно у нас прекратилось с 1830-х годов, с той поры, как начали мы знакомиться с эстетикою3. Ей обя-заны мы тем, что в самой плохой русской книге не прочитаем, например, следующего суждения о «великих заслугах Боссюэта», взятого нами из очень порядочной «Истории французской литературы» г. Демдж6 (Paris, 1832!!): «Боссюэт один образует отдельный мир в великом литературном мире XVII века. Другие писатели — дети Рима; он переносит на Запад Восток невероятно смелыми и новыми сочетаниями слов, гигантскими фигурами (раг des alliance® de rnots d’une hardiesse et d’une nouveauté incroyables, par des figures gigantesques), которых не внушил бы ему европейский вкус, но которые он умеет покорять законам пропорции, внося меру в самую неизмеримость. Таков плод его постоянного занятия» и т. д. Это гениальное по ограниченности своей место так понравилось г-ну Демажо, что он занял его у другого писателя, очень дельцого историка, Анри Мартэна: вероятно, г. Демажо считает образцовым суждением о деятельности великого писателя рассуждения о тропах и фигурах, которыми украшены его сочинения!
Будем же благодарны эстетике за то, что она избавила нас от труда читать и писать подобные суждения о Державине и Карамзине. Повторяем: мы понимали бы вражду против эстетики, если б она сама была враждебна истории литературы; но, напротив, у нас всегда провозглашалась необходимость истории литературы; и люди, особенно занимавшиеся эстетическою критикою, очень много — больше, нежели кто-нибудь из наших нынешних писателей, — сделали и для истории литературы 4. У нас эстетика всегда признавала, что должна основываться на точном изучении фактов, и упреки в отвлеченной неосновательности содержания могут итти к ней так же мало, как, напр., к русской грамматике. Если же прежде она не заслуживала вражды со стороны приверженцев исторического исследования литературы, то еще менее может заслуживать ее теперь, когда всякая теоретическая наука основывается на возможно полном и точном исследовании фактоВ- {-Jo МЬІ готовы предполагать, что у нас многие ошибаются еще относительно современных понятий о том, что такое теория и чтб такое философия. У нас еще многие думают, что у соВременньІХ мыслителей господствуют трансцендентальные идеи об «априорическом знании», «развитии науки самой из себя», ohne Voraussetzung и т. п.; смеем их уверить, что, по мнению современных мыслителей, эти понятия были очень хороши и, Главное, необходимо нужны, как переходная ступень, в свое времго назад тому 40, 30 или, пожалуй, даже 20 лет, но не теперь: теперь они устарели, признаны односторонними и недостаточными. Смеем уверить, что истинно-современные мысли-
тели понимают «теорию» точно так же, как понимает ее Бэкон, а вслед за ним астрономы, химики, физики, врачи и другие адепты положительной науки. Правда, по этим новым понятиям не написано еще, сколько нам известно, формального «курса эстетики»; но понятия, которые будут лежать в его основании, уж достаточно обозначились и развились в отдельных маленьких статьях и эпизодах больших сочинений 5. Смеем даже утверждать, что и прежние, ныне устарелые курсы так называемой трансцендентальной эстетики основывают свои положения на гораздо большем числе фактов, нежели думают их противники. Вспомните, что в главнейшем из этих курсов, составляющем всего три тома, историческая часть занимает почти два, и большая половина третьего наполнена также историческими подробностями 6. Но мы не хотим предполагать, чтоб противники эстетики в частности или теорий вообще нуждались в этих напоминаниях; не желая представлять их людьми, отсталыми от современного движения мысли, мы скорее предположим другую, чрезвычайно лестную причину нерасположения к эстетике: неприятели ее видят в ней теорию отвлеченную и бесплодную и преследуют ее из сильной приверженности к знаниям «живым», имеющим какое-нибудь серьезное значение для так называемых жизненных вопросов. С этой точки зрения, как увидим ниже, Платон нападал не на эстетику (это было бы еще не так важно, да притом эстетики в платоново время и не существовало, кроме той, отрывки которой рассеяны в его же собственных сочинениях) 7, — нет, он нападал на самое искусство, и мы только сожалеем, что искусство заслуживало до некоторой степени его нападений, но не можем не сочувствовать и Платону. Если же поэзия, литература, искусство признаются предметом такой важности, что история, например, литературы должна быть предметом всеобщего внимания и изучения, то и общие вопросы о сущности, значении, влиянии поэзии, литературы, искусства должны иметь огромный интерес, потому что от разрешения их зависит взгляд наш на предмет; а именно для того, чтоб образовался ясный и правильный взгляд, нужны факты. Зачем же и знать их, если не для того, чтоб делать из них выводы? Словом: нам кажется, что весь спор против эстетики основывается на недоразумении, на ошибочности понятий о том, что такое эстетика и что такое всякая теоретическая наука вообще. История искусства служит основанием теории искусства, потом теория искусства помогает более совершенной, более полной обработке истории его; лучшая обработка истории послужит дальнейшему совершенствованию теории-, и так далее, до бесконечности будет продолжаться это взаимодействие на обоюдную пользу истории и теории, пока люди будут изучать факты и делать из них выводы, а не обратятся в ходячие хронологические таблицы и библиографические реестры, лишенные потребности мыслить и способности соображать. Без истории предмета нет теории предмета;
но и без теории предмета нет даже мысли о его истории, потому что нет понятия о предмете, его значении и границах. Это так же просто, как то, что дважды два — четыре, а единица есть единица; но мы знаем людей, доказывающих, посредством ньютонова бинома, что единица равняется двум…
Впрочем, у нас многое еще имеет интерес новости, многое, кроме нескольких обыкновенно ничтожных книжечек на различных языках, а чаще всего на французском, вроде творений какого-нибудь Мишеля Шевалье и ему подобных «великих ученых», «глубокомысленных и вместе ясных мыслителей», да еще последних нумеров Revue des deux Mondes, с его великими мудрецами. Эти книги не составляют ни тайны, ни новости ни для кого: зато они служат кодексом для некоторых мыслителей, предметом их глубоких размышлений. По всей вероятности, в них-то и заключается причина отвращения многих от эстетики: эти книги и статьи натолковали нам, в числе многих истин, и ту, что эстетика наука темная, мертвая, отвлеченная, ни к чему не приложимая.
Эстетика наука мертвая! Мы не говорим, чтоб не было наук живей е^; но хорошо было бы, если б мы думали об этих науках. Нет, мы превозносим другие науки, представляющие гораздо менее живого интереса. Эстетика наука бесплодная! В ответ на это спросим: помним ли мы еще о Лессинге, Гёте и Шиллере, или уж они потеряли право на наше воспоминание с тех пор, как мы познакомились с Теккереем? Признаем ли мы достоинство немецкой поэзии второй половины прошедшего века?..
Но, может быть, некоторые восстают не против самой пользы и необходимости теоретических выводов, а против стеснения их в узкие рамки системы? Прекрасное побуждение к вражде, если б только оно имело какое-нибудь основание, если б кто-нибудь из современных людей смотрел на чью бы то ни было систему какой бы то ни было науки, как на вечное вместилище всей истины. Но теперь почти все (и составители систем обыкновенно искреннее всех) говорят, что всякая система порождается и разрушается, или, лучше сказать, изменяется вместе с понятиями времени, ее произведшего; теперь никто не принуждает вас «jurare in verba magistri» 8: система — только временный переплет для науки; и если вы действительно выросли выше понятий системы, не отвергать науку будете вы, а создадите новую систему ее — и все будут вам благодарны. Систематичность науки не представляет препятствий к ее развитию. Учите нас, и чем больше нового будет в вашей новой системе, тем больше будет вам славы. А не приведенными в одно стройное целое истинами неудобно пользоваться: кто составил систему науки, тот один сделал науку общедоступною, и его понятия разольются в массе, хотя бы у других были понятия гораздо глубже, нежели у него; что не формулировано, то остается бездейственным.
И лучший пример того, какое важное условие для плодотворности мырлей система, представляет нам «Пиитика», или, как называет ее г. Ордынский, «Сочинение Аристотеля о поэзии». Аристотель первый изложил в самостоятельной системе эстетические понятия, и его понятия господствовали с лишком 2 000 лет; а у Платона больше, нежели у него, найдется истинно великих мыслей об искусстве; может быть даже его теория не только глубже, но и полнее аристотелевой, но она не облечена в систему и до новейшего времени не обращала на себя почти никакого внимания.
Чтоб показать, какой интерес и в наши времена еще имеют эстетические понятия этих людей, живших до нас за 2 200 лет, попробуем изложить в кратком очерке самые общие, самые отвлеченные вопросы их эстетики: «об источнике и значении искусства». Конечно, в современной теории решение этих вопросов представляет гораздо более живого и интересного но… кто, по вашему мнению, выше: Пушкин или Гоголь? Я вчера слышал спор об этом, и на него готовы отвечать Платон и Аристотель. В самом деле, решение зависит от понятия о сущности и значении искусства. Послушаем же мнения об этом предмете наших великих учителей в деле эстетического суда. Если сущность искусства действительно состоит, как нынче говорят, в идеализации; если цель его — «доставлять сладостное и возвышенное ощущение прекрасного», то в русской литературе нет поэта, равного автору «Полтавы», «Бориса Годунова», «Медного всадника», «Каменного гостя» и всех этих бесчисленных, благоуханных стихотворений; если же от искусства требуется еще нечто другое, тогда… но в чем же, кроме этого, может состоять сущность и значение искусства? 9
Итак, в чем состоит сущность искусства? Что именно делает живописец, изображая пейзаж или группу людей; поэт, изображая в лирическом стихотворении восторги или страдания любви, в романе или драме — людей с их страстями и характерами? «Он идеализирует природу и людей. Сущность искусства состоит в создании идеалов», отвечает господствующая ныне эстетическая теория: «в человеке есть предчувствие и потребность чего-то лучшего и полнейшего, нежели бледная и скудная действительность («проза жизни», по выражению дюжинных романистов), которой не удовлетворяется его бессмертный дух. Это лучшее и полнейшее (идеал) живо постигается художником и передается жаждущему человечеству в созданиях искусства» 10. Прежняя теория искусства говорила не так5: «искусство — больше ничего, как подражание тому, что мы видим в действительности; картины, статуи, романы, драмы — больше ничего, как копии с подлинников, представляемых художнику действительностью». Эта теория, над которою ныне смеются, потому что знают ее только в искаженной переделке Буало и Баттё, действительно достойной осмеяния, известна под названием аристотелевой. В самом деле, Аристотель признавал ее справедливою: в тех отделениях сто трактата «О поэтическом искусстве», в которых находятся общие соображения о происхождении и сущности искусства вообще и поэзии в частности, основная мысль действительно та, что «искусство есть подражание». Но совершенно несправедливо было бы считать Аристотеля творцом «теории подражания»: она, по всей вероятности, господствовала еще задолго до Сократа и Платона, а развита у Платона гораздо глубже и многостороннее, нежели у Аристотеля. Полагая основанием своих понятий об искусстве мысль, что она «состоит в подражании», Платон не ограничивается теми довольно недалекими приложениями коренного принципа, какими довольствуется Аристотель. Поэзия есть подражание, говорит Аристотель"; следовательно, трагедия есть подражание действиям великих людей, комедия — подражание действиям низких людей; других выводов не найдем у него. Платон, напротив, извлекает из своего понятия об искусстве живые, блестящие, глубокомысленные заключения; опираясь на свою аксиому, он определяет значение искусства в жизни человеческой, его отношения к другим направлениям деятельности; вооружаясь ею, Платон уличает искусство в бедности, слабости, бесполезности, ничтожестве. Его сарказмы жестоки и метки, может быть, односторонни, особенно для нашего времени, но во многом справедливы и благородны при всей своей односторонности. Но, чтоб объяснить презрение Платона к искусству, надобно сказать несколько слов о существенном направлении его учения.
Платона многие считают каким-то греческим романтиком, вздыхающим о неведомом и туманном, чудном и прекрасном крае, стремящимся «туда, туда» (dahin, dahin), неизвестно куда, только далеко, далеко от людей и земли… Платон был вовсе не таков. Действительно, он был одарен возвышенною душою и все благородное и великое увлекало его до энтузиазма; но он не был праздным мечтателем, думал не о звездных мирах, а о земле, не о призраках, а о человеке. И прежде всего Платон думал о том, что человек должен быть гражданином государства, не мечтать о ненужных для государства вещах, а жить благородно и деятельно, содействуя материальному и нравственному благосостоянию своих сограждан. Благородная, но не мечтательная, не умозрительная (как для Аристотеля), а деятельная, практическая жизнь была для него идеалом человеческой жизни. Не с ученой или артистической, а с общественной и нравственной точки смотрел он на науку и на искусство, как и на все. Не человек живет для того, чтоб быть артистом или ученым (как думали многие великие философы, между прочим, Аристотель), а наука и искус-
ство должны служить для блага человека. После этого понятно, как Платон должен был смотреть на искусство, которое, большею частью, служит (должно ли служить, это — другой вопрос), а во иремя Платона почти исключительно служило прекрасною, с тем вместе, чрезвычайно дорогою и, может быть, очень благородною забавою, но все-таки забавою для людей, которым нечего делать, кроме того, как любоваться на более или менее сладострастные картины и статуи да упиваться мелодиею более или менее сладострастных стихов. «Искусство — забава»: этим решено для Платона всё. А что он не клеветал на искусство, признавая его забавою, лучше всего свидетельствует нам один из серьезнейших поэтов, Шиллер, конечно, не враждебными глазами смотревший на свое искусство: Кант, по его мнению, совершенно справедливо называет искусство игрою (или забавою, das Spiel), потому что «только играя, человек вполне человек» 6. Представим же теперь мнения Платона о значении искусства, выпуская, однако, слишком жесткие из его нападений.
Искусства, говорит Платон, бывают двух родов: производительные и подражательные (по нашей терминологии: практические или технические и изящные). Первые производят что-нибудь нужное для жизни, годное для употребления. Сюда принадлежат, например, земледелие, ремесла, гимнастика, дающая человеку силы, и медицина, дающая ему здоровье. Им полное уважение. Но какое сравнение могут выдержать с ними подражательные искусства (впредь мы, сообразно нынешней терминологии, будем называть их изящными), которые не дают человеку ничего, кроме обманчивых, ни в какое употребление не годных копий с действительных предметов? Их значение ничтожно. К чему они служат? К приятному, но бесполезному препровождению времени. Это игра, пустая в глазах серьезного человека. Но иные игры (напр., гимнастические) имеют серьезную цель; изящные искусства ее не имеют |3. Нет, они стараются только забавлять; они только хотят угодить толпе; они принадлежат к одному разряду занятий с ре-торикою (искусством подбирать красные слова) и софистикою (искусством говорить не полезное, а приятное слушателям), с парикмахерским и поварским искусствами. И живопись, и музыка, и поэзия, даже возвышенная и превозносимая трагедия — искусства угодничества, лести, потому что стараются только об удовольствии, а не о пользе толпы (заметим, что подобным же образом смотрит на изящные искусства автор «Эмиля» и «Новой Элоизы» и; Кампе, знаменитый немецкий педагог, также говорит: «выпрясть фунт шерсти полезнее, нежели написать том стихов»), А между тем, как высоко ставят себя эти ничтожные искусства! Живописец, например, говорит, что создает и деревья, и людей, и землю, и море! да еще как скоро — в одну минуту!
и потом продает вам и землю, и море за золотую монету. Правда, его создания не стоят и медной, потому что они пустые призраки, годные лишь на то, чтоб обманывать ребятишек. И эти фокусники еще не хотят признавать себя подражателями :— нет, они говорят вам о творчестве! (Из этого видим, что идея, служащая основанием господствующей ныне эстетической теории, существовала уже и при Платоне: «искусство есть творчество»). И могут ли они дать что-нибудь, кроме плохой, неверной копии? Ведь художнику нет дела до внутреннего содержания: ему нужна только оболочка; он довольствуется поверхностным знанием поверхности предмета: ее копирует он; дальше ее ничего не знает (новейшая эстетика, согласно с этими художниками, или, скорее, с едкими сарказмами Платона, говорящего за них, признает, что «прекрасное, существенное содержание искусства — призрак, пустой призрак», ein Schein, ein reiner Schein, и что искусство имеет дело только с поверхностью, оболочкою предмета, die Oberfläche) ls. Устройство человеческого тела известно врачу — живописец его не знает. Так и поэт не знает основательно жизни и сердца человеческого: это знание достигается только глубоким изучением философии (по нынешней терминологии «только путем науки»), а не отрывочными наблюдениями собственной опытности, слишком неполной и поверхностной. И заслуживают ли даже имени искусства эти гордые изящные искусства? Нет! Чтоб моя деятельность достойна была имени искусства, мне необходимо иметь ясное сознание о том, что я делаю, — художник не имеет его. Столяр, делая стол, знает, что, зачем и как он делает: живописец и поэт сами не знают истинной природы предметов, которым подражают. Их искусство не искусство, а слепая работа по темному инстинкту, наудачу; они называют это «вдохновением»; на самом деле с вдохновением соединяется у них невежество самоучки 7.
Изящные искусства — пустая игра, не заслуживающая имени искусства.
Полемика Платона против искусства чрезвычайно сурова, правда, но порождена высоким и благородным взглядом на человеческую деятельность. И легко было бы показать, что многие из строгих обличений Платоновых продолжают быть справедливыми и в отношении к современному искусству. Но гораздо приятнее говорить за искусство, нежели против искусства, и потому, отказываясь от тяжелой обязанности указывать и в новейшем искусстве те слабые стороны, которые общи ему с греческим, мы постараемся только показать, какими соображениями могут быть в наше время смягчены некоторые из безусловных приговоров Платона о ничтожности значения изящных искусств.
Платон восстает против искусства за то, что оно бесполезно для человека. Не будем опровергать этрго страшного упрека устарелою мыслью, что «искусство должно существовать для искусства», что «делать искусство служителем человеческих нужд, значит унижать его» и т. п. Мысль эта имёла смысл тогда, когда надобно было доказывать, что поэт не должен писать великолепных од, не должен искажать действительности в угоду различным произвольным и приторным сентенциям 18. К сожалению, для этого она появилась уж слишком поздно, когда борьба была кончена; а теперь и подавно она ни к чему не нужна: искусство успело уж отстоять свою самостоятельность и должно думать о том, как ею пользоваться. «Искусство для искусства» — мысль такая же странная в наше время, как «богатство для богатства», «наука для науки» и т. д. Все человеческие дела должны служить на пользу человеку, если хотят быть не пустым и праздным занятием: богатство существует для того, чтобы им пользовался человек, наука для того, чтоб быть руководительницею человека;.искусство также должно служить на какую-нибудь существенную пользу, а не на бесплодное удовольствие. «Но именно эстетическое наслаждение само по себе приносит существенное благо человеку, смягчая его сердце, возвышая его душу…» Мы не хотим выводить серьезное значение искусства и из этой мысли — справедливой, но еще мало говорящей в пользу искусства. Конечно, наслаждение произведениями искусства, как и всякое (непреступное) удовольствие, производит в человеке светлое, радостное расположение духа; а радостный и довольный человек, конечно, добрее и лучше, нежели недовольный и мрачный. И мы согласны, что, выходя из картинной галлереи или из театра, человек чувствует себя и добрее, и лучше (по крайней мере на полчаса, пока не разлетелось эстетическое довольство); но точно так же и из-за сытного обеда человек встает снисходительнее, добрее того, каков был с отощавшим желудком. Благодетельное влияние искусства, как искусства (независимо от такого или иного содержания его произведений), состоит почти исключительно в том, что искусство — вещь приятная; подобное же благодетельное качество принадлежит всем другим приятным занятиям, отношениям, предметам, от которых зависит «хорошее расположение духа». Здоровый человек гораздо менее эгоист, гораздо добрее, нежели больной, всегда более или менее раздражительный и недовольный, хорошая квартира также больше располагает человека к доброте, нежели сырая, мрачная, холодная; спокойный человек (т. е. находящийся не в неприятном положении) добрее, нежели раздосадованный, и т. д. И надобно сказать, что практические, житейские, серьезные условия довольства своим положением действуют на человека сильнее и постояннее, нежели приятные впечатления, доставляемые искусством. Для большинства людей, оно — только развлечение, то есть довольно ничтожная вещь, не могущая принести серьезного довольства. И, взвесив хорошенько факты, мы убедимся, что многие самые не блестящие, обыденные развлечения больше вносят довольства и благорасположения в человеческое сердце, нежели искусство: если б явился между нами Платон, вероятно, сказал бы он, что, например, сиденье на завалине (у поселян) или вокруг самовара (у горожан) больше развило в нашем народе хорошего расположения духа и доброго расположения к людям, нежели все произведения живописи, начиная с лубочных картин до «Последнего дня Помпеи» 1Э. Польза, приносимая искусством, как одним из источников довольства, развитию всего хорошего в человеке, несомненна, но ничтожна в сравнении с пользою, приносимою другими благоприятными отношениями и условиями жизни; потому и не хотим мы указывать на нее для того, чтоб показать высокое значение искусства в жизни. Правда, обыкновенно влияние искусства на нравственное развитие понимают не так, как мы его представили, и говорят, будто бы эстетическое наслаждение не просто, как источник хорошего расположения духа, смягчает сердце, а непосредственно возвышает и об-лагороживает душу по возвышенности и благородству предметов и чувств, которыми прельщаемся мы в произведениях искусства; обыкновенно говорят, что представляющееся нам «прекрасным» в искусстве есть уж по этому самому благородное и возвышенное. Но мы, решительно- не желая касаться щекотливого вопроса о серьезном значении существенного содержания в большей части произведений искусства, не хотели даже выписывать грозных нападений Платона на искусство за его содержание: тем менее сами будем вдаваться в эти нападения. Напомним только, что искусство должно угождать требованиям публики, а большинство, смотрящее на него как на развлечение, конечно, требует от развлечения не возвышенности или благородства содержания, а грациозности, интересности, забавности, даже легкости. Один из серьезнейших и благороднейших поэтов нашего времени говорит в предисловии к своим песням: «Я хотел бы воспевать вовсе не любовь; но кто стал бы читать мои песни, если б их содержание 272 было серьезно? Поэтому, написав несколько серьезных песен, которые одни хотел бы я писать, я должен был потопйть их во множестве любовных песенок для того, чтоб вместе с этими приманками публика поглотила и здоровую пищу» 20. Таково почти всегда положение художника, имеющего серьезное и благородное направление (не хотим прибавлять, что не все из художников имеют его). Кому эти краткие намеки покажутся недостаточными, тот пусть потрудится припомнить, что главнейшее содержание поэзии (самого серьезного из искусств) — «любовь», т. е. влюбленность, очень далекая от истинной любви и очень мало имеющая серьезного значения. Обыкновенная забота искусства — заинтересовать, завлечь, чем и как — все равно.
Но если, стремясь к этой цели, искусство почти всегда позабывает о других, важнейших целях, то надобно признаться, что завлекает огромную массу оно очень удачно и этим самым, вовсе о том не думая, содействует распространению образованности, ясных понятий о вещах — всего, что приносит умственную, а потом принесет и материальную пользу людям. Искусство или, лучше сказать, — поэзия (одна только поэзия, потому что другие искусства очень мало делают в этом отношении) распространяет в массе читателей огромное количество сведений и, что еще важнее, знакомство с понятиями, выработываемыми наукою, — вот в чем заключается великое значение поэзии для жизни.
В наше время странно уже — хотя, быть может, и вовсе еще неизлишне — пускаться в подробные объяснения того, что такое наука, в чем состоит и как велико ее значение для жизни. В науке хранятся плоды опытности и размышлений человеческого рода, и главнейшим образом на основании науки улучшаются понятия, а потом нравы и жизнь людей. Но открытия и соображения науки приносят действительную пользу только тогда, когда разливаются в массе публики. Наука сурова и незаманчива в своем настоящем виде; она не привлечет толпы. Наука требует от своих адептов очень много приготовительных познаний и, что еще реже встречается в большинстве — привычки к серьезному мышлению. Поэтому, чтоб проникнуть в массу, наука должна сложить с себя форму науки. Ее крепкое зерно должно быть перемолото в муку и разведено водою для того, чтоб стать пищею вкусною и удобоваримою. Это достигается «популярным» изложением науки. Но и популярные книги еще не исполняют всего, что нужно для распространения понятий о науке в большинстве публики: они предлагают чтение легкое, но не заманчивое, а большинство читателей хочет, чтоб книга была сладким десертом. Это обольстительное чтение представляют ему романы, повести и т. д.2 |. Без всякого сомнения, очень немногие беллетристы думают, подобно Вальтер-Скотту, употреблять свой талант именно для распространения образованности между читателями. Но как из разговора с образованным человеком малообразованный всегда вынесет какие-нибудь новые сведения, хотя бы разговор и не касался, по-видимому, ничего серьезного, так и из чтения романов, повестей, по крайней мере исторических, даже стихотворений, которые пишутся людьми, во всяком случае стоящими по образованности выше, нежели большинство их читателей, масса публики, не читающая ничего, кроме этих романов и повестей, узнает многое. И нет никакого сомнения, что не только «Юрий Милославский», но даже и «Леонид, или некоторые черты» и т. д. 22 значительно распространили круг сведений своих читателей. Если популярные книги перечеканивают в ходячую монету тяжелый слиток золота, выплавленный наукою, то поэзия пускает в ход мелкие серебряные деньги, которые обращаются и там, куда редко заходит золотая монета, и которые все-таки имеют свою неотъемлемую ценность. Поэзия, как распространительница знаний и образованности, имеет чрезвычайно важное значение для жизни. «Забава» ею приносит пользу умственному развитию забавляющегося; потому, оставаясь забавою для массы читателей, поэзия получает серьезное значение в глазах мыслителя.
Итак, принуждены будучи признать справедливость очень многих нападений Платона на искусство, мы, однако, вправе сказать, что поэзия имеет высокое значение для образованности и идущего вслед за нею улучшения нравов и материального благосостояния; она имеет это значение даже и тогда, когда не заботится о нем. Но много было поэтов, которые сознательно и серьезно хотели быть служителями нравственности и образованности, понимали, что вместе с талантом получили они обязанность быть наставниками своих сограждан. Были такие поэты и во время Платона; достоверно мы знаем с этой стороны Аристофана. «Поэт — учитель взрослых», говорит он, — и все его комедии проникнуты самым серьезным направлением. Излишне и говорить о том, какое важное практическое значение получает поэзия в их руках. Но если Платон впадает в односторонность, считая поэзию только пустою забавою, то за ним остается заслуга, что он смотрел на искусство в связи с жизнью; а оправдание его порицаниям находится в понятиях об искусстве большей части художников и даже философов, которые полагают, что значение искусства не зависит от его житейской пользы, что «служить каким бы то ни было интересам, кроме собственных, унизительно и пагубно для искусства», что «оно само себе цель», что «доставлять эстетическое наслаждение — единственное назначение искусства». Эти господствующие воззрения действительно отнимают у искусства всякое дельное значение, превращают его в пустую игру и вполне заслуживают грозных изобличений Платона, доказывающего, что, отказываясь от практического значения для жизни, искусство, как и всякое дело, не имеющее такого значения, становится пустою забавою в глазах мыслителя.
Аристотель, уступая Платону в возвышенности требований, гораздо снисходительнее, даже с любовью смотрит на искусство, особенно на поэзию и музыку; его понятия о значении музыки и поэзии не так поучительны, как Платоновы, но гораздо многостороннее — правда, с тем вместе иногда и мелочны.
Первую пользу искусства для человека (потому что и Аристотель требует от искусства пользы) он видит именно в том, в чем Платон находит причину бледности и ничтожности произведений искусства сравнительно с живою действительностью — в том, что искусство есть подражание. «Стремление к подражанию, которое служит источником искусств, находится в непосредственной связи с любознательностью. Любознательность, заставляющая сравнивать копию с подлинником, — причина и того удовольствия, которое доставляют нам произведения искусства: подражая предмету, а потом сравнивая подражание с оригиналом, мы изучаем предмет, изучаем его легко и скоро; в этом тайна наслаждения, приносимого искусством». Итак, искусство находится в ближайшем родстве с важнейшим и высочайшим стремлением человеческого духа; потому что Аристотель ставит науку выше жизни, умственную деятельность выше практической: образ мыслей, очень легко рождающийся у людей, для которых наука — главнейшая цель жизни. 1 Іскусству, этим объяснением его происхождения, назначается очень почетное место среди возвышеннейших направлений человеческого духа; но объяснение страсти к подражанию из любознательности не выдерживает критики. Подражаем вообще мы из желания сделать, а не узнать что-нибудь; подражание — не теоретическое, а практическое стремление. Справедливо только то, что иногда (довольно редко) мы читаем произведения поэзии из желания познакомиться с нравами людей, с обычаями народов, далеких от нас, и т. п.; но и читаем мы произведения поэзии обыкновенно вовсе не по этому побуждению, а возникают они решительно не из желания поэта уяснить себе какой-нибудь вопрос (как пишутся ученые трактаты): стремление создавать (чрез подражание или «воспроизведение», как выражаются ныне), производить — источник поэтической деятельности; восхищение творческим талантом, удовольствие, происходящее от сознания гениальности человеческой, — источник наслаждения, доставляемого нам произведениями искусства. Не указываем других источников искусства и наслаждения искусством, потому что это отвлекло бы нас далеко от Аристотеля (точно так же и выше, пополняя мнения Платона, мы ограничились указанием одной только стороны высокого значения искусства, чтобы не вдаваться в излишние подробности).
Но если Аристотель односторонним образом объясняет стремление человека к подражанию и происхождение искусства, то нельзя не отдать ему полной справедливости за то, что он старается отыскать для искусства высокое значение в области умственной деятельности; и если нельзя согласиться с его мнением об источнике искусства вообще, то нельзя без удивления видеть, как верно определяет он отношение поэзии к философии: поэзия, изображающая человеческую жизнь с общей точки зрения, представляющая не случайные и ничтожные мелочи ее, а то, что есть в жизни существенного и характеристического, чрезвычайно много имеет, как думает Аристотель, философского достоинства. Она в этом отношении даже гораздо выше, по его мнению, нежели история, которая без разбора должна описывать и важное, и неважное, и существенное, характеристическое, и случайные, не имеющие никакого внутреннего значения факты; поэзия гораздо выше истории также и потому, что представляет все во внутренней связи, между тем как история без всякой внутренней связи, по хронологическому порядку рассказывает разнородные факты, не имеющие между собою ничего общего. В поэтической картине — смысл и связь; в истории — множество не говорящих ничего нужного подробностей, и нет связи; она дает не картины, а только отрывки картин. Вот это глубокомысленное и знаменитое место в переводе г. Ордынского, выписку из которого делаем для того, чтобы познакомить читателей с его языком:
«Дело поэта — излагать не столько случающееся, сколько то, что могло бы случиться, т. е. возможное по вероятию или по необходимости. (Мысль, доселе служащая основанием нашим понятиям о том, как должен поэт пользоваться материалами, доставляемыми ему действительностью, что из них должен он брать для своих картин и что должен отбрасывать.) Историк и поэт не тем различаются, что говорят один мерною речью, другой — немерною: ведь сочинение Геродота можно было бы переложить в метры, и все-такн в метрах, как и без всяких метров, была бы это история. Различаются они тем, что один излагает случившееся, а другой, что может случиться. Поэтому поэзия глубже и значительнее истории. Поэзия излагает более общее, история — частное. Общее есть: такому-то лицу что прилично говорить либо делать по вероятию, либо необходимости? Этого достигает поэзия, изобретая имена. Частное есть: что сделал Алкивиад, или что с ним случилось? На комедии это очевидно: комики, составляя вымысел из вероятных событий, дают имена произвольные, а не занимаются частностями. Что касается трагедии… в некоторых одно или два имени известных, прочие вымышлены; в иных ни одного известного, как в «Цветке» Агафона: в нем и действия, и имена равно вымышлены, и тем ие менее он нравится» 23.
Ученый отдает искусству справедливость до такой степени, что ставит его выше науки (правда, не своей специальной науки). Явление замечательное… Но мнение Аристотеля об йстории требует объяснения: оно приложимо только к тому виду истории, который был известен в его время — это была не собственно история, а летопись. У Геродота действительно нет никакой внутренней связи: все девять книг его «Истории» наполнены эпизодами; он хочет, собственно, писать историю «войны персов с греками» — и успевает начатъ рассказ о ней только в шестой книге. Ему хочется поговорить обо всем, что только ему известно из истории и нравов знакомых ему народов. Его метод таков: персы воевали с египтянами: поговорим о египтянах — и следует целая книга о Египте же; воевали они также со скифами: поговорим о скифах — и следует целая книга о скифах и Скифии. В каждом эпизоде у него опять новые эпизоды, вплетенные почти так: у египтян главный город Мемфис — описание Мемфиса; я также был и Мемфисе — описание того, что он видел в Мемфисе; между прочим, был я там в одном храме — описание храма; в этом храме видел я жреца — описание жреца и его одежды; жрец этот говорил со мною о том-то — рассказывается, что говорил ему жрец; но Другие говорят об этом не так — рассказывается, как говорят об этом другие, и т. д. и т. д. Геродот рассказчик, бывалый человек, и его история похожа на простодушные, интересные, но бессвязные рассказы всех бывалых людей. Фукидид — чисто летописец, правда, ученый и глубокомысленный, но располагающий свою «Историю Пелопонесской войны» таким образом: в шестую зиму войны произошло в Аттике вот что; в эту же зиму в Пело-понессе произошло вот что; в то же время на Корцире произошло вот что; во Фракии произошло тогда же вот что; на Лесбосе — вот что, и т. д. В следующее за тем лето произошло в Аттике то-то и то-то, в Пелопонессе то-то и то-то, и т. д. У Фукидида еще меньше внутренней связи между рассказами, нежели у Геродота; даже ни одно событие не рассказано за один раз: начало, середина и конец его разбросаны в разных книгах по «зимам» и «летам». Очень понятно, как много мелочного и решительно ненужного для характеристики главного события и главных деятелей находится в подобных «историях». Форму науки история приняла только в наше время; у новейших великих историков всегда господствует строгое единство; у них не найдется ненужных мелочей, приводятся факты и черты, только «имеющие общее значение», которого требует Аристотель, то есть только необходимые для характеристики века и людей.
Эти выписки достаточно показывают проницательность и многосторонность аристотелева ума; но при всей своей гениальности, часто он впадает в мелочность от-всегдашнего своего стремления найти глубокое философское объяснение не только главным явлениям, но и всем их подробностям. Это стремление, выразившееся в аксиоме одного новейшего философа; соперника аристотелева 24: «все действительное разумно и все разумное действительно», часто заставляло обоих мыслителей придавать важное значение мелочным фактам только потому, что эти факты хорошо подходили под их систему. Превосходный пример этого представляет выписанное нами место из Аристотеля. Совершенно справедливо определяя, что поэзия изображает не мелочи, а общее, характеристическое, в чем находит Аристотель подтверждение своего понятия?*—в том, что комики всегда, а трагики иногда, дают характеристические имена действующим лицам, т. е. и в оставленном ныне обыкновении выводить на сцену Вороватиных, Прав-диных, Прямосудовых, Коршуновых, Разлюляевых (весельчаки), Бородкиных (живущие по старым обычаям), Стародумов и т. д. 25
На нескольких страницах излагаем мы мнения Платона и Аристотеля о «подражательных искусствах», несколько десятков раз пришлось нам употребить слово «подражание», и, однако, до сих пор еще ни разу не встретили читатели обычного выражения «подражание природе» — отчего это? Неужели Платон и, особенно, Аристотель, учитель всех Баттё, Буало и Горациев, поставляют сущность искусства не в подражании природе, как привыкли все мы дополнять фразу, говоря о теории подражания? Действительно, и Платон и Аристотель считают истинным содержанием искусства, и в особенности поэзии, вовсе не природу, а человеческую жизнь. Им принадлежит великая честь думать о главном содержании искусства именно то самое, что после них высказал уже только Лессинг 2и и чего не могли понять все их последователи. У Аристотеля в «Пиитике» нет ни слова о природе: он говорит о людях, их действиях, событиях с людьми, как о предметах, которым подражает поэзия. Дополнение: «природе» могло быть принято в пиитиках только тогда, когда процветала вялая и фальшивая описательная поэзия (которая едва ли не грозит снова войти в моду) и неразлучная с ней дидактическая поэзия — роды, которые изгоняются Аристотелем из поэзии. Подражание природе чуждо истинному поэту, главный предмет которого — человек. «Природа» выступает на первый план только в пейзажной живописи, и фраза «подражание природе» послышалась в первый раз из уст живописца; но и живописец произнес ее не в том смысле, какой получила она у современников Дезульер и Делиля: когда Лизипп (рассказывает Плиний), еще будучи юношею, спросил у знаменитого в то время живописца Эвпомпа: кому из прежних великих художников надобно подражать? Эвпомп отвечал, указывая на толпу людей, среди которой они стояли: «не художникам надобно подражать, а самой природе». Ясно, он говорил о том, что живап действительность должна служить материалом и образцом для художника, а не о «садах», которые воспевал Де-лиль, и не об «озерах», которые описывались Уордсвортом и Уильсоном с братнею 27.
Из этого можно убедиться, что многие возражения, делаемые против теории подражания, относятся, собственно, не к ней, а к той искаженной форме, в какой представляли ее теорётики псевдоклассической школы. Здесь не место высказывать личные убеждения, и потому не будем доказывать, что, по нашему мнению, называть искусство воспроизведением действительности (заменяя современным термином неудачно передающее смысл греческого mimësis слово «подражание») было бы вернее, нежели думать, что искусство осуществляет в своих произведениях нашу «идею совершенной красоты, которой будто бы нет в действительности. Но нельзя не выставить на вид, что напрасно думают, будто бы, поставляя верховным началом искусства воспроизведение действительности, мы заставим его «делать грубые и пошлые копии и изгоняем из искусства идеализацию». Чтоб не вдаваться в изложение мнений, не общепринятых в нынешней теории, не будем говорить о том, что единственная необходимая идеализация должна состоять в исключении из поэтического произведения ненужных для полноты картины подробностей, каковы бы ни были эти подробности; что если понимать под идеализациею безусловное «облагорожение» изображаемых предметов и характеров, то она будет равняться чопорности, надутости, фальшивому драматизированию. Но вот выписка из аристотелевой «Пиитики», доказывающая, что идеализация, даже в последнем смысле, очень хорошо может входить в систему эстетики, признающую основным началом поэзии подражание или воспроизведение:
«Так как трагедия есть подражание лучшим (воспроизводит действия и приключения людей с великими, а не мелочными характерами, сказали бы мы теперь; но Аристотель говорит, увлекаясь Эсхилом и Софоклом: людей, лучших, нежели обыкновенные люди), то должны (трагики) подражать хорошим портретистам: они, передавая кого-нибудь в настоящем виде, делают портрет похожим и вместе красивее. Так и поэту, когда он подражает сердитым, ленивым и другие недостатки в характере имеющим (т. е. воспроизводит их характеры), следует таковых облагороживать» 28.
«Распалась поэзия на два рода (говорит далее Аристотель), по характеру поэтов: люди солидные описывали высокие дела возвышенных по характеру людей и сначала писали гимны, потом трагедии; люди легкомысленные описывали людей «низких»: они сочиняли сначала ямбы (сатиры), потом комедии» 29. Опять какая односторонность! Платону было простительно, говоря об отсутствии серьезного нравственного значения в произведениях искусства, не упомянуть нам о прекрасном исключении, о комедиях Аристофана —’ вражда Аристофана против Сократа извиняла молчание преданного ученика Сократова. Но Аристотель, не могший иметь никакого горького воспоминания против Аристофана, также не хочет замечать высокого значения комедии.
Мысль, что «искусство состоит в подражании» живой действительности и преимущественно воспроизводит человеческую жизнь, беспрекословно считалась справедливою в древней Греции. Платон и Аристотель одинаково полагали ее в основание своих эстетических понятий; они до того были уверены, как и все их современники, в неоспоримой истине этого начала, что везде высказывают его, как аксиому, не думая доказывать его. На чем же основано, что именем «Платоновой» называют совершенно другую теорию искусства, решительно противоположную излагаемой Платоном, — теорию, объясняющую начало искусства так: «идея прекрасного, присущая духу человеческому, не находя себе соответствия и удовлетворения в действительном мире, заставляет человека создавать искусство, в котором находит она себе полное осуществление»? И кто из мыслителей, в самом деле, первый высказал начала такой теории?
В первый раз «идеальное начало» искусства было высказано Плотином, одним из тех туманных мыслителей, которые называются неоплатониками 30. У них нет ничего простого, ясного — все таинственно, невыразимо; у них нет ничего положительного, действительного — все заоблачно и мечтательно; все их понятия… но мы ошибаемся: у них нет понятий, потому что понятие есть нечто определенное, доступное простому уму; у них какие-то грезы, которым нет нигде соответствующих предметов, которые постигаются только в состоянии экстаза, когда, посредством искусственного образа жизни, неестественного напряжения ума, человек погружается в таинственный мир, недоступный никаким чувствам. Грезы эти величественны, но величественны только для освободившейся от власти рассудка фантазии; малейшее прикосновение положительной, ясной мысли уничтожает их. Неоплатоники — люди, хотевшие соединить древнюю греческую философию с таинственными азиатскими философемами, придать мечтам распаленной египетской и индийской фантазии форму науки; из этого соединения образовалось у них нечто еще более странное и фантастическое, нежели самые индийские и египетские мудрования. Мысль, возникшая на такой заоблачной почве, едва ли может надолго овладеть положительными и светлыми понятиями народов, у которых есть опытная наука, все подвергающая анализу. Но здесь не место излагать наши понятия об «идеальном начале» искусства: довольно и того, что мы сказали, как странен источник, из которого взято оно. Излагать идеи Плотина о сущности прекрасного мы также не будем, отчасти уж потому, что излагать их значило бы почти то же самое, что излагать господствующие ныне эстетические начала. Впрочем, едва ли справедливо называем мы «современными» мнения об идеальном начале искусства: та система понятий, которой они принадлежали, уже оставлена всеми; она имела только переходное значение и ныне забыта вместе с романтизмом, своим порождением. И если эстетические понятия, разнесенные по свету Шлегелями и их сподвижниками, принятые потом и их противниками, еще не заменились в новейших эстетиках другими понятиями, то это единственно потому, что нынешняя наука, обращенная на другие вопросы, едва касалась эстетических 3 |.
Неоплатоники переделали Платонову философию на египетский лад; но, будучи совершенно различно от Платоновой философии по своей сущности, учение их сохранило черты наружного сходства с нею. Вот причина, по которой Платону было приписано многое, вовсе ему не принадлежащее, в том числе и учение об идеальном начале искусства. Его понятия о красоте, под влиянием системы неоплатоников, были смешаны с понятиями его об искусстве, между тем как красоту видит он в живой действительности, еще высшую красоту находит в идеях и поступках мудреца; из последнего очевидно, что его «прекрасное» вообще то, что мы в обыкновенном разговорном языке называем «прекрасным» (добродетель прекрасна; патриотизм — прекрасное чувство; прекрасно иметь благородный образ мыслей; цветущий сад — прекрасен и т. д.), а не то «прекрасное», о котором говорит эстетика и которое состоит в совершенстве материальной формы, вполне проявляющей свое внутреннее содержание.
Но возвратимся к Аристотелю и его «Пиитике». В ней, кроме изложенного нами учения о происхождении искусства вообще, от которого поспешно переходит он к специальному вопросу о трагедии, мы находим еще довольно много мнений, имеющих интерес и для нашего времени. Скажем несколько слов о них. Мнений же, прилагающихся только к греческой поэзии, имеющих теперь только историческое значение, мы не должны касаться по нашему плану; точно так же должны мы пройти молчанием множество прекрасных мыслей о сущности драматической поэзии, потому что ныне их справедливость известна всем; и если нынешние драматурги не всегда с ними соображаются в своих произведениях, то единственно по недостатку сил или искусства: такова, например, мысль о том, что в драме (Аристотель говорит это о трагедии) самое существенное — действие, при недостатке которого пьеса непременно будет слаба, как бы ни велики были другие ее достоинства; требование, чтоб в пьесе господствовало строжайшее единство действия (считаем излишним повторять давно всеми высказываемую мысль, что, кроме единства действия, Аристотель не требует никаких других единств), и т. д.
Очень часто случается слышать мнение, что события из действительной жизни именно так, как случились, не должны быть изображаемы в поэзии; что, например, исторический роман должен непременно переделывать исторические события по требованиям искусства, «потому что исторический факт, в своей наготе, не имеет никогда достаточного внутреннего единства и сцепления между частями». — Аристотель приходит к этому вопросу по поводу исторических трагедий и решает его так: для поэзии необходимо, чтоб подробности действия вытекали необходимо одна из другой и чтоб их сцепление было правдоподобно; некоторым из действительно случившихся событий ничто не препятствует удовлетворять этому требованию: все в них развилось по необходимости и все правдоподобно — почему же не брать их поэту в их истинном виде? К чему же, после этого, служат все эти вымышленные герои, заслоняющие настоящих героев и введенные только за тем, чтоб своими выдуманными приключениями «придать поэтическое единство» изображению эпохи, как будто нельзя было найти истинно поэтических событий в жизни настоящих героев романа? Но мода на исторические романы прошла, и потому обратим наше замечание на рассказы и драмы из современного быта:
к чему это бесцеремонное драматизирование действительных событий, которое так часто встречается в романах и повестях? Выберите связное и правдоподобное событие и расскажите его так, как оно было на самом деле: если ваш выбор будет недурен (а это так легко!), то ваша не переделанная из действительности повесть будет лучше всякой переделанной «по требованиям искусства», т. е. обыкновенно — по требованиям литературной эффектности. Но в чем же тогда выкажется ваше «творчество»? — в том, что вы сумеете отделить нужное от ненужного, принадлежащее к сущности события от постороннего.
Фальшивое понятие о необходимости связи между развязкою и завязкою было источником ложного понятия о сущности трагического в нынешней эстетике. Трагическое событие обыкновенно представляют происходящим под влиянием какой-то особенной «трагической судьбы», по которой сокрушается все великое и прекрасное. Аристотель, которому понятие «рока» было гораздо ближе, нежели нам, ничего не говорит о вмешательстве судьбы в участь героев трагедии. Но герои трагические обыкновенно погибают? Это очень просто объясняется у него тем, что трагедия имеет целью возбудить чувства ужаса и сострадания; а если развязка будет счастлива, то это впечатление будет сглажено ею, хотя бы и было пробуждено предыдущими сценами. Вы возразите, что лица, погибающие в конце, представляются в начале трагедии мощными, счастливыми и т. д.? Это также просто объясняется у Аристотеля тем, что контраст поражает сильнее однообразности: увидев здорового — мертвым, счастливого — погибающим, зрители сильнее проникаются ужасом и состраданием, нежели тогда, когда этого контраста недостает. И Аристотель совершенно справедлив, не вводя «судьбы» в понятие трагического: эта внешняя, посторонняя сила только ослабляет внутреннюю связь событий, придавая нм направление, не вытекающее из сущности действия, — вот эстетический вред «судьбы» в трагедии. Поэзия должна изображать человеческую жизнь — пусть же она не искажает ее картин посторонними примесями.
Наконец, последнее замечание: главнейшую разницу между гомеровыми эпопеями и позднейшими трагедиями Аристотель поставляет только в том, что «Илиада» и «Одиссея» гораздо длиннее трагедий и не имеют такого строгого единства действия, какое необходимо для трагедий: эпизоды в трагедиях неуместны, в эпопее не вредят красоте целого 32. Но различия по направлению, по духу, по характеру содержания между трагедиями и гомеровыми поэмами Аристотель не замечает никакого (различие в способе изложения, конечно, он видит очень хорошо). Напротив, он, очевидно, предполагает существенную тождественность эпического и трагического содержания, говоря, что из «Илиады» или «Одиссеи» можно сделать по нескольку трагедий. Надобно ли считать недосмотром Аристотеля несогласие его в этом случае с новейшими эстетиками, полагающими существенное различие между содержанием эпическим и драматическим? Может быть; но скорее можно думать, что наши эстетики полагают слишком глубокое различие, по содержанию, между эпическою и драматическою поэзиею, которые у греков, очевидно, различались одна от другой более формою, нежели содержанием. В самом деле, беспристрастно подумав об этом вопросе (а наши эстетики явно пристрастны к драматической форме, «высочайшей форме поэзии»), едва ли не должно будет заключить, что если многие сюжеты повестей и романов не годятся для драмы, то едва ли есть драматическое произведение, сюжет которого не мог-бы так же хорошо (или еще лучше) быть рассказан в эпической форме. Да и то, что некоторые повести и романы (очень хорошие, но мало заключающие в себе действия и много лишних эпизодов и разглагольствований, чего, конечно, нельзя считать достоинством и в эпическом произведении) не могли быть обращены в сносные пьесы, не происходит ли главным образом оттого, что скука — очень сносная и отчасти даже приятная наедине, в удобные для этого часы, становится несносною, когда усиливается скукою тысячи скучающих, подобно вам, в душной атмосфере театра? Если присоединить к этому десятки других обстоятельств того же рода — например, неудачность всех аранжировок вообще, упущение из виду, со стороны повествователя, всех сценических условий, стеснительность самой драматической формы, — то увидим, что негодность для сцены многих пьес, переделанных из повестей, достаточно объясняется и без предположения существенного различия между эпическим и драматическим сюжетом.
К «последнему» замечанию позволяем себе прибавить еще одно, уже решительно последнее. Аристотель ставит трагиков выше Гомера и, признавая при всяком случае всевозможные достоинства в его поэмах, находит, однако, что трагедии Софокла и Эврипида несравненно художественнее их по форме (и глубже по содержанию, мог бы он прибавить) 33. Не следует ли и нам, по его прекрасному примеру, без ложного подобострастия смотреть на Шекспира? Лессингу было натурально ставить его выше всех поэтов, существовавших на земле, и признавать его трагедии геркулесовыми столбами искусства. Но теперь, когда мы имеем самого Лессинга, Гёте, Шиллера, Байрона, когда прошли причины восставать против слишком усердных подражателей французским писателям, стало, может быть, уже не столь естественно отдавать Шекспиру бесконтрольную власть над нашими эстетическими убеждениями и, кстати и некстати, приводить в пример всего прекрасного его трагедии, находя в них все прекрасным. Ведь Гёте признает же «Гамлета» нуждающимся в переделке? 34 И, может быть, Шиллер не выказал неразборчивости вкуса, переделав, наравне с шекспировым «Макбетом», и расинову «Федру». Мы беспристрастны к давно прошедшему: зачем же так долго медлить
н в его редакции аристотелевы сочинения распространились между учеными. Надобно думать, что Апелликону достались вместе с оконченными сочинениями и неоконченные; по всей вероятности, было у Аристотеля и по нескольку различных списков одного сочинения в различных переделках; вероятно, были в том числе извлечения, черновые бумаги и т. д. Одно из таких извлечений или черновых эскизов, по всей вероятности, и «Пиитика», дошедшая до нас. Этот рассказ некоторые ученые старались опровергнуть; но их возражения слабы, и он остается достоверным. Итак, в беспорядке оставшиеся сочинения Аристотеля, полусгнившие и источенные червями, были два раза дополняемы и исправляемы. Может ли после этого подлежать сомнению, что текст их очень нуждается в очищении и критическом исправлении?
Действительно, аристотелевы сочинения дошли до нас в чрезвычайно беспорядочном виде. Множество из них погибло; другие неудачно составлены из беспорядочно собранных частей, с примесью писанных начерно эскизов, неоконченных отрывков, извлечений, подложных отрывков. Чтоб указать на разительный пример, напомним о характере сборника, называющегося «Аристотелевой Метафизикой» и состоящего из 14 книг. 2-я и 3-я из них, по всей вероятности, не принадлежат Аристотелю; 1-я если и принадлежит ему, то не имеет ничего общего с остальными. «Метафизика» начинается, собственно, только с 4-й книги. 5-я также должна была составлять особенное сочинение и ошибочно введена в состав «Метафизики». За 4-ю по внутренней связи непосредственно должна следовать 6-я. 10-я — повторение 4-й и 5-й; это или извлечение, сделанное каким-нибудь читателем, или черновая рукопись, из которой произошли потом 4-я и 5-я книги; 11-я и 12-я заключают в себе много извлечений из Аристотеля, с прибавлением чуждых ему мыслей — они также сборник, сделанный одним из читателей. Итак, из 14 книг «Метафизики» собственно принадлежат Аристотелю и составляют связное сочинение только 4, 6, 7, 8, 9, 13 и 14 книги; остальные — или составленные из черновых бумаг, или извлечения и компиляции, составленные из аристотелевых сочинений другими учеными, и не должны входить в состав аристотелевой «Метафизики». Многие из так называемых «аристотелевых сочинений» решительно во всем своем составе только извлечеиия, сделанные другими философами из его сочинений; так, например, «Большая Этика» — извлечение из его «Этики для Никомаха»; «О мнениях Ксенофана, Зенона и Гор-гия» — собрание отрывков, в которых именно о Ксенофане и не говорится; «О направлениях и именах ветров» — отрывок из его сочинения «О признаках бурь»; «Проблемы» — позднейшее извлечение из различных его сочинений; «История животных» в 9 или 10 книгах (подлинность одной подлежит сомнению) — отрывок из сочинения, имевшего, по крайней мере, 50 книг; одним словом, половина, если не больше, аристотелевых сочинений, уцелевших от погибели, дошла до нас не в полном и не в настоящем своем виде.
Поэтому нисколько неудивительно, если мы должны будем „«Пиитику» Аристотеля признать отрывочным сокращением или черновым эскизом, в котором текст довольно сильно искажен 35. Не будем пускаться в мелкие доказательства испорченности и неполноты текста; они встречаются на каждом шагу: грамматические ошибки, недомолвки, бессвязность в сочетании предложений попадаются на каждой почти строке; беспрестанно встречаются такие места: «мы здесь должны рассмотреть четыре случая», и рассматриваются только два или три из обещанных четырех; такая критика, очень убедительная для филолога, была бы непонятна без длинных грамматических объяснений. Взглянем только на начало и конец дсчнедшей до нас «Пиитики» — и они уж дают возможность судить о ее полноте. В самом начале своего сочинения Аристотель говорит, что содержанием ее будут: «эпопея, трагедия, комедия, дифирамбическая поэзия, авлетика и кифари-стика» 36 (различные роды лирической поэзии с музыкальным аккомпанементом), а в дошедшем до нас тексте говорится только о трагедии и очень мало об эпопее. Ясно, что до нас дошла только часть сочинения. И действительно, по цитатам из «Пиитики» у других писателей мы знаем, что она состояла из двух (или даже трех) книг. Ясно, что до нас дошла только часть первой книги, в извлечении ли, сделанном другими, или в набросанном начерно эскизе. Оканчивается дошедший до нас текст предлржением, в котором стоит союз psv, необходимо требующий соответствующего последующего предложения с союзом 5é. Чтоб дать понятие о необходимости этого дополнения в греческом языке и не знающим греческого языка читателям, скажем, что соответствие союзов ріѵ и öè можно уподобить соответствию слов «с одной стороны», «с другой стороны», или «хотя — однако». Вообразим себе, что текст русской книги оканчивается такими словами: «вот что, с одной стороны, надобно сказать о трагедии»… не ясно лн, что текст этой книги остался без конца, и ближайшим продолжением должны были быть слова: «а с другой стороны…» Подобным образом оканчивается дошедший до нас греческий текст аристотелевой «Пиитики» *; ясно, что здесь оканчивается только одно отделение книги, и дальше следовало другое отделение о другом роде поэзии — вероятно, о комедии.
Итак, основная мысль рассуждения г. Ордынского: «Пиитика Аристотеля дошла до нас вполне и текст ее не нуждается в исправлении», едва ли может быть признана правдоподобною, а в доказательство ее написан весь комментарий. Поэтому пользоваться им будет неудобно.
Точно так же и его перевод аристотелева текста, вероятно
* Ihpi (uv otjv Tpa-fidSiac EipifjoOü) Юоата.
принес бы гораздо больше пользы, если б не отличался столь же сильным стремлением к оригинальности в языке, как отличается его комментарий стремлением к оригинальности в мнениях. Из небольших выписок, нами приведенных, читатели, конечно, заметили, что г. Ордынский перевел Аристотеля языком очень тяжелым и темным. Мы не говорим, чтоб аристотелеву «Пиитику» прочла вся русская публика, как бы ни был изящен и легок язык перевода, но все-таки она в изящном переводе нашла бы довольно много читателей; а перевод г. Ордынского едва ли привлечет многих; он испытает участь очень дельных переводов Мартынова, которые остались никем не читаны — именно по темноте и тяжеловатости языка. Зачем же г. Ордынский дал нам такой неудобочитаемый перевод, когда в том же самом рассуждении слогом своего комментария показывает он, что умеет писать языком очень понятным и довольно легким? Он говорит в предисловии, что старался перевести как можно ближе к подлиннику — прекрасно! Но, во-первых, всему есть пределы, и заботиться о буквальности перевода с ущербом ясности и правильности языка, значит вредить самой точности перевода, потому что ясное в подлиннике должно быть ясно и в переводе; иначе к чему же и перевод? Во-вторых, перевод г. Ордынского, правда, очень близкий, вовсе, однакож, не может назваться подстрочным; в нем очень часто два слова подлинника переводятся одним, одно — двумя словами, даже и там, где можно было перевести слово в слово. Не отступая от подлинника далее, нежели отступает г. Ордынский, можно было дать перевод ясный и удобочитаемый. Не слишком стеснительная близость к подлиннику, а оригинальные понятия г. Ордынского о русском слоге <Сявляются^> причиною недостатков его перевода. Он стремится к какой-то изысканной простонародности языка, умышленно не соблюдает правил языка литературного, старается не употреблять слов его, любит слова устарелые или малоупотребительные. К чему это? Пишите, как всеми принято писать; и если у вас есть живая сила простоты и народности в слоге, то она сама собою, без всякой преднамеренной погони, придаст вашему слогу простоту и народность. Всякое преднамеренное стремление к оригинальности имеет следствием вычурность; и нам кажется, что труды г. Ордынского, сохраняя все свое неотъемлемое достоинство, будут гораздо более читаемы и, следовательно, принесут гораздо более пользы, если он откажется от притязаний на оригинальность языка, решительно не нужных для ученого. — Конечно, мы высказываем эти замечания только потому, что, уважая полезную деятельность г. Ордынского, желаем его трудам приобретать больше и больше сочувствия в русской публике. Простимся же с нашим молодым ученым — конечно, не надолго — с желанием, чтоб русская литература навсегда сохранила в нем деятеля по части греческой филологии столь же добросовестного и трудолюбивого, каким был он до сих пор.
ОТЗЫВ Г. ОРДЫНСКОГО О САМОМ СЕБЕ И О НАШЕМ РАЗБОРЕ ЕГО КНИГИ
Итак, не было бы в наших журналах за прошедший месяц ничего нового по части учености, если б г. Ордынский не вздумал напечатать в «Москвитянине» очень горячую реплику на отзыв, сделанный нами в прошедшем году («Отечеств. Зап.» 1854, № 9-й, сентябрь) об «Аристотелевой Пиитике», переведенной и объясненной им, г. Ордынским. В этом отзыве мы отдавали должную справедливость трудолюбию г. Ордынского: он называет это комплиментом и сердится за'комплимент; мы говорили также, что г. Ордынский сделал удачный выбор, взяв предметом своего рассуждения такое важное сочинение, как аристотелева пиитика, и это кажется г. Ордынскому комплиментом… Но мы остаемся при прежнем мнении, что г. Ордынский трудолюбивый человек, хотя ему самому и угодно не признавать справедливости такого о нем отзыва. Кроме того, он говорит, что, относительно вопроса, в каком виде дошел до нас текст аристотелевой пиитики, разделяет общее мнение ученых, что этот текст — отрывок чернового эскиза, страждущий неисправностями всякого рода. Если так, значит, г. Ордынский принял нынче мнение, которое старались защищать и мы против его рассуждения, доказывавшего, что пиитика— сочинение полное, оконченное, дошедшее до нас в целости, а не отрывок чернового эскиза; в таком случае его нынешнее мнение основательно, и мы этому очень рады. Наконец, он уверяет, будто бы он сделал свой перевод хорошим языком: читатели «Отеч. Записок» очень легко могут решить, хорош ли язык перевода, когда потрудятся прочитать выписки из него, представленные в нашем разборе; если они найдут, что перевод г. Ордынского написан хорошим языком, мы опять будем очень рады, хотя не надеемся иметь это удовольствие. Наконец, г. Ордынский утверждает, будто бы рецензент не читал его книги. G прискорбием должны мы сказать, что читали и перечитывали ее три раза, стараясь отыскать в ней все малейшие достоинства; это прилежание было вознаграждено успехом: мы убедились, что коммен-
тарий составлен старательно, хотя и в защиту неосновательного мнения. Если г. Ордынскому так важно знать, читали ли мы н сколько именно раз читали его книгу, он может удостовериться в этом самым положительным образом: мы готовы передать ему наш экземпляр этой книги; пусть он отдаст его на суд людей, занимающихся сличением почерков, — они удостоверят г. Ордынского, действительно ли нашею рукою сделаны замечания на полях его книги; потом г. Ордынский передаст этот экземпляр в руки химиков, и они решат, действительно ли замечания эти писаны семь месяцев назад и писаны разными чернилами, и сколько раз принимались мы делать эти замечания. Таким образом чрезвычайно важный вопрос будет исследован с торжественностью, какой не бывало примеров с того времени, как совершенно подобным образом в 1818 году был исследован манускрипт чешской песни о Суде Любуши. Вопрос о книге г. Ордынского и о том, сколько раз перечитали мы ее, решаясь сказать, что перевод сделан тяжелым языком, необыкновенно важен для судьбы науки…
ПЕСНИ РАЗНЫХ НАРОДОВ Перевел Н. Берг. Москва. 18541
Говорят, будто бы человек не бывает ничем доволен. Действительно, так иногда случается, и нельзя не сказать, что в избитой фразе о ненасытности человека, о безграничности его требований есть своя доля правды, как есть своя доля правды во всем, что когда-нибудь было или будет сказано. Но гораздо более справедливости в противуположной мысли, которая слышится не столь часто: человек вообще чрезвычайно склонен к самодовольству и, вследствие того, к довольству всем, что считает своим. Посмотрите, как неумеренно каждый народ превозносит свое участие в истории, как ставит он себя первым в мире народрм! Для нас, например, посторонних, и потому до высокой степени беспристрастных зрителей забавно видеть, как французы почитают первою в мире литературою свою литературу, англичане свою, немцы свою; мало этого, — даже итальянцы до сих пор продолжают считать себя стоящими в челе всемирного движения, воображают, будто бы их поэты и ученые — не Данте или Ариосто, не Джордано Бруно или Галилей, — нет, современные, неважные ни для кого, кроме самих итальянцев, поэты и ученые — первые двигатели умственного и нравственного мира. Прсле этого легко будет оценить и степень основательности притязаний каждого нового поколения на безусловную справедливость стремлений своего века. Беспрестанно повторяется старая история присуждения греками награды тому человеку, который наиболее содействовал победе над Ксерксом: когда началась баллотировка, каждый из присутствовавших клал в урну свое собственное имя. Мы не говорим, чтобы все притязания настоящего поколения на славу были несправедливы; мы даже не хотим решать и того, справедливы ли притязания нашего времени на первенство над всеми предидущими историческими эпохами, на безусловную справедливость того «духа века», который веет ныне. Мы только хотим сказать, что похвала из собственных уст ненадежна, что самодовольство не ручается еще за справедливость и превосходство, что надобно ждать похвалы от других, не опираясь на собственную, что истина не есть исключительная привилегия одного какого-нибудь поколения, и что полезнее подвергать строгому по возможности анализу свои понятия о собственных достоинствах, нежели успо-коивать свое самолюбие фразами: «мы обладатели полной, всесторонней истины; все наши предшественники ошибались; мы выше и лучше всех; наши стремления безусловно безошибочны». Любовь к себе так сильна, что может нуждаться только в разумном обуздании, а не в безотчетных подстреканиях.
Одно из любимых обвинений со стороны нашего века против предыдущего — «наши отцы и деды мало заботились о народности». Как полно прилагается теперь эта мерка самовосхваления, например, к русской литературе! «Элемент народности слаб у Карамзина и Жуковского; потому содержание их произведений бесконечно ниже того содержания, какое находим в современной литературе». Быть может и справедливо, что в наше время литература развила в себе содержание более высокое и живое, нежели какое влагалось в нее нашими отцами; не хотим решать этого Еопроса — он может быть решен только последующими поколениями, и для нас было бы горько решить его отрицательно. У кого поднимется рука на то, что кажется ему своим? Но если трудно для нас признаться, что мы ниже наших отцов, что
Над миром мы пройдем без шума и следа, Не бросивши векам ни мысли плодовитой, Ни гением начатого труда, И прах наш с строгостью судьи и гражданина Потомок оскорбит презрительным стихом 2, —если нам трудно отказаться от претензий на превосходство, то, быть может, не так тяжело для нас взглянуть, действительно ли наше превосходство основывается на тех стремлениях, которые считаются отличительными чертами нашего века и которыми так гордится наш век.
Исключительное развитие племенных особенностей и общечеловечность — противуположные элементы; стремление к одному из них необходимо обращается в ущерб пристрастию к другому. В окончательном результате, правда, народность развивается соразмерно развитию общечеловечности: только образование даст индивидуальности содержание и простор; варвары все сходны между собою; каждая из высоко-образованных наций отличается от других резко обрисованною индивидуальностью. Потому, заботясь о развитии общечеловеческих начал, мы в то же время содействуем развитию своих особенных качеств, хотя бы вовсе о том не заботились. История всех наций свидетельствует об этом. Французский характер выработался только тогда, когда под древнеклассическим, итальянским и испанским влиянием развилось во Франции общее образование: Рабле, Корнель и Мольер — чистые французы; между тем французские трубадуры и труверы чрезвычайно мало отличаются от средневековых певцов остальных земель Западной Европы. То же самое надобно сказать об англичанах и немцах: Шекспир явился, когда все в Англии заботилось о древнеклассической и итальянской литературах; Лессинг, Гёте и Шиллер были воспитаны не изучением средневековой поэзии, а влиянием древиеклассической и английской образованности и литературы. Развитие самостоятельности идет вслед за образованностью. Истина, повидимому, очень простая. Об ней и не говорили сто или даже шестьдесят лет тому назад. И мы не знаем, до какой степени следует нашему времени гордиться тем, что стало необходимо напоминать о ней.
Совершенно к другому результату приводит то, когда преимущественное внимание обращается на развитие содержания, специально принадлежащего тому или другому народу. Эта племенная особенность не может быть понимаема иначе, как сумма тех особенностей, которыми известная нация на известной степени развития отличается от остальных народов, и преимущественно от образованных народов, потому что, как мы говорили, необразованные народы существенно не отличаются друг от друга. Заботясь о развитии столь исключительного содержания, необходимо становишься в отталкивающее положение против общечеловечных элементов; временное и случайное проявление становится в этом случае выше общего начала, форма выше содержания. Вместо движения превозносится застой, вместо живого духа начинает господствовать мертвая буква. Если бы мы захотели найти поразительный пример всего этого в ближайших временах и землях, ыы должны были бы припомнить грустную историю тевтономании, которая нанесла так много вреда блистательно начавшемуся возрождению Германии, которая заглушила благородные семена жизни, посеянные императором Иосифом II, Фридрихом Великим, Лессингом, Кантом, Шиллером. Здесь было бы неуместно повторять историю жалкого немецкого романтизма в науке и литературе и выказывать его внутреннюю слабость и несообразность. Все это уже было красноречиво высказываемо на русском языке, и желающие припомнить давно читанное, но в последнее время позабытое многими, лучше всего сделают, если обратятся к изучению тех понятий, которые были высказываемы в эпоху Лермонтова и Гоголя \ Возвращаясь к примеру, нами представленному, укажем только на состояние немецкой литературы в настоящее время. Она наводнена переводами дюмасовских романов. Вот к чему привела тевтономания: она, думая возвысить специальную самостоятельность в литературе, убила ее; трудами Шлегелей, Тика и т. д. немецкая литература приведена совершенно в то же состояние, от которого избавили ее гуманические усилия Лессинга; разница разве только в том, что в нынешний раз упала она гораздо ниже того уровня, на котором стояла до Лессинга, в эпоху Виланда. Такое печальное следствие необходимо, и объясняется очень просто. Забота об оригинальности губит оригинальность; истинно самостоятелен только тот, кто и не думает о возможности быть несамостоятельным. Толкует об энергии своего характера только слабохарактерный, боится подчиняться чужому влиянию только тот, кто чувствует, что его легко подчинить. Прочно мы владеем только тем, чего не боимся потерять. Итак, хлопоты о самостоятельности служат уже признаком отсутствия самостоятельности. Сознательная забота об оригинальности есть забота о форме. У кого есть содержание, тот не будет хлопотать, чтоб отличиться оригинальностью. Он не может не быть оригинален, потому и не думает об этом. А забота о форме приводит к пустоте и ничтожности. За ничтожностью следует подчинение.
Поклонение народной поэзии более всего основывается на подобных заботах о том, чтобы «литература прониклась своеобразным содержанием». Высказанные нами убеждения достаточно свидетельствуют, что мы не увлекаемся беспредельным пристрастием к народным песням. Мы не думаем ставить, как это делают многие, цыганского хора выше оперы или концерта, «Ай, вдоль по улице молодчик идет» выше моцартовской или россиниевской арии, не считаем «Древних русских стихотворений» Кирши Данилова выше «Стихотворений Пушкина». Нам кажется, что после всего сказанного исключительные почитатели народной поэзии, в том числе и г. Берг, могут упрекнуть нас в холодности к ней, и никто не причислит нас к их разряду. Итак, если в продолжение нашей статьи мы должны будем высказать о достоинствах народной поэзии суждения, которые для незнакомых с нею близко могут показаться слишком высокими, то читатели могут быть уверены, что высокое уважение к народной поэзии вызывается в нас только требованиями справедливости, а не безотчетным пристрастием и не какими-нибудь посторонними соображениями, как это часто бывает.
Отношение народных песен к произведениям письменной литературы почти совершенно соответствует отношению периода, в котором они развиваются, к характеру последующего развития народа. «Крайне трудно определить, — говорит г. Берг, — при каких именно условиях является хорошая песня у народа. Если скажут: у народа, способного к литературе — можно указать случаи, где хорошая песня является вовсе не у литературного народа. Если скажут: у благоденствующего — и тут можно найти опровержение и выставить случаи, где неблагоденствие как будто помогает явлению лучшей песни. Новая Греция тогда запела свои прекрасные клефтические песни 4, когда нагрянули турки и внесли в Морею смерть и опустошение. Может быть, нет ничего столь прихотливого, как песня». Совершенно справедливо, что степень развития народной поэзии у известного народа не определяется и последующим богатством его литературы, ни его благоденствием. Но сам г. Берг определяет время процветания народной поэзии, говоря: «Всегда движение цивилизации уничтожало
песню. Являясь у народа младенчествующего, но чуткого к своему слову (?), песня впоследствии заменялась произведениями отдельных лиц. Простой человек терял к ней привязанность и забывал ее для новых романсов». Итак, народная поэзия принадлежит специально младенческому периоду народной жизни. Этого общепринятого определения, однако, недостаточно. Не у всех младен-чествующих народов есть прекрасная и богатая народная поэзия. Чем же обусловливается ее расцвет? Энергиею народной жизни. Только там являлась богатая народная поэзия, где масса народа (нет надобности прибавлять, что слово народ мы здесь принимаем в смысле нации, племени, говорящего одним языком) волновалась сильными и благородными чувствами, где совершались силою народа великие события. Такими периодами жизни были у испанцев войны с маврами, у сербов и греков — войны с турками, у малоруссов — войны с поляками. Проследим ближе характер младенчествующего народа, чтобы справедливым образом оценить достоинство произведений, выражающих понятия и высказывающих жизнь того времени; потом взглянем на причины падения народной поэзии, чтобы видеть, почему не удовлетворяется ею народ, как скоро начинает цивилизоваться.
Один из величайших мыслителей нашего века 5 высказал идею о том, что высшая степень развития по форме совпадает с совершенною неразвитостью, существенно отличаясь от діее содержанием. В приложении к истории такая идея оказывается совершенно справедливою. Мы видим теперь, что конечный результат исторического развития состоит в теснейшем сближении всех членов нации в одно плотное духовное целое. Таково же положение людей до начала цивилизации. Все младенчествующее племя проникается совершенно одинакою духовною жизнью. В народе необразованном масса понятий так незначительна, что семейные предания, патриархальные наставления старших в семействе совершенно достаточны для того, чтобы познакомить каждого из членов патриархального общества со всею массою идей и познаний, вращающихся в обществе. Несколько наблюдений над свойствами трав, несколько правил относительно обращения с больным или раненым, — и патриархальный человек постиг всю премудрость отечественной медицины; несколько имен самых ярких звезд и созвездий — и патриархальный человек знает все, что известно его соплеменникам об астрономии. То же самое должно сказать относительно удобств и образа жизни. Их так мало, что самые могущественные, самые богатые члены патриархального общества живут почти совершенно так же, как и вся масса народа. Вспомним о гомеровых героях, которые сами готовят кушанье, которых жены и дочери сами ткут и шьют платье, сами его моют. Не разделенные от остальной массы населения ни привычками к особенному образу жизни, ни степенью образованности, высшие классы общества сливаются с другими в одно целое, неразрывное по своим чувствам и стремлениям. Не отталкиваемая различием понятий и образа жизни из постоянных и домашних соотношений, с могущественнейшими членами общества, остальная масса не принуждена сознавать своего ничтожества. Напротив, каждый член племени проникнут чувством собственного достоинства. Оно всегда сильно развито в младенчествующем обществе. Удобств жизни почти совершенно не существует; все привыкли довольствоваться самым простым удовлетворением первейших жизненных потребностей. Потому нищета и соединенные с нею чувства замечаются редко. В сущности все бедны, но этого никто не сознает, никто этим не тяготится. Общественные отношения таковы, что масса населения принимает непосредственное участие в делах (вспомним о характере общественного устройства у германцев и славян при их появлении в истории); национальные вопросы так просты и близки к выгодам каждого, что каждый член племени вполне понимает их и принимает в них самое живое участие. В самом деле, вопросы эти ограничиваются нападениями на соседей для грабежа или защитою собственного имущества от разорений. Одним словом, вся масса народа составляет однообразное целое, в котором каждый отдельный член совершенно подобен другим. При всеобщности чувства собственного достоинства, патриархальное общество вообще проникнуто какою-то нравственною возвышенностью; при всеобщей самостоятельности и участии в национальных делах, каждый член его представляется мыслителем, мудрецом; вообще, каждый привык жить умственно и нравственно, привык иметь какую-то возвышенную, благородную настроенность духа. Кроме того, по малочисленности развитых потребностей, по самой малочисленности способов приискивать им удовлетворение, по многим другим обстоятельствам, у каждого остается очень много времени, свободного от физических работ. Таким образом, у народа, находящегося на степени патриархальности, существуют все условия поэтического настроения духа, и нужно только, чтобы какие-нибудь события возбудили энергию в народе, дали пищу его нравственной жизни — тогда необходимо возникает могущественная народная поэзия. Мы говорили, что умственная и нравственная жизнь для всех членов такого народа одинакова — потому и произведения поэзии, порожденной возбуждением такой жизни, одинаково близки и понятны, одинаково милы и родственны всем членам народа.
Итак, народная поэзия возникает при отсутствии резких различий в умственной жизни народа и теснейшим образом связана с патриархальным бытом. При выходе из этого быта, при самом начале цивилизации, народ распадается на различные подразделения, из которых каждое отличается от остальных степенью образованности, образом жизни и т. д. Это — первое явление в истории народного развития. Им разрушаются все условия существования общенародной поэзии. Здравый смысл едва ли допускает идею о том, что необходимость цивилизации нуждается в доказательствах, что неизмеримое превосходство цивилизованного быта над варварским или полуварварским может подлежать сомнениям. Но как и все на земле, развитие цивилизации сопровождается не одними выгодами. Как первые лучи солнца озаряют только вершины гор и проходит долгое время, пока они достигнут низменных долин, так и цивилизациею сначала проникаются одни только могущественнейшие, высшие члены общества. Большинство остается в прежнем быте. Мало того; время и силы его все более и более поглощаются чисто физическим трудом. Все условия поэтической настроенности исчезают; нет и содержания для народной поэзии с тех пор, как масса народа перестала быть живою и сознательною участницею национальных предприятий. Народная поэзия увядает и гибнет.
Нет сомнения, что с этой, чисто литературной точки зрения цивилизация может представляться в невыгодном свете. Потому-то приверженцы поэзии, принадлежащей патриархальному быту, могут быть и часто бывают возбуждаемы к неприязни против цивилизации соображениями, вытекающими из благородного образа мыслей. Тем не менее их понятия никогда не могут заслужить одобрения. Они существенно ошибочны.
Люди, познакомившиеся с выгодами и прелестью цивилизации, никаким образом не могут быть приведены к тому, чтобы отказаться от нее. Их ответ всегда будет один и тот же: «вкусив сладкого, мы отвратились от горького»; и потому все сожаления о падении патриархального быта и, чтобы специальнее говорить о нашем предмете, об увядании народной поэзии совершенно бесполезны.
Существенные качества народной поэзии, достойной своего имени, очевидны из качеств народа, которому она принадлежит, из обстоятельств ее происхождения и роли, какую играет она в народной жизни. Народная поэзия развивает. ся только у народов энергических, свежих, полных кипучей жизни, искренности, достоинства и благородства. Потому она всегда полна свежего, энергического, истинно поэтического содержания. Она всегда возвышенна, целомудренна, если можно так выразиться, чиста, проникнута всеми началами прекрасного, которые вполне развиваются в человеке, правда, только цивилизациею, но которые, однакоже, лежат в сущности нашей нравственной организации, потому инстинктивно владычествуют человеком, если он не испорчен неблагоприятными обстоятельствами. Она принадлежит целому народу, потому чужда всякой мелочности и пустоты, которой в неиспорченном народе может поддаваться только отдельный человек, а не целая масса; она вообще полна жизни, энергии, простоты, искренности, дышит нравственным здоровьем. Каково ее содержание, такова и форма ее: проста, безыскусственна, благородна, энергична. Г. Берг говорит: «Первое, почему народная песня заслуживает внимания образованного человека, есть достоинство ее языка, свежего, яркого, не искаженного чуждым влиянием». Мы совершенно согласны, что она обладает этим достоинством, но думаем, что оно в ней уже второстепенное, как все достоинства формы в произведениях поэзии вообще, и само есть следствие свежести, яркости и самостоятельности ее содержания. Таким образом, в народной поэзии мы находим несравненно высшее достоинство, нежели какое указывает даже г. Берг, ее страстный поклонник.
Чрезвычайно высокое поэтическое достоинство народной поэзии обнаружилось для всех знающих людей с тех пор, как доказано было, что гомеровы поэмы не более, как сборники народных греческих песен; точно так же прекрасное творение Фирдоси, иранская «Книга царей» — только сборник и переделка народных песен. В ней много есть эпизодов, подобных которым по красоте не найдется даже в «Илиаде» и «Одиссее». Прекрасные романсы о Сиде также показывают, что не одним грекам досталось на долю развить чудную народную поэзию. Но мы можем указать примеры еще более близкие к нам. Сербские эпические песни прекрасны не менее греческих. Жалеем, что не можем на этот раз воспользоваться книгою г. Берга, у которого не находим достойных эпических песен, и потому принуждены для доказательства наших слов представить в жалком прозаическом переводе один из отрывков несравненно прекрасной сербской эпопеи. Для примера мы выбираем песни о косовской битве (1389 г.), в которой погибло сербское войско, погиб князь сербский Лазарь, которая на четыре века предала Сербию во власть турок. Для объяснения собственных имен довольно будет сказать, что князь Лазарь был женат на Милице, дочери Юго-Богдана, у которого было девять сыновей (девять Юговичей), что Вук Бранкович, первый сербский вельможа, передался на сторону турок, и что в одной из песен представляется, будто бы он перед битвою старался оклеветать лучшего воина сербского, Милоша Обилича, который действительно потом пожертвовал собою в битве для того, чтобы убить Мурата, успел заколоть его и был тут же изрублен его телохранителями. Наконец, заметим, что у сербов есть обычай побратимства (братства по оружию). Побратимство такая же крепкая и тесная связь, как родство по крови. Побратимы неразлучны на жизнь и смерть. Три главные богатыря или юнака — Милош Обилич, Иван Косанчич и Топлица Милан — побратимы.
«Султан Мурат идет на Косово поле; пришедши, пишет он письмо и посылает его в город Крушевец, к сербскому князю Лазарю: «Лазарь, сербский князь! Никогда не бывало н не может быть, чтоб в одной земле были
два господина, чтобы один подданный давал две дани. Мы не можем оба царствовать. Пришли же мне ключи и дань, золотые ключи от всех городов и дань за семь лет вперед. А если не пришлешь, приходи на Косово поле, и поделим саблями землю». Получил Лазарь письмо, читает его, а сам крупными слезами плачет». _
«Вот какое заклятье наложил князь Лазарь: «кто не пойдет на бой на Косово, пусть не родится ничто от рук его, ни на поле белая пшеница, ни в винограднике лоза!»
«Пир пирует сербский князь Лазарь в Крушевце, крепком городе. Всех господ и детей господских посадил он за стол: по правую руку старого Юга Богдана (своего тестя) и подле пего девятерых Юговичей (его сыновей, своих шурьев); а по левую руку Вука Бранковича (знатнейшего из вельмож) и всех остальных господ по порядку; а на конец стола воеводу Мнлоша (славнейшего богатыря) и подле него двух других воевод, Ивана Косанчича и Топлицу Милана. Берет царь золотой кубок вина и говорит сербским господам: «За чье здоровье пить мне этот кубок? Если по старшинству, то за старого Юга Богдана; если по вельможеству, за Вука Бранковича; если по родству, за моих девятерых шурьев, Юговичей; если по красоте, за Ивана Косанчича, если по росту, за Топлицу Милана; если по богатырству, за воеводу Милоша. Ни за кого другого не стану же я пить, выпью за здоровье Милоша Обилича. Твое зд-ровье, Милош, верный и изменник. Прежде верный, а потом и змениикі Завтра выдашь ты меня на Косовом поле и перебежишь к турецкому царю Мурату. Твое здоровьеі Пей же виноі отдаю тебе кубокі» Вскакивает Милош на легкие ноги и кланяется до черной земли. «Благодарю тебя, славный князь Лазарь, благодарю тебя за твой тост, за твой тос. т и подарок, только не благодарю тебя за такую речь. Клянусь жизнью, никогда не бывал я изменником, не бывал и никогда не буду. Нет, завтра на Косовом поле хочу я умереть за христианскую веру. Изменник сидит подле тебя: это проклятый Вук Бранкович. Завтра мы увидим на Косовом поле, кто верен, а кто изменник. Клянусь я богом великим, зарежу я завтра на Косовом поле турецкого царя Мурата, стану на горло ему ногою. А если даст мне бог и счастье мое воротиться живым в Крушевец, схвачу я Вука Бранковича, привяжу его к боевому копью, как баба кудель на пряслицу, и отнесу его на Косово поле».
Какая чудная сцена! Изменник Вук старается поколебать уверенность князя в преданности лучшего богатыря; князь верит клевете и говорит богатырю:
— Теперь ты стал изменником, но, все-таки, пью за твое
здоровье!.
— Завтра увидим, изменник ли я, — отвечает богатырь.
После этого Милош посылает своего побратима, Ивана Косанчича, осмотреть турецкий лагерь, высмотреть, где шатер Мурата.
— Ну что, много ли войска у турок, можем ли мы с ними биться? Можем ли победить турок? — спрашивает Милош его по возвращении.
— Сильное войско у турок, брат мой Милош Обилич! Если бы мы все обратились в соль, не осолили б о нас рук турки. Пятнадцать дней ходил я по турецкому стану, не нашел ему края. От Мрамора до Сухого Явора, от Явора до Сазлии, от Сазлии до железного мосга, от железного моста до Звечан, от Звечана
до Чечана, от Чечана до годного хребта — все покрыто турецким войском: конь стоит плотно к коню, человек к человеку. Если бы с неба упала крупа, не упала бы она нигде на землю, а везде на добрых коней и людей.
— Где же шатер царя Мурата? Я поклялся князю заколоть турецкого, царя Мурата, стать ему ногой на горло.
— Безумство это, милый побратим! Если б у тебя были соколиные крылья и упал бы ты с неба на Мурата среди его сильной стражи, не унесли бы и крылья твоего тела.
— Ну, Иван, милый брат, не говори же ты этого князю, чтоб не испугать князя и войска. А скажи ты князю: довольно войска у турок, но можно с ними нам сразиться и легко их победить; не боевое у них войско, а все старики и малолетки, не видавшие боя; а какое войско у них и было, то богатыри перемерли от тяжких болезней, а добрые кони от мора.
«Сидит Лазарь за ужином, подле него царица Милица. И говорит ему царица: «Царь Лазарь! завтра ты идешь на Косово поле, ведешь с собою слуг и воевод, а дома не оставляешь ни одного мужчины, который бы мог отнести письмо к тебе на Косово поле и воротиться назад (ко мне с вестью о тебе). Уводишь ты девятерых моих милых братьев, девятерых Юговичей: оставь мне хоть одного брата, заклинаю тебя». Говорит ей сербский князь Лазарь: «Госпожа моя, царица Милица! которого же из братьев угодно тебе выбрать, чтоб я оставил его дома?» — «Оставь мне Бошко Юговнча». Тогда сказал сербский князь Лазарь: «Госпожа моя, царица Милица! Когда завтра настанет белый день и взойдет солнце, и когда отворятся городские ворота, выходи ты к воротам. Через них строем пойдут войска. Поедут всадники с боевыми копьями, а впереди их Бошко Югович, он несет крестоносное знамя. Скажи ему от меня разрешенье и просьбу, чтоб он отдал кому-нибудь знамя, а сам остался дома с тобою». Когда назавтра рассвело утро и отворились городские ворота, вышла царица Милица, стала она у ворот, и пошли строем войска. Поехали всадники с боевыми копьями, впереди их Бошко Югович; на коне он, весь в чистом золоте; осенило его крестоносное знамя, свесилось оно до коня; на знамени золотые яблоки, на яблоках золотые кресты, от крестов висят кисти, расстилаются по плечам Бошко. Бросилась к нему царица Милица, схватила за узду коня, обвилась руками около шеи брата и стала ему тихо говорить: «Брат мой, Бошко Югович! Царь тебя отдал мне, чтобы не ходил ты на бой на Косово поле; сказал тебе разрешенье и просьбу, чтоб отдал ты кому-нибудь знамя, остался со мной в Крушевце, вымолила я себе брата». Но говорит Бошко Югович: «Ступай, сестра, на белую башню, а я с тобою не ворочусь, и не отдам из рук крестоносного знамени, хоть бы царь дарил мне Крушевец. Нет; тогда скажет остальная дружина: «Смотрите, какой трус Бошко Югович! Он не смеет итти на Косово поле пролить кровь за крест честный и умереть за свою веру!» И погнал он коня в ворота. Вот едет старый Юг-Богдан и за ним семь Юговичей. Всех семерых останавливала она одного за другим; ни один и слушать не хочет. И вот следом едет Воин-Югович (т. е. последний брат). Схватила она за повод его коня, обвилась руками около его шен и стала ему говорить: «Брат мой. Вонн-ЮговичІ Царь отдал тебя мне н сказал, чтоб ты остался со мною в Крушевце». Говорит ей Воин-Югович: «Ступай, сестра, на белую башню: не ворочусь я с тобою, хотя бы знал, что погибну. Иду я, сестра, на Косово поле пролить кровь за крест честный и умереть за свою веру с братьями». И погнал он коня в ворота. Когда то увидела царица Милица, упала она на холодный камень, упала и лишилась чувств. Тут едет князь Лазарь. Полились у него слезы по лицу; озирается он направо н налево н кличет слугу Голу-
бана. «Голубан. верный мой слуга! Сойди ты с коня, возьми госпожу на. белые руки, отнеси ее на ^высокую башню. И приказываю тебе именем божиим: не ходи ты на бой на Косово поле, а останься дома с нею». Когда то услышал слуга Голубан, полились у него слезы по белому лицу (оттого, что не может он итти на бой); сошел он с коня, взял госпожу на белые руки, отнес ее на высокую башню. Но не может он одолеть своего сердца, чтоб не итти на бой на Косово поле. Воротился он к своему коню, сел иа него, поехал на Косово. Когда назавтра рассвело утро, прилетели два ворона с Косова поля широкого н сели на белую башню, на башню князя Лазаря; один каркает, другой говорит: «Это лн башня славного князя Лазаря? Или уж нет в ней никого?» Никто в башне того не слышал, слышала только царица Милица; ока вышла из белой башни, спрашивает двух воронов: «Ради бога, скажите, два ворона, откуда вы полетели ныне? Не с Косова ли поля? Не видалн ль два сильные войска? Сразились ли войска? и чье войско победило?» Говорят ей два ворона: «Бог свидетель, царица Милица, ныне утром полетели мы с Косова поля. Видели мы два сильные войска; сразились войска; оба царя погибли; из турок кое-кто и остался; а из сербов кто и остался, все переранены, перекровавлены». Они это еще говорили, как едет слуга Милутин, держит он правую руку в левой, на нем семнадцать ран, весь конь под ним в крови. Говорит ему госпожа Милица: «Что, неверный слуга Милутин? Или выдал ты царя на Косовом поле?» Но говорит слуга Милутин: «Сними меня, госпожа, с богатырского коня, умой меня холодной водою, примочи мои раны красным вином; изнемог я от тяжких ран». Сняла его царица Милица, умыла его студеною водою, примочила его раны красным ^дином Когда он стал приходить в память, спрашивает его госпожа Милица: «Что было, слуга мой, на Косовом поле? Где погиб славный князь Лазарь? Где погиб старый Юг-Богдан? Где погибли девять Юговичей? Где погиб Милош воевода? Где погиб Вук Бранкович? Где погиб Бановнч Страхиня?»
И начал слуга сказывать: «Все легли, госпожа, на Косовом поле. Где погиб славный князь Лазарь, там много наломано копий, много копий и турецких и сербских, но больше сербских, нежели турецких, защищая, госпожа, своего князя. А Юг, госпожа, погиб вначале, в первом бою. Погибли восемь Юговичей, не выдавая брат брата. Остался лишь Бошко Югович; развевается его крестоносное знамя по Косову полю, еще разгоняет он турецкие толпы, как сокол стадо голубей. Где стоит кровь по колено, там погнб Банович Страхиня. Милош, госпожа моя, погиб у Снтницы, у воды студеной, где погибло много турок. Милош убил турецкого царя Мурата и двенадцать тысяч турок. Бог да спасет его мать н отца! Он оставил по себе память сербскому народу, так что будут о нем говорить, пока будут на свете люди и Косово поле. А что спрашиваешь гы о проклятом Вуке, прокляты да будут и мать и отец его! Он изменил царю на Косовом поле и отвел к туркам, госпожа моя, двенадцать тысяч латников».
«Рано вышла в поле косовская девушка, вышла рано, до восхода солнца. Засучила белые рукава до белых локтей; на плечах несет белый хлеб, в руках две золотые чаши; в одной чаше холодная вода, в другой красное вино. Идет она, молодая, на косовскую равнину, ходит по месту битвы и переворачивает юнаков, лежащих в крови; которого юнака найдет живым, умывает его холодною водою, поит его красным вином, кормит хлебом. И дошла она до юнака Павла Орловича, до молодого княжеского знаменосца, и нашла его живым. Отсечена у него правая рука и левая нога до колена, и переломлены у него ребра, видны у него легкие. Поднимает она его из глубокой крови, умывает его холодною водою, поит его красным вином, кормит его белым хлебом. Когда в юнаке забилось сердце, говорит Павел Орлавич: «Милая моя сестра, косовская девушка! Что у тебя за великая нужда, что осматриваешь ты в крови юнаков? Кого ты ищешь на месте битвы? (брата или племянника, или родного отца?» Говорит косовская девушка: «Милый брат мой, незна-
комый воин! Не ищу я никого из родных, ни брата, ни племянника, ни старого отца. А знаешь ли ты, незнакомый воин, когда ѵ князя Лазаря причащали войска около прекрасной Самодержской церкви три недели тридцать калугеров (старых монахов)? Причастились все сербские войска, а после всех три боевые воеводы, один Милош воевода, другой Иван Косанчич, третий Топлица Милан. Я в то время стояла в воротах, когда шел воевода Милош. Красавец юнакі Волочится ѵ него сабля по земле, шелковая на нем шапка, кованое перо (т. е. серебряное, на шапке), пестрый на нем плащ, около шеи шелковый воротник. Озирается он и глядит иа меня, снимает с себя пестрый плащ, снимает с себя и дает мне. «Возьми, девушка, пестрый плащ; по нем и по имени моем вспомнишь и найдешь ты меня. Я иду, моя душа, на смертный бой. Молись богу, моя душа, чтоб воротился я вдоров с боя: тогда и тебе будет доброе счастье; возьму тебя в жены своему побратиму Милану, а сам буду у тебя свадебным провожатым». За ним идет Иван Косанчич; прекрасный юнак! Волочится у него сабля по вемле (следует прежнее описание), на руке у него позолоченный перстень. Озирается он и глядит на меня, снимает с руки золоченый перстень, скидает с руки и отдает мне: «Возьми, девушка, золоченый перстень! По нем и по имени моем найдешь ты меня (следует повторение прежних слов). Возьму тебя в жены своему побратиму Милану, а сам буду у тебя дружкою». За ним идет Топлица Милан. Красавец юнак! Волочится у него сабля по земле, шелковая на нем шапка, кованое перо, пестрый на нем плащ, около шеи шелковый воротник, на руке у него золотое кольцо. Озирается он и глядит на меня, с руки снимает золотое кольцо, снимает с руки и дает мне: «Возьми, девушка, золотое кольцо, по кольцу и по имени моем вспомни меня: я иду на смертный бой, душа моя; молись богу, милая душа моя, чтобы воротился я здоров с боя. Тогда тебе, душа, будет доброе счастье: возьму я тебя себе верною подругою». И ушли три боевые воеводы. Их я теперь ищу по месту битвы». И говорит Павел Орлович: «Дорогая сестра, косовская девушка! Видишь ли, душа моя, где лежат боевые копья наломаны густо и высоко? Там текла юнацкая кровь доброму коню до стремени и До повода, юнаку до шелкового пояса. Там погибли все трое они. Иди ты домой, не кровавь рукавов и платья». Когда девушка выслушала эту речь, полились у нее слезы по белому лицу; пошла она домой, рыдая белою грудью: «Бедная я! несчастная яі Если до зеленой сосны дотронусь я, несчастная, и зеленая сосна посохнет!»
Прелесть содержания и художественная полнота формы одинаково совершенны в этих превосходных песнях. Читатели позволят нам привести еще один пример из цикла наших эпических сказаний о Владимире. Былина, извлечение из которой мы хотим представить здесь, записана г. Фаворским и напечатана в «Прибавлениях к I тому Известий II Отделения Академии Наук». Мы позволяем себе держаться обыкновённого правописания, чтобы не шокировать глаза читателей непривычными формами.
У князя Володимира пир; наевшись в полсыта, напившись в полпьяна, бояре начинают хвастаться друг перед другом:
В полсыта бояре наедалися, в полпьяна бояре напивалися, промеж себя бояре похвалялися; сильв-от хвалится силою, богатый хвалятся богачеством, купцы-то хвалятся товарами, товарами хвалятся ваморскими; бояре-то хвалятся поместьями, они хвалятся ветчинами.
Один только не хвалится Данило Денисьевич.
Тут возговорит сам Володимир князь:
Ох ты гой еси, Данилушко Денисьевич, еще что ты у меня ничем не хвалишься?
Али нечем те похвалитися? али нет у тебя золотой казны, али нет у тебя молодой жены, али нет у тебя платья цветного?
Ответ держит Данило Денисьевнч:
Уж ты батюшка наш Володимир князь! есть у меня золота казна, еще есть у меня молода жена, еще есть у меня и платье цветное.
Нечто так- я это призадумался.
Тут пошел Данило с широка двора.
Интродукция прекрасна. Тотчас по уходе Данила Денисьевича, князь Володимир советуется с боярами о выборе жены. Миша-точка Путятин сын говорит, что нигде не находит он невесты, достойной князя; одна только Василиса Никулишна, жена Данила Денисьевича, достойна быть супругою князя.
— Где же это видано, где слыхано, от живого мужа жену отнять? — грозно говорит Владимир и велит казнить коварного советника.
Но Мишаточка Путятин сын объясняет князю свой план отделаться от Данила Денисьевича:
Мы Данилушку пошлем во чисто поле, во те ли луга леванидовы, мы ко ключику пошлем ко гремячему, велим поймать птичку белогорлицу, принести ее к обеду княженецкому, что еще убить ему льва лютого, принести его к обеду княженецкому.
Данило погибнет при исполнении такого поручения. Владимиру понравилось это предложение. Все молчат, но старый козак Илья Муромец не скрывает своего неодобрения на этот замысел:
— Уж ты батюшка, Володимир князь! — говорит он, — изведешь ты ясного сокола, не поймать тебе белой лебеди.
Князь велит бросить его в темницу, а сам пишет письмо (ярлыки) к Данилу Денисьевичу. Данило Денисьевич был в это время на охоте, и письмо получила Василиса Никулишна; прочитав его, тотчас догадалась она о грозящей опасности:
Стала Василиса ярлыки пересматривать, заливалася она горючьми слезми; скидовала с себя платье цветное, надевает на себя платье молодецкое, села на добра коня, поехала во чисто поле, искать мила дружка своего, Даннлушка.
Нашедши его, она говорит:.
— Последнее у нас с тобой свиданье, мдй сердечный другі Поедем домой!.
Приготовляя мужа к отъезду для исполнения княжеского поручения, она подает ему вместо малого колчана большой.
— Зачем это? я велел тебе подать малый?
— Ты надеженька, мой сердечный друг, лишняя стрелочка тебе пригодится: пойдет она по своем брате богатыре.
Она предугадывает план врагов. Данило едет во чисто поле, в поля леванидовы, ко ключику ко гремячему, к колодезю к студеному. Глядит он — с киевской стороны
Не белы снеги забелелися, не черные грязи зачернелися, забелелася, зачернелася сила (войско) русское, на того ли на Данилу на Денисьича.
Тут заплакал Данило горючьми слезми: возгбворит он таково слово:
Знать, гораздо я князю стал ненадобен, знать, Володимиру не слуга я был.
Берет он саблю боёвую, изрубил он высланное против него войско. Но через несколько времени глядит он опять на киевскую сторону и видит, что на него высланы новые противники:
Не два слона в чистом поле слонятся, не два сыры дуба шатаются: слонятся, шатаются два богатыря, на того ли на Данилу на Денисьича: его рбдный брат Никита Денисьевич, и названный брат Добрыия Никитович.
Тут заплакал Данило горючьм и, слезми,
Уж и правду, знать, на меня господь прогневался,
Володимир князь на удалого осердился:
еще где это слыхано, где видано,
брат на брата со боём (с боем, на бой) идет.
Берет Данило свое востро копье,
Тупым концом втыкает во сыру землю,
А на вострый конец сам упал.
Спорол (вспорол) себе Данило груди белые, покрыл себе Денисьич очи ясные.
Извещенный о его смерти, Володимир собирает свадебный поезд и едет в Чернигов, входит в терем вдовы:
Приехали ко двору ко Данилину, восходят во терем Василисин-от.
Целовал ее Володимир во сахарные уста.
Возговорит Василиса Никулишна:
Уж ты, батюшка, Володимир князь!
Не целуй меня в уста во кровавы, без моего друга Данилы Денисьича.
Тут возговорит Володимир князь:
Ой ты гой еси, Василиса Никулишна! наряжайся ты в платье цветное, в платье цветное, подвенечное.
Наряжалась она в платье цветное, взяла с собой булатный нож.
Поехали ко городу ко Киеву.
Когда поровнялся поезд с лугами леванидовыми, Василиса Никулишна просит князя, чтоб он отпустил ее проститься' с телом мужа. Володимир отпускает ее под стражею двух богатырей.
Подходила Василиса ко милу дружку, поклонилась она Даниле Денисьичу, поклонилась она, да восклонилася; возговорит она двум богатырям:
Ох вы гой есте, мои вы два богатыря, вы подите, скажите князю Володимиру, чтобы не дал нам валяться по чисту полю, по чисту полю со милым дружком, со тем ли Данилом Денисьевичем.
Берет Василиса свой булатный нож, спорола себе Василисушка груди белые, покрыла себе Василисушка очи ясные.
Ее последнюю волю передают Володимиру, и по приезде в Киев он выпускает из погреба Илью Муромца, который предвещал ему гибельный конец замыслами наказывает злого советника Мишатку Путятина: '
Выпущал Илью Муромца из погреба, целовал его в головку, во темичко;
Правду сказал ты, старой казак, старбй казак, Илья Муромеці Жаловал его шубой соболиною; а Мишагке пожаловал смолы котел.
Русская былина уступает в поэтическом достоинстве сербским песням; но и она прекрасна. Что же касается до сербских песен, нами переведенных здесь, должно решительно сказать, что только у первоклассных поэтов могут быть найдены произведения, равные им по красоте. Почему же эта народная поэзия у всех народов уступала место письменной литературе, как скоро народ начинал цивилизоваться? Почему повсюду вместо песен, созданных всем народом, как одним нравственным лицом, появлялись произведения, писанные отдельными лицами? Общий ответ мы уже видели выше: однаковость умственной и нравственной жизни во всех членах племени уничтожается цивилизациею, с тем вместе должна упасть и поэзия, принадлежавшая нераздельно целому народу. Но если ясно из этого, почему в наше время у немцев или русских не может вновь являться песен, подобных сербским, то еще остается неразрешенным важнейший вопрос: почему образованные слои народа не удовлетворяются прекрасными песнями, которыми довольствовались их предки? Почему немцы читают Гёте и Шиллера, а не Нибёлунгов, русские Пушкина, а не Киршу Данилова? Не есть ли пренебрежение народных песен для произведений отдельных поэтов несправедливость? Подобные вопросы были подняты в германской литературе тевтономанами и романтиками 6. У нас они слышатся еще довольно редко, тем не менее могут иметь свой интерес.
Цивилизуясь, народ перестает вообще удовлетворяться патриархальным бытом и его произведениями; почему, здесь не место говорить; мы должны смотреть только на нашу специальную сторону общего вопроса, на причины того, что, цивилизуясь, народ перестает удовлетворяться народной поэзией. Умственная и нравственная жизнь патриархального общества слишком бедна для цивилизованного народа. Потому и содержание народной поэзии слишком бедно для него. В самом деле, если народная поэзия превосходно развивает свои темы, то тем у нее очень мало и они слишком просты; то же самое надобно сказать и о чувствах, проникающих народные песни. Воинские воспоминания — вот вся история патриархального народа; любовь доброго молодца (без всякой определеннейшей характеристики) к красной девице (без всякой определеннейшей характеристики) и два-три другие, столь же общие мотива — вот все содержание лирики.' Народная песня должна прилагаться к чувствам решительно каждого человека; иначе она не нужна целому народу, а годится только Для нескольких отдельных лиц — вот первая причина этой скудости; вторая причина — в патриархальном обществе действительно нет ни духовного разнообразия, ни мыслей и чувств, сколько-нибудь разнообразных или многосложных. Цивилизованный молодей человек, не просто «добрый молодец», любит «красную девицу» не потому только, что она «красная девица», — он, смотря по различию СЕоего нравственного направления, ищет в ней особенных качеств характера, ума и т. д.; ни о чем подобном не знает народная песня. Потому ее портреты, ее чувства не довольно близко подходят к лицам и чувствам образованного общества; в ней мало индивидуальных особенностей, которых мы более всего ищем, чтобы сказать: «это говорится обо мне, это подходит к моему положению и чувствам». Что мы сказали об эротической песне, прилагается и ко всякой другой народной песне. Моим потребностям соответствуют только песни отдельных поэтов, выражающих не чувство вообще, а именно такое чувство, каким проникнут именно я и которое остается чуждо в этом особенном развитии для многих других людей. Вот почему даже те понятия и чувства, которые общи образованному человеку с патриархальным (наприм., любовь), выражаются в народной поэзии неудовлетворительным для нас образом. Не говорим уже о том, что цивилизация развивает в нас множество чувств и, особенно, понятий, о которых вовсе не знает патриархальный человек. О многом, чего мы ищем в поэзии, народная поэзия вовсе не говорит; о чем говорит, говорит не так, как должна говорить поэзия по нашим требованиям. Содержание народной поэзии слишком бедно для нас.
Столь же неудовлетворительна для нас ее форма. Иногда случается слышать, что народную поэзию обвиняют в недостатке художественной формы. Это совершенно несправедливо. О чем говорит народная поэзия, говорит она чрезвычайно художест-
венно. Ее недостаток совершенно другого рода; это — однообразие, доходящее до чрезвычайной монотонности^ Сущность патриархальной жизни — неподвижность; формы этой жизни — неподвижные, оцепеневшие формы. Точно таковы же они и в народной поэзии. Об этом достаточно говорит уж внешний состав стиха, до чрезвычайности однообразный. Так, все греческие эпические песни сложены гекзаметром; во всех сербских один и тот же стих, десятисложный, разделяющийся на две половины, из которых в первой четыре, а во второй шесть слогов, например:
Царь Мурате 'у Косово паде;
Како падс ситнѵ книгу пише:
Те іе шале.; на Крушевцу граду, и т. д.
(Начало первой из переведенных нами песен: царь Мурат на Косово пришел; как пришел, мелкое письмо пишет и его посылает в город Крушевец.) Точно так же неизменны обычные, так называемые «эпические» выражения, которыми наполнены все песни. У нас, например, всегда добрый молодец, никогда просто молодей, или с каким-нибудь другим эпитетом; красна девица, лютая свекровь матушка, сыра земля и т. д.; у сербов всегда легкие ноги, гибкие ребра, белый двор, холодная вода, боевое копье и т. д. Как бы ни была велика меткость и красота подобных эпитетов, без которых не обходится ни одно часто употребляемое слово в народной поэзии, нельзя, однако же, не признаться, что их беспрестанное повторение чрезвычайно монотонно. Этим не ограничивается монотонность, неподвижность формы; она идет гораздо далее: все фразы, все мысли, все картины имеют один и тот же, раз навсегда установившийся, неизбежный вид. Постоянно повторяются одни и те же стихи, целые отрывки из нескольких стихов. Это каждый может заметить, сличив несколько песен. Потому песни так легко и перемешиваются одна с другою, сливаются, раздробляются; каждая из них — мозаика, составленная из кусков, беспрестанно повторяющихся в других песнях. Каждый из них прекрасен, в этом нет спора; но что сказали бы мы, если б, например, у Пушкина повторялись двадцать раз в разных поэмах прекрасные стихи:
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она заооет,
То заплачет, как дитя…
И если б он, говоря о Кавказе сто или более раз, каждый оаз описывал его так:
Кавказ подо мною; один в вышине
Стою над снегами ѵ края стремнины;
Орел, с отдаленной поднявшись вершины, и проч.
Мы нисколько не оскорбляемся подобными повторениями в народных песнях. Из этого следует, что мы не прилагаем к ним тех требований, соблюдение которых ставим в непременную обязанность поэзии, нас удовлетворяющей.
Вообще, нам кажется фактом, не подлежащим сомнению, что народная поэзия не может удовлетворять цивилизованного человека. Ее содержание слишком бедно и однообразно; форма столь же однообразна. Она — отголосок прошедшего младенчества, вспомнить о котором приятно и прекрасно, но возвратиться к которому для нас невозможно, а если б и было возможно, то нисколько не было бы приятно. Но, не удовлетворяясь ею, мы не можем не сочувствовать ей всегда, не заслушиваться часто до увлечения прекрасных, свежих, энергических мотивов ее.
Не говорим уже о двух других ее драгоценных качествах. Она до сих пор остается единственною поэзиею массы народонаселения; поэтому она интересна и мила для всякого, кто любит свой народ. А не любить своего родного невозможно. Другое достоинство ее — чисто ученое: в народной поэзии сохраняются предания старины. Потому важность ее неизмеримо велика и. посвящать свою жизнь собиранию народных песен — прекрасный подвиг.
Народная поэзия прекрасна. Этого, кажется, было бы довольно для успокоения нашей любви к ней. Но есть люди, которым непременно хочется, чтобы народная поэзия их племени была признана превосходнейшею в мире. Не знаем, зачем общий вопрос необходимо низводить в область споров. Но вот что говорит г. Берг в своем «Предисловии»:
«Во главе лирических песен я ставлю русскую, песню всех песен. Нет песни песеннее ее, оригинальней и народней. В этом отношении она стоит решительно отдельно ото всех и никакая другая далеко к ней не подходит. Ни одна не представляет такой свободы размеров в одной и тон же песне при общей гармонии (неодинаковое число слогов в разных стихах одного размера — качество, о котором здесь говорит г. Берг, — находится не только в народных песнях многих народов, но даже во многих письменных версификациях, напр., в греческой, латинской, отчасти даже немецкой; удивительного и особенного здесь ничего нет). С другой стороны, ни одна не имеет такого яркого, играющего языка. Нн в одной нет такого размаха, такого собрания звуков, как бы вытекающих один из другого (?) и неудержимо несущихся один за другим. Откуда же явилось такое преимущество русской песни? Прежде всего от ее языка, какого нигде нет. Ни один не устоит в борьбе с этим богатырем, с этим Ильею Муромцом, у которого еще не убавлено силы перехожими каликами.
Кабы на семую часть (?)».
Наука разрешает вопрос этот гораздо полнее и шире, нежели г. Берг. Превосходная народная поэзия была у многих народов. Теперь она почти у всех европейских народов или совершенно, или очень низко упала. Исключение остается едва ли не за одними сербами, у которых народная поэзия еще в полной силе свежести. Так же свежа и цветуща была она у малоруссов лет шестьдесят
или восемьдесят назад; лет около ста или полутораста назад (а может быть и более) она была так же свежа и цветуща у великоруссов. Различие только в том, раньше или позже коснулась народа цивилизация, успели записать народные песни в их полной свежести, или принялись за это дело тогда, когда уже начался упадок. Сербы были так счастливы в этом случае, что лучший из всех собирателей песен, Вук Стефанович Караджич, записывал и записывает сербские песни, еще нимало не утратившие первоначальной своей красоты. Нет сомнения, что и для сербской народной поэзии скоро начнется (и отчасти уже начался) период падения. Рассматривать здесь,' у которого из остальных славянских племен народные песни успели до сих пор сохраниться лучше, значило бы вдаваться в споры. По мнению одних, после сербской поэзии второе место занимает великорусская, по мнению других, малорусская, по мнению третьих, словацкая. Мы положительно уверены только в том, что и великорусские, и малорусские, и словацкие песни прекрасны. Из других европейских народов многие также сохранили еще прекрасную народную поэзию, например, греки, испанцы, хотя, повторяем, у всех, кроме сербов, и, быть может, греков, она уж давно находится в периоде упадка.
Основанием для всего этого длинного объяснения понятий, каких достигла наука относительно существенного достоинства народной поэзии, послужило нам «Предисловие» г. Берга, написанное слишком с большим увлечением. Мы нисколько не ставим этого увлечения в вину г. Бергу; оно очень естественно в поэте, столь преданном народной поэзии, как почтенный переводчик «Песен разных народов». Нам только хотелось показать беспристрастную точку зрения иа явления очень интересные и в самом деле увлекательные. Но уже давно пора нам перейти от предисловия к самой книге. Г. Берг в конце предисловия говорит: «В заключение прошу покорнейше всякого, кому случится прочесть эти строки, во-первых, указать мне замеченные недостатки в моем издании, относительно перевода, взгляда на тот или другой отдел, и даже, если можно, опечатки в тексте. Во-вторых, сообщить мне все, что есть у него любопытного в песенном роде». Если бы не были мы уверены в искренности желания, высказываемого на первом месте, мы не стали бы вовсе говорить о том, что, по нашему мнению, должно было бы в издании г. Берга быть иначе: мы ограничились бы одними похвалами прекрасному и добросовестному труду: он вполне заслуживает их, и недостатки его далеко уступают достоинствам. Но очевидно, что г. Берг страстно предан своему прекрасному делу, и потому в самом деле будет доволен, если замечания рецензентов дадут ему случай обратить внимание на те или другие стороны его труда. Только это побуждение и заставляет нас высказать наши мнения об основаниях, которыми руководился г. Берг при выборе и переводе песен.
Сборник г. Берга разделяется на две половины — лирические песни и эпические песни. В лирическом отделе он поместил песни восемнадцати народов. Но из этих подразделений четыре представляют только по одной песне, и притом незначительной; именно, г. Берг перевел одну санскритскую песню, одну баскскую, одну армянскую, одну калмыцкую. Эти песни ничего не показывают. Или надобно было представить более песен, чтобы их собрание сколько-нибудь характеризовало поэзию народа, или не помещать в сборник одинокой, ничего не говорящей песни. Точно так же недостаточны отделы финских, албанских, арабских, персидских, татарских песен. Нам кажется, что г. Берг слишком увлекся желанием представить редкие песни, и что это желание иногда имело не совсем благоприятное влияние и на выбор песен в других отделах. Г. Берг жалуется на скудость материалов. Но мы уверены, что в московских библиотеках он находил богатые коллекции изданий народных песен. Что могло там не быть армянских или баскских сборников, мы готовы предположить; скудости песен на других языках, особенно на славянских наречиях, предполагать нельзя. На этом, излишнем, по нашему мнению, желаний сообщать редкие песни основана и просьба «сообщать ему все, что каждый имеет любопытного в песенном роде». Подобных присылок вовсе не нужно ожидать г. Бергу, чтобы дополнить свой сборник; мы требуем от него не баскских или калмыцких песен, а просто хорошего и полного выбора песен тех народов, которые имеют хорошие издания песен. Выбирать и переводить — эта задача уже довольно велика и трудна, и напрасно г. Берг будет развлекать свои силы, заботясь также о собирании песен, неизвестных еще в ученом мире. Разделение труда — первое условие его успешности. Вероятно также, что г. Бергу стоило чрезвычайно многих усилий достать исправные списки армянских, калмыцких, и так далее, песен, и еще больших трудов — исправно напечатать их текст. Санскритский текст он решился даже литографировать — конечно, по недостатку шрифта; сколько напрасных трудов, траты времени и расходов! Нет сомнения, что прекрасно делает г. Берг, печатая вместе с переводом тексты песен разных славянских наречий и общеизвестных языков. Многим будет приятно прочитать в подлиннике словацкую, сербскую, французскую песню; сличение текста с переводом в этих случаях даст многим возможность вернее судить о достоинстве перевода. Но кому из читателей принесет хотя малейшую пользу или удовольствие текст санскритской, литовских, мадьярских, финских, албанских, арабских, персидских, татарских, баскской, армянской, калмыцкой песен? Едва ли многим будет полезен также испанский, норвежский, шведский, датский, бретонский тексты. Печатать их совершенно излишняя ученая (или, лучше сказать, мнимо ученая) роскошь. Забота о ней была, вероятно, причиною того, что г. Берг мало заботился о песнях менее редких. Так, например, у него поме-
щены только эпические сербские, испанские и французские песни, лирических нет; немецких песен нет у него совершенно; английских, шотландских, ирландских также совершенно нет.'
Выбор песен также неудовлетворителен. Укажем один пример. Из множества превосходных эпических сербских песен у него выбрана только одна не замечательная ни в каком отношении песня о Бановиче Страхине.
Наконец — важнейшая часть труда — перевод бывает очень часто удачен; читатели убедятся в этом из примеров, которые мы приведем ниже; но часто г. Берг нарушает простоту подлинника прибавлением эпитетов; иногда перевод бывает и просто не совсем удачен. Приводим несколько примеров. Вот песня чешских реформатов (по недостатку шрифта пишем текст русскими буквами):
Красна е та ржска,
Ржекз Волтава,
Кде су наше дбмы,
И власть ласкава; Гезке е то место.
То место Прага,
В ктерем быдли наше
Родина драга… и т. п.
Светлая'ты речка,
Речка ты Влетава! Наше ты веселье, Красота и слава! Красное то место,
Прага дорогая.
Наш престольный город Родина святая!
Вот буквальный перевод:
Прекрасна та река, река Влетава, где наши домы и милая родина. Прекрасен тот город, город Прага, где наши жилища, родина дорогая, и т. д.
Вот начало сербских песен:
1
Бога моли момче неженено.
Да се створи край мора бисером (бога просит неженатый молодец, чтобы сделаться жемчугом на берегу моря).
2
Лепо пева славуяк У зеленой шумици (Хорошо поет соловушек в зеленой роще).
1
Бога молит молодец удалый. Чтобы дал ему оборотиться Жемчугом зернистым, перекатным И рассыпаться край синя моря.
2
Распевала пташка мала,
Пташка мала соловейка,
В темной рогце распевала…
Г. Берг говорит: «Обыкновенно думают, что надо переводить слово в слово. Не важен стих, а важен дух, важен результат впечатления. В народном языке всего нужнее свобода слова» и т. д. Но приведенные нами примеры показывают, что отступления от смысла и духа подлинника простираются у г. Берга иногда слишком далеко. Напрасно ссылается он на пример Пушкина: Пушкин переводил сербские песни гораздо точнее. Но после этих замечаний, вызванных желанием самого г. Берга, мы должны показать
читателям и примеры удачных пёреводов. Это гораздо приятнее. Мы сказали, что выбор песен у г. Берга не может достаточно знакомить с духом поэзии того или другого народа; потому берем песни, лучшие в эстетическом отношении, не заботясь о том, характеризуют ли они народ, которому принадлежат, или только народную поэзию вообще. Во всяком случае, они дадут читателю средство судить о достоинствах перевода г. Берга.
(Литовская)
Как у батюшки сторожен огород,
В огороде липка-липочка растет.
Дочка батюшки по темным по ночам С дворянином разговаривает там.
С дворянином, с добрым парнем, с молодцом,
С ним тихонько обручается кольцом.
«Не ходи, сестра, ты ночью к молодцу,
А не то скажу я батюшке-отцу!»
«Братец, братец, братец милой-дорогой.
Что ты скажешь об сестре своей родной?
Что два слова-то сказала с молодцом?
Или то, что обручалась с ним кольцом?»
«Не про те твои два слова с молодцом,
А про то, что обручалась с ним кольцом».
В понедельник вышла девица гулять —
Не видать ее во вторник, не вндать!
Выезжали братья в среду поутру,
Стали спрашивать про милую сестру.
В барабаны барабанили три дни И трубили в трубы медные они.
Наконец к реке широкой подошли И утопленницу бедную нашли:
Тело белое лежало на песке,
И купались косы черные в реке.
(Литовская)
Ведите коня вороного,
Ведите коня молодцу.
Поеду я к старому тестю,
Я к старому тестю, к отцу.
Здорово! день добрый и вечер!
Как можешь-живешь, старина?
Что делает наша невеста,
И все ли здорова она?
Больнешенька наша невеста, Больнешенька; в новой клети Лежит горемыка в постели,
Поди ты ее навести.
Пошел через двор я широкий,
А слезы-то, слезы ручьем!
Откинул я дверку у клети И слезы обтер рукавом.
Взял за руки белы невесту,
Прижал их, целуя, к себе;
Скажи, мое красное солнце,
Не легче ли стало тебе?
Не легче, не §удет мне легче,
Не быть мне невестой твоей:
Другую ты любишь-голубишь — Ступай и присватайся к ней!
А я собираюся в гости,
Мие пир пировать на погосте… Прощай… а скажи, хороша Твоя чародейка-душа?
(Лужицкая)
Красная девица жала траву. Травку-муравку зелененькую;
Много нажала зеленой травы,
Целу вязанку нарезала.
Красная девица лесом пошла,
Хлысть ее ветка по белой щеке.
«Что ты, зеленая ветка моя,
Что ты дерешься, похлестываешь?
Есть у меня братья верные,
Им я велю ветку срезати,
Им я велю ветку срезати,
Среза гь, под самый срубить корешок».
«На зиму ветку вы срежете На весну снова я выбегу,
Свежими выйду побегами.
Новым кудрявыим деревцом.
Если ж погубишь ты, девица, честь — Честь к тебе ввек ие воротится».
(Лужицкая)
Хочешь знать, кто я таков?
Из простых я мужиков И хочу жениться!
Припасите для меня Девку, саблю и коня —
На войне годитсяі
На войну, в кровавый бой, Захвачу я их с собой…
(Чешская)
Говорит мне снова
Нынче мать милова.
Чтобы я забыла,
Про ее про сына.
На такие речи
Я ей отвечала,
Чтоб она покрепче
Сына привязала,
Привязала б сына:
Не ходи, мол, мимо.
К девкину порогу '
Не топчи дорогу,
(Словацкая)
Конь под Белградом стоит вороной; На нем сидит,
Кровью покрыт,
Миленький мой.
Знаешь ли, мила, как битва живет? Видишь: с меня,
Видишь: с коня Кровь так и льет.
Знаешь ли, мила, какой наш обед? Наша еда —
Хлеб да вода,
Вот наш обед.
З.іаешь ли, мила, где я буду спать? Там, где убьют,
Там погребут.
Там мне лежать.
Знаешь ли, кто у меня звонарем? Раненых стон,
Сабельный звон,
Пушечный гром.
(Словацкая)
Люди мне сказали, будто в поле тучи — А то зачернели миленького очи.
Люди мне сказали, поле загорелось —
А то у милова личико зарделось;
Люди мне сказали, что гогочут гуси — А то заиграли миленького гусли.
Люди мне сказали, пролетела пташка —
А то забелела милого рубашка.
Люди мне сказали, поле гулко стало —
Поле гулко стало — милый гонит стадо.
(Моравская)
Уж не быть тому вовеки, что прошло, что было,
Не светить, знать, «расну солнцу, как оно светило!
Не знавать мне прежней доли с прежней мочью-силой, На коне своем удалом, знать, не ездить к милой!
Мне светило красно солнце в малое оконце,
А теперь светит^ не хочет, частый дождик мочит;
Частый дождик, непогода, бьет, стучит в окошко—' Заросла к моей любезной торная дорожка.
Заросла она кустами, заросла травою С той поры, как я спознался с милою другою.
(Польская)
Дождик, дождик моросит, взмокла вся поляна.
Ах, люби меня, Ванюша, верно, без обмана!
Я люблю тебя, люблю, много, как умею;
Коли стану изменять, чтоб сломать мне шею!
Только стал он выезжать на большу дорогу,
Он головушку сломил, а конь верный ногу.
Знать, тебе не верен был милый твой Ванюша:
Так вдругорядь никого, дочка, ты не слушай.
(Польская, краковяк)
Свищут, свищут соловьи, песенки заводят;
Нынче молодцам не верь: вас они проводят;
'Нынче молодцам не верь; да и девкам тоже;
Знать, такая вышла мода, ни на что не гожа!
(Польская, краковяк)
Сказывают люди — и что им за дело? — Что девица с молодцом вечером сидела.
(Мадьярская)
Два милых было у меня Дороже всей родии,
Да бедносГь одолела их, —
И умерли они.
Что ОДНОГО-ТО МИЛОГО В саду я положу,
V Другого я сердечного Под сердцем схороню.
Полью в саду я милого С Дунай-реки водой,
Полью дружка сердечного Горючих слез рекой.
(Греческая)
Скорее бросайся ты с берега вплавь, Руками своими, что веслами, правь,
А грудь молодецкую выгни рулем,—
И легким и быстрым плыви кораблем! Бог даст, и поможет пречистая нам.
Ты будешь, товарищ, сеюдня же там, Где, помнишь, мы жарили вместе козлят. Про то, что погиб я, не сказывай, брат! А если расспрашивать станет родня, — Скажи, что в чужбине женили меня,
Что был мне булат посаженым отцом,
Что нас угощали на свадьбе свинцом,
Что мне за женою моей отвели В приданое сажень косую земли.
(Греческая)
Садилося солнце, и день уходил,
А Дим паликарам своим говорил: Неможется, дети! пора на покой!.. Сходите на ужин себе за водой;
А ты мой Лабракнс, один мне родия, — Ты будь капитаном заместо меня;
Покуда же, дети, вы саблей моей Зеленых в лесу нарубите ветвей:
Я лягу на тех на зеленых ветвях И каяться стану попу во грехах. Арматолом долго в горах я служил, Албанцев и турок без счету побил;
Но, видно, черед наступает и мой…
Вы гроб сколотите мне, дети, большой, Чтоб был он просторен, широк н высок Чтоб саблей в гробу я размахивать мог, Чтоб мог и винтовку я там заряжать И в турок неверных оттуда стрелять; Чтоб было с обеих сторон по окну:
В одно пусть мне носят косатки весну,
К другому летают пускай соловьи,
Пускай распевают мне песни свои.
(Баскская)
За песни я снова —
И песня готоваI Веселья такова Не
знал никогда я,
Лишь прибыл сюда я Из вольного края,
Играя,
Кипит моя кровь молодая!
Однажды в апреле,
Когда нас хотели Опять в цитадели
Вести на работы, —
Мы шмыг под ворота.
Не зная заботы,
И с моста
Ироворно спустились в болота.
Когда ж там узнали.
Что мы убежали,
Ну, было печали!
Пошли разговоры,
И брань и укоры,
И крики и споры,
Где воры?
А мы пробирались уже в горы.
Некоторые из выписанных нами песен переведены прекрасно, большая часть находящихся в сборнике — не дурно. Более разборчивости при выборе — вот необходимейшее условие для того, чтобы дополненный сборник (г. Берг, очевидно, не хочет останавливаться на первом опыте) получил еще большее достоинство. Впрочем, и в настоящем своем виде он свидетельствует о добросовестной любви составителя к своему делу; многие песни показывают в переводчике способность переводить хорошо. Русская литература должна быть благодарна г. Бергу за его прекрасное издание.
ВРЕМЕННИК ИМПЕРАТОРСКОГО МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ РОССИЙСКИХ
Книги 16, 17, 18 и 19. Москва. 1853—1854
Многочисленные издания императорского Московского Общества Истории и Древностей Российских приобрели ему право на глубокую благодарность всех, занимающихся родною историею. С 1815 до 1846 года Общество издало: 1) восемь частей своих «Трудов и Летописей»; 2) семь томов «Исторического Сборника»;
3) три части «Русских Достопамятностей», которые, по важности напечатанных в них памятников, занимают одно из почетнейших мест в числе материалов для русской истории и древней литературы, — всего восемнадцать частей своих трудов. Кроме того, в этот же период времени издало Общество довольно много отдельных сочинений и памятников, большею частью также очень важных; вот их перечисление: 1) «Обозрение Кормчей книги», барона Розенкампфа; 2) Супрасльская рукопись, изд. кн. Оболенским; 3) Псковская летопись, изд. г. Погодиным; 4) «Повествование о России» Н. С. Арцыбашева, три громадные тома; 5) «Книга посольская метрики Великого княжества литовского»; 6) «Книга, глаголемая Большой Чертеж», изд. г. Спасским; 7) «Библиотека имп. Общества Истории и Др. Российских», сост. П. М. Строевым; 8) «Исследования, замечания и лекции» г. Погодина о русской истории, три тома; всего тринадцать томов. Наконец, Общество напечатало в это время переводы: 1) «Исследований»
Эверса; 2) «Древностей северного берега Понта», г. Кёппена; 3) «Корсунских врат», г. Аделунга; 4) «Критико-исторической повести Чсрвоной Руси», г. Зубрицкого. Всего в течение 1815–1846 годов Общество издало до тридцати пяти томов. Но особенно сильна становится его деятельность с 1846 года; в течение. девяти лет Общество издало, не говоря уж об отдельных сочинениях, восемнадцать книжек или, лучше сказать, томов «Чтений» и девЯТНйДЦать КІІИжек или томов «Временника», всего тридцать семь книжек, В числе которых есть многие, заключающие в себе более 30 печатных листов. Трудно и перечислить, сколько важных
исследований по русской истории, сколько драгоценных материалов для нее напечатано в «Чтениях» и «Временнике». Повторяем, нет человека, занимающегося русскою историею, который бы не чувствовал уважения и благодарности к Московскому Обществу Истории и Древностей.
Существеннейшее достоинство рассматриваемых нами 16–19 книжек «Временника» составляют очень важные материалы, которые в них изданы. Так, в 16 книжке напечатано «Сказание о Самозванцах» в двух редакциях; в 17 книжке — «Новый летописец»; в 18 — «Литовский Статут» 1529 года, в 19 — «Статут Великого княжества Литовского 1588 года». Вместе с этими большими памятниками напечатано несколько материалов, хотя не столь значительных по объему, однако имеющих несомненную важность. Мы постараемся рассмотреть их ниже, теперь же, следуя порядку отделов, начнем наш обзор с тех статей, которые помещены под первою рубрикою «Временника» — с «Исследований». Из них значительнейшие по объему — «Пелазго-фракийские племена», исследование г. Черткова; в 16 книжке помещено отделение этого обширного труда, говорящее о пелазго-фракийцах, населивших Италию, и «Замечания на Слово о полку Игореве», кн. П. П. Вяземского, статья вторая (кн. 17). Оба эти исследования, стоившие, особенно первое, очень многих трудов авторам и выказывающие в них несомненную ученость, очень сходны между собою по направлению.
Мы недавно имели случай высказать в «Современнике» наше мнение о том, какое значение в ряду наук имеет так называемая ’ «историческая филология»; не признавая безусловно справедливыми односторонних и восторженных панегириков ей, не думая, чтоб она была в силах пересоздать всю систему наук, стать во главе их всех, давать окончательный приговор о всех вопросах философии, психологии, истории, мы говорили, что она должна ограничиваться скромною ролью вспомогательной науки для истории древнейших периодов, младенчествующего состояния народов. Точно так же мы не думали утверждать с некоторыми из увлеченных поклонников исторической филологии, чтобы филологическое образование должно было войти в состав общего образования, чтобы выучивать каждого двенадцатилетнего мальчика толковать о фрейзингенских отрывках, о большом и малом, йотированных и нейотированных юсах, гласных ъ и ь, переходе старославянского жд и шт в русское ж и ч, чешское з и и, и т. д. было так же необходимо, как объяснять ему, что «Александр Македонский был великий человек». В самом деле, гордость каждого рождающегося знания бывает неизмерима, притязания его беспредельны. И для собственной пользы этого знания бывает полезно от времени до времени напоминать об истинных его границах, чтобы оно не компрометировало себя во мнении публики слишком гормадиыми претензиями. Но если нельзя не сказать, что истори-
ческая филология в сущности только вспомогательная наука для древнейшей истории, то надобно вместе с этим сказать, что в этой роли, почетной, хотя и тесной, помощь ее необходима для исторических исследований; если надобно сказать, что бесполезно, даже вредно набивать всякому мальчику голову корнями, развитием и превращением корней, суффиксами и префиксами, то человек, желающий ныне заняться исследованиями о древнейшей истории народов или о древних памятниках литературы, необходимо должен приобрести основательные филологические сведения. Толковать о «Слове о полку Игореве», не зная очень основательно славянских наречий в их древнейшем виде и новейшем развитии, не имея близкого знакомства с народною поэзиею вообще и самого ближайшего знакомства с народною поэзиею славянских племен в частности, значит осуждать себя на такие же смешные промахи, как принимаясь толковать о Софокле без знания греческого языка. Браться за объяснение древнейшей истории славянских племен, говорить о том, славяне или греки были Ахиллес или Эней, не познакомившись хорошо с историческою и сравнительною филологиею, так же странно, как писать римскую историю, не зная по-латыни, немецкую историю, не зная по-немецки. Прежде, когда еще не существовала филология в виде самостоятельной науки, имеющей огромный запас данных и предписывающей строгие правила относительно того, как пользоваться ее материалами, — прежде это было не так. Всякий, кому только вздумается, толковал, как ему захочется, о происхождении славян от кельтов, французов от греков, греков от славян, англичан от римлян, китайцев от египтян, мехиканцев от карфагенян. Народы роднились, признавались братьями, отцами, детьми один другому решительно по благосклонности человека, взявшего в руки перо, к тому или другому из них. Для провозглашения, что пруссаки происходят от римлян или римляне от пруссаков, достаточно было найти в немецко-латинском словаре, что Vater и Mutter по латыни Pater и Mater, sechs — sex, neun — novem. Ни на первобытную форму слова, ни на корень его, ни на грамматические изменения не обращали ни малейшего внимания. Не думали и о том, чтобы сравнивать языки в целом их составе — вместо того, чтобы сравнивать все корни, довольно было наудачу сблизить десяток, много — два десятка слов, какие первые попадутся под руку. И удивительная история выходила результатом таких игривых сближений. Сначала было принято производить все от еврейского языка. Тогда-то было решено и у нас, что Москву основал Мосох, лет тысячи за три или за три с половиною до Р. X. Потом появились всеобщими предками греки и римляне, которые были также греки, потому что произошли от Энея. Тогда французы начали происходить от фокеян, через Марсель; у нас было также открыто, что Рюрик происходит от Пруса, брата Августа, племянника Юлия Цезаря. Этого мнения не отвергает и сам Ломоносов. Потом
вышли на сцену кельты, и открылось, что не только все европейцы, но и самые египтяне были кельты. Этого мнения, как увидим, держится Сумароков. Не говорим уж о всесвед-ных производствах не столь громких. В антрактах между еврейством, грско-романизмом и кельтством было открываемо, что предки всех народов египтяне, фригийцы, пелазги, скифы, иберийцы. За этими производствами, более или менее бескорыстными, последовали расчетливые генеалогии, в собственную пользу. Трудно найти народ, который бы устами своих ученых не объявлял, что он древнейший народ в мире. Не говорим уже о немцах, скандинавах, славянах, французах. Ирландцы, венгерцы, баски также доказывали, что Адам и Ева говорили на их языке. У нас вста-рину особенно ревностным истолкователем чужеземных имен славянским языком был Тредьяковский. По его мнению, даже Deutsche — немцы — есть славянское слово дети, детские (народы); танцы также русское слово, и у славян взято французами, а прежде французов — римлянами.
Долго процветали эти ученые забавы; но в конце прошедшего века историки сильно вооружились против так называемых «этимологических сравнений» в древнейшей истории народов; отголоски недоверчивости и даже насмешливого презрения к этим словопроизводственным толкам довольно сильно и часто слышатся и в «Примечаниях» к «Истории Государства Российского»: Карамзин отвергает, как пустую игру слов, приводящую только к одним несообразностям, этимологические сближения Тредьяковского, Ломоносова, особенно Татищева. Да и нельзя было не отвергать их, не смеяться над ними. Почтенный чешский ученый Добнер уверял, что бастарны — пастыряне, биссы — пеши, пиэннаты — пенятяне, поляки — по влахи, т. е. потомки влахов; Татищев думает, что вятичи не русские, а чуваши, потому что чуваши по-мордовски называются ветке; Болтин думает, что Кий, Щек, Хорив и Лыбедь были не славяне, а венгерцы или авары, потому что по-венгерски «Киев есть веселый, Горог (т. е. Хорев) — кривой, Сцег (т. е. Щек) — кормило, Лебегес — трепетание». Татищев думал, что русские (варяго русь) были финны, потому что «Русь» значит «русый народ», а русыми волосами отличаются финны; но Татищев и Болтин были люди ученые и основательные; если мы захотим увидеть словопроизводственную мономанию прошедшего века в полном ее развитии, мы должны будем обратиться к отрывку Сумарокова «О происхождении Российского народа». При нынешнем стремлении к ближайшему знакомству с произведениями старинных русских писателей, читатели, конечно, не будут на нас в претензии, если мы представим несколько выписок из этого курьёзного произведения. Древнейшим в мире народом Сумароков считает, по тогдашнему обычаю, кельтов или цельтов и говорит, что все европейские народы — греки, римляне, немцы, французы, англичане произошли от цельтов, но все выродились, исказили свой язык; у одних только славян удержался чистый цельтийский язык, потому славяне должны быть признаваемы истинными предками или единственными прямыми потомками предков всех других европейских народов, которых имена объясняются из славянского языка. Кельты первоначально жили в Фракии, Македонии, Иллирии; потом оттуда распространились по всей Европе и раздробились на множество народов. Продолжаем это изложение подлинными словами Сумарокова:
«Гэльские цельты более всех прочих прославились, нарекшися первые Галлами от цельтского (т. е. славянского, потому что, как мы видели, кельтский и славянский язык одно и то же по мнению Сумарокова) гуляю, что я не по своему изобретению и не по догадке объявляю, то есть гуляками или странниками; а славянские цельты нареклися славянами, знаменуяся славными; как Вандалы от того, что вышли вон доле, нареклися Вондалямн. Британы, назвався от бритых голов, пременили свой язык также; да и сами Латины цельтского же происхождения свой язык от цельтского отлучили, и осталися только одни славяне при своем прежнем, то есть цельтском языке. (Это подтверждается словопроизводством, указывающим корень слов всяких языков в славянском, так), не умолчу я, что слово история знаменование свое от словенского имеет языка; изъстари, как пиит от слова пехн. С коптами славяне также некоторые в наречии сходства имеют. Орна у коптов небо, а оттого Уранос и у эллинс» з небо, а у славян горняя. Изи у коптов земля, и оттого богиня Изида, богиня земли; в славянское слово оттого низ и так от орна верьх, а от изи низ; на орне — на верху; на изу — на низу» (Сочин. Сумарокова изд. Новикова, том X, стр. 123 и след.).
Итак, дело ясно: греки, латины, вандалы, галлы, британы, копты или египтяне произошли от славян. Но простодушные мнения Сумарокова далеко не так эффектны, как заключения, до которых в недавнее время, всего лет пятнадцать и десять тому назад, старались доходить гг. Морошкин и Савельев-Ростиславич. Они не удовольствовались общею характеристикою: «все европейцы — выродившиеся славяне» — нет, они доказали это относительно каждой области, каждого города, каждого знаменитого исторического лица. Париж — по-рис, т. е. по-русь; Мадрит — мудрит, Вена — веник или венец; Стокгольм — стог-холм; т. е. большой стог; Лондон — клон-дон, т. е. наклонное дно, город на низменности; с такою же легкостью доказывается, что все великие люди были славяне: Лессинг — лесник, Гутенберг — кутногор-ский, Лютер — лютый, Карл Великий — Карло (т. е. карлик) Великий, Гёте — кот, Клодвиг — Холодовик, Клотильда — Коло-тильда, Фихте — Пыхтей (пыхтеть) н т. д.
После этого остается только перейти из Европы в другие части света и доказать, что все народы, начиная от каффров, на мысе Доброй Надежды, до алеутов — того же происхождения, как жители Клон-дона и Мудрита. Дело, не представляющее особенных затруднений. Нанкин — Нянькин, т. е. город, где вынянь-чились, откуда произошли китайцы; в самом деле Нянькин и был Древнейшею столицею китайцев; собственно, катайцев (от катать)
или хватайцев; Корея — Горея, т. е. гористая земля; Сингапор —. снегобор, т. е. город, в котором готовы подбирать каждую снежинку, — там и действительно снег и лед продаются на вес золота; Цейлон — Целан; патагонцы — потягонцы, т. е. вытянутый, высокорослый народ; ирокезцы — широкезцы, т. е. широко, рассеянно живущие. Одним словом, надобно только вслушаться в выговор, какой придает незнакомым словам мальчик, еще не выучившийся произносить их, и мы тотчас постигнем, что все земли первоначально были населены славянами и все народы происходят от славян.
Само собою разумеется, что, подобно большей части других увлечений, и увлечение производить все народы от своего народа, объяснять имена всех стран и городов своим языком было на нас навеяно подражанием тому, что делалось у других народов. Пока еще наука сравнительного изучения языков не установилась, у всех народов были ученые, поступавшие подобным образом. Люди, которые привыкли писать по-латыни, жить в греко-римском мире, производили всех европейцев от греков и римлян; но это было уж очень давно; позднее другие ученые отыскивали более близких к себе праотцев всем остальным народам; французы и англичане — галлов или кельтов, немцы — немцев, скандинавы — скандинавов и т. д. Не очень давно в Богемии умер Данковский, который доказывал, что мнимый греческий язык есть славянский, только искаженный правописанием, что нужно только переписать славянскими буквами Анакреона или Гомера, чтобы увидеть, что они говорили и писали по-славянски. Данковский и сделал это. Другой чешский ученый и знаменитый поэт, Колар, умерший два года тому назад, ’ оставил после себя сочинение, в котором доказывает, что вся Италия была населена славянами '. Как он читает этрусские надписи по-славянски, так некоторые ученые читают их по-немецки.
В самом деле, нужно только захотеть читать какой угодно отрывок на каком угодно языке, чтобы прочитать его на этом языке — стоит только не обращать внимания на здравый смысл, пренебречь положительными правилами и фактами науки и искажать слова текста по произволу; поступая таким образом, можно доказывать, что Шиллер писал по-русски, а Пушкин — по-испански. Нужно только твердо решиться дойти до такого результата. Если происхождение какого угодно народа от другого также какого угодно доказывается очень легко, то еще легче доказывается, что какой угодно народ занял от какого угодно другого свои первоначальные обычаи, научился у него всем знаниям, всему полезному в жизни и так далее. На русском языке существует «История русской литературы», доказывающая, что немцы научились философии из «Послания Никифора к Владимиру Мономаху» 2; другой ученый видел в какой-то санскритской драме опровержение гегелевой системы. Чехи вообще доказывают, что немцы выучились земледелию только благодаря знакомству с сла-
вянами. Мы так часто указываем на чехов потому, что пристрастие видеть во всем и повсюду славян до сих пор сильно у них.
Но всего легче доказывается, что какой-нибудь народ, едва только начавший образовываться, стоял уже в глубокой древности на высокой степени просвещения, был знаком с литературами классического мира, читал Платона и восхищался Софоклом. Для этого нужно только найти в одном из памятников его письменности какую-нибудь фразу, имеющую хотя самое отдаленное сходство с какою-нибудь известною у всех народов общею мыслью, например, о неизбежности судьбы, о том, что быть добрым человеком прекрасно, и т. п.; из этого тотчас можно будет вывесть, что «народ был знаком с трагедиями греков, основанными на идее судьбы, и коротко знал творения Платона, проникнутые идеею о том, что высшая красота есть добродетель»: Если даже не найдется и такой фразы, дело можно привести к желанному результату; нужно только отыскать одно из тех невразумительных, испорченных мест, которыми всегда богаты старинные рукописи, истолковать это место в необходимом для нас смысле, и дело будет кончено.
В «Слове о полку Игореве» есть множество выражений темных, множество выражений, очевидно, испорченных безграмотным переписчиком. Это признано всеми исследователями. В числе таких мест, исправить и объяснить которые доселе не могли основательные ученые, есть следующее место: «Въстала обида в силах Дажьбожа внука. Въступил девою в землю Трояню, въсплескала крылы на синем море у Дону; плещучи, убуди жирныя времена». Очень вероятно, что это место, подобно десяткам других, испорчено. Земля Дажьбожа внука — русская земля, в этом ученые согласны; но что такое «земля Трояня», что такое «дева, плещущая крылами на синем море у Дону», остается непонятно. Не будем предлагать своих догадок, не будем анализировать прежних объяснений, не приводящих ни к чему положительному; но для всякого, знающего, хотя несколько, грамматику старинного языка, ясно, что прилагательное Троянъ, встречающееся в этом и трех других местах «Слова», произведено от собственного имени мужеского рода — Троян, как прилагательные Владимирь, Ан-тонь — от собственных имен мужеского рода Владимир, Антон. Кто этот Гроян — римский император Траян, или Владимир, прозванный Трояном потому, что был третьим сыном Святослава, ученые решают различно. Несомненно только, что прилагательное Троянь не может в славянском языке образоваться от имени города Трои: «троянский» на старом языке имело форму «трояньск» и не могло никаким образом принять формы «Троянь», необходимо указывающей на существительное с окончанием мужеского рода ъ И с буквою н перед этим окончанием. Но князь Вяземский хочет понимать, в противность основному закону славянской этимологии, под «трояня земля» не Троянова земля, а Троянская
земля. «Дева», которая восплескала крылами, в противность общему мнению ученых, говорящих, что если здесь слово дева не есть описка, то означает какое-нибудь мифологическое существо, по мнению князя Вяземского, решительно произвольному, есть Елена, похищенная Парисом и навлекшая «обиду», несчастье на Троянскую землю. После такого объяснения становится уже очень ясно для князя Вяземского, что автор «Слова о полку Игореве» был коротко знаком с трагедиями Эврипида, и он постоянно сравнивает выражения «Слова» с отрывками из Эврипида. Несомненно становится для князя Вяземского и то, что Боян, упоминаемый в «Слове», есть Гомер, потому что Гомер был поэт, а Боян, вероятно, происходит от баять, говорить. Таким образом, становится несомненно, что автор «Слова» был вдохновляем произведениями Гомера и Эврипида, и князь Вяземский считает даже нужным оправдывать его от упрека в подражании этим писателям, с которыми постоянно сравнивает каждое выражение «Слова». Сходство, находимое ученым автором, в самом деле изумительно. Например, воззвание эврипидова хора в трагедии «Елена»:
«Тебя сеньми под древочащными в храмах н престолах восседающую взываю, тебя голосистую птицу, соловья слезистого, прииди, о чрез громкие клювы щекотающая, воплям моим сотрудник, Елены мрачной труды, солнце-вичей же поющая плачевный труд Ахеян под копьями».
Это воззвание, столь оригинально переведенное князем Вяземским, «буквально сходно», по его мнению, с воззванием «Слова» к Бояну:
«О Бояне, соловию старого времени! а бы ты сиа плъкы ущекотал, скача, славию, по мыслену древу, летая умом под облакы, свивая славы оба полы сего времени, рища в тропу Трояню через поля на горы. Пети было песнь Игореви, того внуку».
Мы видим только, что в обоих отрывках попадается слово «соловей»; но ученый автор (стр. 7) говорит: «Кроме буквального сходства сих воззваний к Гомеру, разительно самое сходство положений, сопряженных с сими воззваниями». После этого мы вправе прибавить, что песня:
Сладко пел душа-соловушко В зеленом саду моем, и т. д.
имеет столь же поразительное сходство с эврипидовым хором и что г. Лажечников, поместивший эту песню в «Последнем Новике», вероятно, написал свой роман, вдохновленный эврипидо-выми трагедиями, а не просто преданиями отечественной истории. Точно так же поразительны и все остальные сравнения «Слова» с Гомером и Эврипидом, например (стр. 29):
«Дети бесови кликом поля прегородиша, а храбрии Русицы прегородиша червлеными щиты» (Слово о п. И.) — это описание обоих войск совершенно гомерическое.
…Каждый из них отдает повеленья.
Вождь. А воины идут в молчании; всякий спросил бы:
Столько народа идущего в персях имеет ли голос? ѵ
(Илиада, IV, 428.)
Здесь мы опять замечаем только то сходство, что «Слово» и «Илиада» говорят о войсках; но в «Илиаде» войска идут молча, в «Слове» стоят и кричат.
Несмотря на очевидную неосновательность основной мысли, на все несходства сближаемых мест, исследование князя Вяземского многих удивило своею огромностью и множеством цитат. И нет сомнения, что многим покажется, будто бы в самом деле между «Словом о полку Игореве» и Гомером или Эврипидом есть сродство. Это потому, что ученая оболочка сочинения многим не позволит заметить, что в сущности трудолюбивый автор очень мало приготовлен к ясному пониманию ближайшего предмета своих сравнений — «Слова о полку Игореве»; на каждом шагу видно, что он не филолог. Потому-то и говорили мы подробно о его исследовании, думая, что наше предостережение не будет излишним для некоторых из числа людей, интересующихся вопросами о таком замечательном памятнике нашей словесности, как «Слово о полку Игореве». Ученая критика у нас еще слабее литературной; потому часто одна массивность и внешняя ученая обстановка сочинения вводят в заблуждение и заставляют многих принимать выводы, делаемые автором, хотя в сущности он не представил и не мог представить никаких подтверждений своим положениям.
Метод князя П. П. Вяземского имеет «поразительное сходство» с методом, которому следовал г. Чертков в разысканиях о «Пелазгофракийских племенах»: такое же богатство цитат и сличений, такое же стремление смешивать обширные рассуждения о фактах, ставших общими местами в науке, с произвольными истолкованиями, такое же пренебрежение к строгому филологическому разбору сближаемых собственных имен. Не менее велико и сродство в направлении изысканий: кн. П. П. Вяземский поставил себе задачею отыскать литературное родство там, где его совершенно нет; г. Чертков старается доказать тожество пелаз-гов с славянами, хотя нет ни малейшего сомнения в том, что пелазги не были славяне; оба ученые автора одинаково увлекаются темным, загадочным; тому и другому оно представляется одинаково ясным; наконец, оба до того увлеклись оригинальными своими мнениями, что написали обширные сочинения единственно в подтверждение этих мнений, так что если не принять результатов, которые выставляются гг. Чертковым и Вяземским (а принять их невозможно), то в обширных их трудах совершенно нечем будет воспользоваться.
Часть исследования г. Черткова, помещенная в 16 книжке «Временника», говорит о «Пелазгах Итальянских», под именем которых разумеет он большую часть древнеитальянских племен: сабинцы, луканцы, лигурийцы, этруски, венеты, иллирийцы, все народы до самого Дуная, жители Рециума, Норика, Паннонии — все, по его мнению, пелазги, то есть славяне. Относительно того, какому племени принадлежали многие из них, ныне еще ничего нельзя сказать положительного; относительно других достоверно известно, что они существенно различались между собою; г. Черткова это нимало не останавливает: он всех их причисляет к одному племени, всех признает пелазгами и на каждой странице приводит десятки доказательств, что все эти пелазги были славяне.
Обильнейший источник доказательств представляет ему произвольное произношение собственных имен славянскими звуками, и притом именно по московскому наречию. Здесь было бы неуместно пускаться в длинные филологические объяснения того, что если б и действительно между древними жителями Италии были славянские племена, то читать их имена с великорусским выговором и объяснять московским наречием было бы столь же ошибочно, как считать Пушкина чешским или болгарским писателем. Но и без всяких объяснений очевидно, что итальянские отрасли славян (положим даже, что они существовали) должны были за 1000 лет до Р. X. говорить не тем языком, каким писал Жуковский. На историю языка, развитие форм, различие наречий г. Чертков не обращает ни малейшего внимания.
Приведем некоторые из принимаемых им переименований. Реи-cestios (брат Энотра) — Певчист; Gernici — Горнаки; Ombrici — Обричи: Орісі — Опичи; Ѵоівсі — Волчи, Вильцы; Roeci — Речи; Falisci — Хвалисцы; Lucani — Лучане; Dauni — Старожилы, Давние; Apuli — Попелы; Argyrusci — Вагры речи; Labici — Любичи; Dolopes — Дулебы; Dodona — пелазгийский город — Дедина; Cures — Куры; Sybilla — Вила; Rasenae — резане (т. е. рязанцы?) и т. д. Всякий, имеющий хотя малейшее понятие о строгих законах филологических сближений, увидит с первого раза, что эти переименования сделаны произвольно, без разбора корней и первоначальной формы имен, по одному случайному созвучию; каждый филолог скажет, что большая часть из них очевидно ложна. А между тем г. Чертков представляет свои переложения на московское наречие до того несомненными, что не считает нужным ни оправдывать, ни пояснять их. При такой невзыскательной методе он мог бы переложить на славянский язык и все остальные имена, какие только встречаются в римской истории, например, Ромул — Громвал, Нума Помпилий. — Ум Пупилич (Нума знаменит умом); Фабий — Бабий, Валерий — Болерин, болярин, боярин, Сципион — Цепион (от цепъ) или Сцепион (от сцепить) или Щепион (от щепа, щепка), Сервий — сербянин, Мезенций — Мезенцов или Меженцов и т. д. Не знаем, будет ли г. Чертков доказывать, что и галлы были также пелазги, то есть славяне; но подобными сближениями имен не трудно доказать и это:
Aquitani — охватанцы, Volcae — волки, вильцы, Ruteni — русские (латинское имя России Ruthenia), Vellavi — вилявцы, Сепо-піаппі — Ценомены, торговый народ, Eburovices — боровичи, соплеменные тем, которые основали уездный город Боровичи в Новгородской губернии; Могіпі — моряне, поморцы (они же кстати жили у моря), Leuci — левцы или львичане, Bellovaci — бело-ваки, бельчане, жители Белецка; Beda (город) — Беда; Sueseio-nes — свезенцы, переселенцы и т. д.
Кто не видит, что эти переложения — ученая игра, не требующая, впрочем, никакой учености? Между тем, нет сомнения, г. Чертков потратил на свое исследование много времени и много сведений. Но сближение собственных имен — не единственная, хотя и главная опора мнений ученого изыскателя; другая опора их — сближение некоторых народных обычаев. Ограничимся немногими примерами.
«Нума Помпилий учредил двенадцать жрецов Салийских и вменил им в обязанность, при торжественных шествиях, ходить по улицам Рима, петь песни и плясать бойко, живо, подпрыгивая и топая ногами. Это ни что иное, как наша пляска вприсядку, с подпеванием хора песельников. Так точно описано шествие наших войск в итальянские города в продолжение кампании 1799 года: «Перед полками шли песельники, и в нескольких шагах от них бойкий и молодой воин плясал вприсядку, а песельники пели похвалу фельдмаршалу князю Суворову» (так сказано в тех описаниях похода русских, которые мы читали в Италии; сожалеем, что тогда не записали названий втих сочинений). То же самое могло быть исполнено жрецами в Риме, с тою-разницею, что вместо песни, сочиненной в похвалу кн. Суворова, Салийцы пели гимны в честь Марса. И теперь, во всех экспедициях на Кавказе, воины, с заряженными ружьями, в виду горцев, поют песни, а приплясывающие запевалы прославляют славные дела своих предводителей и товарищей (Кавказ, 1852, № 34)».
Пляска у всех языческих народов была принадлежностью религиозных торжеств; следовательно, в римском обряде нет еще ничего особенного. Но чтобы салийские жрецы плясали именно вприсядку, предположение более игривое, нежели основательное. Что наши солдаты ходят в сражение с песнями, мы поверили бы и без цитаты из газеты «Кавказ» 1852 года № 34; но что эти песни различны от гимна салийских жрецов, кажется, не подлежит спору; г. Черткову, конечно, известно это, потому что гимн салийских жрецов дошел до нас.
«Пслазгичсские племена имели обычай, при женитьбе, не свататься за невесту, а похищать ее насильно. Эти похищения происходили обыкновенно при играх всякого рода. Похищение девиц перешло от пелазгов к древним славянам».
А к киргизам, калмыкам, туземцам Ван-Дименовой земли и Новой Голландии также перешло оно от пелазгов? н ыне всякому, кто только читал путешествия, известно, что обычай похищать невест — общий всем диким или полудиким народам. Точно так же
распространен у всех полудиких народов обычай платить за не- ' весту выкуп, вено или калым, и в избежание именно этой убыточной необходимости похищают невест. Следовательно, напрасно доказывать родство, тожество пелазгов с славянами тем, что у венетов (которых, впрочем, трудно и признать пелазгами) было обыкновение платить выкуп за невесту. Это все равно, чго доказывать происхождение рода Мегемета-Али, паши египетского, из Сиама тем, что в нынешней египетской династии после старшего брата наследует второй брат, а не сын покойного вице-короля, что в обыкновении также у сиамцев и было в обыкновении у русских до Димитрия Донского. Доказывать такими общими обычаями происхождение одного народа от другого то же самое, что доказывать происхождение эскимосов от гртентотов тем, что оба народа все делают, как и мы, правою, а не левою рукою. Поэтому нам кажется, что огромное количество времени и труда, употребленное г. Чертковым на его исследования о пелазго-фракийских племенах, чуждые всякого критического такта, всякой осмотрительности в подборе доказательств на избранную тему, — нам кажется, что это время и труд пропали столь же бесполезно, как и труд князя Вяземского над сличением «Слова о нолку Игореве» с Гомером и Эврипидом.
«Древние русские законы о сохранении народного богатства» г. Лешкова («Временник», кн. 18) — статья, которою можно пользоваться за недостатком более полных исследований, но не представляющая ничего особенного, кроме следующих размышлений о благосостоянии массы простонародья в древней Руси, размышлений, кончающихся, однакоже, ошибочными предположениями. Собрав известные факты из летописей о степени богатства князей, дружины и некоторых монастырей, г. Лешков продолжает:
Был ли богат, и в какой степени, простой народ и сельский класс жителей Руси? Этот вопрос не так легок, по причине совершенного отсутствия прямых указаний о быте простого народа. Наши летописи упорно молчат насчет благосостояния сельских жителей. Да и умозаключением тут немного можно сделать. Нельзя же считать богатство князей и монастырей прямым свидетельством благосостояния простого народа; не позволено делать заключения к действительной судьбе смердов от баснословных пиров Владимира. Что обогащало дружину, то вело к разорению смердов. Но — заключает г. Лешков — мы не лишены возможности приблизительно судить о положении нашего древнейшего сельского населения, благодаря акту, состоящему из шестнадцати статей, которые вносятся в «Русскую Правду».
В этих статьях показана цена домашних животных и расчислено размножение каждой породы в течение двенадцати лет таким образом:
«От 22 овец приплода в 12 лет 90,112 овец и 90,112 баранов.
Считая цену овцы в 6 ногат, а барана в 10 резан, придется заплатить за все это количество 45,055 гривен и 40 резан; да рун снимается с тех овец и баранов 360,446; за те руны заплатить 7,208 гривен и 46 резан».
Итак, продержавший у себя в течение двенадцати лег 22 овцы обязан заплатить их владельцу более 52,000 гривен, то есть по весу металла более 80,000 рублей серебром! Ясно, что эти вычисления, попадающиеся в одной редакции «Русской Правды», не могли быть приложены к практике и сделаны каким-нибудь знатоком цифирной мудрости для собственного удовольствия в рас-числении. Но г. Лешков думает, что эти статьи — формула арендаторского контракта по системе половничества; из них выводит он, что в земледелии первоначальный капитал приносил ежегодный доход в 60 процентов, и, следовательно, «сельский класс древней Руси вел жизнь безбедную». Но мало того, что нельзя согласиться, чтобы статьи, на которых основывается почтенный автор, имели приложение к действительности: они вычисляют не доход земледельца, как он думает, а сумму, которую, по правилу нарастания процентов на проценты, должник обязан возвратить заимодавцу через двенадцать лет, если возьмет у него в долг корову, лошадь, известное число овец и т. д. Это ясно, во-первых, из самой сущности расчетов, во-вторых, из того, что статьи мнимого арендного контракта идут непосредственно за статьями о резоимстве и месячном резу — об отдаче в проценты; следуют за ними опять постановления относительно величины процентов. Следовательно, для разрешения вопроса о бедности или богатстве сельского населения в древней Руси надобно искать других данных.
«В Материалах», обширнейшем и лучшем отделе «Временника», помещены очень важные исторические памятники. Конечно, мы должны здесь ограничиться только указанием их и благодарностью почтенным издателям. В 18 и 19 книжках напечатаны, как мы сказали, в полном составе, «Статуты великого княжества Литовского» 1529 и 1588 годов. В 16 книжке — два сказания о самозванцах. Издатель сказаний, князь Оболенский, объясняет в предисловии, что второе сказание, находимое во многих хронографах и бывшее известным Карамзину, переделка первого, которого, повидимому, Карамзин не знал. Сообщаем из него несколько подробностей, конечно, нуждающихся в критической поверке.
Говоря о избрании на царство Бориса Годунова, автор сказания утверждает, что избрания желали только немногие клевреты Годунова, а народ был единственно угрозами и страхом приневолен содействовать им. «И не хотел никто Бориса; но боялись его хитрости и злобы; и было постановлено, чтобы с того человека, который не придет к Лавре, где была царица инокиня, также не желавшая борисова избрания, просить ее об этом, с того брать по два рубля в день штрафу». Неужели этот штраф — выдумка составителя сказания, который вообще чрезвычайно не расположен к Борису? Гришка Отрепьев, жительствуя в Чудове монастыре, «вожделе искати и вникати в премудрости богомерзских книг»; итак, Отрепьев, еще будучи в Москве чернецом, читал светские книги? Гришка Отрепьев, идя на Москву, обещал в грамотах своих боярам и воеводам прибавку поместного оклада, а торговым людям и всего Московского государства людям — облегчение пошлин и податей; потом исчисляя его злонравные поступки, составитель сказания утверждает, будто бы Лжедимитрий хотел «юных иноков и инокинь образа иноческого лишити, и во светлые портища облачити, иноков умысли окаянный женити, а инокинь за муж давати», а не соглашающихся на это монахов и монахинь казнить смертью (??). В изложении грамоты, изданной царем Василием Иоанновичем Шуйским после избрания его на престол, также говорится, что Ажедимитрий хотел «истинную веру попрати и учинити люторскую и латынскую веру». Вероятно, эти народные толки о лютеранских замыслах Лжедимитрия основывались только на том, что многие не понимали вражды, господствовавшей тогда между папистами и лютеранами.
«Новый летописец», напечатанный в 17 книжке, есть, по мнению издателя (князя Оболенского), первоначальная редакция, которая была потом переделываема и дополняема в восьмой части Никоновой летописи и в «Летописи о мятежах». Изданная во «Временнике» редакция оканчивается «Смотром на Девичьем поле ратным людям» 7161 (1653) года, при царе Алексее Михайловиче.
Из нескольких десятков более или менее важных кратких замечаний, старинных юридических актов, грамот и т. п., помещенных в «Смеси» «Временника», заметим в шестнадцатой книжке интересное сочинение: «Книга, глаголемая коэмография, сложена от древних философов»; она издана по рукописи второй половины XVII века. Эта коэмография перечисляет земли в следующем порядке: в Европе, части Афетове, лежат Италия (земля плодовита скотом и овощем, учением же снискательна к мудрости), земля греческая (ныне обладаема Турскою державою немножеством людей, но безоружием противитися не дерзают, — итак, мы тогда уже знали, что собственно турки в Европе народ немногочисленный). Королевство Сербское (толико плодовита, т. е. земля, хлебом и овощем различным, что во всей Европии таково изобильство не обретается); царство Болгарское, страна Угорь-ская и Чешская, царство Крымское; цесарство державы Римские (т. е. германская империя — страна не только широтою велика, но зело многолюдна, человецы же мудры и многоучительны). Королевство земли Шпанские (человецы мудры лекарством дох-турским и звездочестию); Французское королевство; земля Германия (людей больше купецких, нежели воинских; человецы же ласковы и смирены и слабы ко пиянству и к покою телесному).. Королевство Польское и великое княжество Литовское (человецы величавы и горды и обманчивы, учению снискательны мудростям: всяким, и к войне, к ратям готовы и охочи и оружны; подданные же у них господей своих не слушают, повольно живут, и бесстрашны; платье же носят цветно и слабы к ядению и к пиянству и к всяким сластем). Царство Российское (благочестивая вера1 цветет); царство Казанское и Астраханское (человецы сановиты брадами и платьем), королевство Свицкое; земля Датская, ост-ровы Британские (много купеческих людей, а военных мало; человецы же к лечбам дохтуроваты); островы Пруские и Барабан-ские (Брабантские) и Галанские; земля Сибирь. В Азии, в части Симове: земля Ногай и Колъмыков (вера татарская, а не грамотная); земля Грузинская; земля Армейская, земля Кизилъбашская (от пиянства воздержательны, а к телесным похотем слабы); земля Перская (под кизилъбашским царем; человецы к воинству щательны и легки, яко и девицы на ратех восприемлют мужескую крепость); страна Фарсия; страна Индея великая; страна Индея малая; страна Ефиопская; царство Арапское черное; земля Ма-лацыя богатая; земля Евилацкая; страна Рахматы нагия под самым востоком солнцу, житие же их таково: одеваются листвием древяным, и от того питаются; и жены имеют, а риз и скота и хлеба не имеют. Место где исходят четыре реки райские. Горы стеклянные, 2000 верст под востоком солнца. Царство Китайское. Остров Макаридцкий (туда залетают райские птицы гамаюн и финик); потом другие острова; на одном из них живут василиски, лице и волосы девичьи, и от пупа хобот змиев, крылаты. На других островах такой жемчуг, яко одна жемчужина тянет близь полупуда. Третья часть, жребий Хамов, Африка. Здесь: Ассирия, страна Палестинская, земля Еллинская, в ней же град мудрые Афины и Елладское царство и Макидонское (!! в Африке!), Аравия, страна Египетцкая, две Ефиопии, королевство Папаяна, Варвария, земля Ундольский язык (обычаи имеют немецких людей, покорены Папе Римскому и Калвинская ересь); царство Магдяиское; остров Кипр; Киликия остров; остров Критский; остров Троя; конец Африке. В новой земле, Америке: земля Гроенская, острова Амразильский, Новая Ишпания, земли Первуатинские; Фларицкое княжество. Остров страна Еустралк. Далее его лежат уже острова темные, куда не заходит солнце.
В 17-й книге между прочим помещено описание свидания Петра Великого с Августом, королем польским, в феврале 1701 года. (Перевод с польского.) Здесь заметим, что когда начались переговоры о предполагаемой войне со шведами, то поляки восставали против этой войны, как не представляющей для Польши никаких выгод.
В «Смеси» 19 книжки помещены интересные воспоминания о графе Румянцеве, Суворове и Потемкине, записанные г. Ар. Р. со слов людей, служивших долгое время при графе. К сожалению, эти воспоминания очень кратки; они занимают не более пяти страниц. Извлекаем из них здесь существенное, опуская общеизвестные факты. Когда граф Румянцев передал Потемкину командование молдаванскою армиею, то переехал в молдавскую деревню в семи верстах от Ясс (главной квартиры) и жил там очень долго. Он
«вел жизнь спокойную, не выходил из своей комнаты, но принимал всех, к нему приезжавших, которые считали обязанностью отдавать ему тем уважение, как бывшему начальнику, к чему близость Ясс, где была квартира Главнокомандующего, много способствовала и была причиною переписки с ним императрицы, посредством которой она настоятельно его понуждала выехать оттуда, утверждая, что неприлично ему быть в таком близком расстоянии от главной квартиры. Он отвечал императрице, прося позволения остаться до весны, когда время позволит ему предпринять путешествие за границу, для поправления своего расстроенного здоровья, но что впрочем нигде пребывание его не может быть неполезным для дел России. Вынужденный отправиться в свои Малорусские деревни, Румянцев имел твердость отказаться от всякого дела, и семь лет не изменил своего образа жизни. Пользуясь совершенным здоровьем, он не выходил никогда из комнаты и только из кровати переходил на кресло, а из кресла на кровать, жалуясь на слабость ног. Это одно уж означает власть нравственную над собою. Он не мог перенести мысли о уничижении своем, пожертвовал всеми удовольствиями жизни и сократил тем самую жизнь свою».
Когда Сувород, после взятия Праги, был пожалован фельдмаршалом, то, возвращаясь в Петербург, заехал в деревню к Румянцеву; но, не доезжая одной станции, остановился, собрал совет из всего бывшего при нем штаба и предложил вопрос: может ли он теперь подъехать к крыльцу графского дома, чего прежде никогда не делал? Все сказали, что теперь он имеет на то право, как равный чином. Суворов возражал, говоря о старшинстве графа, наконец показал вид, что его убедили, и сказал:
— Смотрите же, смотрите, чтобы вы не ввели меня в беду.
Говоря по этому поводу о странностях Суворова, г.' Ар. Р.
приводит следующий анекдот в подтверждение обыкновенного объяснения их желанием Суворова отвлечь ими внимание от истинного своего характера и серьезных целей: в итальянскую кампанию Суворов однажды сказал Милорадовичу, тогда еще молодому генерал-майору:
— Вот ты молод, храбр, тебя любят дамы, ты танцуешь бесподобно; но не в том дело: занимай любопытных, пожалуй, хоть танцами, чтобы тебе не мешали на избранной дороге.
Одно остается непонятным, — продолжает г. Ар. Р., — при набожности своей, Суворов «давал полную волю ожесточению солдат, ничем не останавливая кровопролития».
По примеру «Архива», изданного г. Калачовым, «Временник» с 19 книжки решился прилагать «Указатели» статей, относящихся
к русской истории в старых журналах и вообще изданиях. Нельзя не одобрить такого полезного намерения. Вследствие его при 19 книжке приложен «Указатель статей по русской истории, географии, статистике, русскому праву и библиографии, помещенных в «Московском Вестнике» 1827–1830 года», составленный г. М. Полуденским. Конечно, можно было выбрать журнал более важный, нежели «Московский Вестник»; но, во всяком случае, труд г. Полуденского — труд очень полезный. Эти частные указатели, кроме прекрасного самостоятельного значения, важны и в том отношении, что приготовляют материалы для будущего полного указателя наших журналов, без которого все работы по части истории нашей литературы не столько будут приносить результатов, сколько доставлять утомительного труда исследователям.
ЕСТЕСТВЕННОСТЬ ВСЕХ ВООБЩЕ ЛОМОНОСОВСКИХ СТОП В РУССКОЙ РЕЧИ1 _
Считая количество слогов с ударениями и слогов без ударений в русской речи, мы пришли к заключению, что трехсложные стопы больше двусложных идут к русской речи. Теперь посмотрим, до какой степени естественны для русской непринужденной речи те стопы, в которые укладывает ее наша литературная версификация. Мы очень хорошо знаем, что в прозе избегают фраз, которые имели бы определенный стихотворный размер; но если какого-нибудь рода стопы естественны в непринужденном складе известного языка, то по необходимости должны в его прозе беспрестанно попадаться обрывки разных размеров, составленные из двух-трех одинаковых стоп и перемешанные с другими подобными отрывками, состоящими из других стоп той же системы версификации. Другими словами: если система версификации идет к духу языка, то проза этого языка будет смесью небольших отрывков стихов, перемешанных без всякой системы. Рассмотрим в доказательство нашей мысли тот же самый отрывок Шиллерова предисловия к переводу Энеиды, который был нами приведен в предыдущей статье: Einige Freunde des Verfassers — размер — v_v — w—' дактило-хореическая фраза;
die der lateinischen Sprache nicht kundig — размер:
— ww — ww — W правильный дактилический стих в
три стопы с хореическим окончанием;
aber fähig sind — размер: — v_v — v_v — трехстопный хореический стих;
jede Schönheit (—v_v — w) двустопный хорей; der alten Claseiker (v_y — w — w—) трехстопный ямб; zu empfinden, wünschten (—v_y — v_y — w) трехстопный хорей; durch ihn mit der Aeneis (v_v — w — w — w) трехстопный ямб;
des grossen römischen (v_v — w — w—) опять трехстопный ямб;.
Dichters etwas (—v_v — w) двустопный хорей; bekannt zu werden — v_v — w) двусложный ямб;
von welcher, seines Wissens (w — w — W — w) трехсложный ямб;
noch keine, nur irgend (v^ — ww — w) двустопный амфибрахий;
lesbare Übersetzung sich findet (—w — Дак" тило-хореический отрывок, в котором два раза следует за дактилем хорей.
die hauptsächlichste (w-ww)«m6 с дактилем, сочетание,
отвергаемое версификациею; отрывок, чуждый стихотворного размера;
Schwierigkeit, die ihm (—W—) трехстопный хорей;
bei Ausführung seines Vorhabens aufsties(—w— w — w — W — v_v—) семистопный хорей;
war die Wahl (— w —) отрывок, слишком короткий для того, чтобы можно было без натяжки назвать его двустопным ямбом; стихотворного размера нет.
двухсложный хореи.
einer Versart
Можно было такое разложение немецкой прозы на маленькие стихотворные отрывки продолжать до бесконечности, и мы везде нашли бы то же самое, что и в разобранных нами строках: почти вся кряду немецкая прозаическая речь разлагается на смешение нескольких с ряду хореических стоп с несколькими с ряду ямбическими стопами; изредка попадаются отрывки дактилического или амфибрахического размера; изредка попадается несколько слогов, подводить которые под стихотворный размер была бы вещь невозможная или натянутая; в нашем примере на 101 слог нам попалось 8 таких слогов (1 из двенадцати). Очень понятно, что немецкая речь чрезвычайно легко укладывается в немецкие общеупотребительные размеры: для этого достаточно самого легкого изменения или перестановки слов. Попробуем, напр., приведенный нами отрывок превратить в чистые хореи (отмечаем курсивом измененные или перестановленные для этого слова):
Viele Freunde des Verfassers, die der alten Sprache
wohl nicht kundig, aber fähig sind jede Schönheit des Poëten zu
empfinden, wünschten mit der Aeneis jenes grossen römischen Poëten etwas mehr durch ihn bekannt zu werden, denn von der Aeneis, seines Wissens, keine nur irgend lesbar? Übersetzung findet sich и т. д.
Попробуем обратить в ямбы те же самые фразы:
Sehr viele Freunde des Verfassers, die der alten Sprache kundig nicht
die Schönheit des Po'èten zu empfinden, wünschten sehr durch ihn mit der Aeneis
des grossen römichen Poëlen bekannt zu werden, von welcher, seines Wissens,
noch keine auch nur irgend lestcrP Übersetzung findet sich и т. д.
Как легко было превращение прозы в мерную речь! С такою же легкостью всякий прозаический немецкий отрывок обратится в чистые ямбы или хореи. Действительно, немецкие размеры чрезвычайно идут к духу немецкого языка. Взглянем теперь с этой же стороны на русский язык. '
Такую пробу мы сделаем над отрывками из «Мертвых душ», по тому соображению, что из наших великих писателей в прозе язык самый простой, самый близкий к обыкновенному разговорному (т. е. живому) языку находим у Тоголя. Язык Пушкина гораздо искусственнее. Правда, Гоголя упрекают в том, что «у него язык не всегда хорош», но этот упрек делается людьми, требующими мелочной отделки фраз; мы остаемся при убеждении, что язык Гоголя в наше время образцовый русский язык, что лучше Гоголя никто не писал прозою по-русски. Берем начало «Мертвых душ».
«В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка» — размер; ww — w — v_yv_A_/w — w — покорнейше просим отыскать здесь что-нибудь подходящее к какому-нибудь из наших размеров. Мы не находим никакой возможности разложить фразу подобного устройства на хореи, ямбы, дактили или что-нибудь на них походящее. Вначале что-то вроде анапеста с ямбом; потом пэоны с анапестами; под конец что-то похожее на два ямба или два хорея. Посмотрим дальше:
размер;
w-'
«.. в какой ездят холостяки»..
\_j то же сг»/іое, что и выше.
«. отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян». размер: ww — www —
опять то же самое; анапест, потом пэоны разного рода, перемешанные так, что не выходит ничего определенного; на конце три ямба или хорея.
«. словом, все те, которых называют господами средней руки» — размер: — ww — www — www — w — ww — Во всем отрывке только следующие фразы можно подвести под определенный размер:
в ворота гостиницы (— уу — w — w) — хорей; въехала довольно (—ѵ_у — w — w) — хорей; красивая рессорная (w — w — w — w —) — ямб; небольшая бричка (— w — w — w) — ямб; сотни душ крестьян (— w — w —) — хорей; все те, которых называют — w — W — w) — ямб. Для подведения слов этих под ямб или хорей мы прибегали ко всем натяжкам нашей версификации; чего же успели мы достичь? из 92 слогов только 43 идут под стихотворные размеры; больше половины ни под какой размер нельзя подвести.
Продолжаем нашу выписку, отмечая курсивом отделы речи, подходящие под какой-нибудь размер, имя которого ставим в скобках.
«В бричке сидел господин (дактиль), не красавец, но и не дурной наружности (хорей), ни слишком толст, ни слишком тонок (ямб); нельзя сказать (ямб), чтобы стар, однакож и не так (ямб) чтобы слишком молод (хорей). Въезд его не произвел (хорей) в городе совершенно никакого шума (хорей) и не был сопровожден ничем особенным (ямб); только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака (анапест) против гостиницы, сделали кое-какие замечания (ямб), относившиеся впрочем (хорей) более к экипажу, чем к сидевшему в нем. «Вишь ты», сказал один другому (ямб), «вон какое колесо! (хорей) что ты думаешь (хорей), доедет то колесо, если б случилось (дактиль) в Москву, или не доедет (хорей)?» — «Доеддт», отвечал другой (ямб). «А в Ка-зань-то, я думаю, не доедет?» (хорей). «В Казань не доедет» (хорей), отвечал другой (хорей). Этим разговор (ямб) и кончился. Да еще, когда бричка подъехала к гостинице (ямб), встретился молодой человек (анапест) в белых канифасовых (хорей) панталонах, весьма узких и коротких (хорей), во фраке с покушеньями на моду (хорей), из-под которого видна была манишка (ямб), застегнутая Тульскою булавкою (хорей) с бронзовым пистолетом. Молодой человек (анапест) оборотился назад, посмотрел экипаж (анапест), придержал рукою (хорей) картуз, чуть не слетевший (дактиль) от ветра, и пошел своей дорогой» (хорей).
Всего в сложности отрывки, в которых мы успели отыскать стихотворный размер, составляют 233 слога; отрывки,' которых не могли мы подвести под размер, 108 слогов; соединяя с цифрами, полученными прежде, мы будем иметь 276 слогов, подходящих под наши литературные стихотворные стопы, 157 слогов, не подходящих под стопы. Более нежели треть слогов не подходит под ломоносовские (немецкие) стопы в русской прозе. Чтобы прочнее был выведенный нами результат, проверим его на других отрывках и, во-первых, проверим его над началом Повести о капитане Копейкине.
«После кампании (дактиль) двенадцатого года (ямб), судырь ты мой, вместе с ранеными прислан был и капитан (хорей) Копейкин. Пролетная голова, привередлив как чорт (амфибрахий), побывал и на гауптвахтах (хорей), и под арестом, всего отведал (ямб). Под Красным ли, или под Лейпцигом (дактиль), только можете вообразить (хорей): ему оторвало руку и ногу (дактиль). Ну, тогда еще не успели (хорей) сделать насчет раненых никаких, знаете, эдаких распоряжений (хорей); этот какой-нибудь
инвалидный капитал (хорей) был уже заведен (анапест), можете представить (хорей) себе, в некотором роде после. Капитан Копейкин видит (хорей): нужно работать бы, только рука-то (дактиль) у него, понимаете, левая (анапест). Наведался было домой к отцу (ямб), отец говорит (амфибрахий): «Мне нечем тебя кормить (ямб); я, можете представить (хорей), сам едва достаю (анапест) хлеб». Вот мой капитан (хорей) Копейкин решился отправиться, судырь (амфибрахий) мой, в Петербург, чтобы хлопотать (хорей) по начальству, не будет ли какого (ямб) вспоможенья…» '
184 слога успели мы подвести под размеры, 74 слогов (2/7) не успели. Берем еще отрывок, знаменитый почти в такой же степени, как Повесть о Копейкине, разговор дамы прекрасной во всех отношениях с просто прекрасною дамою:
«Какой веселенький ситец!» — «Да, очень веселенький. Прасковья Федоровна однакоже находит, что лучше, если бы (ямб) клеточки были помельче (дактиль), и чтобы не коричневые были крапинки, а голубые (хорей). Сестре я прислала материйку: это такое (амфибрахий) очарованье, которого просто (дактиль) нельзя выразить словами (хорей); вообразите себе (дактиль) полосочки узенькие, узенькие (хорей), какие только может (ямб) представить воображение человеческое, фон голубой, и через полоску (хорей) все глазки и лапки (амфибрахий), глазки и лапки (дактиль), глазки и лапки (дактиль). Словом, бесподобно! (хорей) Можно сказать решительно, что ничего еще (ямб) не было подобного (хорей) на свете». — «Милая! это пестро!» (дактиль) «Ах, нет, не пестро!» (амфибрахий) — «Ах, пестро!» — «Да, поздравляю вас, оборок более не носят» (хорей). — «Как не носят?» (хорей) — «На место их фестончики» (ямб). — «Ах, это не хорошо, фестончики». — «Фестончики, все фестончики».
Всего слогов, которые подходят под размеры, 177; таких, которые не подходят, 77 (немного менее, нежели третья доля всего количества слогов). Таким образом, в русской непринужденной речи около четвертой или даже третьей доли слогов, ее составляющих, не подходит под ломоносовские стопы. Из этого одного вправе уже мы заключить, что писать стихи ломоносовскими стопами на русском языке гораздо менее удобно, нежели писать стихи по той же самой системе версификации на немецком языке, в прозе (естественной, непринужденной речи) которого гораздо менее попадается слогов, нарушающих единство размера в синтаксических подразделениях фразы.
Но мало того, что в русской речи бывает много слогов, не подходящих под размеры; есть еще другая трудность. Обыкновенно пишут чистыми ямбами, хореями, амфибрахиями и т. д. В немецкой прозе перемешаны почти только одни ямбические и хореические отрывки; потому писать, напр., ямбами необыкновенно легко: для превращения хореического отрывка в ямбический нужно только вставить или отнять сначала односложное слово; точно так же и ямбический отрывок обратится в хореический через простое прибавление или уничтожение в начале его односложного слова. Но в русской непринужденной речи кроме ямбических и хореических отрывков попадается очень много отрывков, состоящих из трехсложных стоп (в разобранных нами примерах всего 594 слога подходят под размеры; из них 77 слогов дактилических отрывков, 43 амфибрахических, 47 анапестических, всего 167 слогов, подходящих под трехсложные стопы; 259 слогов не успели мы подвести под стихотворный размер). Трехсложные стопы нельзя так легко обратить в двусложные, как ямб в хорей или хорей в ямб: для этого понадобилось бы в каждой стопе (а не только в начале отрывка) выкидывать или вставлять по слогу — это почти невозможно сделать, не заменив слов, составляющих фразу, другими словами. Поэтому, если мы начнем, напр., писать ямбом или хореем, мы найдем ровно половину слогов нашей непринужденной речи сопротивляющимися размеру, принятому нами (за исключением 167 слогов, принадлежащих трехсложным стопам, останется у нас 427 слогов ямбических и легко обращающихся в ямбы хореических; будут сопротивляться нашему размеру 259 слогов, нейдущих под размеры, и 167 слогов, принадлежащих трехсложным стопам, всего 426 слогов).
Нам остается объяснить две вещи: 1) отчего происходит, что немецкая речь гораздо легче, нежели русская, укладывается в стихотворные размеры; 2) отчего в русской прозаической речи нам попадалось гораздо больше отрывков, состоящих из двухсложных стоп, нежели из трехсложных, между тем как в предыдущем замечании мы нашли, что русская речь должна естественнее укладываться в двухсложные, нежели в трехсложные стопы?
На первый вопрос ответ готов: в немецком языке слова гораздо меньше имеют слогов, нежели в русском; в русском языке ударение бывает, как случится, на различных местах в слове (выговорить — ударение на приставке; наговорить — ударение на окончании), между тем как в немецком оно всегда стоит на коренном слоге; потому сочетания ударений в русской фразе выходят гораздо разнообразнее, нежели в немецкой. Можно сказать, что немецкая речь механически укладывается в двусложные стопы; чтобы убедиться в этом, стоит сличить ямбическое и хореическое немецкие стихотворения. (Для примера возьмем только первую стопу.) В «Die Ideale» Шиллера, стихотворении, писанном ямбами, из 88 стихов 72 стиха начинаются односложными частицами; из остальных шестнадцати десять начинаются трехсложными словами, у которых первым слогом сложный предлог (vergebens, erloschen и т. п.), так что всего в 6 только стихах первая стопа составилась не по механическому правилу: если поставить односложную частицу или сложное с предлогом слово в начале стиха, то получится ямбическая стопа. В его Kassandra 128. сти-
хов (Кассандра писана хореем); из них только в двух стихах (in Apollo s Lorbeerhain и ich allein muss einsam trauern) первая стопа устроена не по механическому правилу: ставьте в начале стиха два односложных слова, или одно односложное, а потом слово сложное с предлогом, или начинайте стих словом несложным с предлогом, и у вас выйдет хореическая стопа. Точно так же механически построиваются и все стопы. Само собою разумеется, что этот механический способ укладывать речь в стихи усвои-сается привычкою, бессознательно; но кто же не согласится, что при таком простом механизме, при таком правильном (если угодно, однообразном) сочетании ударений’в речи, стихи выходят очень легки и непринужденны? Ничёго подобного этому в русской речи быть не может.
Теперь второй вопрос: отчего у нас так много набралось хореических и ямбических стоп в разобранных нами отрывках? Оттого, что все пэрны обращали мы в хореи или в ямбы, искусственно ставя принужденные ударения, как ставятся они в наших ямбических или хореических стихах. Чистых ямбических'или хореических отрывков набралось бы у нас очень мало.
1854 БИБЛИОГРАФИЯ <ИЗ № 1 „ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИС0К“>
Известия Императорской Академии Наук по отделению русского языка и словесности. Том II, листы 1—15 (или 27–41 листы общего счета) и при них XXII–XLVI листы Прибавлений1.
Опыт Словаря к Ипатьевской Летописи, г. Чернышевского, первый после словаря к «Остромирову Евангелию» 2 труд этого рода в русской литературе. Потому обратим внимание на план и исполнение этого труда, предполагая, что автор не оскорбится нашими замечаниями.
Словарь этот расположен по этимологическому порядку. И действительно, объяснительным словарям тех языков, в которых значение многих слов еще не определено, приличен этимологический порядок. Но к этимологическому словарю должен быть приложен алфавитный список слов, вошедших в него, по крайней мере, тех слов, производство которых неясно с первого взгляда для всякого. Г. Чернышевский не сделал этого, потому его словарем не совсем удобно пользоваться; и мы часто не знаем даже, под каким корнем надобно искать нужное нам слово, потому что словопроизводство — вещь довольно загадочная во всех языках, тем более в славянском, менее других обработанном. Приложить алфавитный список слов, в которых вид корня изменился или затмился, было бы тем необходимее, что автор иногда отступает от обыкновенного словопроизводства (иначе и не может быть при нынешнем состоянии славянской филологии); например, слово соулиця относит он к корню соу-ти, между тем как обыкновенно предполагается для этого слова корень соул; въпити, подобно възъпити относит он к корню пи-ти (= ШЬти), а не к корню въп, — как обыкновенно. Нам кажется, что он слишком стеснил круг своих объяснений, решась объяснять Ипатьевскую Летопись
только одною Ипатьевскою Летописью и отказавшись преднаме- ’ ренно от всех посторонних пособий. Потому он принужден оставить без объяснения множество слов, которых значение можно определить или уже давно известно, например, кация, скора, оло-вир, паволока, скорлат, и оставить их без объяснения только потому, что они объясняются не Ипатьевскою Летописью. Г. Чернышевский ставит вопросительные знаки при словах, относительно которых он нетвердо уверен, правильно ли они объяснены у него; такая осторожность была бы неизлишнею, если бы он не был слишком мнителен; его сомнение очень часто скрывает под собою решительную достоверность. Мы совершенно согласны с г. Чернышевским в необходимости отличать от народных русских слов слова, заимствованные в наши летописи из церковнославянских книг, и слова, составленные нашими книжниками в подражание греческим или просто для витиеватости (последние слова называет он реторическими); но нам кажется, что и здесь он слишком осторожен; по нашему мнению, из слов на букву с к церковнославянским или реторическим словам, кроме отмеченных г. Чернышевским, в его словаре относятся еще: насажение, въселеная, свѣрьпыи, прѣсвятыи, священомоученик, осклабитися, свѣгонось-ныи, оусвѣтити, свѣтьлость, скрание, скръбь, неослабьно, прЬславьный, слышяние, слоужитель, основа, поспѣшение, по-спѣшьник, спѣшьник, срьдьчьныи, достоить, достойный, достояние, достохвальныи, наставьник, оставление, прѣставитися, проставление, стонание, остлъпити, строение, оустроение, поустроити, стоудьныи, осоудитися, осоужние, исоушити, въсѣяти, оусѣкноути, посягати.
<ИЗ № 5 „ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК“>
Федон, или о бессмертии души, Моисея Мендельсона.
Перевод с немецкого В. Мызникова. Издание второе. Тифлис.' 1854. В 8 д. л. XXIX и 131 стр.
Мендельсонов «Федон» в русском переводе достигает второго издания! Следовательно, первое издание (правда, вышедшее еще в 1837 году) раскуплено? Это — явление утешительное в нашей литературе. Г. Мызников приобретает двойное право на благодарность нашу за свой перевод, когда мы видим, что его перевод сделан был не понапрасну, не остался навеки в книжных магазинах, как другие переводы и сочинения подобного содержания, а разошелся в публике. Объяснимся. Мы радуемся успеху «Федона» не потому, чтоб он мог в наше время считаться основательным трактатом о бессмертии души, а потому, что знакомство с сочинениями людей таких чистых и благородных душою, возвышенных по уму и по образу мыслей, как Мендельсон, приносит несомненную пользу читателям, хотя бы эти сочинения уже устарели.
Если мы, понимая беспредельность расстояния, отделяющего
прежнем мнении относительно достоинства ее издания и должны подтвердить справедливость своего мнения подробным разбором вышедшего ныне седьмого тома.
Требования от энциклопедического словаря могут быть и велики и малы, и строги и снисходительны. Мы ограничимся самыми снисходительными, которым удовлетворить было бы очень легко. Говоря строго, мы могли бы от словаря на русском языке требовать того же, что требуется от такого рода словарей на французском, немецком и английском языках: самостоятельной обработки всех статей. Но к чему такие огромные требования? Нам скажут, что у нас трудно найти для этого достаточное число сотрудников, — и мы согласимся. Пусть «Справочный словарь» будет просто сборником статей переводных и извлеченных, пусть он будет простою компиляциею — мы согласны; пусть только эта компиляция будет составлена хорошо — и мы будем совершенно довольны. Не правда ли, наши требования очень умеренны? Посмотрим же, насколько удовлетворяет их «Справочный словарь» г. Старчев-ского.
Статьи, входящие в состав «Словаря», разделяются на два отдела: 1) статьи, которые он мог брать (и взял) целиком из иностранных энциклопедических словарей, и 2) статьи, которых он не мог оттуда заимствовать и которые редакция должна была извлекать или составлять сама.
К первому отделу принадлежат все биографические и географические статьи, кроме относящихся к России, русской истории, географии и биографий замечательных людей в России. К нему же принадлежат статьи по наукам, искусствам, промышленности и т. д., словом, все статьи, кроме специально относящихся к русскому миру.
Этот отдел не мог доставить больших хлопот редакции. Вот все, что обязана она была сделать: составить список статей, которые должны войти в ее словарь, и потом перевести их вполне или в сокращении. Составить список очень легко, потому что есть уже множество готовых таких списков в иностранных изданиях; надобно только свести их и выбрать важнейшие статьи, которые могут и должны войти в ее издание по принятому для него размеру. Нужно только уметь судить о том, которые статьи важны и нужны, которые не нужны и не важны. Редакция «Справочного словаря» решилась ограничиться количеством статей, вдвое меньшим того, какое помещается в немецких конверсационс-лексико-нах. Не будем упрекать ее и за это, потому что она располагала вдвое меньшим числом листов, хотя и уверены, что, сократив некоторые статьи, слишком растянутые (мы укажем на них), она могла бы поместить гораздо большее число статей; но не можем не поставить ей в упрек того, что в принятых ею границах она плохо распорядилась выбором, брала статьи большею частью наудачу, и потому, удержав множество ненужных, опустила множество важных. В доказательство рассмотрим ее список иностранных собственных имен на слог Ла (он занимает около CTâ страниц). Причина, по которой мы ограничиваемся собственными именами и не берем в расчет технических слов и терминов из наук и искусств, очень понятна: не находя известного термина или технического слова, мы еще можем предполагать, что оно будет объяснено под другим техническим словом; этого рода статьи могут быть дробимы и сливаемы; но собственные имена должны уже непременно стоять на своих местах: их нельзя сливать и вносить в другие статьи.
Всего мы находим в «Справочном словаре» около 150 собственных имен, начинающихся слогом Ла, и в числе их нет следующих имен, необходимых по принятому редакцией объему списка, — имен, которые часто случается слышать и о которых, поэтому, часто приходится справляться:
Лабедойер (Labedoyère), которого имя всегда упоминается в газетах, как скоро речь идет о смерти Нэя; Лабиен, известный сподвижник, а-потом противник Цезаря; Лабурдонэ, министр Карла X; Лавиниум, город в Лациуме; Лагир, французский полководец XV вёка; другой Лагир, знаменитый математик XVII века; Лаий, отец Эдипа; Лакруа (Поль), известный французский писатель (часто пишущий под именем Жакоба-библиофила); Ладдъман, знаменитый медицинский писатель; Ладди-Тодендадь или Ладьи-Тодандадь (Lally-Tolendal), французский полководец в Ост-Индии; другой Ладди Тодендадь, сын его, известный государственный человек в конце XVIII века; принцесса Ламбадь, друг королевы Марии-Антуанетты; Ламет (Lameth), знаменитый государственный человек конца XVIII века; Лами, итальянский писатель ХѴІІІ века; Ламия, мифологическое лицо; Ламийская война между грекаім и Антипатром, по смерти Александра Македонского; Лампридий, римский писатель IV века; Ланселот или Лансдо (Lancelot), герой рыцарских романов; Ландер или Лэндер (Lander), знаменитый путешественник по Африке; Ланг, ганноверский государственный человек; Ланге, немецкий писатель ХѴІІІ века; Лангедок, французская провинция; Лангенбек, знаменитый современный хирург; Лангендик (Langendijc), голландский комический писатель; ' Ланувиум, город в Лациуме; Лаодомант, сын Этеокла; Лаодика (у трагиков Электра), дочь Агамемнона; Лашггы, фессалийское племя; Ларше (Larcher), переводчик Геродота; Латимер или Лэтимер (Latimer), знаменитый английский епископ XVI века; Лаубе, немецкий поэт; Лахман, знаменитый филолог, и проч.
Всего на 150 имен с лишком 30 имен пропущенных! Мы имеем полное право сказать, что^ редакция «Справочного словаря» должна была поместить их в свой список, выбросив из него около 45 или 50 ничем не замечательных и очень малоизвестных имен, из которых многие напечатаны русскими буквами едва ли не в первый раз в «Справочном словаре». Вот некоторые из них:
Лабурёр (скульптор); Лаваль (французский город);' Лагоу (Lahoz), итальянский генерал; Ладирас (род вина); Лазинио (итальянский гравер); Лаксенбурі (загородный дворец близ Вены); Лаке (Louis Lax), современный немецкий писатель;
Лалльман (французский генерал); Ламбахер (немецкий писатель); Ламбек (тоже); Ламберг (1, Йозеф, писатель; 2, Иоган, дипломат); Ламонне (Lamonnaie, французский писатель); Лан-генау (австрийский генерал); Ландсберг (город); Ланнинский (иезуит); Лассо (композитор); Лаубендер (ветеринарный-писатель); Лаукгард (немецкий писатель); Лауэр (австрийский писатель) и еще столько же других, им подобных имен. Большая часть этих собственных имен не вошла даже в некоторые энциклопедические словари, изданные на их родине, превосходящие объемом «Справочный словарь» и потому вмещающие в себя гораздо большее число имен. Исключив подобные, никому не нужные слова, редакция «Справочного словаря» имела бы место для не вошедших в него слов, которых насчитали мы, при всей осмотрительности в выборе, четвертую долю против всего количества статей этого рода.
После составления списка статей иностранного отдела на редакции лежала вторая обязанность определить важность каждой статьи и, сообразно с этим, объем ее. От этого очень много зависело достоинство словаря. Возможно ли составить хороший словарь, когда маловажные статьи гак расширились, что отняли место, нужное для того, чтобы дать приличное развитие важнейшим статьям? Еще более: Ложно ли составить удовлетворительный словарь, не потрудившись определить относительную важность (и вследствие ее — объем) статей? И в этом отношении «Справочный словарь» не выдерживает самой снисходительной критики. В доказательство представляем в двух параллельных списках объем некоторых статей, преимущественно на слог Ла:
СТАТЬИ СЛИШКОМ ДЛИННЫЕ
Лабиринт 2 столбца.
Лавицкий (иезуит) 40 строк.
Лавр (дерево) 2'І2 столбца.
Лагоц (генерал) 2 столбца.
Лакса (страна в Аравии) 23 строки.
Лалльманн (генерал) 1 столбец. Ландскнехты 5Ѵз столбцов.
Ланкло (красавица) 35 строк. Лаперуз 4Ѵз столбца.
Ла-ротьерское сражение 4 столбца. Ла-Рош-Жаклен (предвод. шуанов) 3 столбца.
Лары (итал. мифол. существа) 42 строки.
Латур (астр, генерал) З'/з столбца. Лафет 3 Чг столбца.
Лашез (иезуит) 2 столбца.
Всего 36 столбцов.
СТАТЬИ СЛИШКОМ КОРОТКИЕ
Ла или Ло 54 строки.
Лаборатория 37 строк.
Лагарп (воспитатель импер. Алекг сандра) 14 строк.
Лаконика 17 строк.
Ламайская вера 26 строк.
Ла пиастр ^ггеттярпрі 20 строк. Латинская империя (в Константинополе) 7 строк.
Лафайет 1 столбец.
Лафит (министр) 38 строк. Левктрийская битва 20 строк.
Лен 20 строк.
Лессинг 34 строки.
Либих 18 строк.
Ливия (жена Августа) 15 строк Всего менее 8 столбцов.
Против большей части выписанных нами слишком длинных и маловажных статей мы выставили слишком короткие и гораздо
более важные статьи одного рода и получили такой вывод: пятнадцать статей менее важных занимают почти в пять* раз больше места, нежели пятнадцать же статей гораздо более важных.
В самом деле, невозможно не дивиться, видя, что какое-то ла-ротьерское сражение описывается в «Справочном словаре», который должен дорожить местом, на 4 столбцах, подвиги какого-то неслыханного итальянца Лагоца — на двух, Ла-Рош-Жаклена — на 3, странствования Лаперуза — на 4'/2.
Не распорядившись как следует местом, редакция принуждена была сокращать очень многие из тех статей, которые должны составлять важнейшую по объему часть всякого справочного словаря. У г. Старчевского эти статьи нередко ограничиваются двумя-тремя фразами, неверными или недостаточными. Примеры сейчас увидим.
Посмотрим теперь, каково самое изложение биографических, исторических и географических статей переводного отдела. Главною задачей их должно быть: при всевозможной краткости в подробностях, показать существенное значение описываемого события или очертить существенно важную сторону деятельности лица, показать, чем оно замечательно. Нам скажут, что это задача трудная — может быть, но только для составителя статьи, а не для сократителя или простого переводчика. Мы не будем строго замечать мелких промахов в годах, цифрах, не будем обращать внимания на опечатки, хотя все эти мелочи важны в справочной книге. Важнее всего существенное содержание: только им мы и займемся.
«Ла или Ло (John Law)… предложил (эдинбургскому парламенту) учредить банк, который выдавал бы бумажные деньги»… Не бумажные деньги, а банковые билеты: это две различные вещи; но положим, что все равно; что же особенного в проекте банка, который станет выдавать билеты? Стоит ли говорить о на принятом предложении основать такой банк? Дело в том, что банк Ло должен был выдавать билеты под залог земель, и чрез это, по плану Ло, земля из недвижимого имущества становилась движимым, или, лучше сказать, переходила в руки государства, — вот сущность дела. Этих существенных слов: под залог земли, не прибавлено в «Справочном словаре», и оттого дело теряет смысл. Операции Ло во Франции, их сущность, падение его системы изложены так, что ничего нельзя понять! даже не указана обширность его предприятий, даже не сказано, что падение его системы имело следствием всеобщее разорение; даже нет ни слова о том, какая бешеная биржевая игра была возбуждена его акциями. Кто справится о Ло в «Справочном словаре», тот почтет его сдним из обанкрутившихся банкиров и удивится, что о нем до сих пор толкуют.
«Лабиринт. Разнообразно извитое тело или здание, имеющее много ходов и комнат». Последнее, разумеется, справедливо; а по первому определению надобно подумать, что к лабиринтам относятся кишки, мозг и т. д.
«Лаблаш… за свой превосходный бас был увезен одною певицею, возвратился назад и дебютировал в Неаполе». Не знаем, увозила ли его какая-нибудь певица; но, во всяком случае, не ей он обязан развитием своего таланта, а Россини, о чем не говорит «Справочный словарь».
«Лаборатория (Laboratoria)»— не Laboratoria, а Laboratorium — «место, в котором производятся химические операции. В новейшее время такие лаборатории устроиваются преимущественно при университетах». Это справедливо только относительно ученых, а не технических лабораторий.
«Лабрадор. Полуостров на западном берегу Эаста; граничит с Атлантическим Океаном». Что за земля этот Эаст? Это не земля, а просто не понятое редакциею английское слово east, восточный. Объяснение своего промаха мог бы найти «Справочный словарь» в конце своей статьи: восточный берег Лабрадора англичане очень натурально называют «восточною землею», East-Маіп; из первой половины этого слова в «Справочном словаре» произошла страна Эаст, после чего и оказалось, что Лабрадор лежит на западном берегу своего восточного берега…
«Лабрюйер. Был казначеем в Каенне». Каенна — Cayenne, город во Французской Гвиане (в Южной Америке); само собою разумеется, что Лабрюйер был казначеем не там, а в Кане (Саеп), городе, лежащем в Нормандии, или, по нынешнему разделению, в Кальвадосском департаменте. «Справочный словарь» смешал эти два города; ошибке помогло, вероятно, то, что он слово Саеп произносит Казн.
«Лавоазье». Что сделал Лавоазье для химии, об этом нет ни одного слова, кроме ошибочной мысли: «новейшая химия была создана до Лавоазье; требовалось только дать ей вид науки; Лавоазье совершил это трудное дело». Нет, заслуги Лавоазье гораздо важнее: он не только привел в систему прежние открытия, но и сам сделал еще важнейшие, на которых основывается новейшая химия. Впрочем, об открытиях Лавоазье «Справочный словарь» не говорит ни слова, довольствуясь тем, что «Лавоазье получил премию за решение вопроса об освещении парижских улиц».
До сих пор мы разбирали статьи подряд; место не позволяет нам продолжать таким образом, и мы должны ограничиться только подробным разбором еще трех или четырех переводных статей на слог Ла, текст которых выписываем вполне, чтоб показать читателям небрежность, с которою они составлены. Мы берем статьи не на выбор, а наудачу.
«Лагарп, экс-директор Гельветической республики. (следовательно, Лагарп еще жив? потому что «экс» употребляется только о живых). .надворный советник русской службы. (он
был награжден генеральским чином в 1814 году). родился в Ролле 1754 года. (что это за Ролль? где он? Конечно, имя этого незамечательного местечка не попадет в «Справочный ело-ьарь»; поэтому было бы необходимо прибавить «в Ва гланде»)… двадцати лет он был доктором прав и адвокатом в Берне. (из этого выходит, что он и доктором прав был сделан в Берне: нет, он получил этот титул в Тюбингене; должно было придать фразе другое устройство, чтоб не вводить в заблуждение читателя), но вскоре, по приглашению Екатерины, отправился в Петербург, в качестве наставника великих князей Александра и Константина. Последние свои дни провел он близ Парижа. (По этому изложению мы должны предполагать, что Лагарп уехал из России уж стариком, для успокоения, — нет, он жил в России всего несколько лет и уехал из нее в 1793 году, прожил (и очень деятельно)~еще 45 лет; в том числе последние двадцать леі в Лозанне, а не близ Парижа). занимаясь земледелием, и естественными науками. В 1814 году принял участие в делах (каких?) ходатайством у Александра (о чем?) и успел упрочить независимость Кантона Ватландского. Умер в 1838 году». (По этому изложению надобно предполагать, что в 1814 году ходатайствовал он о независимости Ватланского Кантона; ничуть не бывало: дело о Ватландском Кантоне было уж в 1815, на Венском Конгрессе, а императором Александром в 1814 году Лагарп был употреблен по французским делам). '
«Ламот-ле-Вайе. Родился 1588, сначала занимался изучением законоведения. (Этого мало, он был помощником генерал-адвоката в парламенте; надобно сказать: «сначала был законоведом». «Справочный словарь» заставляет думать, что Ламот бросил законоведение и не вступал на юридическую карьеру). Кардинал Ришелье открыл ему доступ во французскую академию и хотел сделать его воспитателем дофина (не только хотел сделать, но и действительно сделал); смерть кардинала остановила это дело. (Это значит, что после смерти Ришельё «ему поручили воспитание дру-го принца.) Ламот только в 50 лет выступил на литературное поприще; особенно занимался историей и стяжал имя французского Плутарха». (Он замечательнее как философ, нежели как историк.)
«Ланкастер. Английское графство, поверхность его 480.000 гектаров и 828.318 жителей. (Прежде всего заметим, что в этой фразе нет грамматического смысла; во-вторых, скажем, что, вероятно, когда-нибудь в Ланкастерском графстве было 800.000 жителей, только это было очень давно: теперь в нем до полутора миллиона жителей.) Оно заключает в себе угольные копи. .. (Вероятно, каменно-угольные копи: «Справочный словарь» позабыл различие между простым и каменным углем), железные, медные и сурьмяные руды и питает большое количество скота. Производит значительную торговлю полотном, шелком и хлопчатою бумагою. . (под «полотном» должно понимать, вероятно, хлрпчато-бумажные ткани). Главный город Ланкастер с 10.000 жителей (не с 10.000, а с 13.000). Этот город посылает в парламент двух депутатов (что же тут особенного? стоит ли говорить об этом?). Титул герцогов ланкастерских имели многие принцы, оспаривавшие престол у дома Йоркского; эти споры кончились браком Генриха VII, герцога Ланкастерского, с наследницею дома Йоркского.» и т. д. «Имели многие герцоги, оспаривавшие.» — это значит, были и другие соперники у дома Йоркского, кроме герцогов ланкастерских. Опять неточность в выражении. Последняя половина этого периода относится уже к статье «Герцоги Ланкастерские», которая, заметим кстати, помещена в «Справочном словаре» под слогом Ле, потому что, читая имя графа Ланкастер, «Справочный словарь» читает фамилию графов Ленкастер точно так же. как и имя города, который, таким образом, описан два раза в двух различных местах и, сверх того, назван по-английски Lanca-shire — именем графства, а не города, как известно всякому, имевшему в руках порядочную географию» Напомним еще «Справочному словарю», — что в Ланкастерском графстве находятся Ливерпуль и Манчестер, о чем следовало бы упомянуть, хотя бы с ущербом известию о депутатах, посылаемых городом Ланкастером и сурьмяным рудам, которыми богато графство.
«Лассен, род. в Бергене... (но Бергенов много; в котором же?)… 1800 года; по смерти отца переселился с матерью в 1821 году в Альтону; с 1822 года учился в Гейдельберге и Бонне богословию; потом жил два года в Париже и Лондоне, возвратился в Бонн; с 1827 г. был принят доцентом тамошнего университета, с 1830 г. профессором». Скажите же, кто такой Лассен? По «Справочному словарю», не правда ли, богослов? Но всякому известно, что он санскритолог. Превращение произошло очень просто: сокращая статью о Лассене, «Справочный словарь» почел не важным делом выбросить какую-нибудь фразу, вроде следующей: но скоро, оставив богословие, Лассен занялся санскритским языком и сделался одним из первых ориенталистов.
Повторяем: мы не выбирали статей, а брали их наудачу. Нам кажется, что после этого разбора имеем право сказать о биографических и географических переводных статьях «Справочного словаря», что они наполнены всякого рода промахами, обмолвками и недомолвками, что их изложение страдает темнотою и неполнотою, что очень часто в статье не объяснено именно существенное, а говорится только о подробностях, никому из читателей не нужных и могущих только ввести в заблуждение.
Переходим к статьям из других наук; разберем несколько важнейших из них по объему.
Первая статья большого размера — Лавр, верная своему происхождению, носит на себе специально-медицинский характер и. кажется скорее статьей медицинского лексикона, нежели «Справочного словаря»; она богата прекрасными подробностями о том,
что «насадители коричного лавра — цейланские вороны и дикие, голуби, поглощая зрелые плоды, имеющие неудобоваримые ядра, разносят их по лесам.» Интересующиеся знать дальнейший ход дела благоволят справиться в «Справочном словаре».
Латинский язык. Статья начинается писанным как будто бы за двести лет до нашего времени трактатом о похвальных и непохвальных свойствах латинского языка; потом уверяет, что латинский язык есть «соединение двух элементов: греческого и варварского. Грамматика латинского языка есть греческая». Выписав подобные фразы, мы уже не имеем надобности прибавлять, что статья эта ниже всякой посредственности. Она писана едва ли еще не Дионисием Галикарнасским, на которого часто ссылается.
«Лена (Lehen, латинское слово Feudum)», — вы угадываете по немецкому и латинскому переводу, что это «лен», а не «лена», но вы не угадаете, чем наполнена эта статья, занимающая 4Ѵг столбца. Вы думаете, что в ней излагается история ленного устройства, его развития и падения? вы думаете, что к этому прибавлен обзор отношений между вассалом и сюзереном? Нет, обо всем этом ни слова. Что же такое находится в этой статье? — Непонятный и ненужный ни для кого, кроме юристов, специально занимающихся историею гражданского права в средние века, реестр всех мелких подразделений ленных владений различного рода, которых вычислено в этой статье, вероятно, белее сотни. Вот для примера буквальная выписка: «Были следующие роды лены (то есть лена): Feudum hereditarium (Erblehn), наследственная лена; Feudum imperii, имперская лена (Reichslehn); Feudum improprium (этот термин не переведен, потому что не понят); Feudum juris-dictionis, то есть отданная в лену судебная власть; Feudum Kemi-nadae (Kemnadenlehn) тоже не переведено, потому что не понято; Feudum masculinum, мужская лена (Mannslehn); Feudum appignoratum, заложенная лена; Feudum paternum, такая лена, которою владел уже дед настоящего вассала; Feudum peregrinum, внешняя лена, противоположная Feudo domestico (домашней лене); Feudum pignoratitium (Pfandlehn), которая дана в залог вследствие какого-нибудь требования; Feudum proprium, Feudum rectum, настоящая лена; Feudum regale, лена, с которою сопряжено право верховной власти государя; Feudum rusticum (Bauernlehn), крестьянская лена; Feudum salinum, то есть соляной ключ, отданный в лену», и т. д.
Это перечисление тянется на четырех столбцах. Есть пределы для странностей — но, как видите, эта статья переходит все пределы вероятия: поместить в «Справочный словарь» оглавление юридического трактата без всяких объяснений и занять этим оглавлением четыре столбца — это казалось бы нам делом невозможным, если бы «Справочный словарь» не совершил его.
Лошадь. Чтоб дать понятие об этой статье, занимающей 4 столбца, скажем, что целый столбец посвящен описанию того, каким образом в Южной Америке ловят и объезжают диких лошадей, а потом еще столбец — истории лошадиных зубов.
Луна. Из этой статьи мы узнаем, что луна есть «созвездие»; полнолуние бывает, по мнению «Справочного словаря», когда луна бывает «прямо против солнца»; но «Словарь» забыл, что и новолуние бывает также тогда, когда луна стоит «прямо против солнца». Новомесячие, впрочем, продолжается, по словам «Справочного словаря», четырнадцать дней. Затмение луны «может произойти только тогда, когда луна, во время полнолуния, удалена от одной из точек своего пути (??) не более как на 12,/4°».
Читатели могут судить, слишком ли мы будем строги, если скажем, что статьи по наукам в «Справочном словаре» или переведены с таким незнанием дела, что наполнены ошибками и непонятными местами, или выписаны целиком из совершенно специальных сочинений таким образом, что являются решительно неуместными в «Справочном словаре», потому что, не давая краткого, но ясного понятия о сущности предмета, состоят из мельчайших, никому, кроме специалистов, ненужных и непонятных подробностей о какой-нибудь неважной стороне предмета.
Но, перелистывая «Справочный словарь», вы проникнетесь чувством благодарности к его редакции за то, что она предоставила такое широкое место статьям, относящимся к России: они занимают половину всего тома. И, однакож, мы не поручимся за то, чтоб у вас не родилась, по ближайшем рассмотрении этих статей, такая мысль: редакция оставила для них такое широкое место потому только, что перепечатывать из русских словарей гораздо удобнее, нежели переводить из иностранных. И действительно, перепечатывать очень удобно. Судите сами. Сличаем статьи «Военного энциклопедического лексикона», изданного покойным бароном Л. И. Зедделером, на слог Ла (часть 8-я, стр. 1 —122) и находим, что под соответствующими статьями «Справочного словаря» перепечатаны статьи «Военного энциклопедического лексикона»: Лаборатория 24 строки; Лабораторное искусство 32 строки; Лавалетт8 14 строк; Лавр (Лавретас) 16 строк; Лагос 8 строк; Лагои, 8 4 столбца; Ладожское озеро 1 столбец 14 строк; Лазарет 10 строк; Лалльман8 ІѴ2 столбца; Ламарк 22/з столбца; Лам-бер8 (Ioseph Gaspard) 1 столбец; Ламберт (генерал) 12/з столбца; Ламбро-Качони 1 столбец; Ламбсдорф8 1'/г столбца; Ландау 1 столбец; Ландвер 8 3 столбца, Ландмилиция в России более 6 столбцов; Ландреси 8 30 строк; Ландскнехты8 8 столбцов; Ландс-крона 8 1 столбец; Ланн 8 более двух столбцов; Ланнуа 8 34 строки; Лаперуз 8 б'/г столбцов; Лаппо более 1 столбца; Ларга 32/з столбца; Ла-рогьер 8 6 столбцов; Ла-рошель 25 строк; Ла-рош-Жаклен8 4 столбца; Лассаль8 3 столбца; Ласси (1, Петр Иванович; 2, Борис Петрович; 3, Франц) 8 13 столбцов; Ласт 8 7 строк; Латур* 5 столбцов; Латур-Мобур 1 Ѵг столбца; Лафет 5 столбцов.
В сложности все отмеченные нами перепечатки составляют 91 столбец, или 45Ѵ2 страниц (из 120 печатных страниц всего издания) «Военного энциклопедического лексикона» (более третьей доли всего текста) и занимают в «Справочном словаре» более 60 столбцов, или 30 страниц (из 98 печатных страниц всего текста) «Справочного словаря».
Мы не будем, однако, слишком обвинять редакцию за то, что она перепечатывает, и перепечатывает, ни одним словом не намекая, откуда взята ею статья; но упрекаем ее за то, что она так перепечатывает. Брать целиком огромные статьи из специального военного словаря, равного по объему с нашим, в наш энциклопедический словарь, где для военного отдела должна быть назначена разве десятая, если не меньше, часть всего количества листов — с чем же это сообразно? И наполнять этими перепечатанными из одного специального лексикона статьями целую треть своего издания — возможно ли это? Это значит отнимать у себя место для статей по другим отраслям наук и биографии. Но редакция «Справочного словаря» не дорожит местом: она, кажется, думает о том только, как бы полегче набрать текст. Впрочем, перепечатывая вполне статьи военного лексикона, «Справочный словарь», по крайней мере, приобретает хорошие статьи со смыслом, хотя и не соответствующие по своей специальности цели энциклопедического словаря. Когда же он вздумает перепечатывать их не целиком, он имеет несчастие выпускать именно те отделы, которые необходимо нужны для понимания перепечатанных статей. Так, например, статья «Справочного словаря» Лафет — перепечатка той части статьи «Военного энциклопедического лексикона», которая говорит об устройстве лафетов в русской артиллерии. «Справочный словарь» не заметил, что в этой части статьи «Военного лексикона» находятся постоянно ссылки на устройство лафетов во французской артиллерии, так что в отдельности эта часть статьи непонятна — и перепечатал ее, не выпустив и не объяснив этих ссылок на неперепечатанную часть статьи. И вот мы имеем удовольствие читать фразы вроде следующей: «для наших единорогов употребляется лафет, устроенный по образцу французского горного лафета»; что такое французский горный лафет, известно читателю «Военного лексикона», но никаким образом неизвестно читателю «Справочного словаря».
Из 74 статей «Военного лексикона» на слог «4а перепечатано «Справочным словарем» 36 статей, или ровно половина. После этого вы можете ожидать, что уже не опущено ни одной важной статьи — ничуть не бывало. Опущены, между прочим, статьи: Лабиен, Лабурдоне, Лагерь, Лалли-Толендаль, Ластовые суда; зато перепечатаны Ламбро-Качони, Лагоц, Лагос, Лаппо и т. п. Каков выбор!
Но за перепечатки должно еще благодарить редакцию «Справочного словаря», потому что, когда она решается переделывать статьи, выходит еще хуже. В доказательство, сличим с оригиналом некоторые из статей, взятых «Справочным словарем» из «Словаря достопамятных людей» Бантыш-Каменского (часть третья, Москва, 1836 г.). Возьмем, например, статью Левашов, Василий Яковлевич:
СЛОВАРЬ ДОСТОПАМЯТНЫХ ЛЮДЕЙ
…бросился к брату на помощь, убил Татарина, его преследовавшего…
…оставлен был с флотилиею для перенятыя судов неприятельских…
Леонтьев Алексей обучался в За-иконоспасской Академии.
СПРАВОЧНЫЙ СЛОВАРЬ
…бросился к брату, убил его преследователей (из одного стало уже много, для красоты слога)…оставлен был с флотилией для обеспокоивания неприятельских судов («Спр. слов.» не знает, что ловить мелкие суда и обеспокоивать флот — две различные вещи). …первоначальное образование получил в Заиконоспасской Академии… (образование в ней давалось не первоначальное).
Одним словом: будьте уверены, что каждое измененное против оригинала слово — промах. К счастию, «Справочный словарь» редко изменяет фразы: для того, чтоб сократить статью, редакции кажется достаточным вычеркнуть в оригинале столько строк, сколько ей заблагорассудится: можно представить себе, как
связны выходят такие сокращения! Притом же она очень оригинально понимает, что важно (и потому должно быть удержано) и что маловажно (и потому должно быть вычеркнуто). Все мельчайшие подробности послужного списка ей кажутся необходимыми; ьсё сколько-нибудь характеризующее человека или служащее объяснением для его действий, благоприятных или неблагоприятных событий его жизни — она считает приличнейшим выпускать; даже случается, что главнейший факт всей биографии при сокращении выпускается «Справочным словарем». В пример всего этого представим статью о Лестоке. Имячі;Др®*®<(а>_известно в истории, конечно, только тем, что он выказал свою преданность импера-' трице Елисавете Петровне при вступлении ее на престол — об этом даже не упомянуто в статье «Справочного словаря», хотя рассказ об этом составляет большую половину перепечатанной в нем статьи «Словаря достопамятных людей»; зато в «Справочном словаре» сказано, что он «старался о неизбрании наследного датского принца Фридриха на шведский престол», и прибавлена подробность, которой нет в «Словарю достопамятных людей»: «он умер бездетным, исповедуя реформатскую веру»… само собою разумеется, что член реформатской церкви исповедует реформатскую веру — и еще другая подробность, что «первая его супруга была урожденная Мюллер, а вторая — Мария Аврора фон-Менг.
ден». Важную новость также в этой статье составляет известие, что Аесток в заточении «пил зельтерскую воду». Статья «Словаря достопамятных людей» содержит в себе много интересного, рассказывает жизнь Лестока так, что ясны причины и связь событий, — ничего этого не осталось в статье «Справочного словаря», который, однако, считает нужным в точности сообщить нам, как велико было награждение, данное Лестоку императрицею Екатериною II, и для этого неопределенное выражение «Словаря достопамятных людей»: «императрица Екатерина II облегчила бедственное положение Лестока пожалованием ему пенсии и поместья в Лифляндии», заменяет следующею фразою: «Екатерина II пожаловала Лестоку пенсион: 7 000 руб. и 30 гаков в Лифляндии».
Такие биографии писать ничего не ст*оит, зато и они ничего не стоят. Чтоб показать читателям, как легко делать биографии, вроде печатаемых в «Справочном словаре», и как много существенного можно извлечь из них, мы сами, нисколько не затрудняясь, составим сейчас биографию… чью бы, например? Ну, хоть Александра Македонского. Слушайте:
«А лркгпнл(г-Махр. лонс. црц рол. 356 г. в Пелле. Еще в юности показал он неустрашимость своего духа, укротив Букефала, коня с головою, похожею на воловью. Переехав через Геллеспонт (зачем— не стоит и говорить об этом), он почтил память Ахиллеса играми на гробе его и высказал свою благодарность Аристотелю (за что, мы не сказали, потому что вам этого не нужно знать), присылая из Азии ему редких зверей. Знаменит поход его к Юпитеру Аммону, храм которого был в Эасте (если вы помните статью о Лабрадоре, то знаете эту страну). Умер он 11 или 13 июня 323 года. После него осталась вдовою супруга его. Роксана. Родом Александр Македонский был македонянин».
Не правда ли, ведь это тоже биография? 'Вот такого-то характера почти все биографии в «Справочном словаре»!
Мы видели, как воспользовался «Справочный словарь» «Военным энциклопедическим лексиконом». Посмотрим, как он пользуется другими материалами для русских статей, и, для краткости, ограничимся одним известнейшим: «Историею» Карамзина и
«Ключей» к ней г. Строева. Вот список статей на букву Л, которых редакция не заметила в «Ключе» или не сочла довольно важными, между тем как поместила множество других, гораздо мгнее важных;
Лавр (половец, содействовавший бегству Игоря); Ладожский порог; Лазарь Домажирич, боярин галицкий; Лазарь, тысяцкий киевский; Лаис, город; Лаче, озеро; Лев, царевич греческий; Лев Георгиевич; Леонид, архиепископ новгородский; Лешко Белый и Лешко Черный, герцоги польские; Ли, английский посол; Лисовский; Лиутпранд; Лобное место (в Москве); Лопастна или Ло-пасня, река; Лука Клементиевич и Лука Федорович, посадники новгородские; Лукомль, город; Луки Великие; Лутичи; Луцк; Лыбедь; Лызлов; Лыков-Оболенский, Михаил Юрьевич; Любеч…
Разбор наш показал, с какою небрежностью составлен «Справочный словарь». Но такова необходимость у нас в энциклопедической словаре, что и «Справочный словарь» приобретет издателям своим право на благодарность от многих, не имеющих под руками ни иностранных энциклопедий, ни большой библиотеки русских исторических и географических книг. Дурно делает редакция, составляя свой словарь так небрежно; но хорошо она делает, что оканчивает свое издание, не останавливаясь на первых томах, как это случилось с «Энциклопедическим лексиконом» г. Плю-шара 2.
<из № и „Отечественных записокъ
Справочный энциклопедический словарь, издающийся под редакциею А. Старчевского. Том третий. В и Г. Санктпетербург. 1854. В 8-ю д. л. 506 стр.
Долг беспристрастия обязывает нас сказать, что вышедший на днях третий том «Справочного словаря» достоинством своим несравненно выше, нежели седьмой том этого издания, о котором отдали мы отчет в 7 книжке «Отеч. Записок» нынешнего года Высказать это убеждение нам очень приятно. Менее приятно то, что мы принуждены не ограничиться такою похвалою, а также объяснить источник превосходства третьего тома над седьмым. Источник этот — «Энциклопедический лексикон» г. Плюшара!
После того, как мы видели, что целая половина текста в седьмом томе «Справочного словаря» перепечатана из «Военно-энциклопедического лексикона» покойного барона Зедделера (хотя об этом и не упомянуто ни полусловом) и после того, как разбор первого тома «Справочного словаря», помещенный в свое время в нашем журнале («Отеч. Зап.» 1847 г. № 8), обнаружил огромность перепечаток в этом словаре из «Энциклопедического лексикона», мы не могли не ожидать, что в третьем томе «Справочного словаря» большая половина текста будет взята из соответствующих ему томов плюшаровского издания, которое достигло букв В и Г. Но мы никак не могли ожидать, чтоб почти весь текст третьего тома «Справочного словаря» перепечатан был из «Энциклопедического лексикона». (Само собою разумеется, что об этом также не упомянуто в нем ни одним словом.) Пределы заимствования оказались на этот раз так велики, что третий том «Справочного словаря» нельзя не назвать беспримерным явлением.
Для сравнения, берем IX том «Лексикона» г. Плюшара, начинающийся статьею «Варшевицкий», раскрываем третий том «Справочного словаря» на соответствующем месте алфавита (стр. 66) и просматриваем все без исключения статьи этого последнего издания, сличая их с «Энциклопедическим лексиконом»… Повторяем, мы не пропускаем ни одной статьи «Справочного словаря» при нашем сличении.
Варшевицкий; Варяго-Руссы; Варфоломеевская ночь; Варфоломей (апостол); Василевский; Василипотамос (Энц. Леке, Васи-лопотамон); Василиск; Василий Македонянин; Василий Блаженный (в Энц. Леке, христа ради юродивый); Василий Васильевич Темный; Василий Великий; Василий-Гавриил Иоаннович; Василий Георгиевич (Юрьевич) Косой; Василий Димитриевич; Василий Иоаннович Шуйский…
Весь этот ряд статей, идущий от 66 до 86 стр. «Справочного словаря», перепечатан из «Энциклопедического лексикона».
Далее следует статья. «Василия Блаженного церковь» (25 строк); ее мы не нашли в «Энциклоп. лексиконе».
Василь; Васильевский остров; Васильев (Алексей Иванович)— (іѴг стр.) также взяты из «Энциклоп. лексикона».
Васильев (Михаил Николаевич) — один столбец, занятый формулярным списком; статья, не перепечатанная из «Энциклоп. лексикона».
Васильков — из Энциклоп. лексикона; конец статьи, содержащий в себе описание Васильковского уезда (16 строк), взят не из «Энциклоп. лексикона». Васильчиков (Иларион Васильевич) — формулярный список (ІѴ4 столбец), также не из «Энциклоп. лексикона».
Васильчиковы; Васко-де-Гама; Вассал; Вассиан (Косой); Вас-сиан (Рыло); Васыф-Эфенди; Вата; Ватерлоо; Ватерпас; Ватикан; Вато; Ваханские горы; Вахлер; Вахтанг f Вахтанг /, Вахтанг III, Вахтанг VI); Вашингтон (Георг); Вашингтон (город); Ввод во владение; Вебер; Веве; Веггабиты; Веда, Веды; Веджевуд — 15 страниц, перепечатаны из «Энциклоп. лексикона».
Везенберг — также; но окончание статьи — описание уезда (IV2 столбца) прибавлено.
Везер; Везувий; Веймарское великое герцогство — также перепечатаны из «Энциклоп. лексикона»…
Остановимся на этом. Ряд статей «Справочного словаря», здесь нами означенный, занимает 40 страниц и IV2 столбца (66—107 стр.) в «Справочном словаре». Из них четыре с половиною столбца или две страницы и полстолбца не перепечатаны; остальные тридцать восемь страниц с половиною перепечатаны из «Энциклопедического лексикона»! '
Однако не везде отношение цифр так неблагоприятно для самостоятельности «Справочного словаря». Развернем его на странице 201 и попробуем продолжать сличение. Мы увидим, что на 32 страницах (Виндзор — Виртембергское королевство) (до 233) находится не менее четырех статей, именно: Винцингероде, Виньи, Вармо, Виртембергского герцога канал, составляющих в сложности около 5'/г столбцов, не перепечатанных из «Энциклопедического лексикона». Кроме того, к статье «Винница», перепечатанной
оттуда же, прибавлены 31 строка (описание уезда), так что всего не перепечатанный из «Энциклопедического лексикона» текст равняется 6 столбцам, или целым трем страницам. Наконец, нельзя не прибавить, что маленькие статьи «Виноград» и «Виноделие», занимающие немного менее одной страницы, не буквально перепечатаны, а скомпилированы из больших статей «Энциклопедического лексикона». Поэтому в числе тридцати двух страниц (201–233) находится не менее четырех страниц, не перепечатанных из «Лексикона» г. Плюшара, и не менее шести с половиною статей, над составлением которых трудилась редакция «Справочного словаря». За это, конечно, можно извинить ей то, что остальные двадцать восемь страниц сличаемого нами отрывка перепечатаны из «Энциклопедического лексикона».
Оттуда же взяты статьи: Виндзор; Винды; Винетта; Винкель-ман; Винкельрид; Виннипег; Винный камень; Вино; Виноградное садоводство; Винокаменная кислота; Винтер; Винчи; Виньола; Вира; Виргилий; Виртембергский (герцог); Виртембергское королевство.
Под перепечаткою мы здесь понимаем именно только перепечатку в строжайшем смысле, совершенно буквальную, напримзр:
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ ЛЕКСИКОН
Варшевицкий, Станислав, V/arze-wizci, одни из первых основателей иезуитского ордена в Польше, родился в 1527 н происходил от знатной фамилии. Ои окончил науки в Виттенберге у знаменитого Ме-ланхтона и, пробыв у него три года, едва не пристрастился к лютеранским мнениям, и т. д.
СПРАВОЧНЫЙ СЛОВАРЬ
Варшевицкий (Stanislaw Warze-wizci), один из первых основателей иезуитского ордена в Польше, родился в 1527 и происходил от знатной фамилии. Он окончил науки в Виртенберге у знаменитого Ме-ланхтона и, пробыв у него три года.
* едва не пристрастился к лютеранским мнениям… и т. д.
Исправление ограничивается, как видите, только превращением виттенбергского университета в Виртембергское королевство… Промах извинительный! Представим еще два или три примера:
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ ЛЕКСИКОН
Василиск. Древние писатели представляли под именем Basilisscus et Regulus coronatus небольшого крылатого дракона, или змею с короною на голове, и полагали, что это животное одним взглядом или выдыхаемым из себя воздухом убивает человека и разных животных; само же истребляется, увидев себя в зеркале, и т. д.
Вассиан Рыло, архиепископ Ростовский, имя неразлучное с па-мятию освобождения России от
справочный словарь
Василиск. Древние писатели представляли под именем Basilisscus et Regulus coronatus небольшего крылатого дракона, или змею с хохлом на голове, и полагали, что это животное одним взглядом или выдыхаемым из себя воздухом убивает человека и разных животных; само же истребляется, увидев себя в зеркале, и т. д.
Вассиан (Рыло), архиепископ Ростовский, имя неразлучное с памятью освобождения России от
Монголов. Вассиан становится известен в летописях в сане игумена, и т. Д-
Ватерлоо. Сражение при Ватерлоо (18 июля нов. стиля 1815) Пруссаки называют сражением при Бель-Аллиянсе, а Французы при Мон-Сен-Жане. После победы над Блюхером при Линьи Наполеон, и т. Д.
Монголов. Вассиан становится известен в летописях в сане игуменЬ, т. д.
Ватерлоо. Сражение при Ватерлоо (18 июля нов. стиля 1815) Пруссаки называют сражением при Бель-Аллиянсе, а Французы при Мон-Сен-Жане. После победы над Блюхером при Линьи Наполеон, и т. д.
Нет никакого сомнения, что третий том «Справочного словаря», составив таким образом 450 или 475 страниц (из 506 своих страниц) посредством перепечатки из «Энциклопедического лексикона», мог бы гордиться многими.' прекрасными статьями, если б они в нем не были искажены произвольными сокращениями, отнимающими часто всякий смысл у рассказа или описания. В пример этой порчи укажем на все превосходные статьи по русской истории, написанные для «Энциклоп. лексикона» д. и. Языковым. Без всякого внимания сокращенные до третьей или четвертой части своего первоначального объема, они лишились в «Справочном словаре» связаности рассказа, а часто и исторической верности.
Нельзя н© заметить, однакож, что, кроме вычеркиванья, «Справ, словарь» оставляет в перепечатываемых статьях все неизменным. Он даже не осмеливается прикасаться к цифрам народонаселения и т. п. в географических статьях. Поэтому продолжает он в 1854 году считать в Виртембергском королевстве 1,587,444 жителей, как считал за 17 лет пред сим X том «Энциклопедического лексикона», изданный в 1837 году, хотя не далее, как в «Месяцослове на 1854 год» мог бы «Справочный словарь» легко найти другую цифру; точно так же продолжает он показывать по своему оригиналу 1837 года нынешнее число жителей в русских городах (хотя современные числа мог бы найти он в том же «Месяцослове на 1854 год»), продолжает выставлять число фабрик, заводов и т. д., какое было в 1837 году, хотя оно с того времени в большей части уездов наших удвоилось и утроилось. После этого неудивительно, если биография всех современных государственных людей останавливается в «Справочном словаре» на 1835 году, как остановилась в «Энциклопедическом лексиконе». После этого мы были вправе удивиться, найдя в статье «Веллингтон» указание, что этот полководец скончался. Это единственное сведение, какое «Справочный словарь» имеет о нем, как и о всех других современниках с 1835 года.
Но, почерпая весь свой состав из «Энциклопедического лексикона», третий том «Справочного словаря» выбирает статьи издания г. Плюшара для перепечатки очень неудачно. Так, например, заимствовав из X тома «Энциклопедического лекси-
кона» около ста статей, «Справочный словарь» помещает маловажные: Вестерес (шведский город), Вика (кормовая трава), Вилла-Адриана, Вильгельмгёге (увеселительный замок в Г ессене), Вильямс (английская писательница, «издавшая на английском языке книжку стихотворений») и т. д. и не почитает достойными помещения следующие статьи: Вестерботния, Вест-рис, Ветурия (мать Кориолана), Вефиль, Визирь (!), Викрама-дития, Вильгардуэн, Виллар, Вильнев (французский адмирал, начальствовавший флотом при Трафальгаре!), Винцентий или Венсен де Поль (!), Виргиния (! римлянка), Виргиния (! штат Северной Америки), Вирсавия (жена Урии), Вителлий (!), Витербо, Витигес, Виттория (! битва при Виттории), Виченца, Вифезда (!), Вифсаида, Виаса (автор_Мсігабхараты) и множество других не менее важных… "Нельзя не сказать, что половина заимствованных статей маловажна, а половина важнейших оставлена без внимания.
В заключение можем только повторить, что III том «Справочного словаря», перепечатавший девятнадцать двадцатых частей своего текста из одного издания, столь общеизвестного, как «Энциклопедический лексикон», явление очень странное…
<ИЗ № 12 „ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК“>
Песни разных народов. Перевод Н. Берга. Москва 1854. В 8-ю д. л. XXXII и 556 стр5
На первый взгляд книга г. Берга поражает своею огромностью: формат ее более формата «Отечественных Записок», толщина равняется двум книжкам толстого журнала, соединенным вместе; но едва развернете «Песни разных народов», как увидите, что массивность издания — чисто внешняя, кажущаяся— заметите, что, при меньшей щедрости на белую бумагу, все песни, переведенные г. Бергом, удобно могли бы поместиться в очень небольшом томике. Огромность придается изданию отчасти широтою полей вокруг маленькой страницы текста, отчасти тем, что каждое отделение книги (а их в книге двадцать пять) отделяется от предыдущего и следующего несколькими листами заглавий, примечаний (ограничивающихся двумя-тремя строками и, однакож, занимающих особенный лист), ссылок и указаний (такого же объема), отчасти, наконец, тем, что г. Берг вместе с своими переводами напечатал и текст переведенных им песен.
Мы говорим прежде всего о наружном виде книги г. Берга потому, что в предприятиях подобного рода величина заслуги тесно связана не только с удачным исполнением, но и с обширностью труда. Перевесть сотни народных песен, выбрав из поэзии каждого народа столько и таких характеристичных песен,
чтоб читатель знакомился посредством их с духом народной поэзии того или другого племени, — был бы труд в высшей степени замечательный и полезный. Набрать наудачу по нескольку песен малорусских, французских, сербских и т. д., и набрать так, чтоб эта коллекция нисколько не характеризовала поэзии народа, у которого взяты песни, — дело также не дурное, но едва ли заслуживающее название труда особенно важного и полезного. Предупредив читателей, что, повидимому, огромная книга г. Берга — в сущности незначительная книжка, составленная наудачу, можем свободнее высказать свое мнение о достоинствах ее.
Г. Берг, очевидно, любит народные песни — это прекрасно; он переводил их с любовью — это превосходно. Итак, полная признательность ему за чувства, которыми он был одушевлен в своем труде. Но, кроме любви к делу, нужно еще иметь правильные понятия о том, что делать, и уменье исполнить задуманное— качества, решительно необходимые для того, чтоб дело вышло хорошо.
Г. Берг думал, что ему надобно трудиться над отыскиванием песен, собирать никому неизвестное, неведомое в ученом мире, заботиться о новом, редком, неслыханном. «Вот уж пятьдесят лет, как мы записываем и издаем песни (говорит он). Но все еще нов и незнаком для нас этот мир; все еще робко и неохотно приближаемся мы к песне, как будто чего-то боимся и подозреваем обман и наваждение (мимоходом заметим, что это совершенно несправедливо: в хороших сборниках народных песен никто не подозревает подделки или «обмана и наваждения»; поэтому никто и не «боится» ими пользоваться). Мы записали то, что было сподручно, что относилось к народам, которые к нам поближе и пользуются нашим сочувствием (заметим, что записывать африканские и американские песни — не наше дело; довольно, если каждый народ будет заботиться-о том, что ближе к нему; так делают русские, и благоразумно делают; чуждое нам — чужое, а не наше дело); но что там (курсив в подлиннике) в отдаленных или не так известных уголках Европы — о других частях света и не говорю — это неизвестно никому (неужели же русские собиратели обязаны записывать исландские или португальские песни? да — по мнению г. Берга); спросите, знает ли кто, какая песня сложилась на далеком, таинственном острове Исландии? (как не знать? всякий знает, кто интересуется Исландиею или хоть читал Мармье). Меня всегда интересовали эти забытые, отдаленные уголки. Как иной ботаник за редким растением, хотел я проникнуть в эти тундры за редкою песней».
Итак, г. Берг старался собирать редкие песни. Зачем же это было нужно? И то ли было нужно? Дело надобно было понять гораздо проще. Русская публика охотно познакомилась бы с песнями племен, замечательных богатством своей народной поэзии; русскому читателю было бы очень приятно прочитать перевод лучших сербских, греческих, испанских и т. д. народных песен; у всех этих народов есть хорошие сборники; поэту, который захотел бы удовлетворить потребности русской публики пополнить пробел в русской литературе, не нужно было производить никаких поисков, не было никакой надобности тратить время и изнурять силы, стараясь «проникнуть в тундры»: ему предстояло только пользоваться богатою жатвою (продолжая аллегорию г. Берга), уж собранною в очень доступные, прекрасно устроенные житницы. Надобно было взять лучшие сборники и выбирать из них лучшее, важнейшее, замечательнейшее, но не по редкости, а по внутреннему достоинству, по характеристичности и эстетической красоте. Излишне объяснять, что у народов, которых поэзия заслуживает особенного внимания, есть хорошие сборники песен, и что человеку, живущему не только в Москве или Петербурге, но даже в Киеве, Казани, Харькове, очень легко иметь в руках все эти сборники. Тому, кто хотел бы познакомить русскую публику с «песнями разных народов», замечательных своими песнями, надобно только выбирать, а не собирать, переводить, а не записывать. Нам нужно собрание песен, а не коллекция редкостей. Г. Берг поступил иначе: он искал диковинок, а не достопримечательностей. Что легко достается, то не имеет для него особенной цены. Оттого ему не нужны песни итальянские, шотландские, ирландские, немецкие — что в них диковинного? за ними не нужно «проникать в тундры»; следственно, в его сборнике нет для них места. Этого мало. От желания искать редкое, г. Берг редко пользуется хорошими сборниками песен даже тех народов, которые обратили на себя его внимание. Он преимущественно обращается к своим знакомым, вероятно, в надежде найти у них что-нибудь неизданное, неизвестное. Так, санскритский гимн «сообщен ему г. Коссови-чем», хотя беспокоить кого-нибудь в этом случае не было никакой необходимости: десятки и сотни санскритских гимнов можно было найти в общеизвестных изданиях, и тогда легко было бы не ограничиваться одним гимном, ничего не характеризующим, а представить несколько гимнов, которые давали бы понятие о санскритской поэзии; малороссийские песни также «сообщены г. Бергу лично г. Максимовичем»; мадьярские «получены им от г. Штура», финские «сообщены Я. К. Гротом» и т. д., как будто нет хороших сборников всех этих песен.
В заключение г. Берг просит всех, у кого только есть редкие песни, присылать их ему — азиатские с подстрочным переводом, европейские, пожалуй, и без перевода. Желание не только бесполезное, но прямо вредное для составителя сборника замечательных песен, а не песен никому неизвестных. Г. Берг сравнивает себя с ботаником, проникающим в тундры. Если б Линней только странствовал по тундрам, ему были бы неизвестны липа и дуб; он не имел бы понятия о пшенице и горохе, которые можно найти только в местах общеизвестных и общедоступных; гербарий г. Берга ограничивается мхами…
Любовь к редкостям заставила г. Берга вместе с переводами печатать и оригинальный текст. В самом деле, как же не курьезно прочитать на одной странице:
«В темнице пажик молодой
Сидит, за свой удар лихой (бретонск.)».
а на другой en regard:
«Floc’hig аг roue zo bac'het Abalamour d’eunn toi neuz gret».
Или на одной странице;
«Xantorriak berririk Alegrentcias émanik» и т. д.,
а на другой:
«За песни я снова
и песня готова», и т. д. (баскск.)
Еще курьезнее покажутся читателям, не видавшим восточных шрифтов, арабские фигурки; еще курьезнее калмыцкие крю-чечки, строки которых идут не как у нас, поперек страницы, а сверху вниз — любопытное зрелище! Но, говоря серьезно, кому нужны эти тексты? Неужели мы будем учиться по книге г. Берга бретонскому или татарскому языку? А люди, знакомые с этими языками, конечно, не нуждаются в нескольких строках, напечатанных г. Бергом: для знающего они неинтересны, пот. ому что неважны. А каких трудов стоило, вероятно, г. Бергу достать и напечатать эти тексты! Сколько времени потрачено на поправку корректуры или на приискиванье знающих корректоров! Еще бесполезнее было обременять книгу сербскими, малорусскими, лужицкими и т. д. текстами: они в руках у всех, сколько-нибудь интересующихся народною поэзиею вообще. Но, быть может, тексты напечатаны для того, чтоб читатель, знающий тот или другой язык, мог удобнее сличить перевод с оригиналом и удостовериться в точности перевода? Ниже мы увидим, что г. Берг мало заботился о точности перевода; кроме того, за верность многих переводов он не может ручаться, потому что они сделаны не прямо с подлинника: даже Меццофанти не мог знать всех языков, встречаемых нами в сборнике г. Берга, и издатель сам объясняет, что восточные песни должны быть доставляемы ему «с подстрочным переводом». Нет, приложение текстов просто следствие того, что г. Берг дорожит всем диковинным. Все подробности его сборника исполнены этого пристрастия, о котором мы, конечно, и не говорили бы, если б оно, отвратив внимание г. Берга от существенной цели предпринятого им издания, не повредило достоинству и полезности труда.
Существенное достоинство сборника зависело от внимательного выбора лучших, замечательнейших песен каждого народа и от возможно верного перевода. С этих сторон труд г. Берга решительно неудовлетворителен. Вот образцы перевода. Избираем языки, наиболее известные:
«Он в Московщину поехал, Загремел подковой; Ворон конь, арчак дубовый Поводок шелковый.
«Ой, поихав в Московщину Козак молоденький,
Орихове сиделечко
И кинь (конь) вороненький. (Малорусск. стр. 20–21.)
Ой, коню мій вороненький,
А де твій пан молоденький? Чи ты его в вийську загубив,
Чи ты его пид себе збив?
(Малорусск. 26–27.)
Choc Ьу was tu byfo, jak na morzu ' piany,
Nie bylo, nie bedzie jak moj Jas kochany
(Польск. 134–135.)
Где же, конь лихой, Господнн-ат твой? Аль в бою сложил Буйну голову,
Али в поле гы Обронил его?
Выбрать мне не долго из полку любого.
Да не будет Вани у меня другогоf
Cadet Roussele ne mourras pas Car avant de sauter le pas,
On dit, qu’il aprend Forthographe, Pour fair’lui mëm’son épitaphe.
(Франц. 540–541.)
Ах. умирать теперь он хочет. Об эпитафии хлопочет.
Да ни окончил и досель, Знать не умрет Каде-РуссельГ
Читатели видят, что г. Берг не переводит, а переделывает; нельзя сказать, чтоб его переделки, часто очень неудачные, не бывали иногда и удачны; г. Бері. когда захочет, может владеть стихом. Но вообще народных песен нельзя переделывать. Об этом напрасно и рассуждать в наше время.
«Что касается моих переводов вообще (говорит г. Берг), разумеется, я старался сделать их как можно ближе к подлинникам, но держался правил, которые указал мне опыт. Не важен стих, а важен дух, важен результат впечатления. Кому нужно следить за кистью портретиста и поверять, гут лн она положила красную краску, тут ли белую? Нужно, чтобы сказали, когда портрет кончен: это он! В народном языке всего нужнее свобода слова; нужно, чтобы все было народно, чтоб ничто чужое не останавливало, не цепляло. Лучше пропустите слова, стих, целую строфу, чем выражать их в чуждом образе».
Одним словом, г. Берг хочет, чтоб песни всех народов в переводе становились русскими песнями; чтоб в них не оставалось ничего чуждого. Так переводил Дюсис Шекспира, Попе — Гомера, ломая, выпуская, вставляя, чтоб приноровить к своему вкусу… если не ошибаемся, никто не хвалит их за это. И напрасно г. Берг вдался в переделывание песен: владея гибким стихом, он мог бы передать песни очень верно. Теперь он сделал из своих переводов нечто непохожее ни на русские песни, ни на оригинальные того или другого народа. «Кому нужно следить за кистью портретиста и поверять, тут ли она положила красную краску, тут ли белую? Нужно, чтоб сказали, когда портрет кончен: эго он!» Но как же скажут: эго он, если «кисть портретиста положит» на губах белую краску, а на белках глаз красную? Что за перевод, если пропущены стихи и целые строфы?.
Теперь должно сказать несколько слов о выборе или, как говорится, «подборе» песен. В санскритском, баскском, армянском, калмыцком отделах помещено по одной песне, в моравском, албанском, арабском — по две, в персидском — три двустишия; что они характеризуют? Можно ли по этим тощим представителям сколько-нибудь познакомиться с духом санскритской и т. д. народной поэзии? Г. Берг поместил их в качестве редкостей, отыскивание которых не оставило ему времени позаботиться о лучшем подборе песен в других отделах. Все песни, повторяем, взяты наудачу, какие попадались; замечательного, обрисовывающего характер поэзии у известного народа не ищите ни в- одном отделе; напротив, именно лучшие и самые характеристичные песни пропущены, как недостойные внимания. Так, в малорусском отделе не переведено ни одной из знаменитых «дум», вообще не переведено ни одной песни из числа известных по художественности. В чешском отделе нет ни «Любушина суда», ни песен кра-ледворской рукописи; в сербском из эпических песен выбрана самая ничтожная, бесцветная, хотя самая растянутая, занимающая около пятидесяти бледных и утомительных страниц; из испанских романсов о Сиде выбран только один, и то самый незамечательный; впрочем, и всего испанских песен помещено только три. В самых обильных отделах число их доходит до тринадцати, одиннадцати, десяти, большею частью маленьких — говорим это, чтоб напомнить незначительность труда — и не важных ни в каком отношении. Вообще ни один отдел не дает нам понятия о поэзии народа, которому принадлежат песни, в нем помещенные.
Мы находим, что труд г. Берга задуман под влиянием превратных понятий о его цели и существенных достоинствах; что при исполнении г. Берг, с одной стороны, странными понятиями о том, как должно переводить народные песни, с другой, небрежностью и неудачностью выбора сделал все, что было в его силах, чтоб отнять всякое достоинство у своего сборника. Но не все было можно испортить. Он хорошо владеет стихом и потому не мог не перевести некоторых песен удачно. Реже случалось, что ему попадались, в числе неинтересных, действительно прекрасные песни, но и это случалось… чего не бывает на свете и в книгах! Таким образом, из 556 страниц его книги можно отыскать двадцать или тридцать прекрасных, еще двадцать или тридцать интересных. Совершенный недостаток в русской литературе сборников, подобных «Песням разных народов», придает изданию г. Берга даже некоторую важность; наконец, любовь к своему делу, с чрезвычайным жаром высказывающаяся в длинном предисловии, заставляет нас кончить желанием, чтоб г. Берг в дальнейших переводах своих, внимательнее познакомившись с характером лучших подобных сборников в разных литературах ц усвоив себе правила, которыми руководствовались их составители, дал русской литературе книгу, достойную похзалы не только по любви автора к своему делу, но и по прекрасному исполнению дела.
1 8 5 4 г. <ИЗ № 1 „СОВРЕМЕННИКА“)
Габриэль. Комедия в пяти действиях, в стихах. Сочинение Эмиля Ожье. Перевод И. Крешева. Спб. J853.1
Благодаря прекрасной игре г-ж Вольнис и Плесси, пьеса эта имела продолжительный успех-на Михайловском театре; но сама по себе она произведение очень посредственного достоинства. Тема ее довольно избитая: оставляя жену скучать, муж рискует очень многим, и если не хочет потерять ее любви, должен заниматься не одними своими делами, а уделять и для жены несколько свободных минут. Развязка (за которую Ожье получил Монтионов-скую премию, будто бы за какой-нибудь похвальной поступок) во всегдашнем вкусе и комедий и водевилей: возвращение заблуждавшихся на прямой путь и торжество всего хорошего. Ни драматического развития, ни удачно очерченных лиц мы не могли найти в «Габриэли», которую играли и, может быть, играют единственно за недостатком лучшего: среди несносно дурного сносное кажется хорошим, превосходным, и «Габриэль» много выигрывает, будучи сопровождаема жалкими водевилями. Скучно было бы подробно разбирать эту пьесу, которой содержание мы предполагаем более или менее известным, и потому ограничимся несколькими словами о том, каково изображен характер главного лица — самой Габриэли; по Габриэли можно судить и о других лицах комедии.
Ясно, что Ожье хотел представить Габриэль женщиною, достойною любви такого превосходного человека, как Жюльен, муж ее; ясно, что он хотел представить ее заслуживающею нашего уважения, нашей симпатии. Такою и является она в патетических сценах, которыми заключается пьеса. Но посмотрите, как ничтожна, как пуста является она в начале пьесы:
Жюльен занят своими тяжебными делами (он адвокат) и устройством будущности своей милой жены, своей милой дочери; он говорит об этом с Габриэлью. Габриэль и не слушает его: она мечтает о любви, она тоскует о том, что муж из-за дел забывает о ней. Прекрасно; но заботится ли она сама о муже, думает ли
о чем-нибудь, кроме романтических до пошлости прогулок при свете луны? Нет! она только бранит его за то, что он принес б приемную комнату свои «сальные бумаги» (вероятно, для того, чтобы посидеть вместе с нею); у мужа на рукаве оторвалась пуговица, он просит жену пришить ее — Габриэль отвечает, что завтра' позовет швею. Прачка приносит белье — Г абриэль отсылает ее к ключнице: ей низко самой заниматься хозяйством; муж просит ее позаботиться о любимых кушаньях для дяди, которого ждет он в гости, — Габриэль отвечает:
«В такие мелочи мешаться вам не след»
и продолжает мечтать, как хорошо было бы, если бы они с мужем продолжали (через десять или восемь лет после свадьбы) перекидываться томными взглядами а Іа Маиилов и прогуливаться при свете вечерней зари* как влюбленные, не видавшиеся целую неделю:
«Я на руке его повисла б нежно, он Замедлил бы шаги вслед за моею ленью,
Мы предавались бы восторгам, упоенью,
Наш восхищенный взор блуждал бы в синеве Небес…»
Вспомните, что у Габриэли уже дочь семи или девяти лет, и вы невольно скажете: какая пустая и пошлая женщина эта Габриэль!
И отчего все это произошло у Ожье? Ему надобно было изобразить тоску жены, покидаемой, забываемой мужем.
С таким же искусством обрисовано у него всё. Но, повторяем, большая часть пьес современного французского репертуара еще гораздо ничтожнее «Габриэли»; потому неудивительно, если она производила на сцене эффект, когда талантливые актеры поддерживали ее своею игрою.
Перевод г. Крешева довольно хорош, хотя и можно указать множество мест, на которых спотыкаешься при чтении.
<ИЗ № 4 „СОВРЕМЕННИКА“)
Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, издаваемый Н. Калачовым. Книги второй половина вторая. Москва. 1854і.
Карамзин думал, что история России до Иоанна III представляет очень мало интересного и мыслителю, и простому читателю, что поэтому едва ли не было бы лучше для историка решиться представить ее в сжатом очерке, не вдаваясь в подробности, бесцветные и утомительные, ограничиваясь только общими картинами событий и нравов. История России начинается только с Иоанна III, думал он; и если бы не чрезвычайная забота его об
369
24 Н. Г. Чернышевский, т. II
'основательности и полноте, он хотел бы все предшествующие времена описать в одном томе, начиная подробный рассказ только с эпохи внутреннего устроения Московского государства в своеобразную форму. Теперь очень многие ученые наши, а вслед за ними почти все и неученые, находят мнение Карамзина странным, поверхностным; теперь думают, что древнейший период русской истории имеет необыкновенную важность и даже очень много за-г нимательности. Большая часть наших молодых ученых, занимающихся русской историей, посвятили себя разработке времен принятия и до принятия христианства. В пример представим хотя оглавление вновь вышедшего тома «Архива историко-юридических сведений». Первое место по важности и объему занимает в нем исследование «О Русских пословицах и поговорках» г. Буслаева (176 страниц, около третьей части всего тома); за ним следуют «примечания и дополнения» г. Снегирева; потом — «Мифическая связь понятий: света, зрения, огня, металла, оружия и желчи» г. Афанасьева (А. Н.); «Новые свидетельства об изгойстве» г. Буслаева; несколько заговоров, доставленных гг. Григоровичем, Буслаевым и Калачовым; «Новые свидетельства о роде и роженицах» г. Забелина. Все эти статьи имеют целью объяснение древнейших нравов и понятий русских славАн, до принятия ими христианства. И как малочисленны в сравенении с ними статьи, относящиеся к позднейшим временам старой русской истории, — их всего только две: «Пиры и братчины» г. Попова (А. Н.), «Извлечения из книги Златоуст» г. Забелина; да и те кратки, да и в тех есть эпизоды, относящиеся к древнейшему быту. Затем представителем старины, а не доисторической древности, остается перевод сочинения Михалона Литвина «О нравах татар, литовцев и москвитян», сделанный г. Шестаковым.
Кто же прав: Карамзин, считавший XV–XVII века более важными для русской истории, нежели предыдущие столетия (или тысячелетия, потому что современные исследователи русской истории занимаются разысканиями и о временах, предшествовавших поселению славян в нынешних местах жительства), или мы, с предпочтительным вниманием занимающиеся бытом отдаленнейшей древности? Без всякого сомнения, мы, потому что
wir, wir leben
Und der lebende hat Recht2
как давно уже сказал Шиллер. Но если мы находим теперь, что Карамзин судил не совершенно основательно, отнимая почти всякое значение для русской истории у времен Аскольда и Дира, Игоря Святославича Северского и Буй-Тура-Всеволода, воспетых в Слове о Полку Игореве, то кто нам поручится, что следующее поколение не назовет и современного нашего пристрастия к дс-рюриковской древности увлечением, не свободным от односторонности?
У нас есть средство предугадать, чтб скажут об этом лет через десять или пятнадцать; чтоб отгадать будущий приговор, нужно только обсудить побуждения и обстоятельства, под влиянием которых образовалось увлечение разысканиями об отдаленнейшей древности, взглянуть на результаты, которых надеемся мы достичь и отчасти уже достигли этими разысканиями, и посмотреть, какую живую связь имеет патриархальный быт наших предков, русских славян, с нашим современным бытом. Не имея ни возможности, ни желания на нескольких страничках нашей статьи исследовать эти вопросы во всей их подробности, мы, однакоже, считаем их в сущности столь немногосложными, что полагаем очень возможным изложить их здесь в довольно ясном очерке.
Всякий, кто читал исследования наших молодых ученых о древнейших временах славянской истории, конечно, заметил, что они опираются на исследования Гримма о древне-немецком бытеі Все основные понятия, от которых исходят наши исследователи, принадлежат Гримму; большая часть сличений, аналогий между понятиями и учреждениями славян и других народов заимствована из Гримма; добросовестные наши ученые вовсе не думают скрывать этого: их сочинения усеяны ссылками на Гримма; наконец, весь метод исследования у них — заимствован у Гримма; и сами они называют себя учениками Г римма. Было бы очень смешно упрекать их за это; напротив, быть последователем Гримма, если занимаешься разысканиями о доисторических древностях славянских племен, так же необходимо, как быть последователем Лепсиуса и Шампольйона, когда занимаешься египетской историей, Нибура, когда пишешь о древнейших временах классического мира, учеником Кювье, когда занимаешься исследованиями об остатках допотопных животных. Быть учеником Гримма не упрек, а честь, потому что не быть учеником его, значит ошибаться. Хорошо, что древнейшая славянская история исследуется по методу и на основании разысканий Г римма о немецких древностях. Но мы хотим сказать несколько слов о значении трудов Гримма для всеобщей истории и о том, какое место после них остается для исследований о славянском патриархальном быте.
Стремления, на которых основано направление ученой деятельности Гоимма, тесно связаны с положением Германии в начале нынешнего столетия. Владычество французов в западной Германии и уничижение Пруссии возродило в немцах нелюбовь ко всему, что более или менее носило отпечаток французских нововведений, пробудило симпатию к старым славным временам немецкой империи, когда Оттоны были могущественнейшими государями Западной Европы, когда французские короли были перед ними незначительными князьями, возродило воспоминание о временах Арминия, сокрушившего завоевателей, пришедших из Галлии, о временах, когда сыны Германии покорили Галлию и
Италию и германская народность торжествовала над юго-западными своими соперницами. Теперь прошли эти обстоятельства, заставлявшие немцев, с грустью отвращаясь от настоящего, искать утешения и надежд в прошедшем. Но, порожденное положением дел, стремление в глубину протекших веков принесло свои плоды для науки: исследователи старого немецкого быта, и во главе их Гримм, восстановили картину древнейшего немецкого образа понятий о мире и судьбе человека (Deutsche Mythologie von J. Grimm), древнейшего немецкого общественного устройства (Deutsche Rechtsalterthümer von J. Grimm) и объяснили узы братства, соединяющие нынешних разрозненных и слабых виртемберг-цев, гессенцев, саксонцев с могущественными готами, франками, англосаксами, скандиназами (Deutsche Grammatik von J. Grimm); немецкое племя, разделяющее западную половину Европы с романским, постигло свое единство, скрывавшееся во мраке древнейших судеб его, получило ясное понятие о том, чем было оно прежде, нежели разделилось на ветви. Но этим не исчерпывается важность трудов Гримма для истории. Научные стремления могут возникать из частных, временных побуждений; но если они находят истолкователями себе истинных ученых, каков Гримм, они возносятся, неведомо сами себе, выше своих односторонних начал и получают значение общечеловеческое, потому что истинный ученый ищет знания истины, а истина нечто общечеловеческое. Так и Гримм, начав с точки зрения специально немецкой, в результатах своих трудов нашел нечто общее, и вместе с картинами древненемецких понятий и учреждений начертал картину понятий и учреждений всей европейской отрасли индоевропейского племени в известную эпоху. Он воскресил перед нами общий быт кельтов, латинян, греков, немцев, литовцев и славян во время перехода их из Азии в Европу в ту пору развития, когда они из бродячих пастухов и звероловов делались оседлыми земледельцами (прежние его сочинения и Geschichte der deutschen Sprache). И, может быть, наперекор первоначальным ожиданиям и желаниям исследователей немецкой древности, оказалось, что в этом состоянии немцы очень мало отличались от всех своих соплеменников и даже чуждых им народов, теперь находящихся на той же ступени развития; открылось, что основные поверья и учреждения были почти одинаковы у всех европейцев санскритского корня и в особенности удивительно близки между собой по понятиям и образу жизни были народы, от младенчествующих времен которых сохранились до нас полнейшие воспоминания — славяне, литовцы и немцы. Немецкие исследователи искали прав на отличие и гордость, нашли — необходимость признать единство и назвать со-седов своими братьями.
Одним словом, как Нибур, исследуя римские учреждения и смысл борьбы плебеев с патрициями, раскрыл перед нами историю образования всех древних и большей части новейших государств и разъяснил существенное содержание не только римской, но также и афинской, французской, английской истории; так, исследуя древний быт немцев, Гримм начертил нам картину понятий, нравов и учреждений всех соплеменных им народов при переходе из дикого и полудикого состояния к началам дальнейшего развития, соединенного с оседлою жизнью земледельца и, для немцев и славян, с принятием христианской веры. Сопоставляя имена этих великих ученых, мы только хотим объяснить общность значения гриммовых открытий; но мы не думаем ни сравнивать Гримма с Нибуром по гениальности, ни'говорить, что открытия Гримма имеют такую же огромную важность, как нибу-ровы. Все близкое представляется слишком громадным; потому для некоторых может показаться несправедливым наше мнение об относительной важности открытий Гримма и Нибура: объяснимся же точнее.
Результаты исследований Нибура обнимают почти весь период развития внутренней жизни римского государства и объясняют для нас сущность исторических событий в Англии и Франции, которых конец еще скрывается далеко в будущем. Что были в Риме патриции и плебей, тем являются во Франции члены феодального общества и горюжане. Восторжествовав над патрициями, плебеи соединились с ними для сопротивления требованиям жителей остальной Италии и провинций; точно так же во Франции теперь мы видим соединение потомков феодальных землевладельцев с буржуазией для общего сопротивления остальной массе народа. Ход событий в Риме объясняет все эти события; окончание спорюв между римлянами и другими итальянцами показывает нам, какого исхода мы должны ожидать и в современных нам французских событиях. Точно так же взгляд Нибура на римскую историю служит ключом и к пониманию английской истории. Мы не говорим, чтоб именно только после Нибура стала понятна история новой Европы; но то несомненно, что нибуровы открытия имеют самую живую связь с новейшею европейскою историй и для многих делают яснее текущие вопросы внутреннего развития государств, занимающих очень важное место в истории человечества. Напротив того, почти никакой связи с настоящим не имеют открытия, сделанные Гриммом. Они только объясняют некоторые обычаи, потерявшие серьезное значение в народной жизни, нисшедшие на степень простой забавы или пустой привычки, например, зажигание огней и скакание через них, игры детей и молодых людей, свадебные обряды, имеющие просто значение церемоний, и т. д. Все это перестало иметь смысл и важность в действительной жизни и кажется драгоценным для науки только как остаток древности. Одним словом, для филологических исследователей, в главе которых стоит Г римм, старина важна потому, что она старина. А наука должна быть служительницею человека. Чем более может она иметь влияния на жизнь, тем она важнее. Не-приложимая к жизни наука достойна занимать собою только схоластиков.
Но, конечно, в наше время смешно было бы понимать жизнь только как материальную жизнь. Быть может, слишком уже много толкуют современные книги о том, что кроме материальных потребностей есть у человека высшие стремления, которые так же необходимо требуют себе удовлетворения, как и материальные потребности; быть может, прежде, нежели думать о поэзии и тому подобных стремлениях, надобно думать об удовлетворении житейским необходимостям; быть может, за благосостоянием сама собою приходит поэзия, как это показывает пример североамериканцев; но уместно или неуместно толкуется в книгах о высших стремлениях человека, во всяком случае, толкуется о них так много, что нет возможности забыть их, говоря о потребностях человека. И потому никто в наше время не станет спорить, что любознательность вообще так же должна быть удовлетворяема, как и стремление узнать что-нибудь полезное для жизни. Посмотрим же, до какой степени удовлетворяет любознательности человека новая наука, столь гордящаяся быстрыми своими успехами со времен Гримма.
Она — будем называть ее историческою филологиею, потому что в основании всех ее соображений лежзт филологические данные — успела уже по отрывочным известиям у древних писателей, по отрывкам древних песен и сказок, сохранившимся в нынешних песнях и сказках народа, по соображению первобытного значения корней и переносного значения слов, составить довольно полную и отчасти даже одушевленную картину древнейшего быта немцев, славян и т. д. в ту эпоху, когда они были еще кочевыми пастухами и звероловами, картину их общественных отношений, семейного быта, поверий и понятий; потом она довольно хорошо рассказывает об изменениях, происшедших в народном устройстве и быте вследствие обращения народа к земледельческому, оседлому образу жизни; так историческая филология приводит нас к тому времени, от которого уже остались письменные исторические памятники. Здесь история почти совершенно отказывается от ее помощи, получая возможность пользоваться более точными и богатыми материалами, нежели филологические соображения.
«История отказывается от помощи филологии, как скоро достигает собственно так называемых исторических времен», сказали мы. Да, отказывается; потому что посредством того же самого метода, из тех же самых источников можно было бы извлечь — будем приводить русские примеры — более обильные материалы для истории XVI века, нежели для эпохи, предшествовавшей Рюрику и Владимиру. О походе Владимира на Херсон о призвании Рюрика не осталось песен; а о походе Грозного на Казань, о других событиях его царствования осталось довольно
много песен. Итак, филология не отказалась бы служить истории для последующих веков. Но история отказывается пользоваться ее пособием: кому придет в голову описывать взятие Казани по народным песням, когда есть более достоверные или (чтоб не наводить сомнения на достоверность песен), по крайней мере, более точные и подробные описания этого события? Переставая быть нужною для истории, филологий теряет всю свою важность. Посмотрим же, что нового успела сказать истории филология, обязанная всем своим значением тому, что служит ей вспомогательною наукою для тех периодов, для которых история не находит других памятников, кроме уцелевших в языке и преданиях народа. ^
Изыскания Гримма и его последователей пролили очень яркий свет на состояние немецких племен в эпоху до рождества христова, когда они переселялись в Европу и основывались между Рейном и Вислою, между Дунаем и морями Немецким, Балтийским и Ледовитым. Это очень важно. Однакоже, что такое в сущности узнали мы от Гримма? То, что немцы жили тогда почти совершенно так же, как и все кочующие народы, имели все отличительные черты их характера, все их семейные и общественные обычаи. Особенного почти ничего у них не было. Кто читал у Геродота и Лукиана описания скифских нравов, тот, и не читав гриммовой «Истории немецкого языка», знает все, что там говорится о немцах. Сходство между нравами скифов и гриммовых германцев так велико, что Гримм не колеблется дополнять картину обычаев своих предков описаниями скифских обычаев, прибавляя: «все это должно было точно так же быть и у нас, когда мы были кочевыми звероловами-пастухами». Иначе и быть не могло; потому что разнообразие, личность, вносится в жизнь народа, как и в жизнь отдельного человека, только цивилизациею. Дикари и полудикие совершенно одинаковы повсюду и всегда. Все племена, стоящие на той же степени развития, как североамериканские краснокожие, совершенно похожи на них; все племена, стоящие на степени развития бедуинов, как две капли воды похожи на бедуинов. Итак, заслуга Г римма состояла в том, что он разрушил, вовсе не преднамеренно, разные самообольщения, в которые вдавались прежние немецкие историки, изображавшие старых немцев в таком же идиллическом виде, как изображал Бугенвиль отаитян. Гриммовы исследования доказали: о старых немцах надобно повторять то же, что говорится о всех дикарях и полудиких. Вот его существенная заслуга истории. Он сделал это не преднамеренно; напротив, ему хотелось бы выставить своих предков в самом лестном свете, и его сочинения полны патетических фраз в этом духе. Но факты сильнее фраз, и к чести Г римма надобно сказать, что беспристрастия у него еще гораздо больше, нежели увлечения. Ясно теперь, каково значение гриммовых трудов. Они подвели подробные доказательства к тем положениям.
которые уже несколько десятков лет были ясны для всех образованных людей; германцы, как и все народы, прежде, нежели стали земледельцами, были кочевыми звероловами и пастухами; звероловы и пастухи грубее, нежели земледельцы; дикари суть дикари.
Есть еще другая сторона в трудах Гримма. Он доказал, что в существенных чертах языческие верования всех немецких племен были те же самые, какие сохранились в скандинавских Эддах. Он показал, что языческие верования славян и литовцев в существенных чертах совершенно сходились с немецкими. Те и другие, подобно другим дикарям, сначала были фетишисты; потом стали поклоняться преимущественно огню, воде, скалам, лесам. При дальнейшем переходе от грубого дикарства к более человеческим понятиям они стали поклоняться солнцу, луне, звездам, молнии; наконец, боги светил и стихий стали принимать более и более антропоморфический характер, и развились рассказы об их подвигах и приключениях. И это все было задолго до Гримма высказано мыслителями. За Гриммом опять остается только заслуга, что общие соображения подтвердил он фактами немецкой мифологии.
Эти заслуги очень велики; но все новое, сначала отвергаемое и презираемое, бывает потом превозносимо выше меры, пока не перестанет быть новостью, пока вместе с ослепленными противниками не потеряет и слишком восторженных провозглашателей. Так и важность гриммовых исследований слишком преувеличивается, особенно нашими учеными, представляющими первое и еще молодое поколение, знакомое с Гриммом. Потому нам казалось не излишним привести значение исторической филологии к ее истинному знаменателю. Слишком восторженные похвалы возбуждают недоверчивость и вызывают столь же неумеренное противоречие; потому нам кажется, что польза самой исторической филологии, значение которой для истории мы признаем очень важным и которую за это мы высоко уважаем, требует, чтобы о заслугах ее говорили хладнокровно и без преувеличений.
Ясно теперь, какое научное значение должны иметь труды русских ученых, занимающихся историческою филологиею. Гримм сделал очень много для русских древностей, показав, что общие черты языческих верований были общи славянам с немцами; но само собой разумеется, что, обращая главное внимание на немецкие древности, он не входил в подробности относительно славян. Русские ученые уже успели отделать во многих подробностях общий эскиз славянской мифологии, начерченный Гриммом. До сих пор их труды были обращены преимущественно на эту сторону древней жизни, которая не без основания считается важнейшею. Как видят читатели, мы не увлекаемся беспредельным восторгом, который внушает очень многим историческая филология вообще и приложение ее к изучению наших древностей в особенг ности. Мы не выставляем, как это часто делается, филологию важнейшею из всех наук, не ожидаем от нее преобразования всей системы наук, ограничиваем ее назначение скромной ролью вспомогательной науки для истории первых ступеней развития европейской половины народов индо-европейского корня. Точно так же мы не стараемся преувеличивать и важности русских трудов по части исторической филологии, полагая, — как это и оправдывалось до сих пор фактами, — что их значение должно состоять отчасти в подробном развитии общих очерков, данных Гриммом для славянской мифологии, отчасти в том, чтобы по его методу выработать для древнейшего периода истории славянских племен положения, очень близкие к тем, до которых дошел он относительно юридической сторонщ древнейшего немецкого быта. Но в этих границах мы признаем всю важность трудов наших ученых; мы проникнуты глубоким уважением к проницательности многих из них и к прекрасной преданности предмету своих занятий, которою одушевлены все они. Предмет их исследований, во всяком случае, несравненно важнее, нежели споры о происхождении варягов, десятки лет занимавшие наших историков, и мы видим огромный шаг вперед в переходе от этих толков об именах к исследованию быта. С такими чувствами приступаем к обзору замечательнейших статей историко-филологического содержания в недавно вышедшем томе прекрасного издания г. Калачова.
Важнейший по объему труд в этой книге, как мы сказали, «Русские пословицы и поговорки» г. Буслаева. Имея под руками довольно большое количество сборников пословиц, почтенный ученый вздумал воспользоваться ими для дополнения. книги г. Снегирева «Русские народные пословицы и притчи» и напечатал теперь в «Архиве» собрание пословиц, занимающее около девяноста страниц сжатой печати в два столбца. Труд прекрасный и полезный,» можно было бы не одобрить только того, что г. Буслаев вступает в мелочную полемику против своего предшественника, подробно исчисляя все неточности, какие мог отыскать в его тексте. Что собрание, столь обширное, как сборник г. Снегирева, по необходимости должно заключать в себе несколько ошибок, само собою разумеется; и неужели мы должны с некоторым самодовольством выставлять на вид, что нам удалось исправить пять или шесть из них, прибавляя: «вот как я исправляю текст: посмотрите, как мой текст хорош и как дурен текст моего предшественника! Мой предшественник не умел пользоваться материалами», и т. д. — все это читатель найдет на 64 и следующих страницах статьи г. Буслаева. Не знаем, должно ли наше последующее замечание относиться н к г. Буслаеву, но оно относится к довольно многим из молодых исследователей нашей старины. Гордые своим знакомством с Гриммом, гордые аппаратом «высших филологических соображений», тем, что они стоят наравне с современным положением филологии, они слишком много придают цены тем ученым тонкостям, которыми превосходят предшествовавших им собирателей, не получивших специально-филологического образования, но трудившихся с такою любовью, с таким неутомимым усердием, какое редко можно найти и в специальных ученых; многие ныне из-за мелочных недостатков забывают о достоинствах изданий гг. Сахарова и Снегирева, которые оказали гораздо более услуг изучению русской народности, нежели люди, так свысока трактующие о них. Мы рады успехам, которые делает наука, и не сомневаемся, что эти успехи очень велики; но с тем вместе мы думаем, что ученый, действительно далеко ушедший вперед, не должен слишком выставлять вперед мелочных улучшений, которые удалось ему сделать в предшествующих трудах: знающий дело читатель (а для такой публики, если не ошибаемся, издается «Архив») не нуждается в полемических указаниях, чтобы заметить улучшения. Будем снисходительны к мелочным извинительным в людях, не претендующих на знание Вед и Ульфилы, ошибкам; только тогда мы можем требовать, чтобы наши, может быть, более крупные ошибки были нам извинены. Возвратимся, однакоже, к труду г. Буслаева.
«При собирании пословиц и поговорок, — говорит он, — естественным образом могло накопиться у нас несколько лингвистических замечаний. Сии последние, приведя в некоторую систему, предлагаем благосклонному вниманию читателя, как предисловие к нашему небольшому собранию».
Эти замечания составили статью в более нежели 70 страниц большого формата, и нет надобности прибавлять, что в числе их найдется очень много остроумных и основательных соображений и объяснений: имя автора достаточно ручается за это. Он, верный своему историко-филологическому направлению, старается отыскивать в собранных им пословицах свидетельства о древнейшем быте русских славян. Здесь, конечно, было бы неуместно пускаться в критику подробностей, потому ограничимся общими замечаниями о характере статьи г. Буслаева. Кроме постоянных сближений фактов, им находимых, с материалами и выводами, находящимися у Гримма, — это черта, общая г. Буслаеву со всеми достойными нашими н заграничными филологами, — он и здесь, как везде, старается возводить факты быта, поверья народа и слова языка к санскритскому первообразу. Гримм гораздо реже вдается в эти отдаленные сравнения, находя, что язык и древности немцев и славян гораздо ближе и точнее объясняются одни другими и сравнением их с фактами быта и языком их европейских братьев — кельтов, римлян, греков и литовцев. Примеру Г римма следуют в этом случае большая часть и наших филологов, осторожных в сравнении языческих поверий славян с индейскою мифологией, развивавшейся столь своеобразно. Здесь не место разбирать, кто прав вообще; быть может, г. Буслаев находит, что осторожность других филологов происходит от недостаточного знакомства с санскритом; быть может, они возразят, что не для чего искать сомнительного сходства в Индии, когда достаточно объясняется дело европейскими фактами, находящимися в теснейшем родстве между собою. Но в настоящем случае, кажется нам, санскритские сравнения завлекли г. Буслаева слишком далеко. В наших пословицах он хочет видеть остатки древнейшей санскритской мантры (величанья богов) и брахманы (обрядовых молитв). Аналогия так отдаленна, что сам г. Буслаев сознается: «языческий обряд (брахмана) сохранился в пословице темным намеком» — что кажется не более, как темным намеком самому автору, в том большая часть других исследователей не увидит и никакого намека; следов мантры, величанья, сохранилось в пословицах наших, по словам самого г. Буслаева, еще менее. И мы не знаем, принесла ли какую-нибудь пользу эта отдаленная родословная, приисканная ученым автором; нам кажется, что она только набросила фальшивый свет на наши пословицы, придав им какой-то мифологический характер, который совершенно им чужд; правда, в некоторых пословицах сохранились намеки на языческие поверья славян (славян, а не индейцев); но это произошло не потому, чтобы пословица стояла когда-нибудь в связи с мантрою и брахманою, не потому, чтобы она была по своей сущности частью мифологического сказания, обряда или величания, а просто потому, что, обыкновенно выражая свои правила житейской мудрости аллегориями и сравнениями, она, без всякого преднамеренного предпочтения, заимствовала их иногда из области поверий, как в других случаях (и гораздо чаще) брала их из круга замечаний о погоде, разных качествах вещей, характерах животных и т. д. Мы хотели еще поговорить ѳ чрезмерном, по нашему мнению, объеме, который придает г. Буслаев так называемой «эпичности выражений»: мы согласны называть эпическими выражения вроде «мать сыра земля», «белый свет» и т. д.; существительное сопровождается здесь постоянно одним и тем же эпитетом не потому, чтоб он был необходим для полноты смысла, и не потому, чтоб нельзя было очень часто_ заменить его совершенно другим, более идущим к сущности картины; но мы не видим никакой эпичности в выражениях, перечисляемых г. Буслаевым, наприм., на стр. 13: «Андрей еха наперед переже ьсих сломи копье свое»; «да не ущитятся щиты своими»; «полезти, сести на коне» и т. д.: иные из этих выражений попадаются так редко, что нельзя считать их слишком употребительными; другие таковы, что их нельзя заменить иным оборотом речи, и являются не по особенной любви к ним, а просто потому, что всего естественнее употреблять их. Нам кажется, что г. Буслаев принимает иногда просто метафорические выражения за эпические и таким образом придает эпичности столь обширный объем, что она теряет особенное свое значение для филологии. Но мы удерживаемся от этой трактации из опасения сделать свою статью слишком длинною. Науке молодой, какова у нас историческая филология, трудно удерживаться от увлечений; но она должна опасаться их еще более, нежели науки, установившие свою репутацию: на нее многие смотрят недоверчиво, уже и потому, что не успели еще привыкнуть к ней; как же много может она повредить себе, если, с одной стороны, будет высказывать неумеренные притязания на превосходство над всеми другими науками, а с другой— не будет остерегаться положений слишком смелых и шатких.
С какою недоверчивостью, например, очень многие смотрят на исследования г. Афанасьева; а между тем, среди многих утрированных истолкований в мифологическом смысле и таких поверий, которые не заключают в себе ничего мифологического, у него часто встречаются объяснения, с которыми нельзя не согласиться. Таких сближений много и в статье г. Афанасьева, о которой мы говорим здесь — «Мифологическая связь понятий: света, зрения» и проч. Но желание открывать во всем следы древней мифологии вредит успеху его исследований.
«Пиры и братчины», статья г. Попова, имеет очень большой интерес для исследователя русской старинной жизни. Не пускаясь в темную глубь веков, где находки бывают драгоценны, может быть, не столько по своей внутренней важности для истинной цели истории — служить истолковательницею настоящего, сколько по своей редкости, г. Попов ограничивается более близкими к нам веками и объясняет юридическое значение «братчин» на основании официальных документов, ясно определяющих их права и обязанности. Быть может, найдутся ценители, для которых объяснения г. Попова покажутся неблестящими в сравнении с смелыми соображениями г. Буслаева и других филологов; но разыскания о периоде Московского царства и непосредственно предшествующих ему временах приводят к результатам гораздо более достоверным, плодовитым и даже, по нашему мнению, более важным для нашей истории, нежели разыскания о временах доисторических. С одной стороны, история Московского государства стоит в непосредственной связи с историей Русской империи, созданной из него Петром Великим, и потому знать ее необходимо для понимания новейшей нашей истории; а в чем живая органическая связь между дохристианским бытом и нынешними нравами и учреждениями? Она ограничивается, как мы сказали, лишенными теперь серьезного значения суевериями и церемониями. С другой стороны, времена до-рюриковские не представляют нам в русских славянах почти ни одной своеобразной черты; а Московское государство — явление чрезвычайно оригинальное; в разысканиях о десятках других племен уже написано почти то же самое, что мы пишем о до-рюриковских славянах — а история Руси X–XIV и особенно XV–XVII веков не повторение того, что было повсщду и у всех, ее должны написать мы, она принадлежит исключительно нам.
Из других статей «Архива» заметим «Дополнения и прибавления к собранию русских народных пословиц и притчей», сообщенные г. Снегиревым; «О нравах татар, литовцев и московитян» Михалона Литвина, перевод г. Шестакова — это сочинение очень важно; экземпляры его чрезвычайно редки, и потому г. Калачов справедливо почел за нужное вместе с переводом издать и самый текст; «Извлечения из книги Златоуст» г. Забелина, доказывающие, что в знаменитом «Домострое» очень многое заимствовано из этого сборника; «Указатель книг по русской истории, географии и русскому праву за 1849 год», прекрасный труд г. Капустина и столь же прекрасный «Указатель» статей того же содержания, помещенных- в «Отечественных Записках», издававшихся г. Свиньиным в 1818—1830-годах, составленный г. Афанасьевым. Оба «Указателя» дают своим ученым и трудолюбивым составителям полное право на благодарность всех занимающихся русскою историею. Кроме всего этого, в «Архиве» перепечатано «Описание свадебных обрядов у Малороссиян во второй половине XVIII столетия, сочиненное Григорьем Калиновским, армейских пехотных полков прапорщиком» и посвященное «милостивой государыне» его «матушке Харитине Григорьевне Калиновской, урожденной Рубановой, в Кролевце» — это интересное издание 1777 года теперь стало библиографической редкостью; наконец, в «Архиве» помещено несколько мелких статей, в том числе «Два акта XVII века о волшебстве», новые свидетельства «о роде и роженицах» г. Забелина и об «изгоях» гг. Буслаева и Микуцкого, и проч.
Пожелаем счастливого продолжения прекрасному изданию г. Калачова, в котором до сих пор не было ни одной статьи, не имеющей своего значения для науки, и уже помещено столько капитальных статей и важных материалов.
<ИЗ № 6 „СОВРЕМЕННИКА“)
Полное собрание сочинений русских авторов-. Сочинения Антона Погорельского. Издание А. Смирдина. Два тома.
Спб. 1853 К
Вся современная критическая литература исполнена сожалений о том, что «критика ныне слаба», что «критики ныне решительно нет». В самом деле, упадок критики — факт несомненный и очень прискорбный; но сознать недостаток — значит наполовину уже восполнить его. И, без всякого сомнения, люди, тан сильно поражающиеся несостоятельностью современной критики, пишут свои статьи с целью дать нам истинную критику. А, между тем, критики все нет и нет и по напечатании, как до напечатания статей, тоскующих о пропаже критики, старающихся отыскать и возвратить русской литературе погибшую критику.
Отчего же так бесполезны оказываются эти старания, так бесплодны остаются сожаления? Причин этому, конечно, много: глубокомысленный анализ для каждого явления открывает множество причин; так, один мыслитель, тревожимый в своих созерцаниях скрипом дверей в его квартире, нашел, что двери могут скрипеть от семнадцати различных причин. Почти столько же причин можно найти и для упадка русской критики в последние годы. Из них первая. но зачем говорить о первой? Лучше скажем о второй. Вторая причина бессилия современной критики — то, что она стала слишком уступчива, неразборчива, малотребовательна, удовлетворяется такими произведениями, которые решительно жалки, восхищается такими произведениями, которые едва сносны. Современная критика слаба, — этим сказано всё: какой силы хотите вы от слабости? Г. А. начинает писать плохие, лживые фарсы; читатели грустят о падении прекрасного таланта; критика находит лживые фарсы замечательными, высокими, правдивыми драмами* г. Б. начинает писать из рук вон плохие стихи; читатели с неудовольствием пожимают плечами; критика находит стихи пластичными, художественно прекрасными; гг. В. и С., г-жи Д. и Е. пишут пустые, вялые, приторные романы и повести; читатели не могут дочитывать' романов до второй части, повестей до второй главы — критика находит эти повести и романы полными содержания, чувства, ума, наблюдательности. Как же вы хотите, чтобы критика имела влияние на литературу? она стоит в уровень с теми жалкими произведениями, которыми удовлетворяется; как же вы хотите, чтобы она имела живое значение дли публики? она ниже публики; такою критикою могут быть довольны писатели, плохие произведения которых она восхваляет; публика остается ею столько же довольна, сколько теми стихами, драмами и романами, которые рекомендуются вниманию читателей в ее нежных разборах.
Такова ли была критика тогда, когда имела огромное, живое и прекрасное значение в литературе, влияние на публику? Нет, она была тогда требовательна, разборчива, смела, строга. Не говорим о недавних временах ее, которые еще в свежей памяти у нынешних читателей; нет, мы хотим воспользоваться выходом в свет смирдинского издания «Сочинений Погорельского» для того, чтобы напомнить о критике тридцатых годов, которая, со слов последующей, гораздо более проницательной и строгой критики2, считается ныне (и совершенно справедливо) довольно простодушною, поверхностною, восторженною и которая все-таки была несравненно серьезней и глубже нынешней нашей критики; пусть хоть устарелая и склонная к восторгам критика «Телеграфа» и современных ему журналов будет для нынешней примером серьезности и современности. Кроме этого, какое живое содержание может иметь ныне статья о «Сочинениях Погорельского»? Дать их оценку? Но они, как увидим, были удовлетворительно оценены уже двадцать лет назад; пуститься'в библиографические и биографические подробности^ Но их заслуживают только писатели, имеющие какое-нибудь положительное значение в истории литературы, а Погорельский теперь имеет его не больше, как через двадцать лет будут иметь гг. и г-жи Б., В., Г. и проч. Нам остается поэтому только показать, что он для своего времени был тем же, что они для нашего, то есть лучшим из худших, то есть, если угодно, очень хорошим писателем, что его сочинения столько же, сколько теперь их стихотворения и романы, или гораздо. более, были в свое время достойны внимания публики (за недостатком предметов, более достойных внимания), и, наконец, показать, в пример современной критике, до какой степени за двадцать лет до нашего времени серьезная критика была чужда подобострастной восторженности в отношении к подобным ему писателям.
Литературная деятельность Погорельского относится к 1828–1833 годам: «Двойник» его вышел в 1828; первая часть «Монастырки», романа, на котором основана его известность, в 1830 году; вторая часть «Монастырки» в 1833 году. Припомним состояние русской беллетристики в то время, и мы убедимся, что «Молва» имела полное право назвать «Монастырку» приятным явлением в тогдашней литературе; скажем более: «Монастырка» могла назваться очень замечательным явлением, едва ли не лучшим из всех одинаковых с нею по содержанию романов, пользовавшихся тогда успехом. В самом деле, что было тогда, кроме исторических романов Загоскина и его последователей? Но мы давно уже поняли, что русскую историю исторические романы 1830-х годов рисуют так же точно, как «Людмила»3 или «Светлана», пере. веденные или переделанные из немецкой «Леноры», рисуют русские нравы. Кроме того, эти исторические романы не имеют ничего общего с описаниями современной жизни, и, как бы велики ни были их достоинства, их нельзя было принимать да никто и не принимал в соображение при оценке так называвшихся тогда «нравоописательных романов». А между этими романами напрасно мы будем искать таких, которые могли бы затмить «Монастырку». Припомним замечательнейшие из них. Самый большой успех имел «Иван Выжигин» (1829–1830 г.), о чем свидетельствуют три издания в два года. Почти такой же успех имел роман г. Калашникова «Дочь купца Жолобова» (1832), выдержавший в один год два издания; «заимствованный из иркутских преданий», он имеет некоторое значение только как произведение человека, хорошо знающего Сибирь; что автор был лишен всяких следов беллетристического дарования, можно доказать уже советами, которые давала ему критика: «излагать свои сведения о Сибири в форме путевых заметок, статистических очерков, но никак не романов». «Киргиз-Кайсак» В. Ушакова (1830) ниже всякой посредственности; герой романа, бле-і стящий юноша, краса общества, счастлив неземною любовью, как вдруг открывается, что он Киргиз-Кайсак, и новый Эдип несет в пустыню свое разбитое роковою тайною сердце (!!); «Киргиз-Кайсак» соединяет в себе красоты повестей Марлинского и Полевого с красотами «Семейства Холмских» (1832), говорить о котором имели мы случай и чтение которого старинные рецензенты уподобляли «путешествию от Тобольска до Белостока»4. Заметим, что «Киргиз-Кайсак» имел два издания, а «Семейство Холмских» — три. Оіеэло этого же времени начали писать повести Н. Полевой и Марлинский; но они описывали «страсти», а 'не «нравы», или писали исторические романы, и потому их успех, точно так же как успех Загоскина, не мог вредить «Двойнику» и «Монастырке», единственными соперниками которых могли быть «Киргиз-Кайсак», «Выжигин», «Семейство Холмских» и «Дочь купца Жолобова», а произведения Погорельского, владевшего замечательным талантом рассказчика, стоят в беллетристическом отношении несравненно выше всех этих романов. Правда, и у Погорельского содержание, как и у его соперников, изысканно; правда, что и у него довольно мало страниц, проникнутых неподдельной народностью; но как мало понимали ее около 1830 года, лучше всего показывают «Повести Белкина» (1831), из которых первая, «Выстрел», описывает страшную месть и унизительное для врага великодушие какого-то мрачного, но благородного Сильвио (надеемся, не Пеллико); если Пушкин мог тогда выбрать своим героем «Сильвио», а героинею чувствительную «Барышню-крестьянку», которой могли бы позавидовать героини Жанлис, то можно ли было слишком строго требовать безыскусственной, неприкрашенной народности от второстепенных писателей? Правда, в 1831–1832 годах вышли «Вечера на хуторе близь Диканьки»; но они решительно не могли быть оценены тогдашнею критикою, и. с появлением Гоголя должен был начаться (только уже после «Ревизора», с конца тридцатых годов) новый период русской литературы, непонятный для читателей и критиков 1828–1830 годов; а Погорельский принадлежал этому времени, предшествовавшему гоголевской эпохе. Одним словом, едва ли мы найдем около 1830 года прозаическую повесть или роман, которые были бы безукоризненнее «Монастырки» в отношении к народности, и решительно не найдем из тогдашних «нравоописательных романов» ни одного, который бы равнялся «Монастырке» в художественном отношении. Напомним читателям некоторые места этого романа. «Монастырка», воспитанница Смольного монастыря, по окончании курса едет к тетке, небогатой малороссийской помещице; вот как рассказывает она в письме к подруге и свои первые впечатления в деревне, и свидание с теткою и кузинами, простыми деревенскими барышнями:
«Ах, Маша, милая Маша! Вот уже целую неделю прожила я у тетушки в Малороссии, а все еще не привыкла! Что будет со мною вперед — не знаю, а теперь мне кажется, что никогда не привыкну ни к жизни этой, ни к этим людям… Я воображала, что тетенька будет похожа на А ***, а кузин я представляла себе, старшую, как Н ***. меньшую, как тебя, моя Маша, или, по крайней мере, как Р ***. Как же я ошиблась в моих расчетах! Мы прибыли в Барвеново довольно рано утром. Я поспешно высунула голову из кареты, чтобы скорее увидеть это хваленое Барвеново… Ах, Маша, мне стыдно тебе признаться! Я думала, что Барвеново хоть немного похоже на Каменный Остров… А вместо того — поверишь ли? я увидала множество домиков маленьких, низеньких: вместо кровель, на них кое-как набросана была почерневшая солома… Все без труб, Маша, а иные так перевисли на один бок, что страшно было смотреть… Улицы уэкйе, кривые, грязные! «Так это Барвеново!» подумала я… Из домиков выбежали дети и женщины; первые в изорванных рубашках, а последние почти тоже в одних рубашках, только носят они здесь род передников, кадрилье красные с синим и зеленым. Они низко поклониіись — мне или карете, не знаю… Мы переехали через узкую плотину и через мост, который был без перил, повернули влево и взъехали на двор, прямо к крыльцу. Двор был полон людей; они кричали: «се наша панночка, се наша панночка!» Женщины и дети, следовавшие па нами с самого въезда в село, остановились на улице и смотрели на нас в ворота. На крыльце стояла дама высокая, толстая, в большом мужском колпаке и в красной стамедовой юбке; на шее у нее был накинут ситцевый платок, едва прикрывавший паечи. Она подала мне руку, поцеловала меня в губы и сказала: «Здорово, Галечка! Як же ты пидросла!» Маша, не показывай никому моего письма: эта дама была — моя тетенька! Мы вошли в комнату небольшую, но довольно чисто прибранную; она бы мне нравилась, если б не была так низка, а то мне бывает в ней душно. Вслед за нами вбежали мои кузины. «От се дочки мои», сказала мне тетенька, «се Праскута, а се Тапочка!» Они были в утреннем наряде, то есть волоса связаны широкою черною лентою, в черных салопах, без корсетов — и в больших кожаных сапогах! Впрочем, они такие добрые! Они недурны собою, но только слишком толсты и краснощеки. Во всем монастыре у нас нет такой толстой, краснощекой, как мои кузины. Мы скоро познакомились; онн расспрашивали про Петербург, про монастырь, про балы… Я забыла тебе сказать, что кузины надевают сапоги только по утрам, особливо, когда на дворе грязно; к обеду они одеваются довольно порядочно; тетенька носит на голове шелковый темный платок, почти как у нас купчихи, только другим манером, а у кузин платьев довольно и все почти новые, только талии слишком коротки, и всегда они ходят брз корсета. Я предлагала им свои, да им они не впору, слишком узки…»
Скоро вслед за этими, бесспорно, недурными, описаниями, начинается и роман: Анюта влюбляется в Блистовского, с которым знакомится на деревенских балах; Блистовский (не смущайтесь этою фамилиею, других тогда не бывало в романах; что касается до его бесцветной личности, то припомните Гринева в «Капитанской дочке», он оправдывает Блистовского) влюбляется в Анюту, просит ее руки; потом уезжает в Петербург получить позволение на женитьбу. В это время повеса и негодяй Прыжков — некоторые проказы его списаны с натуры, например, прожигание селитряною кислотою платьев у дам — узнает, что у Анюты довольно большое имение, начинает ухаживать за нею: не успевши в любезностях своих, он решается похитить богатую красавицу; и это почти удается ему при помощи дяди, опекуна Анюты, глупого и ничтожного Дюндикова, составившего подложное завещание, которым отец Анюты предоставляет ему полную власть выбрать Анюте жениха. но обыкновенно в решительную минуту для романических героинь находились (и до сих пор продолжают находиться) избавители. Возвращающийся как раз во-время Блистовский, через преданного ему цыгана Ва-силья, узнает все проделки, разоблачает все хитрости, расстрои-вает все интриги и спасает свою невесту от похитителей и зло деев. Не будем слишком осуждать ухищренности и романтичности этих приключений, вспомним гениального пушкинского «Дубровского» (написанного несколькими годами позже), в котором есть и пожары, и поджоги, и похищения, и пистолетные выстрелы, и переодеванья, и таинственные свидания, и таинственная переписка через дупло старого дуба, и таинственные соглядатаи, недремлющим оком стрегущие возлюбленную своего атамана, без ведома которого не прольется ни одна ее слеза, — без всех этих препаратов не могла двигаться хитрая интрига русских романов двадцать лет тому назад; мы подсмеиваемся надо всеми их хитросплетениями, но и над нами должно было бы подсмеиваться, если б из-за этих наивных вычурностей мы стали забывать о том, что вместе с ними «Дубровский» дает нам удивительно верную и живую картину жизни и характера старинного русского богача-помещика, гремящего на всю губернию, а в «Монастырке» все-таки найдется несколько недурно подмеченных черт малороссийского помещичьего быта лет тридцать пять тому назад — достоинство очень немаловажное в романе 1830-х годов; рассказ также недурен, чего нельзя сказать о других тогдашних «нравоописательных» романах. Потому и надобно сказать, что «Монастырка» в свое время очень заслуживала благосклонного внимания читателей и справедливо была одним из любимейших тогдашних романов. Она даже породила подражания или подделки (Монастырка, 3 части, без имени автора, Москва 1833) наравне с «Рославлевым» (Графиня Рославлева, без имени автора, Москва 1832) — или повестями прославившегося через три-четыре года барона Брамбеуса (Барон Брамбеус, повесть, соч. Павла Павленки, Москва 1834). Одним словом, «Монастырка» была одним из значительнейших явлений того времени, подобно романам и стихотворениям гг. Б., В., Г. в наше время, или даже гораздо более. Посмотрите же, как мало восторгается и ослепляется этим замечательным в свое время произведением тогдашняя критика, как беспристрастно и смело говорит о его недостатках, как далека она от всяких блестящих похвал и восклицательных знаков, на которые так расточительна стала нынешняя критика. Вот разбор первой части «Монастырки», помещенный в № 5 «Московского Телеграфа» за 1830 год:
«Мы прочитали первую часть «Монастырки» с таким же удовольствием, с каким читывали романы Августа Лафонтена. Тут не ищите ни страстей, ни мыслей, ни глубокого значения. Читайте «Монастырку» как приятное описание семейных картин, как рассказ доброго приятеля о добрых людях, которым встречались иногда неприятности. Если г. Погорельский и не сравняется с Августом Лафонтеном в разнообразии описаний и в какой-то милой простоте души, то станет от него недалеко. Сочинение нашего соотечественника должно быть для нас приятно еще потому, что в нем описываются знакомые нам нравы и обычаи. Впрочем, мы не ручаемся, оригинально ли создание «Монастырки», потому что нельзя знать всех иноземных сказок и романов, а г. Погорельский своим «Двойником» показал, что он любит заимствовать содержание для своих повестей у чужеземцев и не сказывать об этом За всем тем, искренно говорим, что первая часть «Монастырки» во многих местах написана с лафонтеновским искусством. Замечательно, что об этом произведении издатели «Литературной Газеты» (Дельвиг) возглашали несколько раз как о чем-то необыкновенном и поместили в своих листах два отрывка из оного 6. Автор так поторопился пожать лавры и насладиться славою, что пустил в свет одну первую часть своего романа, о которой не могут наговориться благосклонные журналисты. А когда выйдет вторая часть, то опять, разумеется, начнется говор и уверения о достоинствах «Монастырки». Но чем хуже ее «Федора», повесть П. Сумарокова (вышедшая около того же времени)? Занимательности в ней еще более. Слог ее не современный? Но неужели за то прославляют «Монастырку», что она гладенько написана? Нет! Если б у сочинителя «Федоры» были приятельские сношения с «Феокритами под душегрейкой новейшего уныния» (прозвание, которое давал Дельвигу «Московский Телеграф», пародируя его идиллии, русские песни н антологические стихотворения), то давно бы гремела молва о «Федоре» между десятками читателей какой-нибудь «Газеты». Но, видно, эта участь досталась «Монастырке»— счастье ее! Беспристрастные читатели скажут о ней только то, что мы сказали вначале: хорошо для последователя Лафонтена».
Можно было бы сухость отзыва «Телеграфа» приписать его нерасположению к Дельвигу и «Литературной Газете»; но вот что сказала, по выходе второй части «Монастырки», враждебная «Телеграфу» «Молва», которая, конечно, не преминула бы выставить достоинства романа, осмеянного ненавистным «Телеграфом», сравнивавшим его с «Федорою» П. Сумарокова, если бы видела в «Монастырке» какие-нибудь особенные достоинства («Молва», 1833 г. № 63, мая 27):
«Первая часть этой книги явилась назад тому года три при громком плеске приятельской «Газеты», которая сама давно уже прекратила существование… Натурально, с противной стороны не обошлось без репрессалий (намек на вышеприведенный отзыв «Телеграфа»), Но вторая часть не выходила, дело пошло в затяжку, ревность охладела, волны забвения мало-помалу прибывали; и теперь «Монастырка» вся вполне является уже скромно, тихо, безоружно, предоставленная хладнокровному испытанию sine іга et Studio1. Итак, sine ira et Studio «Монастырку» можно назвать приятным литературным явлением. Она легко дочитывается в часы досуга. Разумеется, много можно выставить требований, которым не удовлетворяет она. Мысль представить воспитанницу Смольного монастыря, это нежное оранжерейное растение, в диком захолустье провинциальной жизни, мысль затейливая и богатая, развита очень недостаточно. Вообще, лицо Анюты, героини повести, слишком обще и бесцветно; оно не отмечено ни одною из тех характеристических особенностей, неразлучных с идеальным монастырским воспитанием, которых столкновение с грубой прозой действительной жизни могло бы доставить кисти более широкой занимательные и оригинальные картины. Ход повести хотя не случен, но мало или вовсе не имеет той новости, которая одна может иногда выкупить скудость содержания: он выткан на старинное бердо Дюк-редюменилевской и Коттеневской фабрики. Злой опекун, подложное завещание, ночные явления, хутор в диком лесу, похищение — это узлы слишком тертые, основа давно избитая. Есть даже места, не совсем удовлетворяющие первым условиям романического правдоподобия… как могло случиться, что цыганский атаман Василий всегда поспевал и являлся там, где настояла крайняя нужда? Впрочем, описание малорусского быта, составляющее раму повести, очень занимательно… Итак, вот почему, повторяем, «Монастырку» можно назвать приятным литературным явлением».
Два враждебные журнала одинаковым тоном говорят о «Монастырке» — явно, что в приговоре могли они сойтись только потому, что не было возможности не сойтись, только потому, что приговор был действительно беспристрастен и справедлив. Каким спокойным, рассудительным тоном говорят они о достоинствах разбираемого романа, какие существенные недостатки находят в нем они! Здесь нет речи об отдельных, удачных или неудачных, сценах и фразах, о мелких промахах, о «красоте» или, по нынешней фразеологии, «прелести» языка и т. д. Сравнивая критику «Телеграфа» или «Телескопа» с нынешними восторженными и вместе мелочными разборами, иногда бываешь готов видеть в ней какой-то идеал. «Монастырка» — порядочный роман в лафонтеновском или дюкредюменилевском роде», — вот холодное суждение «Телеграфа» и «Телескопа», остающееся справедливым и ныне; а между тем публика восхищалась «Монастыркою»: в каких же выражениях отозвались бы о ней современные критики, восхищающиеся и теми произведениями, которые не замечаются или осуждаются публикою? Мы сказали: критика, имевшая влияние на публику и на литературу, стояла выше посредственных произведений, была строже, нежели публика; теперь критика решительно ниже публики — какое же значение может она иметь с своими наивнЪіми замечаниями о мелочах и простодушными восторгами от всего, что только подписано сколько-нибудь известным именем? Нет, критика должна стать гораздо строже, серьезнее, если хочет быть достойною имени критики. Правда и то, что для строгости необходима разборчивость, и что, кто лишен разборчивости, тому уже лучше остаться неразборчиво восторженным, нежели стать неразборчиво суровым.
О земле, как элементе богатства. А. Львова. Москва. 1853
Г. Львова чрезвычайно интересует вопрос: «Что такое мешает успехам политической экономии?»1 Никак не могли мы объяснить себе, зачем понадобилось рассматривать его г. Львову; но мы его должны рассмотреть, потому что ответом на него объяснится существенное содержание и направление исследования г. Львова.
Почему, в самом деле, политическая экономия далеко еще не достигла той высокой степени непреложности в своих основных положениях, на какой стоят естественные и, особенно, математические науки? Почему, например, между тем как астрономия уже не обращает и внимания на толки людей, утверждающих, что солнце вертится около земли, политическая экономия не только должна заниматься серьезным опровержением подобных же, решительно с ветру взятых, толков, но и не избавилась еще от опасности впадать в руки людей, доказывающих, например, что в промышленном мире все наилучшим образом устроивается само собою. Отчего политическая экономия до сих пор не освободилась от необходимости спорить против этих убийственных нелепостей? '
Многие приписывают такое жалкое положение — молодости политической экономии: «еще не успела она развиться дс светлой, благодетельной бесспорности истинных своих принципов потому, что всего еще только восемьдесят лет существует, как наука». Но мало этого объяснения. Отчего же она так медленно развивается? Ведь химия еще моложе политической экономии, сравнительная анатомия, возникшая почти на наших глазах, еще моложе; а между тем по степени полного, незыблемого, общепризнанного утверждения своих начал эти науки далеко оставили за собою не только политическую экономию, но и старуху по летам, дитя по неосновательности суждений — историю. Что-нибудь не так. Молодость не оправдание, даже не объяснение.
И действительно, есть много причин медленности развития политической экономии. Укажем на некоторые, могущие служить объяснением и для положения вопроса, которым занимается исследование г. Львова. Ответственность за умолчание об остальных устраняем от себя ссылкою на известную французскую пословицу, которую представляем в следующем виде: «Qui veu-t dire lout, ne dira rien» 2.
Первая из этих причин медленности развития политической экономии — многосложность и неудоборазделимая перепутанность фактов, которые анализировать должна она. Факты, анализируемые астрономиею и другими близкими к совершенству науками, очень просты, мало запутанны, слишком удобоотделимы друг от друга во всей своей чистоте и полноте сравнительно с фактами нашей науки, которые зависят от множества причин, находятся под влиянием множества обстоятельств, перепутываются своими последствиями. Объяснимся примером. Один из важнейших вопросов политической экономии, который, по строгой научной необходимости, рассматривается и г. Львовым, есть вопрос: улучшается или ухудшается (в Западной Европе) положение рабочего класса 3 при том ходе развития промышленных отношений, который господствует в Западной Европе? Вот как тесно связаны между собою вопросы политической экономии: говоря о причинах, из которых возникает поземельная рента, или доход за отдачу земли в наем, понадобилось говорить о благосостоянии рабочего класса. В астрономии не так: решая свой вопрос, астроном не запутан в рассмотрение совершенно других вопросов; они для него «посторонние вопросы», и, говоря о времени и причинах годичного обращения земли, он не хочет и не должен обращать в то же время внимания на вопрос о лунных фазах или о колебании земной оси. В политической экономии, напротив, при исследовании отдельного вопроса есть только главный вопрос и второстепенные, но нет посторонних вопросов: они все связаны с главным. А конечно, скорее можно дойти до полного и точного решения, решая одну задачу, нежели решая в одно время пять, десять, двадцать задач. Это еще не все. Мало того, что все факты политической экономии перепутаны между собою: каждый из них в отдельности чрезвычайно многосложен. Продолжим пример. Мы хотим знать, возвышается или упадает благосостояние рабочего класса, или, чтобы упростить вопрос, одного только разряда рабочего класса — фабричных рабочих (les ouvriers) во Франции и Англии. Посмотрите, как многочисленны причины, от которых зависит это явление; плата (le salaire) им зависит:
1) от запроса на фабричные изделия; 2) от степени соперничества между фабриками, заставляющего понижать эту плату; 3) от соперничества между нанимающимися рабочими, зависящего также 4) от состояния других отраслей промышленной деятельности; 5) эта плата зависит от привычек народа (англичанин не согласится на плату, которая не даст возможности иметь мясную пищу и чай); 6) от трудности фабричной работы и т. д.; то, как пользуются рабочие этою платою, зависит 7) от степени прочности их положения и 8) от возможности вследствие того вести регулярные расходы, и 9) приобретать или сохранять привычку к регулярной жизни, и 10) развивать или поддерживать сознание нравственного своего достоинства и т. д.; благосостояние их в такой же степени зависит 11) от цен хлеба, квартир и т. д., 12) устройства, чистоты и т. д. их квартир; 13) и14)… Но и этого списка, далеко не полного, уже достаточно, чтобы видеть, как трудно разрешить уравнение (говоря математическими терминами), в которое входят столько факторов. А это один из простейших вопросов и в упрощенном виде. Берем, напротив, основной вопрос астрономии: «по какому закону действует тяготение?» Чтобы решить его, надобно принять в соображение только два фактора; 1) расстояние и 2) массы тяготеющих одно к другому тел. Ясно, что определить этот закон точным образом гораздо проще, нежели решить вопрос, например, о благосостоянии рабочего класса. Первое условие быстрого хода науки к решению своих вопросов — простота ее фактов. Поэтому даже различные части одной науки стоят очень часто на далеко не равной степени развития. Так (в физике), оптика гораздо выше по законченности решения своих немногосложных вопросов, нежели метеорология, рассматриваемые которою факты довольно многосложны; так, неорганическая химия, анализирующая тела менее сложного состава, нежели каков состав органических тел, обработана гораздо лучше органической химии.
Эта причина трудности точным образом решать вопросы политической экономии — причина, не зависящая от исследователя, холодная, бесстрастная. Но есть другие препятствия к успешному решению ее задач — препятствия, поставляемые любовью и пристрастием, благосклонностью н недоброжелательством.
" Известно, что доктора никогда не лечат близких родных; самый искуснейший и самонадеяннейший врач, когда у него серьезно заболеет жена или дитя, приглашает другого, по собственному его и своему убеждению, может быть, менее искусного. Почему это? Слишком сильное участие, принимаемое доктором в больном, мешае-т светлой проницательности взгляда его на положение больного: достанет ли у него твердости духа во-время убедиться в опасности болезни, достанет ли хладнокровия, чтобы не увлечься неосновательными опасениями за последствия решительного лечения, решится ли он на приговор: medicamenta non senant, ferrum sanabit? Нет, он будет стараться не замечать худых признаков, ослепляться хорошими, искать паллиативных средств, когда они ни к чему уже не годны. Всякий доктор — плохой врач для милых ему. Таково почти всегда положение политико-эконома, если он не бездушная писальная машина. Вопрос идет об участи людей: кто может не сочувствовать, не желать благоприятного ответа? А существенное условие для верного решения научных вопросов — бесстрастие и беспристрастие к тому, какое будет ответ. Исследователь истины должен искать только истины, а не того, чтобы истина была такова, а не инакова; он не должен содрогаться от мысли о том, что получится в ответ. Математику все равно, положительное или отрицательное количество' получится в результате; ему всякий вывод хорош и мил, лишь бы только был истинен. Положение того, кто исследует исторические и, тем более, политико-экономические вопросы, совершенно не таково. Он не может не желать благоприятного ответа. Желание не может не иметь влияния на вывод. Куда хочется притти, туда тянет итти.
Если мы не имеем возможности, то не имеем и права не желать благого для человека. Пусть эта любовь замедляет путь к строгой истине; без нее мы и не пошли бы к истине: кто не любит человека, тот не будет и думать о человеке. Но есть другого рода привязанность, мелочная, жалкая в деле науки: это — привязанность к своим личным выгодам и к выгодам своих однокашников, хотя б они находились в противоположности с благом народа и государства. А этим пристрастием большая часть людей скованы в своих суждениях и исследованиях.
Вот три из главнейших препятствий быстрому развитию политической экономии. Есть и другие, не менее важные. Но — дальше в лес, больше дров, а мы уже и так слишком заговорились. Ни об одном из этих препятствий г. Львов и не упоминает, рассуждая о «шаткости политической экономии», а главною помехою кажется ему вот что: «отсутствие точного разграничения между наукою и искусством мешало успехам политической экономии» 4. Видите ли, Дестю (Детю? Destirtt) де-Траси сказал: «искусство есть собрание правил, наставлений, соблюдение которых необходимо для получения желаемого результата; наука же состоит в открытии истин посредством исследования какого-нибудь Предмета» 5, и по-литико-экономы не обращают надлежащего внимания на эти слова: оттого и вся беда! Но различие между наукою и искусством известію, по крайней мере, с тех пор, как известно различие между инструкциями (которые еще Карл Великий давал своему управляющему) 6 и учеными трактатами; и если б экономисты не знали этого различия, то незнание было бы следствием, а не причиною шаткого состояния науки их: пока будут шатки решения основных вопросов науки, шатки будут и пределы ее; а когда уяснятся основные вопросы науки, то само собою уяснится и различие ее от всевозможных искусств, даже от искусства прикрашивать факты, даже от искусства, — двумя-тремя пустыми фразами о неприкосновенности индивидуальной свободы отделываясь от серьезных прений о введении правительственными мерами порядка в убийственную для народа беспорядицу промышленности, — переливать из пустого в порожнее 1, — искусств, которыми отличаются авторитеты г. Львова и во главе их мнимо-глубокомысленный Бастиа. Но напрасно г. Львов думает, что эти господа смешивают науку с искусством: от Жана-Батиста Сэ, резко сказавшего, что «наука политической экономии только описывает, а не хочет давать советов»8, насквозь прониклись этою основною мыслью люди, выучившие наизусть его творения, и с этого основного пункта начавшие свои труды подвигания науки назад. Знают и соблюдают они это различие, но не уяснили, а только загрязнили науки все эти Ъастиа, Росси, Мишели Шевалье. Отчего же это так?
Оттого, что еще лучше, нежели различие между наукой и искусством, знают они науку о том, что вредно и что полезно — для них самих, и искусство говорить только о том и только то, что полезно для них самих и для их однокашников, искусство, состоящее, между прочим, в том, чтобы, для отвлечения науки от других вопросов, переисследовать уже давно решенное, по мере возможности сглаживать в решении то, от чего еще могут поперхнуться их однокашники, и, по мере способностей, доказывать, что фабричному рабочему жить лучше, нежели фабриканту. Прекрасный пример этой стороны искусства представляет учение о поземельной ренте, излагаемое с их слов г. Львовым. Это учение, эти опровержения Рикардо — преинтересная вещь 9.
Плата, которую землевладелец получает за отдачу в наем своей земли, называется поземельною рентою. Как велика бывает она? Она бывает сообразна тому, сколько дохода приносит отдаваемая в наем земля; доход зависит прежде всего от плодородия земли. Потому плодородием земли определяется величина платы за нее. Это было всегда всем известно.
Но Рикардо, не довольствуясь этим неопределенным ответом, захотел в точности определить, сколько же именно отдает арендатор за наем земли и от каких причин происходит, что за землю платят ренту. И, надобно отдать ему справедливость, он анализировал вопрос чрезвычайно глубокомысленно и верно. Вот сущность его «Теории ренты».
Малочисленный народ приходит в необитаемую землю и начинает возделывать ее. Каждый обрабогывает земли, сколько может и какую хочет (почти так теперь делается в западных штатах Северной Америки и совершенно так было лет за восемьдесят в юго-восточной России). Само собою разумеется, что обработы-ваются только лучшие земли: кому будет охота пахать не самую лучшую землю, когда ее вволю для всякого? Положим, что этого сорта земля дает по десяти четвертей с десятины. Народонаселение размножается; хлеба, получаемого с этих плодороднейших земель, становится недостаточно для его продовольствия. Надобно приступить к разработке и тех земель, которые дают только по девяти четвертей с десятины. Представим себе, что я хочу заняться в это время земледелием. Я могу даром взять землю второго сорта, ее еще много не занятой; а земли первого сорта уже все заняты. Но, может быть, кто-нибудь из владеющих землями первого сорта не хочет заниматься земледелием: не даст ли он мне пользоваться своею землею? ведь, не обработываемая, все равно она ничего ему не принесет? Нет, он рассуждает иначе: «если ты будешь даром обработывать еще незанятую землю, ты получишь с десятины по девяти четвертей; а моя даст тебе по десяти четвертей: как же ты будешь получать четверть лишнюю? земля моя; я и буду получать выгоды от того, что она лучше других; и если хочешь обработывать ее, давай мне по четверти с десятины». И я соглашусь давать, потому что выгоды для меня те же. И вот начало платы за пользование землею, — начало ренты. А согласился ли б я на это условие, когда были еще незанятые земли первого сорта? Нет, я сказал бы землевладельцу: «да с чего же ты взял, что я тебе стану давать и по горсти с десятины? не даешь ты своей земли даром, я возьму даром еще незанятую». И теперь я сказал бы это владельцу земли второго сорта, потому что есть еще порожние земли этого сорта, которыми можно пользоваться даром; второй сорт еще не дает ренты. Но вот народонаселение до того размножилось, что обработаны все земли второго сорта (дающие девять четвертей) и надобно обратиться к землям третьего класса, дающим только восемь четвертей с десятины. Если тогда вы захотите взять на обработку землю второго сорта, владелец уже потребует от вас одной четверти с десятины, потому что даром вы не можете обработывать земли, дающей более осьмн четвертей; а владелец земли первого сорта поэтому же самому потребует по две четверти с десятины. Итак, рента измеряется разницею между доходом от наихудших из обра-ботываемых земель и доходом от земли, отдаваемой в оброк. Чем более худшие сорты земли обработываются, тем более возвышается рента с лучших земель. Ясно, что возможность ее основана на том, что не все земли одного качества, что земель лучших сортов находится в стране только определенное, далеко не безграничное количество, и что все они обращены уже в частную собственность.
Но мы говорим о плате за наем натурою, хлебом; а с развитием промышленности все платежи начинают производиться деньгами, а не натурою. Посмотрим же, какую сумму денег составляет рента в разные периоды, нами определяемые по сортам возделываемой земли. Известно, что нельзя долго заниматься работою, которая не дает возможности жить: работник разорится и погибнет или оставит свое убыточное занятие. Итак, цена хлеба установляется такая, чтобы земледелец мог существовать; иначе он оставит земледелие. Предположим, что земледелец может обработывать пять десятин земли и что ему на годовые расходы нужно сто рублей серебром. Если по количеству народонаселения необходимо, чтобы обработывались земли не только четвертого сорта (дающего семь четвертей с десятины), но и пятого (дающего шесть), то и цена хлеба должна установиться такая, чтобы земледелец пятого разряда мог получить свои сто рублей за свой хлеб (с пяти десятин по шести четвертей, тридцать четвертей), иначе он покинет земледелие, земли пятого сорта перестанут обра-ботываться, хлеба будет недостаточно для народонаселения, и он еще более возвысится в цене. Итак, цена хлеба установляется тою ценою, ниже которой не может без разорения взять человек, об-работывающнй самый низкий, сорт из обработываемых земель. Посмотрим же, как велика будет денежная рента при постоянной разработке всех худших сортов земли.
Первый период. Обработываются только земли, дающие 10 четвертей с десятины. Хлеба получается земледельцем с пяти десятин (5X10) 50 четвертей. Цена хлеба (за 50 четвертей надобно получить 100 рублей) 2 рубля. Ренты нет.
Второй период. Обработка земли вторюго сорта (9 четвертей с десятины). Количество хлеба 45 четвертей. Цена (100:45)
2 рубля 22 копейки; рента за пять десятин первого сорта (по 1 четверти с десятины) 2 рубля 22Х5=11 рублей 10 коп. Второй сорт не дает ренты.
Третий период. Обработка земли и третьего сорта (8 четвертей). Количество хлеба 40 четвертей. Цена (100:40) 2 рубля 50 копеек. Рента за пять десятин первого сорта (по 2 четверти) 25 рублей; второго сорта (по 1 четверти) 12 рублей 25 копеек.
Четвертый период. Обработка земли и четвертого сорта (7 четвертей). Количество хлеба 35 четвертей. Цена (100: 35) 2 рубля 83 копейки. Рента за пять десятин земли:
Первого сорта (по 4 четверти) 42 рубля 45 копеек; второго сорта (по 2 четверти) 28 рублей 30 копеек; третьего сорта (по 1 четверти) 14 рублей 15 копеек.
ІТятый период. Обработка земли и пятого сорта (6 четвертей). Количество хлеба 30 четвертей. Цена (100: 30) 3 рубля 33 копейки. Рента за пять десятин земли:
Первого сорта (по 4 четверти) 66 рублей 66 копеек; второго сорта (по 3 четверти) 50 рублей; третьего сорта (по 2 четверти) 33 рубля 33 копейки; четвертого сорта (по 1 четверти) 16 рублей 66 копеек.
Итак, рента прогрессивно возвышается и от увеличения разницы между количеством хлеба, получаемого с земель разных сортов, и от возвышения цен хлеба. Чем более народонаселение, чем худшие земли обработываются (менее получает земледелец за свой труд), чем выше цены хлеба, чем более беднеет от этого народ, тем более становится рента.
Все это справедливо, все это глубокомысленно и просто вместе.
Сказать против выводов Рикардо ничего нельзя; но — и вот доказательство, как многосложны вопросы политической экономии — но это вполне справедливое решение вопроса не есть его окончательное решение, потому что Рикардо_ говорит об одной специальной стороне вопроса и не переносит своих заключений из области умозрительных соображений в область действительных, современных отношений; в этом состоит справедливая сторона возражений Мальтуса против его теории. При определении цены хлеба Рикардо принимает в соображение только потребности земледельца и всегда предполагает существование земель еще незанятых, которыми можно пользоваться задаром; и потому ренту составляет у него только излишек ценностей, доставляемых обрабо-тыванием одних земель, над количеством ценностей, доставляемых обработкою других. Но цена хлеба, если не может спускаться ниже поставляемой Рикардо границы, то может подниматься выше ее, когда народонаселение слишком велико сравнительно с количеством земли, могущей быть обработанною, и хлеба, ею доставляемого: тогда хлеб, вследствие того, что его больше требуется покупщиками, нежели предлагается продавцами, дорожает; и в пятом, например, периоде (предполагая, что земли пятого сорта худшие из удобных для земледелия) цена хлеба, вместо выведенной по Рикардо для случаев, когда хлеба достаточно, 3 руб. 33 коп., может возвыситься до 3 руб. 50 коп., 4 руб., 5 руб. Так и бывает постоянно в большей части Западной Европы. Тогда земледелец получает с пяти обработываемых им десятин:
Земли. …. 1 сорта 2 сорта 3 сорта 4 сорта 5 сорта
Но земледельцу оставалось бы в этом случае 120 руб.; а для возможности существовать необходимо только 100 руб. Оставит ли землевладелец земледельцу лишние 20 рублей? Нет, он скажет ему: «При избытке народонаселения, когда всякий хлопочет только о насущном хлебе, я всегда найду арендаторов, которые удовольствуются 100 рублями дохода и дадут мне 20 рублей более, нежели дашь ты; потому или прибавь мне 20 рублей ренты и довольствуйся 100 рублями, или я найду на этих условиях других арендаторов». Итак, вывод Рикардо надобно дополнить таким образом: разница между низшею и высшею рентою действительно определяется разницею доходов от земли; но низшая рента определяется излишком дохода с наихудших земель перед суммою, необходимою для покрытия издержек земледельца, и земли самого низшего сорта из удобных к возделыванию приносят ренту (Рикардо опустил это из виду) там, где цена хлеба определяется не издержками производства, а стоит (по излишку населения или другим причинам) выше их; и суммою этой ренты увеличивается и рента со всех других земель. Таково положение Англии, Франции и проч.
Есть еще неполнота в теории Рикардо; из общего закона: «рейта определяется количеством и ценою получаемого хлеба», вывел он заключение, что рента не имеет уже сама влияния на цену хлеба, что поэтому даже если бы рента была понижена или уничтожена, то выиграл бы только класс фермеров, а не весь народ; потому что цена хлеба не понизилась бы. Ошибочность этого мнения замечена еще Сисмонди. Было бы слишком долго разъяснять все отношения, которые понизили бы цену с понижением ренты, и потому заметим только одно то, что если б у фермера вместо 100 рублей оставалось 120, то 20 рублей, которые остаются у него за раоходами, он употребил бы на улучшение земли, своих орудий и т. д. (стал бы обработывать землю при помощи большего капитала) и тогда получил бы больше хлеба, вместо 50 четвертей (на земле 1 сорта) 60, а вместо 30 (на земле 5 сорта) 36; и если б, с увеличением количества хлеба, цена его понизилась от 4 руб. до 3 руб. 50 коп., то он все остался бы еще с большим прежнего барышом (50 четв. по 4 руб. дадут 200 руб., а 60 по 3 руб. 50 коп., 210 руб., из которых за вычетом 80 руб.
ренты осталось бы у него 130 руб. вместо прошлогодних 120 руб.; так точно 30 четв. по 4 руб. дадут 120 руб., а 36 по Зр. 50 коп. 126 руб.) и мог бы продолжать итти путем увеличения своего производства, понижения цен и т. д. А это еще самая ничтожная из причин, по которым понижение ренты имело бы влияние на понижение цен, и мы говорили о ней потому только, что доказать ее проще, нежели другие.
Итак, теория Рикардо совершенно основательна, но не совершенно полна; она объясняет только причину различия в ренте различных земель, не принимая, что и самая плохая из обрабо-тываемых земель приносит ренту, и не объясняя этого; он выводит ренту ниже действительной величины ее, потому что берет ренту только при достаточности, а не при недостаточности производства.
Но многим теория Рикардо не нравится; почему, это не наше дело, хотя из их возражений видно, почему именно неприятна она им. И эти возражения — превосходный образчик толков о политической экономии мнимо-ученых, постигших различие между наукою, ищущею истины, и искусством «мешать приятное с полезным» для поправления нарушаемой наукою доброй славы милых и полезных нам людей. Все эги возражения — или придирки к словам, или нападение на справедливые, но неудобоваримые стороны теории. Просмотрим их по изложению г. Львова.
Рикардо, по их мнению, этих господ (Bastiat, Сагеу и т. д), ошибается, говоря, что возделывание начинается с лучших земель, а потом, по мере надобности, народ переходит к возделыванию низших сортов земель. Видите ли, бедная Аттика обработывае гея прежде плодородной Беотии (откуда это известно?), сухая почва Верхнего Египта — прежде плодородной Дельты и т. д. и Московская или Тверская губерния — прежде. Симбирской и Саратовской. — Да никто и не думает утверждать, что люди поселялись первоначально именно в наинлодороднейших странах земного шара (хотя вообще это справедливо; южная Европа заселена и возделана раньше северной; Малая Азия, долины Тигра и Эв-фрата и Нила — раньше южной Европы), до этого и дела нет: цены на хлеб в Тверской губернии очень мало зависят от цен хлеба в Бессарабии, цены хлеба в Германии — от цен хлеба в Сицилии или Малой Азии; Рикардо говорит об округах земли, составляющих одно экономическое целое, которые народ возделывает, не зная, что за тысячу верст есть округи более плодородные или не имея возможности переселиться туда; он говорит о ходе пен и ренты в каждом отдельном округе, в которых цены на хлеб одни и те же; а такие округи и теперь еще невелики, а прежде, при худшем положении путей сообщения, при меньшем развитии торговли, они были еще меньше. Так, у нас в каждом уезде свои цены на хлеб; так, из земель французских, в Эльзасе свои цены, в Нормандии — свои, в Берри — свои и т. д. Только с этими округами и имеет деЛо теория Рикардо: что за дело новгородцу, что саратовец продает свой хлеб по 20 копеек за четверик? он все-таки будет продавать свой хлеб по 2 рубля; что за дело ему, что в «долине Амазонской реки» лежат плодородные невозделанные земли — он будет обработывать свою глинистую землю, стараясь в ней только отыскать по возможности лучшие участки; не ехать же ему, в самом деле, возделывать плодородную «долину реки Амазонки». Превосходно понимают авторитеты г. Львова, в чем дело; Рикардо говорит и должен говорить об округе земель, имеющем одни цены, составляющем одно целое, по недальности расстояний; они толкуют о том, что Москва основана прежде Тамбова! Мы вправе ожидать, что явятся еще глубоко-ученейшие противники Рикардо, которые скажут: «неправда, что плодороднейшая почва возделывается прежде; на Юпитере и Уране богатейший чернозем, а англичане еще не возделывают его»: да имеет ли средства англичанин возделывать плодородную почву Юпитера? Почти столько же средств имеет пскович возделывать мало-азийскую почву.
Далее начинаются толки о том, что плодороднейшая земля иногда бывает недоступна для обработки, потому что ее надобно еще очистить и удобрить и т. д. — Удивительно, как эти господа не скажут опять: «хлеб родился бы лучше всего в центральной Африке, если б навозить туда воронежского чернозема и устроить ломбардское орошение, а люди еще не возделывают этих плодороднейших земель; из этого следует, что люди и не хотят обработывать плодороднейших земель».
Нельзя спорить против подобных возражений, потому что они нисколько нейдут к делу. Но из них выводится, что «сначала люди обработывают менее плодородные земли, а потом переходят к более плодородным (!!!)» Іи, что, конечно, противоречит здравому смыслу и всем фактам, но имеет вид глубокомыслия. А из этого прекрасного начала следует, что рента с течением времени понижается в цене, хлеб тоже и т. д., что, наконец, в наше время землевладетель, отдавая землю внаймы, получает наемную плату не за землю, а за свои труды (которые ограничиваются трудом подписать свое имя на контракте и сосчитать принесенные деньги), и что поэтому, собственно говоря, поземельной ренты и не существует, а существует только доход с земли, как существует доход с домов (NB дом выстроил хозяин дома, а землю.'., «а землю создал своими трудами ее владетель». См. исследование г. Львова, стр. 121–131) и. А из этого следует, что английский лорд, живущий в Риме или Париже, своими трудами обработывает свою землю, а его фермеры — просто дармоеды, которые пожинают плоды его трудов, и даже неизвестно, за что предоставляют себе право отдавать лорду только часть, а не всю целость произведений с земель, которые не приносили бы ни колоса, если бы не было, по счастию, лорда, живущего в Риме. Из этого следует, что
завидна участь пахарей, получающих страшные доходы, и достойна сострадания участь бедного лорда, едва имеющего ныне насущный хлеб.
<ИЗ № 10 „СОВРЕМЕННИКАМ
История России с древнейших времен. Сочинение Сергея Соловьева. Том четвертый. Москва. 1854.
Четвертый том сочинения г. Соловьева состоит из трех глав. Первые две рассказывают княжения Василия Димитриевича и Василия Васильевича Темного. В третьей, важнейшей по содержанию и самой большой по объему (она занимает две трети тома), описывается «внутреннее состояние русского общества от кончины князя Мстислава Мстиславича Торопецкого до кончины великого князя Василия Васильевича Темного (1228–1462)». Намереваясь при первой возможности поместить в «Современнике» подробный разбор важного труда нашего достойного историка, мы здесь ограничимся обзором содержания интереснейших отделов последней главы вновь вышедшего тома, именно отделов, излагающих очерк нравов и образа жизни русского народа в XIII–XV веках. Материалы, доставляемые историку летописями, грамотами и другими произведениями тогдашней письменности для восстановления картины внутреннего быта наших предков в этом периоде, чрезвычайно скудны. Летописи сухи и заключают мало подробностей; грамот осталось нам от этого времени мало; других памятников — еще меньше. Потому и картина быта по необходимости должна быть неполна и бледна; но тем интереснее те немногие черты нравов и образа жизни, которые можно уловить в скудных источниках.»
Важнейшими мастерствами были, как видим из рассказа летописи об основании города Холма, оружейное, кузнечное и медное, отчасти мастерство серебряных дел. О существовании других мастеровых, кроме плотников, каменщиков и живописцев, нет никаких известий. Потому г. Соловьев думает, что остальные ремесла, например, сапожное, портняжное, отправлялись домашнею прислугою. Об удобствах жизни также не имеем никаких известий, и должно предполагать, что их существовало очень мало. Богатый волынский князь Владимир Василькович во время продолжительной своей болезни лежал на соломе. Из подробных описей имущества московских князей, находящихся в их завещаниях, видим, что ценных вещей у них было очень мало. Так, например, Иоанн Калита оставил после себя двенадцать цепей золотых, восемь поясов золотых, шесть золотых чаш и два золотые кубка, золотую коробочку, три кожуха, вышитые жемчугом, и три или четыре других платьев, также вышитых жемчугом. Еще гораздо менее подобных вещей показано в завещаниях Димитрия Донского, Василия Димитриевича и Василия^ Темного. Это уменьшение богатств г. Соловьев приписывает тохтамышеву нашествию, большим издержкам в орде, снова усилившейся и раздраженной, и междоусобиям времен Василия Темного. Если так мало было ценного имущества у великих князей, продолжает г. Соловьев, то у простых людей ничего нельзя было найти, кроме самой простой и необходимой рухляди. О пище нет подробностей; можно только видеть, что бедные люди употребляли в пищу овсяный хлеб. Относительно нравов г. Соловьев замечает, что в северовосточной Руси они были грубее, нежели на юге; он приписывает это различие в нравах отчасти соседству полудиких племен, отчасти влиянию самого климата, более сурового; еще сильнее было, по его мнению, влияние тяжких исторических обстоятельств на огрубение нравов XIII–XV столетий в сравнении с предшествовавшими.
«Нравы грубели; привычка руководствоваться инстинктом самосохранения вела к господству всякого рода материальных побуждений над нравственными; грубость нравов должна была отражаться на деле, на слове, на всех движениях человека. В это время имущества граждан прятались в церквах, и монастырях, как местах наиболее, хотя не всегда, безопасных; сокровища нравственные имели нужду также в безопасных убежищах — в теремах; женщина спешила удалиться или ее спешили удалить от общества мужчин, чтобы волею или неволею удержать чистоту семейную; не вследствие византийского или татарского влияния явилось затворничество женщин в высших сословиях, но вследствие известной нравственной экономии в народном теле. Историк не решится отвечать на вопрос: что сталось бы с нами в XIV веке без терема? Но понятно, что удаление женщины, бывшее следствием огрубения нравов, само, в свою очередь, могло производить еще большее огрубение».
Всякого рода беспорядки, грабежи и воровство были самым обыкновенным делом; страсть к вину выказывается в сильной степени; часто мужья жили с женами без венчания. До какой степени чуждались иноземцев, доказывается тем, что псковичи недоумевали, позволительно ли пользоваться хлебом, вином и овощами, привозимыми из немецкой земли.
В конце главы г. Соловьев высказывает свой общий взгляд на нашу историю до Иоанна III:
«Мы окончили тот отдел русской истории, который по преимуществу носит название древней истории; мы не можем расстаться с ним, не показавши его общего значения, не показавши его отношений к следующему периоду. На великой северовосточной равнине, на перекрестном открытом пути между Европой и Азией основалось государство Русское. То была обширная девственная страна, ожидавшая населения, ожидавшая истории. Отсюда древняя русская история есть история страны, которая колонизуется, отсюда постоянное сильное движение народонаселения на огромных пространствах. Населить как можно скорее, перезвать отовсюду людей на пустые пространства, приманить всякого рода льготами; уйти иа новые, лучшие места, на выгоднейшие условия, в более мирный, спокойный край; с другой стороны, удержать население, возвратить, заставить других не принимать его— вот важные вопросы колонизующейся страны, вопросы, которые мы встречаем в древней русской истории. Иь этого, по мнению г. Соловьева, легко понять происхождение льготных грамот, жалуемых землевладельцам, наеели-телям земли».
Остановимся здесь на минуту и заметим, что колонизация обширных областей, лежащих на восток от Киева, Чернигова, Смоленска и Новгорода, действительно очень важный факт" древней русской истории; быть может, справедливо кажется он г. Соловьеву даже важнейшим ее фактом, хотя с этим труднее согласиться безусловно; во всяком случае, заслугою г. Соловьева останется, что он обратил на него внимание. Но трудно дать в истории нашей важное место заботам о привлечении населения и объяснять ими происхождение льготных грамот. Скорее давались они для того, чтобы привязать к себе, удержать волость от принятия в князья соперника, нежели с тем, чтобы привлечь новое население. Об этом думали гораздо меньше. Правда, пленных часто выводили для поселения в своих землях; но так же часто продавали их иноземцам и жителям других волостей, как видно, более дорожа прибылью в имуществе, нежели в народе. Что искание новых земель, более, нежели искание новых льгот, было побуждением к колонизации, видим из обширности колоний Новгорода, переселенцы из которого, конечно, не могли ожидать новых льгот. Могли бы мы предполагать, что иногда колонистами управляли стремления, подобные тем, под влиянием которых образовалось впоследствии донское и запорожское казачество, — стремления к совершенной самостоятельности; но и этому желанию нельзя приписывать большого круга действия, потому что не видим в пограничных волостях особенных наклонностей к автономии, как потом замечается у донцов и запорожцев; не видим и того даже, чтобы жители новозаселенных земель отличались от оставшихся па старых местах по Днепру и Ильменю энергией и следствием ее — мужеством в боях. Напротив, кажется, справедливо г. Соловьев считает дружины и ополчения киевские, черниговские и новгородские более крепкими в бою, нежели войска восточных князей. А удальство и отважность обыкновенно характеризуют колонистов. Потому едва ли не должно предположить, что колонизация происходила слабо и медленно, не оказывая большого влияния ни на характер жителей, ни на общественные отношения. Не должно представлять себе слишком обширным и то поле, по которому она разливалась в X–XV веках: за исключением вологодских и вятских поселений, очень немноголюдных, как это ясно из их состояния даже в XVII веке, в это время колонизовалось только пространство, занимаемое теперь губерниями Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Московской, Владимирской, южными и западными частями губерний Тверской, Ярославской, Костромской и Нижегородской; всего в течение пяти или шести веков область новых земель, занятых, конечно, не густым русским населением, обняла пять, много — семь тысяч квадратных миль — пространство, вдвое, если не втрое, меньше страны, которую занимали сплошные коренные поселения русских славян в IX веке. Население этого пространства и теперь вдвое уступает числом населению малорусских, белорусских, Псковской и Новгородской губерний; между тем известно, что в XV–XVIII веках оно умножалось гораздо быстрее, нежели население западных губерний; во сколько же раз оно должно было уступить этому последнему в XIII–XV веках? Не забудем также, что в его массе было довольно много ославянившихся потомков туземцев — некоторые даже полагают, что большинство народа составилось из них — сообразив это все, мы едва ли не должны будем убедиться, что колонизация восточных волостей в X–XV веках совершалась медленно и число переселившихся не было громадно по сравнению с населением, оставшимся на своих прежних местах: из нескольких миллионов переселилось в течение пяти или шести веков несколько сотен тысяч, может быть, десятая, пятнадцатая часть всей массы приднепровских и ильменских жителей. Если же припомним, что много в том числе было уведенных туда в плен, то добровольное стремление населения с юга на север, с запада на восток окажется еще менее сильным. Во всяком случае, едва ли можно предполагать, чтобы много заботились о сильнейшем возбуждении его льготами и т. д. В самых понятиях г. Соловьева о различии общественных отношений старых и новых городов можно найти подтверждение мнению, которое осмелились мы здесь высказать, и которое, точно так же, как и мнение г. Соловьева, ему противуположное, нуждается в более точных изысканиях для того, чтобы получить или потерять право на прочное место в науке. Возвращаемся, однакоже, к его очерку общего характера событий нашей древней истории. Объяснив причины, по которым русские славяне должны были довольствоваться этим северным и восточным направлением, отказываясь от направления на юг, от которого были отрезаны наплывом угров, печенегов, половцев и татар, г. Соловьев продолжает, что, впрочем, и не было у русских славян даже в IX–X веках особенного стремления покидать свою родину, как это было в IV–VII у германцев, теснимых с востока и северо-востока:
«Славянские племена, вошедшие в состав русского государства, раскинулись широко и привольно по огромной северо-восточной равнине Европы: они не получали никакого толчка с севера и северо-востока; ничто не понуждало их покидать землю великую и обильную и отправляться искать новых земель, как то делывали германские племена на западе, ничто не побуждало их предпринимать стремительного движения целыми массами с севера не юг, и Святослав вовсе не был предводителем подобных масс: он оставил назади громадное владение, редкое население которого вовсе не хотело переселяться на юг, хотело, чтобы князь жил среди его и защищал его от диких степных орд: «Ты, князь, чужой земли ищешь, а нас здесь чуть не взяли печенеги», говорят киевляне в предании — знак, что у киевлян была своя земля, а чужой они не искали».
Мы выписали это место между прочим и потому, что оно служит подтверждением нашего мнения о незначительности стремления ваших предков к переселению. Но вскоре обстоятельства изменяются, — говорит г. Соловьев, — южные области постоянно подвергаются сильным нападениям сначала печенегов, потом половцев, наконец, татдд. Куда же было удалиться русским людям от плена й“ р*азоРения? свободный путь оставался один — на северо-восток. В XIII веке и последующих татары теснят не только с юга, но и с востока, с запада начинает теснить Литва: «таким образом, — заключает г. Соловьев, — с востока, юга и запада население, так сказать, сгоняется в средину страны, где на берегах Москвы-реки завязывается крепкий государственный узел». Что Московские, Владимирские, Тульские области для жителя Киевской Украины могли быть убежищем от половцев, мы согласны; но еще ближе было искать от них убежища в Галицких и Влади-мироволынских областях, и связи между Галичем и Киевом в XII–XIII веках гораздо теснее, нежели между Киевом и Суздалем или Владимиром на Клязьме. Если было сильное переселение из Киевской волости, то, конечно, на Волынь и в Галич; но мы не думаем, чтобы половцы в XII–XIII веках могли далеко оттеснить нас на юге, потому что и в IX–X веках южные границы русского населения не заходили далеко за Киев, а половцы грабили почти только одни города по Руси — до Киева они доходили не часто. От Литвы едва ли бежало много народа, потому что скоро Литовское княжество вступило в теснейшую связь с южнорусскими, и нашествия гедиминовых войск едва ли казались нашествиями чужеплеменников; и опять естественным убежищем от врага, идущего с севера, были бы для белоруссов и волынян не Московские, а Галицкие волости; что касается эпохи позднейшей борьбы Литовского княжества с Московским, в это время более ужасались татарских нашествий с востока, нежели литовских с запада, и едва ли мог быть прилив населения, например, из Смоленска в Калугу, грабимую татарами. Что татарские нашествия могли оттеснять население Рязанских и Тульских волостей к Москве, с этим нельзя не согласиться. Таким образом, из всех иноземных притеснений, исчисляемых г. Соловьевым, одни татарские могли, нам кажется*, содействовать усилению Московской волости сравнительно с Курскою, Тульскою, Рязанскою; но сравнительно с западными областями сама Московская много проигрывала от татарских нашествий, и потому трудно сказать, больше ли они в. редили ей или приносили пользы. Окончим, «однакоже, нашу выписку, не задерживая читателей замечаниями о последующих воззрениях г. Соловьева, потому что эти замечания требовали бы гораздо подробнейшего развития, нежели какое могло быть дано им в настоящей статье, и найдут себе место в разборе, о котором говорили мы в начале нашей статьи.
«Таков был, в общих чертах, ход древней русской истории. Уже давно, как только начали заниматься русскою историею с научною целью, подмечены были главные, особенно выдающиеся в ней события, события поворотные, от которых история заметно начинает новый путь. На этих событиях
начали останавливаться историки, делить по ним историю на части, периоды… Обыкновенно каждый писатель Старался показать неправильность деления своего предшественника; мы не будем продолжать этих опоров; мы начнем с того, что объявим все эти деления правильными; мы начнем с того, что признаем заслугу каждого из предшествовавших писателей, ибо каждый, в свою очередь, указывал на новую сторону предмета и тем способствовал лучшему пониманию его. (Вот язык, достойный истинного ученого: какой прекрасный пример подает t. Соловьев этими словами!) Но с течением времени наука мужает, и является потребность соединить то, что прежде было разделено, показать связь между событиями, показать, как новое проистекло нз старого, соединить разрозненные части в одно органическое целое, является потребность заменить анатомическое изучение предмета физиологическим».
«История знает различные виды образования государств: или государство, начавшись незаметною точкою, в короткое время достигает огромных размеров, в короткое время покоряет себе многие различные народы; обыкновенно такие государства, как скоро возросли, так же скоро и падают; такова, например, участь азиатских громадных государств. В другом месте видим, что государство начинается на ничтожном пространстве, и потом, вследствие постоянной напряженности сил от внутреннего движения, в продолжение довольно долгого времени распространяет свои владения насчет соседних стран и народов, образует громадное тело и, наконец, распадается на части, вследствие самой громадности своей и вследствие отсутствия внутреннего движения, исчезновения внутренних живительных соков: таково было образование государства римского. Образование всех этих древних громадных государств, какова бы ни была в других отношениях разница между ними, можно назвать образованием неорганическим, ибо они обыкновенно составляются нарастанием извне, внешним присоединением частей посредством завоевания. Иной характер представляется нам в образовании новых европейских, христианских государств: здесь государства при самом рождении своем, вследствие племенных и преимущественно географических условий, являются уже в тех же почти границах, в каких им предназначено действовать впоследствии; потом наступает для всех государств долгий, тяжкий, болезненный процесс внутреннего возрастания и укрепления, в начале которого государства эти являются обыкновенно в видимом _разделении, потом это разделение мало-помалу исчезает, уступая место единству: государство образуется. Такое образование мы имеем право назвать высшим, органическим».
«Какое же образование нашего государства?» продолжает г. Соловьев и общим очерком событий показывает, что оно — второго рода, высшего, органического. Русские славяне, положившие основание будущей Российской империи, в IX веке занимали большую половину европейской России; восточная часть этой обширной площади, не занятая славянами, едва могла назваться населенною, будучи обитаема только рассеянными и малочисленными племенами финскими, не полагавшими почти никакого препятствия колонизации, почти добровольно и во многих случаях совершенно добровольно соединявшимися с славянами (предание о призвании Рюрика Весью, Новгородцами и Кривичами) и скоро превращавшимися в славян. Все эти страны очень быстро и без больших затруднений сливаются в одно целое. Потом они, в так называемом удельном периоде, распадаются на множество небольших владений, подобно тому, как распалась, незадолго перед тем, держава Карла Великого, и г. Соловьев проводит прекрасную параллель между родовыми отношениями наших князей с одной сто-
роны и феодальною связью западно-европейских владельцев — с другой; потом родовые отношения на Руси уступает место государственным, и Русь соединяется в Московское царство, как на западе из феодальных владений составляются большие государства.
Излишне говорить, что вновь вышедший том «Истории России» своим достоинством равняется предшествовавшим частям огромного труда г. Соловьева; излишне также повторять, что труд этот составляет, вместе с изданиями Археографической Комиссии, важнейшее приобретение нашей исторической науки в течение последних пятнадцати лет, и в скором времени мы надеемся подробно рассмотреть его отношение к предшествовавшим трудам и показать, насколько двинута вперед наука новейшими исследователями, в главе которых стоит г. Соловьев.
Исторнческве значение царствования Алексея Михайловича. Сочинение П. Медовикова. Москва. 1854
Сочинение г. Медовикова не отличается ни полнотою, ни особенными достоинствами изложения; оно не уясняет ни одного вопроса. Что давно было известно всякому, хотя несколько занимавшемуся русскою историею, только то и повторил автор в своей книге; нового не сказал он ничего; факты изложены в таком объеме, что некоторые отделы главы о царствовании Алексея Михайловича в «Руководстве» г. Устрялова полнее соответствующих отделов книги г. Медовикова; другие события рассказаны полнее в таких общеизвестных сочинениях, как «История российской церкви». Поэтому казалось бы, что не может быть оснований считать сочинение г. Медовикова заслуживающим большой похвалы. Правда, написано оно добросовестно; автор пересмотрел все важнейшие издания, в которых мог найти что-нибудь нужное для себя; ему хорошо известны не только отдельные сочинения, но и статьи периодических изданий, касающиеся его предмета. Он знает литературу русской истории. Однако, если не знать литературы своего предмета — важный недостаток, то знать ее не есть еще заслуга со стороны человека, решающегося писать ученое сочинение. Но не это одно достоинство мы находим в труде г. Медовикова; есть в нем качества более редкие — отсутствие ученого самолюбия и опрометчивых претензий на то, чтобы «выставить предмет в новом свете; открыть в нем новые стороны, поднять новые вопросы, показать неосновательность, односторонность прежних объяснений», одним словом — придумать какое-нибудь «новое воззрение на предмет».
Эти качества действительно довольно редки. Сколько есть ученых, не справедливых к своим предшественникам! Недавно мы указали один подобный случай, говоря о мелочных критических замечаниях на драгоценный труд г. Снегирева '. А таких примеров сотни. Один из достойнейших наших ученых считает нужным анатомически разбирать «Историю Государства Российского», отыскивая, не взял ли Карамзин у ЬЦербатова или Хилкова мысль о том, что «просвещіние смягчает нравы», не заимствовал ли он у Татищева или Болтина понятия о том, что Святослав был отважный воитель, а Олег привел в трепет византийцев 2. Зачем он тратит время на подобные сближения? Что «История Государства Российского» имеет свои недостатки, было уже доказываемо двадцать лет назад Арцыбашевым и Полевым; а теперь напрасно и говорить об этом; что Карамзин пользовался трудами своих предшественников, также вещь, известная всякому, и столь же естественная, как и то, что ученые, занимающиеся ныне русскою историею, пользуются трудами Карамзина и, например, Эверса, который уже давно говорил о развитии государственного быта из племенного. Наконец, что Карамзин занял у Щербатова мысль о благодетельном влиянии просвещения на нразы, столь же очевидно, как и то, что новейшие математики заняли у Магницкого правила сложения и вычитания. Неужели нужно анатомировать историю Карамзина для того, чтобы наши читатели лучше могли постичь превосходство наших собственных трудов? Уже одно опасение, что читатели наши могут притти к такой мысли — надеемся, несправедливой — относительно наших чувств, должно было бы удержать нас от бесполезного труда, ставящего нас в самое неловкое положение. Приведем другой пример. В последнее время стали довольно часто являться прекрасные — может быть, несколько сухие, недостаток второстепенный — монографии по истории русской литературы. Не будем исследовать, каким именно условиям обязана своим происхождением страсть к ним; быть может, мы нашли бы, что необходимость, заставившая обратиться к библиографическим изысканиям, не так отрадна, как благородная и самоотверженная любовь к труду на пользу русской литературы, поддерживающая предавшихся ему в работе утомительной и неблагодарной — каково бы ни было происхождение трудов, результаты их прекрасны. Но скажите, во многих ли из этих произведений найдете вы веяние естественной симпатии к трудам предшественников? Сто раз повторяется: «Евгений ошибочно говорит», и едва ли раз найдется фраза: «Евгению обязаны мы…» Нет, в большей части этих монографий слышится уверенность авторов, что до них ничего, ровно ничего не было сделано, что они делают что-то небывалое, неслыханное, что они новые Анке-тили, открывающие Зендавесту, о которой никто не ведал до сих пор. Нет, достойные, но забывчивые исследователи: были прежде вас, люди, с которыми не сравнялись еще вы ни обширностью вашего значения, ни значением ваших трудов — это не стыд вам, потому что вы трудитесь только годы, а другие трудились десятки лет, и, быть может, вы со временем станете выше их. Но то будет еще впереди, а теперь… теперь гордитесь преданностью делу сво-
ему, а не тем, что не было никогда людей, подобных вам. Были они, вы должны это знать лучше всех нас, вы должны знать, что, например, в «Очерках русской литературы» 3 одним человеком, среди десяти других, важнейших дел, собрано больше материалов для истории русской литературы, нежели получили мы до сих пор от всех вас вместе. Назвав Пушкина, мы, быть может, напомним нам о другом деятеле на поприще истории русской литературы 4. Не говорим уже о трудах Евгения. «Но его словари наполнены ошибками». Хорошо было бы, если б у вас нашлось не в десять раз более ошибок, хотя вы сделали во сто раз меньше.
Отчего проистекает эта придирчивость, это стремление показать, что заслуги наших предшественников были не так велики, как воображают неспециалисты? Мы никак не думаем, чтоб это происходило от каких-нибудь сознательных побуждений, и решительно отвергаем всякие толки о неблагодарности, непризнательности, неуважении, будучи твердо убеждены, что подобные чувства очень редко совмещаются с характером ученого человека-, по самой натуре своей чистым; гораздо основательнее объяснять дело мелочным преувеличением важности собственных открытий, и эту мелочность приписывать преимущественно чистосердечному, но слишком восторженному увлечению; а причиною увлечения мелочами надобно, разумеется, считать то, что увлекающиеся мало успели еще сделать истинно важного. Свое каждому дорого; и кому принадлежит еще одно только не слишком важное, тот почти всегда поставляет в этом неважном чрезвычайную важность.
Помните ли время, когда вы слушали лекции? Как часто казалось вам тогда, что два часа назад выслушанная вами лекция удивительно проясняет и изменяет взгляд на целую науку, что в ней-то именно и есть ключ к правильному пониманию всей науки. Потом вы увидели, что так казалось вам просто потому, что вы еще мало знали науку, что в науке сотни понятий гораздо важнейших, нежели казавшиеся вам ее краеугольной основой; вы увидели, что сущность русской истории, например, заключается не в одном вопросе о происхождении варяго-руссов или в доказательстве древности летописей. Припомните годы, еще более далекие, когда вы учились русской грамматике; не правда ли, что, выучив наизусть разделение имен существительных на два склонения и осьмнадцать окончаний, вы несколько времени экзаменовали всех ваших знакомых и готовы были считать невеждою первого ученого в мире, если он не мог сказать, к 10 или к 11 окончанию принадлежит слово «рука»? Но когда вы начали учиться по-латыни, ваша гордость наслаждалась истинными триумфами, и вы не раз восторжествовали над своим учителем, доказав ему, что кроме десяти слов мужеского рода на букву х, перечисленных в учебном вашем руководстве, есть еще два или три таких слова, найденные вами в большой грамматике Цумпта? О, как после этого выросли вы в собственных глазах и в глазах товарищей! ре-
шено было всеми единогласно, что вы знаете по-латыни лучше самого учителя, и вы сами чувствовали в душе, что это правда!
Но так как речь зашла о латинской грамматике, то иам хочется привести анекдот из старинной «Латинской грамматики, составленной по Брёдеру Н. Кошанским»: к этой грамматике приложена небольшая хрестоматия, обильная занимательными рассказами, и вот один из них, называющийся в подлиннике Cato et rusticus — «Катон и поселянин».
«Одному римскому поселянину случилось узнать, что через их ' деревню будет проходить Катон, знаменитый своей ученостью. Он вышел посмотреть на этого известного историка. Но Катон, подо-шедши к поселянину, спросил его: «Скажи мне, мой друг, как называется соседняя деревня и какою дорогой надобно мне итти туда?» После этого поселянин часто говаривал: «Вот, сказывали, будто Катон ученый человек! а он не знает даже имени соседней деревни и дороги в нее».,
Мы уверены, что редкий из ученых, достигших той же высоты знания, на которой стояли его предшественники, не уважает их в глубине души. В каждом большом труде найдется много недостатков и ошибок; это он будет знать по собственному опыту.
Итак, мы сказали, что сочинение г. Медовикова очень выгодно отличается от многих других тем, что автор не старается поколебать доверие к трудам сеоих предшественников для того, чтобы возвысить контрастом достоинство собственного труда. Другая, не менее приятная черта сочинения — отсутствие стремления придумывать новые воззрения и ставить эти воззрения краеугольным камнем здания, воздвигаемого автором. А этот недостаток также очень сильно вредит достоинству и основательности очень многих ученых трудов. Примеров множество.
Один ученый открывает понятие об «изгойстве» 5 и на нем основывает построение целого периода нашей истории, едва ли даже не всю систему своих понятий о древнем нашем быте; не решаем, правильно или нет объясняется ныне слово изгой, но, во всяком случае, встречается оно так редко, что понятие, им выраженное, едва ли могло играть важную роль в истории. Другой отыскивает слово «йодручник», всего только один раз попадающееся в наших летописях и грамотах, и опять везде видит «подручников»; третий открывает, что светлый значит первоначально «быстрый», и также при всяком удобном случае основывает свои труды на тожестве понятий быстроты и света G; четвертый находит, что какой-нибудь малоизвестный писатель был умный человек (хотя это еще нуждается в более ясных доказательствах, нежели то, что у него встречаются мысли, попадающиеся во всякой без исключения книге того времени), и выводит из этого, что он был великим писателем, — как будто бы всякий умный человек непременно должен быть замечательным писателем. Пятый идет далее и утверждает, что мы не имеем понятия о старинной нашей
о
литературе, потому что до появления его изысканий^ не знали, в 1757 или 1756 году написана какая-нибудь ода Сумарокова, хотя и он этого не мог узнать. Одним словом, на основании всех этих открытий оказывается, что мы ничего не знали ни о древнем русском быте, ни о русской истории, ни о русской литературе, хотя к тем горам материалов, которые собраны были и собираются без помощи этих ученых, они едва еще успели прибавить несколько песчинок; оказывается, что на основании новых открытий должен совершенно измениться ^взгляд на нашу, историю и литературу; может быть, он должен измениться, но мы еще ожидаем, пока иам это докажут более важными трудами и открытиями.
Г. Медовиков не имеет подобных стремлений открывать неслыханное, показывать невиданное; он не думает, чтобы наши прежние понятия о значении царствования Алексея Михайловича были совершенно несправедливы, и что ему необходимо было заботиться изменить их. В самом деле, вот важнейшие «положения», принимаемые г. Медовиковым:
«Царствование Алексея Михайловича по своему характеру принадлежит еще вполне древней (точнее было бы выразиться: старой или старинной) Руси, хотя и появляются некоторые признаки скорого наступления эпохи преобразований. Перед впохою преобразования древняя русская жизни исчерпала себя вполне.
«Возвышение патриаршей власти в Никоне обусловливалось как его энергическою личностью, так и событиями в России в конце XVI века; но оно противоречило прежним у нас отношениям духовной власти к светской.
«Присоединение Малороссии к Московскому государству было результатом исторической необходимости; личностью Хмельницкого только ускорено событие, которое рано или поздно долженствовало совершиться. Первое начало отменению особного быта Малороссии положено уже в царствование Алексея Михайловича».
Читатели видят, что это — положения общепринятые и не подлежащие спору. Если бы сочинение г. Медовикова было простою компиляциею, составленною при помощи двух-трех книг, не опиравшеюся на большой запас сведений и на основательное углубление в предмет, — не было бы ничего особенного и в том, что автор не выставил оригинальных результатов; но автор трудился над своим сочинением прилежно и много, узнал свой предмет хорошо и, однакоже, не почел за нужное изобретать эффектные воззрения, которые поражали бы своею новизною, признавая удовлетворительность прежних трудов — это прекрасно и довольно редко.
Из наших слов не следует, однако, чтобы похвалами книге г. Медовикова хотели мы унижать ученое достоинство каких-нибудь других трудов: несмотря на свои недостатки, о которых мы говорили затем, чтобы яснее выставить на вид достоинства разбираемой нами книги, несмотря на преувеличивание неважных открытий и мелочную критику предшествовавших трудов или слишком гордое молчание о них, сочинения, от которых эта книга
выгодно отличается в одном отношении, стоят несравненно выше ее во многих других отношениях и гораздо важнее по своему значению для науки. Мы только хотели бы убедить, что если книга, не замечательная ни в каком другом отношении, становится достойной уважения и полезною через осмотрительность выводов и беспристрастие автора к себе и другим, то еще больше могли бы выиграть от этих качеств другие труды, уже по своему содержанию имеющие важность. И если один ученый имеет достаточно скромности, чтобы не обнаружить никаких притязаний на оригинальность воззрений, то гораздо легче могли бы устоять против увлечения подобными стремлениями те ученые, которым удалось на самом деле открыть что-нибудь новое и замечательное.
Не следует из наших похвал скромным достоинствам книги г. Медовикова и то, чтобы мы утверждали, будто бы русская история уже достаточно разработана и все важнейшие задачи ее решены удовлетворительным образом. Если история древнего классического мира, столько веков разработываемая соединенными усилиями всех образованных народов, еще беспрестанно уясняется и обогащается новыми воззрениями, то странно было бы вообра жать, что в каких-нибудь пятьдесят лет ученая разработка русской истории достигла окончательного совершенства, и мы должны находить выработанные воззрения на ее события вполне основательными и достаточными. Напротив, разработка русской истории, точно так же, как и разработка истории русской литературы, только что начинается; удовлетворительным образом разрешены еще немногие вопросы, и то преимущественно касающиеся внешней, фактической истории; очень многие из важнейших вопросов остаются еще нетронутыми; особенно должно сказать это о вопросах внутренней истории жизни русского народа. Мы признаем необходимость новых воззрений и объяснений, но с тем условием, чтоб они были полней и основательнее прежних. Да и как не при-внавать, когда относительно интереснейших вопросов мы до сих пор принуждены довольствоваться столь же неопределенными и неудовлетворительными объяснениями, как, например, следующее, которым начинается книга г. Медовикова и которое заимствовано из круга новейших понятий о русской истории:
«В половине XVII века умолкает древнее летописание, вмещающее в себе заветные предания нашей старины с того времени, когда пошла русская земля, представляющее в непрерывном ряде сказаний судьбы нашего отечества с самого водворения в нем государственного начала. Священная повесть временных лет прекращается, как бы сделав последнее усилие в «Летописи о мятежах» и «Новом летописце». Причин такого явления должно искать… в перевороте, который приготовлялся в государственной и общественной жизни нашей, в стремлении личности вырваться из оков, наложенных на нее бытом древней Руси. Под влиянием личного начала безыменные сказания летописцев — отшельников, трудившихся единственно «любве ради господа бога и своего отечества», стали уступать место запискам очевидцев, которые в повествование свое вносили собственнее взгляды на предмет. (Итак, вместо летописей являются мемуары? Нет — их и нас не было в
XVII веке, это говорит и г. Медовиков на следующей строке.) Но, к сожалению, XVII век представляет, и в этом роде, слишком мало исторических памятников».
Или, лучше сказать, ни одного, до самого конца царствования Алексея Михайловича. Как же стремление писать мемуары, еще іге рождавшееся, могло заставить покинуть летописи? Положим, что причина прекращения летописей, указываемая Татищевым, недостаточна; хотя и надобно предполагать, что этот основательный историк говорил не наудачу, и хотя с ним соглашался Шлёцер; но объяснение, которым теперь заменили* этот старый взгляд на сущность дела, очевидно не выдерживает критики. Отдельные исторические сказания писались и прежде XVI, не только XVII века; наши летописи наполнены ими; довольно много их сохранилось и отдельно от летописей; почему же до XVII и, особенно, до XVI века не мешали они продолжению летописей? С другой стороны: первые три четверти XVII века представляют менее отдельных сказаний, нежели предыдущие времена; итак, не летописи заменились сказаниями, а, напротив, сказания подверглись в XVII веке влиянию той же причины, которая уничтожила летописи. Если не ошибаемся, давно уже было замечаемо подобное ослабление и замирание всей литературной деятельности в Руси XIII–XIV, особенно XV–XVII века. Так, например, сличив «Сказание о Мамаевом побоище» с «Словом о полку Иго-реве», все увидели, что произведение XV века бледное и слабое подражание произведнию XII века; подобно поэтической деятельности уменьшилась и проповедническая: от XII века мы имеем Кирилла Туровского, в XIII был еще Сера-пион; позднейшие проповедники наши далеко уступают своим предшественникам, и, наконец, при Алексее Михайловиче исчезли уж и следы обычая говорить проповеди собственного сочинения. Точно то же и с летописями — с течением времени становятся они все суше и суше, все менее и менее замечается в летописцах уменья рассказывать и исторического такта; все последующие летописи далеко ниже Несторовой по своему достоинству. Итак, замирание и прекращение летописей надобно объяснить не из того случайного обстоятельства, что они были безыменны, потому несовместны «с стремлением личности вырваться из оков» этой безыменности: если бы дело зависело только от этого, вместо летописей безыменных явились бы у нас летописи с надписью имени летописца. Нет, причины явления, о котором говорит г. Медовиков, надобно искать гораздо глубже: вся общественная и умственная жизнь в XIV–XVI веках подверглась влиянию неподвижности, застоя, оцепенелости, окончательным результатом чего была необходимость преобразований Петра Великого.
В первых же строках книги г. Медовикова, представляющей свод всех сделанных до него изысканий и воззрений, мы нашли
пример того, как необходимы новые изыскания и воззрения; и почти каждая из последующих страниц могла бы служить доказательством того же самого. Остается только желать, чтобы силы деятелей на поприще русской истории были соразмерны трудности вопросов, которые ожидают решения.
О сродстве языка славянского с санскритским. Составил А. Гильфердинг. Спб. 1853.
Об отношении языка славянского к языкам родственным.
Исследование А. Гильфердинга. Москва. 18531.
Первое из поименованных здесь сочинений г. Гильфердинга в первый раз напечатано в «Прибавлениях» к «Известиям Второго Отделения Академии Наук» и потом издано отдельной книгой; второе есть не что иное, как продолжение первого, и заключает в себе выводы об отношении языка славянского к языкам родственным.
С тех пор, как языкознание, освободясь от практических целей, сделалось самостоятельной наукой, в сравнительно-исторической части этой науки был большой пробел: не было основательно исследовано отношение языка славянского к санскритскому и к другим родственным языкам, т. е. к языкам индо-европейской отрасли. Это произошло оттого, что сравнительно-историческое языкознание было разработываемо преимущественно немецкими писателями, мало знакомыми с языком славянским. Дополнить такой важный недостаток есть обязанность славянских и преимущественно русских ученых. Отношение славянского языка к санскритскому и другим родственным языкам интересно не только для русской, но и для европейской науки. На таком-то видном поприще является с своими исследованиями г. Гильфердинг. Уже за одну мысль приняться за эти исследования должна быть ему благодарна наука. И г. Гильфердинг выполнил эту мысль хотя далеко не вполне, что и невозможно с первого раза, но с добросовестным трудолюбием и знанием дела.
В первом сочинении своем г. Гильфердинг сравнивает звуки и их соединения в языке санскритском со звуками и их соединениями в языке славянском.
Санскритский язык имеет только три простых гласных: а, и, у. С течением времени из гласной а выделяются два новых ^звука е и о, из которых первый образует как бы переход от а к и, второй — от а к у. В противоположность другим языкам европейским (кроме готского и литовского), давшим перевес новым гласным е и о над древними а, и, у, славяне в значительном большинстве случаев удержали звуки первобытные: можно принять, что на два славянских корня, сохранивших древние гласные, приходится один, в котором они перешли в е или о. Мы заметим здесь, с своей стороны, что для определения количественного отношения гласных
звуков между двумя языками должно принимать в расчет не одни корни, но весь состав слов: тогда результат может получиться совершенно другой. Одни соединительные гласные о и е в славянском языке составляют значительное количество. С другой стороны, скажем в защиту г. Гильфердинга, что для определения ближайшего родства между языками чоркя, как наименее изменяемые части слов, важнее прочих частей: наибольшее изменение корней означает наибольшее удаление одного языка от другого. Кроме общего всем языкам индо-европейским перехода в е и о, гласный звук а в славянском подвергся’еще другому изменению: его стали произносить короче и неопределеннее, стали его, так сказать, скрадывать, и таким образом произошли два новые звука, означаемые в кирилловской азбуке начертаниями ъ и ь. Следуя той формации, которая произвела гласный звук е, т. е. приближаясь к и, коренное а перешло в ь, следуя формации, произведшей гласный звук о, т. е. приближаясь к у, оно изменилось в ъ. На конце слов скрадывание гласного звука, т. е. обращение а в ъ и ь, и в ь, у въ, составляет органическое, постоянное свойство языка славянского и в грамматическом построении отличает его от всех прочих языков индоевропейских; но корни, в которых находятся ъ и ь, не составляют и сотой доли всего лексического запаса языка славянского и имеют характер не господствующего закона, а исключения. Зато не исключением, а общим законом славянской фонетики является употребление ъ — ра ь — ря при р и л. Господство звуков ръ и лъ (или, по выражению некоторых грамматиков, р и л гласных) составляет одно из замечательнейших свойств языка славянского. Ни в одном из языков европейских нет подобного явления; но оно вполне развито в языке санскритском, в котором так называемый ѵ-гласный точь-в-точь соответствует славянскому ръ и лъ (звуки р и л в смысле этимологическом совершенно тождественны). Славянский язык вернее санскритского сохранил коренное р. Это объясняется тем, что во время, от которого дошли до нас письменные памятники, последний начал уже кое-где подвергаться порче. Однако эта порча, несмотря на то, что развилась в языке санскритском преимущественно во время позднейшее, без сомнения, началась в доисторическую эпоху, когда славянское племя еще не отделялось от индейского; потому подле форм, сохранивших коренное р, существуют и у славян такие, которые его потеряли и сходствуют с санскритскими. Сверх того, сравнивая славянский язык с санскритским, вследствие подвижности гласных звуков, мы находим в нем довольно часто переход а в и, а в у. у в и и обратно. Присовокуплением а (короткого) и а (долгого) к гласным і, і, и, й для усиления их в санскритском языке образуются двоегласные аі, аі, аи, ай. Этим четырем санскритским двое-гласным в славянском языке соответствуют два звука: ь, заступающее санскритское é (аі)'и аі, и ы, заступающее б (au) и ай.
ѣ есть усиление коренного і приставкою гласного звука а, который слился с ним в один звук; ы таким же путем образовалось из и. Переход от гласных к согласным составляют звуки j и ѵ, будучи только видоизменением гласных і и и. В славянском языке эти звуки, особливо первый, имеют весьма важное значение. Славянские наречия, преимущественно же новейшие, не терпят гласных в начале слов; потому они либо смягчают их (т. е. соединяют их с j), либо приставляют к ним букву о. Закон смягчения и стремление осуществить его присутствовали одинаково в языках санскритском, литовском и славянском, но в действительности смягчение проявилось в них уже после их обособления и не в равной силе: язык санскритский представляет его в зародыше, но в историческом ходе, произведшем из него пракритское наречие, он развил первую степень смягчения, которой подверглись согласные д и г; язык литовский стоит наравне с пракритским; но в историческом ходе образовавшем латышский язык, явилось в нем смягчение звуков гортанных и шипящих, а звуки д и т подчинились смягчению вторичному; наконец, славянский язык, в котором имеют место все означенные явления, развил и третью степень, овладевшую звуком р (смягчающимся в рас, ш) и губными согласными (смягчающимися приставкой л). Весьма замечателен — прибавляет г. Гильфердинг — этот параллельный ход смягчения у индейцев, литовцев и славян: так как ничего подобного нет в прочих языках индо-европейских, то нельзя не признать, что в речи этих трех племен есть какое-то общее звуковое устройство. Мы думаем, с своей стороны, что прежде чем делать такое решительное заключение, г. Гильфердингу надобно было исследовать, нет ли подобного явления и в других языках индо-европейских. В греческом языке подобное смягчение составляет так называемый зетацизм. Смягчение замечаем в средневековой латыни: именно zabolus вместо diabolus. В историческом развитии итальянских наречий из языка латинского видим постоянное увеличение смягчения. Зендский язык часто представляет смягчение там, где оно есть в славянском и латышском, но где его нет ни в санскритском, ни в греческом, ни в латинском: именно, санскритская
hima, греческое Zsiücüy, латинское hiems, славянское зима, литовское ziema, зендское zjas; санскритское bhumi; латинское humus, славянское земь, земля, латышское zieme, зендское zém; санскритское aham, греческое гуа> латинское ego, славянское азъ, литовское isz, латышское es, зендское azem. Касательно этого предмета мы отсылаем наших читателей к двум сочинениям: рассуждению г. Каткова «Об элементах и формах славяно-русского языка» и к рассуждению г. Новикова «О важнейших особенностях лужицких наречий»2. Вообще, г. Г ильфердинг не любит ссылаться на сочинения других ученых. Между тем, мы думаем, что ему никак нельзя было обойти превосходного сочинения г. Каткова. Да и вообще, прежде чем решать данный
вопрос науки, должно показать, на какой степени развития находится решение его в настоящее время.' По поводу носовых звуков, соответствующих в славянском и литовском языках санскритской анусваргъ, которая употребляется в корнях перед шипящими согласными, и придыханием h и кроме того по общепринятому правописанию и произношению заменяет пит перед всеми другими согласными на конце слов, г. Гильфердинг делает такое же заключение о ближайшем родстве языков санскритского, литовского и славянского. Но носовые звуки мы замечаем также в языках греческом, латинском и в итальянских наречиях. Тадо носовые звуки являются и выпадают — точно такое же явление, как и в языке славянском. Например, греческое /.зфетѵ, латинское coso/, consul, санскритское abhi, греческий латинское ambo, сан
скритское masa, латинское mensis. Если в славянском языке носовой звук имеет одно начертание с предыдущим гласным звуком, а в греческом и латинском он изображается особенной буквой, то здесь различие только в начертании, в букве, а не в звуке. То же заключение выводит г. Г ильфердинг из сравнения шипящих звуков и из перехода звуков к и g, ч и ж (дж) в языках санскритском и славянском. Санскритский язык имеет три шипящих согласных: д, ш, с. Звук? не имеет аналогии ни в одном из языков европейских. По своему происхождению, он есть видоизменение древнего к, которое и соответствует ему постоянно в языке греческом, латинском и кельтском; германские наречия заменяют g звуками, образовавшимися из к, вследствие известных фонетических законов. У славян же и литовцев находим, что в одной половине слов д, как в прочих языках европейских, заменяется гортанным к (или ц, ч, видоизменениями к), в другой шипящими с, ш. Это показывает, что развитие звука g из первобытного к началось, когда уже обособились от общего индо-европейского корня племена кельтское, греческое и германское, но когда славяне и литовцы еще жили вместе с предками индейцев; но это развитие продолжалось и после того, как славяне и литовцы выделились из семьи, так что они унесли с собою много слов с коренным к, в которых потом язык санскритский заменил его звуком д. Подобным образом — говорит г. Гильфердинг — следует, кажется, предположить, что звуки ч и дж в санскритском языке стали появляться вместо к и g в эпоху, последовавшую за отделением племен греческого, латинского, кельтского и германского, однако, еще в то время, когда литовцы и славяне не начинали самобытной жизни, но что образование их не кончилось при обособлении этих последних, почему славянский язык и удержал нередко к и г там, где санскритский потом превратил их в ч и дж. Далее г. Гильфердинг сравнивает прочие согласные звуки и соединения звуков в языках санскритском и славянском и заключает следующими выводами: 1) что в славянском я?»^ке находится более, нежели в прочих языках европейских, корней и слов, родственных с санскритскими; 2) что все славянские наречия сохранили в одинаковой мере древние слова, восходящие до эпохи первобытного единства семьи индо-европейской; 3) что язык славянский, взятый в целости, не отличается от санскритского никаким постоянным, органическим изменением звуков, равно как и язык литовский, тогда как все прочие индо-европейские языки подчинились разным звуковым законам, которые исключительно свойственны каждому из них в отдельности; 4) что ближайшее родство языков санскритского, литовского и славянского еще яснее доказывается тем, что в них равномерно развиты многие звуки, чуждые прочим ветвям индо-европейского племени, каковы в особенности: носовые звуки д, заменяющее коренное к (санскритское д), чиж (дж), и наконец р — гласный (славянский ръ); 5) что смягчение согласных составляет также одно из тех свойств, которые связывают теснейшим родством славянский язык с литовским и санскритским и отделяют от них соплеменные ветви.
Второе сочинение г. Гильфердинга есть не что иное, как повторение тех же самых выводов, основанных на сравнении звуков, с прибавлением некоторых, впрочем, весьма немногих, форм грамматических. Упомянув вкратце об известнейших трудах по части сравнительно-исторического языкознания и сделав различие между постоянными, или органическими, и случайными изменениями звуков, г. Гильфердинг перебирает все языки индо-европейские: зендский, греческий, албанский, латинский, осский,
Умбрийский, германский, кельтский, обозначая, какие произошли в них органические видоизменения в звуках. Затем г. Гильфер-ДИнг приводит уже знакомые нам пять главных звуковых законов, которыми славянский и литовский языки связываются с санскритским и отделяются от прочих языков родственных, т. е.
1) р — гласный (славянский ръ, лъ); 2) носовые звуки (санскритский анусвара); 3) с, заменяющее коренное к (санскритский f); 4) переход к и g в ч и ж; 5) смягчение. Затем приводятся образцы сближения корней и слов славянских Ь литовских с санскритскими. Г. Гильфердинг заключает свое сочинение сравнением некоторых форм в склонении имен существительных и в спряжении' глаголов в языках славянских и санскритских; но это сравнение так неполно, так отрывочно, что из него невозможно получить никакого понятия об отношении славянского языка к языкам родственным касательно грамматического состава. Между прочим, г. Гильфердинг исчисляет совершенно догматически и без всякого основания логические формы глагола, определяемые временем (времена), отношениями действия к лицу, которое его производит либо ему подвергается, или к другому действию (наклонения и залоги), количеством и, наконец, качеством действия (виды). Здесь г. Гильфердинг обнаруживает незнакомство даже с Беккером. Он поставил времена и наклонения под разные кате-
гории, между тем как они вместе с лицами, которые г. Гильфер-динг совершенно опустил из виду, показывают отношение сказуемого. к лицу говорящему и составляют формы < вообще сказуемого, а не глагола только; наклонения же и залоги поставил в одну категорию, между тем как залоги и виды — собственно глагольные формы залоги показывают отношение действия к предметам (относительное свойство действия), а виды— внутреннее. безотносительное свойство действия самого по себе. Г. Гиль-фердинг говорит, что виды в славянском языке выражают категорию качества: неужели и кратнскть действия есть качество, а не количество?.
Мы проследили вкратце содержание обоих сочинений г. Гиль-фердинга, сделав некоторые частные замечания. Скажем теперь наше мнение об основной мысли обоих сочинений и о достоинстве каждого из этих сочинений в отдельности.
Г Гильфердинг усиливается сблизить славянский и литовский языки с санскритским и составить из них одну — восточную — ветвь языков индо-европейских, в противоположность другой — западной — ветви той же отрасли. Что славяне и литовцы после вышли из своей азиатской прародины, нежели прочие народы Европы, в этом, кажется, нет сомнения. К филологическим доказательствам г. Гильфердинга, впрочем, далеко не вполне убедительным, мы прибавим еще доказательство историко-географическое. Все европейские народы» пришли в Европу через Кавказские ворота;~сл*авяне и литовцы живут на востоке Европы: следовательно, они пришли в нее после всех. Итак, если, вследствие позднейшего прихода в Европу, славяне и литовцы в языке своем сохранили более сходства с языком санскритским, удержав и такие звуки, которые развились в языке санскритском уже после отделения от индейского племени других европейских народов, то это только доказывает, что они дольше жили в своей азиатской прародине, — и больше ничего. Но г. Гильфердинг выводит другое, гораздо отдаленнейшее заключение:
«Соплеменные языки западные, получившие прежде самостоятельную жизнь, вынесли из древнего единства стихии менее определенные и оттого поддались так легко, уже на своей почве, каждый совершенно особенным склонностям. Все эти языки давно исчезли и оставили по себе вторичные наречия, тогда как на востоке еще живут и процветают два великие языка первичного образования — славянский и литовский: уж не проистекла ли
смерть первых от того, что они рано начали жить сами по себе и, отделившись прежде полного развития, должны были многое выработать собственными силами и тем скоро истощились? А долговечность языков литовского и славянского, не совпадает ли она с их поздним обособлением и богатством вынесенного из Азии звукового наследства, которого восполнять им не было нужды? И, наконец, этот различный характер индо-европейской речи в западной Европе и е восточной не соответствует ли историческому характеру двух великих половин Европы? На той же стороне, где находим раннее обособление языка и господство частных звуковых законов, мы видим и преобладание личности над общиною, и скорейшее развитие, которому помогло это преобладание личности; а на другой стороне позднее отделение языка славянского и его верность звукам, вынесенным из доисторической родины, из Азии, не согласно ли с медленнейшим ходом славянского племени, в котором менее высказывалась личность, но крепче хранилось общественное начало?»
Итак, развитие романских языков из латинского произошло оттого, что латинский язык отделился от санскритского прежде полного развития и скоро истощился! Г. Гильфердинг говорит о славянском языке, как о языке первичного образования. Но мы не знаем такого языка; мы знаем только славянские наречия: первичный же славянский язык, из которого они произошли, нам неизвестен. Следовательно, различие здесь только в том, что язык, от которого произошли, например, романские наречия, оставил по себе богатую литературу, а первоначальный славянский язык, от которого произошли славянские наречия, не оставил по себе никаких памятников. Г. Гильфердинг говорит, что «Славяне обратили творческую силу языка своего не на вещественную его сторону, не на звуки, которые ^стались у них как были, а на выражение мысли, на внутреннее определение глагола, самой живой и духовной стихии нашего слова». Итак, звуковое изменение языка ' соответствует развитию личности, а изменение глагола — крепости общественного начала! Вот до каких несообразностей доводят и людей, добросовестно трудящихся для науки, задние мысли.
Первое сочинение г. Гильфердинга есть труд дельный и добросовестный. Сочинение это не докончено и далеко еще не докончено. Если же его почитать конченным, то должно переменить его заглавие, обозначив его, как сравнение звуков в языках санскритском и славянском. Сравнение полного грамматического состава этих языков еще ожидает трудолюбивых делателей. Второе сочинение есть только извлечение из первого и еще менее соответствует своему заглавию. Если г. Г ильфердинг и хотел здесь изложить результаты, добытые им в первом исследовании, то он должен бы был ограничиться показанием отношения славянского языка к санскритскому касательно звуков. Г. Г ильфердинг изменил своему собственному намерению сравнивать первоначально славянский язык с каждым из других индо-европейских языков в отдельности и слишком рано взял на себя слишком трудную задачу. Гораздо лучше, если б второе сочинение его было не извлечением из первого, а продолжением его.
Несмотря на все это, труды г. Г ильфердинга как сами по себе чрезвычайно замечательны и, конечно, обратят на себя внимание каждого филолога, так в особенности много обещают в будущем-r. Гильфердингу нужно только:
1) Изучить организм языка вообще. В определений глагольных принадлежностей он показал чрезвычайно сбивчивые понятия. То же видим в названиях звуков. Г. Гильфердинг называет звуки д и т зубными, между тем как другие (также произвольно) называют их язычными; звуки ч и ж он называет нёбными, между тем как ясно, что в произношении их нёбо нисколько не участвует. (Мы думаем, с своей стороны, что все согласные звуки должно разделить на губные, произносимые губами, наружным органом рта, без помощи языка, и язычные, произносимые внутренними органами рта с помощью языка, что язычные должно подразделить на нёбные, произносимые языком н нёбом, куда относятся так называемые гортанные, плавные и язычные, и зубные, произносимые языком и зубами, куда относятся так называемые шипящие. шепелеватые, свистящие: закон органических противоположностей ясно выказывается здесь.) Г. Гильфердинг не оставил еще старого обыкновения звуки называть буквами. Организм языка должен быть светильником на пути сравнительно-исторических исследований.
2) Изучить отдельные языки, которые он желает сравнивать, прежде, нежели выводить об отношении их между собою общие и положительные результаты.
3) Брать для сравнения слова из живой речи, где они только и имеют свой смысл, а не из лексиконов. Учиться языку по лексикону все равно, что по азбучному списку собственных имен учиться географии. Притом должно делать различие и в самых памятниках. Например, г. Гильфердинг берет славянские слова из Миклошича и пишет връхъ, дръзати, а не врьх, дрьзати, как эти слова пишутся в Остромировом Евангелии, самом важном памятнике языка славянского, откуда их и следовало брать.
При таких условиях мы вполне надеемся, что г. Гильфердинг с своими дарованиями и трудолюбием принесет несомненную пользу сравнительно-историческому языкознанию.
Комнатная магия или увеселительные фокусы и опыты, основанные на физике и химии. Сочинение Г. Ф. Амарантова
Москва. 1854.
Умеете ли вы «переносить воду в решете?» Если не умеете. «Комнатная магия» научит вас этому.
«Стоит только накрыть верх решета гладкою доскою (мы прибавим: еще вернее достигнете вы цели, если крепко обтянете верх решета полотном, а потом уже на полотно положите доску) и придерживать полотно, так чтобы воздух не мог проходить. Если погрузить таким образом накрытое решето в воду и, когда оно наполнится, опять вынуть (опять прибавим; погружать ре-
шгто надобно боком, а вынимать его не наклоняя на бок), то ьода, в нем находящаяся, не будет вытекать до тех пор, пока не отнимется доска. Это объясняется тем, что воздух, давя снизу, препятствует выходу воды, потому что присутствием доски отстраняется противодействующее давление снизу».
Из этого видно: 1) что опыты и фокусы изложены в «Комнатной магии» не совсем полно: 2) что они действительно основаны на физике и химии, а не на проворстве рук, и потому удобоисполнимы для каждого желающего ими заняться: 3) что поэтому взрослые и не взрослые дети могут довольно забавно проводить время при помощи «Комнатной магии»; 4) что г. Амарантов имеет похвальное стремление объяснять загадочные явления.
Умеете ли вы «заставить среди зимы расцвесть в комнате ветвь, срубленную в саду и замерзшую?» Ни вопроса этого, ни ответа на него в «Комнатной магии» мы не нашли; в сотнях других подобных книжек вы найдете следующий ответ: посадите
замерзшую ветвь в наполненное известью и водою ведро, и она распустится и расцветет в несколько часоп.
Из этого видно: 1) что далеко не все фокусы помещены в «Комнатной магии», 2) что, имея под руками несколько подобных книжек, можно давать удовлетворительные ответы и на такие вопросы, которых нет в «Комнатной магии».
Итак, предполагая, что у любителя подобных задач есть достаточный запас книг, мы попросим его дать отв т на следующий вопрос: на-днях вышла книжка под заглавием
Пелзая любовь. Повесть. Сочинение А. К-ва. Москва. 1854
Повесть эта очень плоха, плоха так, как нельзя больше. В ней два злодея, из которых одного, для эффекта, зовут Жуком; есть два эпизодические рассказа, написанные явно с целью соперничать с «повестью о капитане Копейкине», даже подобно ей напечатанные с особым заглавием; вот образцы их:
«Столоначальник и говорит: это, говорит, не так написано; говорит: надо вот так и так; тут вот, говорит, написано то, а надо вот то, и прочее, в этом роде, понимаете…»
«Вхожу в переднюю-с. Там лакеище этакой неподвижный, знаете, мурлястый такой, хватистый, грузный из себя. Кого вам? говорит. — Я говорю: барышню вот, говорю, платок отдать».
Есть добродетельный чудак, есть соблазнитель, есть преступный старик, есть яд, даже два раза, есть — что всего ужаснее — страшный юмор… одним словом, читатель, вероятно, уж убедился в качествах «Первой любви». Итак, предлагается следующая задача:
«Как сделать, чтобы книжка, заключающая в своей обертке «Первую любовь», была редким и замечательным явлением в литературе?»
Не правда ли, это кажется невозможно? А между тем это уж сделано — на основании химии, на основании физики или на» основании чего-нибудь другого, это пока все равно, но это сделано. Каким же образом? вот каким:
«Первая любовь» есть редкое и замечательное явление в литературе, потому что. если не считать серобумажных романов, подобных «Бриллиантовой луне» и «Любви и верности», эта книжка есть единственная русская книжка, содержащая в себе беллетристическое русское произведение, появившееся в течение более нежели полугода.
Теперь остается разрешить только 'вопрос: каким образом русская литература в течение более нежели полугода могла произвести только одну книжку беллетристического содержания?
Для многих ответ затруднителен; а для многих вовсе незатруднителен: «толстые журналы поглотили всю нашу беллетристику». Но почему же не поглощали прежде?
<ИЗ № 12 «СОВРЕМЕННИКАМ
Учебник русской словесности. Часть первая — теооия для арелних учеЬных заведений. А. Охотина. Спб. 1849. Учебна к русской слове снести. Чисть 1і—испория, для хондукн. орских. классов первою штурманского полу-экипажа.
А. Охотина. Л ронштидт. 1854.
Всего похвальнее в г. Охотине его скромность. Назначив первую часть своего учебника, изданную еще в 1849 году, для всех средних учебных заведений, в настоящее время он сам добровольно отказался от такого назначения своей книги и вторую часть уже назначил только для кондукторских классов первого штурманского полу-экипажа, где книга его должна занимать место записок. Только с этой точки зрения она и может иметь какое-нибудь значение и принести ту пользу, что ученики не будут обременены переписыванием своих уроков. Но как учитель должен знать свое дело, так и записки его должны быть согласны с современным состоянием науки и с целью воспитания юнэ-. шества. Теория г. Охотина есть не что инее, как сокращенный и изуродованный курс Чистякова. Прежде всего бросается в глаза чрезвычайная отсталость научных понятий. Автор, например, хочет излагать теорию русской словесности, предполагая, вероятно, что есть' особенная теория французской, немецкой словесности и т. д. В понятиях своих о поэзии г. Охогин живет еще в то блаженное время, когда поэзией называли стихотворство: поэтому роман, повесть отнесены им к разряду исторических сочинений. Все, что не написано стихами, он называет прозою и определяет ее таким образом: «Если в сочинении исследования ума, или желания, оживленные чувством, излагаются по способу разговорной речи, без соблюдения музыкального размера в речениях (предложениях), в порядке, соответствующем внутреннему развитию чувств, мыслей и желаний, то такое сочинение обыкновенно называется прозою». Особенно искусен г. Охотин в определениях, например: «полное, разнообразное, правильное и связное словесно-письменное изложение мыслей, желаний и чувствований касательно какого-либо предмета вещественной природы, или духовной называется сочинением». Эпическую поэзию он называет стихотворным повествованием о какой-либо эпохе исторического быта целого народа, общества или лица, с очаровательными фантастическими вымыслами чудесного. А вот еще оригинальный способ определений: «поэма героическая — например, Россиада Хераскова»; «романтическая поэма — напр., Душенька Богдановича». Хотя теория г. Охотина и не поэма, однакож, и в ней встречаются фантастические вымыслы чудесного, напр.: «многие глазомером определяют верно музыкальное отношение тонов, их гармонию, мелодию, стихи и речи». Понятия об эстетической деятельности души перепутаны: то она отнесена к сфере чувства, то представляется как совокупность всех сил души. Также изящная словесность на стр. 44-й отнесена к звуковым искусствам (т. е. к музыке!), на стр. 45-й представляется как соединение пластики и музыки. В статье о слоге г. Охотин в пример ошибок приводит образцовые места из лучших писателей; напр., в следующих стихах Пушкина он видит излишнее многословие:
Смотрит храбрый князь И чудо видит пред собою:
Найду ли краски и слова? —
Пред ним живая голова.
Он находит странный-недостаток в повторении союза что в «Полтаве» Пушкина — в известной характеристике Мазепы. И, напротив, ему очень нравится повторение одного и того же слова в стихах Державина:
Зовет меня, зовет твой стон,
Зовет и к гробу приближает.
Не мудрено, что подобные теории в людях, не призванных к развитию науки, но и не лишенных здравого смысла, порождают сомнение в самой возможности существования теории.
«История» г. Охотина есть сухой перечень имен и заглавий. Изучение каждой науки учащимися должно содействовать их воспитанию. История литературы более многих других наук заключает в себе такого воспитывающего элемента. Напротив, г. Охотин думает, что все достоинство учебной истории словесности состоит в том, чтобы она содержала в себе как можно более имен. Поэтому в историю русской литературы входят у него: География Арсеньева, История Смарагдова, неизвестное сочинение купца
Вавилова о торговле, Фармакодинамика Горянинова, Руководство к сочинению писем и деловых бумаг Наливкина и т. д., и т. Д-Характеристики писателей состоят более в общих местах, без примеров, без разборов. А встречаются и такие характеристики: «самый быт народа с его причудами сделался уже предметом сатиры (Кантемир)». Г. Охотин, отыскивающий ошибки в прекрасных стихах Пушкина, говорит, что «Наука о стихотворстве» Боало и «Езда в остров любви» приобрели Тредьяковскому справедливое уважение современников и потомства». Подобно покойной истории Кайданова, история литературы г. Охотина постоянно имеет тон похвальной речи. Без выписок из послужных списков также никак нельзя было обойтись.
Доказывая пользу теории и истории словесности, г. Охотин приводит в пример образцовых писателей (Пушкина и Булгарина), которые «глубоким изучением народной речи теоретически и исторически сообщили прекрасные качества своим сочинениям, которыми восхищаются все образованные читатели». Но самого г. Охотина теория и история словесности плохо выучили выражаться* по-русски. Не угодно ли понять следующее место: «только ’ сведующие в теории и истории ощущают высокое наслаждение при чтении прекрасных сочинений, и, когда сами владеют исправно благозвучным: гибким и сильным русским языком, для выяснения внутренней жизни своего духа». С знаками препинания г. Охотин никак не может сладить и потому беспрестанно ставит тире, от чего во многих местах также происходит неясность. Встречаются и фигурные выражения, напоминающие также блаженной памяти Кайданова, например: «Выражение бывает приятно, если оно пробуждает в нас сладостный трепет сердца. Для сего необходимо употреблять слова и целые речения в сочинении совершенно равносильные понятиям ума, чувствованиям сердца и представлениям воображения и располагать их с такою отчетливостью, чтобы частные (?) предложения к главному относились, как блестящие лучи к своему светлому солнцу».
Имя г. Охотина известно (по крайней мере, пишущему эти строки) еще «Уроками из русской грамматики» (Спб. 1842). В этих «Уроках» мы не находим учения о частных предложениях; зато находим, например, что предложение есть «речь, выражающая кратко и внятно (?) мысль, или суждение о предмете», и тому подобные очаровательные фантастические вымыслы чудесного.
18 5 5 КРИТИКА
СОЧИНЕНИЯ ПУШКИНА
с приложением материалов для его биог афии, портрета, снимков с его почерка н его рисунков и проч. Издание П. В. Анненкова.
Спб. 18551.
СТАТЬЯ ПЕРВАЯ
Нетерпеливое ожидание, настоятельная потребность рѵсской публики наконец удовлетворяется. Два первые тома нового издания творений великого нашего поэта явились в свет; остальные томы скоро последуют за ними.
Событиями, радостными для всех образованных людей русской земли, ознаменовано начало 1855 года: в одной сто ице— юбилей Московского университета, столь много участвовавшего в распространении просвещения, столь много содействовавшего развитию науки в России2; в другой столице — достойное издание творений великого писателя, имевшего такое ваияние на образование всей русской публики — какие торжелва для русской науки и литературы!
Вполне понимая всю важность такого события, как издание сочинений Пушкина, спешим отдать о н м отчет пуб'ике.
Мы не будем говорить о значении Пѵшкина в истории нашего общественного развития и нашей литератѵры: не бѵдем и рассматривать с эстетической точки зрения существенные качества его произведений. Насколько то во^м^жно для настоящего времени, историческое значение Пушкина и художественное достоинство его творений уж оценено и публикою и критикою 3. Пройдут годы, прежде нежели другие литературные явления изменят настоящие понятия публики о поэте, который навсегда останется великим. Потому пройдут годы пр ж е нжели критика будет в состоянии сказать о его творениях чго-нибѵдь новое. Мы можем теперь только изучать личность и деятельность П. шкина на основании данных, представляемых новым изданием.
Мы не будем обращать внимания и на неизбежные недостатки нового издания. Мы можем говорить только о том. что дает нам издатель, и до какой степени удовлетворительно исполняет он то, что мог исполнить.
Итак, прежде всего скажем о системе и границах нов го издания.
Основанием ему послужило посмертное издание «Сочинений Александра Пушкина» в 11 томах 4 Но это посмертное издание, как известно, было сделано небрежно, по дѵр'ной системе, с пропусками многих произведений, с неправильностями в тексте, с произвольным и часто ошибочным расположением произведений по рубрикам, которые только затр дчяли из ченте и самых сочинений и постепенного развития гения Пушкина Потому обязанностью г. Анненкова было исправление недостатков в новом издании Б. Он говорит об этом так:
Первою заботой новогг издания должно было сделаться исправление текста издания предшествующего; ио это, по важности задачи, не могло произойти иначе, как г представлением доказательств на право поправки или изменения. Отсюда система примечаний допущенная в настоящее издание. Каждое из произведений поэта без исключения, снабжено указанием, где впервые оно явилось, какие варианты получило в других редакциях при жизни поэта и в каком отношении с текстом этих редакний находится т» кст нового издания. Читатель имеет, таким образом, по возможности, историю внешних и, отчасти, внутренних изменении, изученных в разные эпохи каждым произведением, и по ней может исправить недосмотры посмертного издания, из коих наиболее яркие исправлены уже и издателем предлагаемого собрания сочинений Пушкина. Многие из стихотворений и статей поэта (особенно те, которые явились в печати после смерти его) сличены с рукописями и по ним указаны числовые пометки автора, его первые мысли и намерения. (Предисловие к II тому.)
За исправлением текста последовало дополнение его: издатель воспользовался всеми указаниями о пропущенных в посмертном издании произведениях Пушкина, когда-либо напечатанных, пересмотрел все альманахи и журналы, в которых П>шкин помещал свои стихотворения и статьи; но этим не ограничились пополнения: в распоряжение издателя поступили в: е бумаги, оставшиеся после Пушкина, и он извлек из ни< все, что еще оставалось неизвестным публике. Наконец, к библиографическим примечаниям и вариантам, о которых говорили мы выше, прибавил он везде, где мог, объяснение случаев и поводов, по которым было написано известное произведение.
Вместо прежнего спутанного и произвольного разделения по мелким и неточным рубрикам, составлявшего один из существенных недостатков посмертного издания, принял он строгий хронологический порядок, с распреде. е исм произведений по немногим отделам, которые приняты во всех лучших европейских изданиях классических писателей и указываются удобством для читателей, эстетическими понятиями и сущностью дела:
I. Стихотворения. Отдел первый — лирические, отдел второй — эпические, отдел третий — драматические произведения.
II. Проза. Отдел первый — Записки Пушкина: а) Родословная Пушкиных и Ганнибаловых; Ь) Остатки записок Пушкина в строгом смысле (автобиографических); с) Мысли и замечания; d) Критические заметки; е) Анекдоты, собранные Пушкиным; О Путешествие в Арзрум. Отдел второй — романы и повести (здесь же и «Сцены из рыцарских времен») — Отдел третий — журнальные статьи, напечатанные в посмертном издании и напечатанные в журналах, но не вошедшие в посмертное издание (одиннадцать статей). Отдел четвертый — История Пугачевского бунта с приложениями и не вошедшею в посмертное издание антикритическою статьею по поводу этого сочинения.
Затем (говорит издатель) в рукописях Пушкина отыскано множество отрывков, как стихотворных, так и прозаических, некоторое число небольших пьес н продолжения или дополнения его произведений. Все эти остатки помещены в «Материалах для биографии Александра Сергеевича Пушкина» и в приложениях к ним.
Объяснив таким образом порядок и систему, положенные в основание нового Сборника, издатель нисколько не скрывает от себя, что найдется еще много упущений и недосмотров как в примечаниях к произведениям нашего автора, так и в других отношениях. Со всем тем издатель смеет питать надежду, что при системе, взятой для нового издания, всякая поправка сведущей и благонамеренной критики скорее может быть приложена к делу, чем прежде. Арена для библиографической, филологической и исторической критики открыта. Общим действием людей опытных и добросовестных ускорится время издания сочинений народного писателя нашего вполне удовлетворительным образом. (Предисловие к II тому.)
Критика нового издания должна согласиться с этою скромною и беспристрастною его оценкою, данною самим издателем. Оно лучшее издание, какое могло быть сделано в настоящее время; недостатки его неизбежны, достоинства его — огромны, и вся русская публика будет благодарна за них издателю.
Из вышедших двух первых томов нового издания первый заключает в себе «Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина» с его портретом (гравиров. Уткиным в 1838 году) и следующими приложениями: 1) Родословная А. С. Пушкина;
2) Сказки (три) Арины Родионовны, записанные Пушкиным;
3) Французские письма (два) Пушкина по поводу «Бориса Годунова»; 4) и 3) Последние минуты Пушкина, описанные Жуковским, и выписка из биографии Пушкина, составленной г. Банты-шем-Каменским; 6) Пушкинский перевод XXIII песни Ариостова «Orlando Furioso» 6 (строфы 100–112); 7) Дополнительные октавы к повести «Домик в Коломне» (15 октав); 8) Продолжение повести «Рославлев»; 9) Замечания на Слово о Полку Игореве. Второе, третье, шестое, седьмое, восьмое и девятое приложения в первый раз являются в печати. Наконец, к этому тому прило-
жены семь fac-simile Пушкина: 1) Почерк его в 1815 г., 2) почерк его в 1821 г., 3) листок из тетради, содержащий первый оригинал «Полтавы», 4) тот же листок, начисто переписанный, 5) рисунок с последней страницы сказки: «Купец Остолоп», 6) рисунок, сделанный Пушкиным при повести «Домик в Коломне», 7) проект заглавного листа для драм и драматических отрывков. Эти снимки исполнены прекрасно.
Второй том заключает лирические стихотворения Пушкина с 1814 по 1830 год (включительно) с примечаниями издателя.
Прежде, нежели займемся подробным рассмотрением изданных томов, скажем несколько слов о внешнем виде издания. Формат его — большое in-octavo, несколько более формата наших журналов. Шрифт текста очень удобный для чтения, крупный и убористый. Сообразно формату, томы имеют приличную полноту— более тридцати печатных листов каждый; так что вообще внешний вид издания должно назвать приличным и удовлетворительным.
Переходим к рассмотрению содержания изданных томов и, во-первых, к изучению «Материалов для биографии Александра Сергеевича Пушкина», составленных издателем, г. П. В. Анненковым, и занимающих первый том.
Значение и достоинства биографии А. С. Пушкина, составленной г. Анненковым, полнее будет выказываться самым изучением ее содержания, которое представляют наши статьи; теперь же скажем о ее характере только несколько слов. Это первый труд, который надлежащим образом удовлетворяет столь сильно развившемуся в последнее время стремлению русской публики познакомиться с личностями деятелей русской литературы и образованности. Потребность эта уже вызвала довольно много монографий, отличающихся основательностью и подробностью библиографических и биографических исследований 7. Публика приняла эти первые опыты с живым сочувствием, но не могла не видеть в них важных недостатков. Как и всякое новое направление, стремление к подробным и точным исследованиям отечественной литературы было неумеренно в своих проявлениях. Каждая личность, почему-нибудь обращавшая на себя внимание трудолюбивых изыскателей, казалась им необыкновенно важною, заслуживающею самых подробных трактаций; каждый новый факт, ими отысканный, им казался чрезвычайно интересным для всей публики, как бы мелочен в сущности ни был. Потому все монографии, являвшиеся в последнее время, страдали важными недостатками и по содержанию и по форме. Растерявшись во множестве мелочных подробностей, каждый автор был не в силах обработать предмет с общей точки зрения и обременял свою статью бесчис-' ленными библиографическими подробностями, среди которых утомленный читатель совершенно запутывался; вместо цельных
трудов давались публике отрывки черновых работ, со всеми мелочными сличениями букв и стихов, среди которых или тонула, или принимала несвойственные ей размеры всякая общая мысль. Одним словом, вместо исследований о замечательных явлениях литературы представлялись публике отрывочные изыскания о маловажных фактах; вместо ученого тр да в его окончательной форме представлялся весь необозримый для читателя процесс механической предварительной работы, которая только должна служить основанием для картины и выво юв, из нее возникающих. Не такова биография Пушкина, которую будет читать русская публика при новом издании его творений. Она говорит не о какой-нибудь темной личности, которая привлекла внимание исследователя только потому, что была забыта, но забыта была только потому, что не заслуживала внимания потомства. Творения Пушкина, создавшие новую русскѵю литературу, образовавшие новую русскую публику, будут жить вечно, вместе с ними незабвенною навеки останется личность Пушкина Важный труд, который знакомит нас с нею, представляется г Анненковым в совершенно обработанной литературной форме. Кропотливая мелочная работа сличений и поисков, ему предшествовавшая, не выставляется на первом плане, затемняя для читателя черты великого писателя и его трудов; исследователь дает нам завершенную картину жизни и творчества Пушкина Сли 'ен ія годов, букв и отдельных стихов отнесены в примечания, если нужно для полноты; составитель биографии дал читателям не черновые свои бумаги, а жизнеописание, возведенное окончательною обработкою к форме литературного произведения. Его работа должна послужить для наших исследователей истории литературы образцом биографий.
Приступим же к ее изучению, чтобы ближе познакомиться с Пушкиным. Не будем при этом утомлять читателей сличением материалов, представляемых г. Анненковым, с прежним «статьями и отрывками о жизни Пушкина, разбросанными по журналам, потому что все эти отрывки теряют теперь свою важность. Мы коснемся этого впоследствии — и то в таком только случае, если откроем в труде г. Анненкова какое-либо значительное упущение, которое будем в состоянии пополнить с помощью новых материалов.
О детстве и лицейских годах жизни Пушкина было в последнее время сообщено русской публике много сведений; потому не будем долго останавливаться на этом периоде и передадим читателям только немногие из интересных подробностей, представляемых новою биографиею.
‘ Многие черты в характере Александра Сергеевича перешли к нему по наследству от Сергея Львовича. Отец поэта был бле-"стящий, остроумный, неистощимый собеседник и с увлечением предавался удовольствиям общества: беззаботность его характера доходила до рассеянности, о которой г. Анненков приводит два
анекдота. Однажды Сергей Львович, любивший, сидя у камелька, мешать огонь, явился на развод с обгорелою тростью и, получив за это от начальника замечание; «уж вам бы, г поручик, лучше явиться с кочергою на ученье», жалова ся потом жене на тяжесть военной службы. В другой раз, отправляясь на придворный бал, он позабыл перчатки и потому не мог танцовать. Из анекдотов о его остроумных ответах приведем следующий. Какая-то очень полная иностранка вэдѵмала в насмешку спросить его: «правда ли, mr. Пушкин, что вы русские, людоеды и едите медведей?» «Нет, madame, отвечал Сергей Львович: мы едим коров, как, например’, вы».
До семи лет А. С. Пушкин своею вялостью, тучностью, неповоротливостью, неподвижностью приводил в отчаяние родных; потому от него не ожидали ничего в будущем; потому даже не # столько ласкали его, как сестрѵ и младшего брата. Учился он плохо, надеясь на свою огромную память, повторял уроки за сестрой, когда ее спрашивали прежде, и не мог ничего отвечать, когда спрашивали его первым Но с девятого года развилась у него страсть к чтению; он день и ночь проводил в библиотеке отца, наполненной французскими писателями XVII и XVIII столетий. Скоро пробудилась у него и страсть к авторству. Все его воспитание было ведено на французском языке; отец поэта писал множество легких французских стихов для развлечения в обществе; потому и молодой Пушкин начал писать не по-русски, а по-французски. Сначала импровизировал он комедии в мольеров-ском роде, потом задумал шутливую поэму в 6 песнях, описывавшую битвы карликов и карлиц — она была сожжена обидевшимся автором, когда учитель расхохотался, прочитав первые страницы-но начало поэмы сохранилось в памяти читавших:
Je chante се combat, que Toly remporta Oü maip' guerrier pënt ou Paul —.ignala,
Nicolas Maturin et la belle Nitouche.
Dom la main fut le prix rl’une horrible éscarmouche 8.
Вот первые стихи, оставшиеся нам от детства Пушкина. Ему в это время могло быть около десяти лет. Французские стихотворения продолжал он писать и в Лицее. Следы приобретенной! в детстве привычки писать и думать по-французски остались* в Пушкине на всю жизнь; из множества примеров, находимых в «Материалах», приведем некоторые. Не говорим уж о том, чтб часто Пушкин писал к родным своим французские письма (Сергей Львович выражает свое радостное согласие на брак сына также французским письмом); еще замечательнее то, что в русских письмах, даже в заметках, набросанных в черновых тетрадях для памяти, Пушкин беспрестанно перемешивает русские фразы с французскими. Г. Анненков говорит:
В беглых заметках, нэписанных для себя наскоро, чудно мешаются у него оба языка, смотря по тому, как пришел первый на мысль… Почти нет
заметки в его бумагах без галлицизмов и французских фраз. Вот, например, замечательный образец этого смешения: «Главная прелесть романов W. Scot состоит в том, что мы знакомимся с прошедшим временем не с enflure фр. трагедии, не с чопорностью чувствительных романов, не с dignité истории, но современно, но домашним образом. Они не походят, как герои французские, на холопей, передразнивающих Іа dignité et Іа noblesse. Ils sont familiers dans les circonstances ordinaircs de!a vie, leor parole n'a rien d'affecté de théâtral, mème dans les circonstances sclennelles, cat les grandes circonstances leur sont familières3…» Пушкин сознавался, что писать по-русски все-таки труд.
Приготовляя заметки, из которых хотел составить предисловие к «Борису Годунову», он набрасывает их по-французски10. Написав стихотворение «Обвал», он объясняет его заглавие в черновой тетради, прибазляя в скобках «Avalanche».
Все это служит лучшим доказательством, что в ком сильна народная стихия, в том никакие иноземные влияния не подавят ее. Но, несмотря на французское воспитание, несмотря на то, что в кругу родных его говорилось преимущественно по-французски, Пушкин, как известно, уже в детстве был окружен элементом народности; известно, что главною представительницею этого влияния была няня его, знаменитая Арина Родионовна, которую потом прославил он в дивных, проникнутых любовью, строфах и. Беспредельная привязанность ее к своему питомцу слишком хорошо известна; но и всему семейству Пушкиных она была необыкновенно предана. Когда, продавая село Кобрино, к которому была приписана Арина Родионовна, Пушкины давали ей отпускную, вместе с ее двумя сыновьями и двумя дочерьми, она не хотела отойти на волю; потом, когда Пушкины хотели выкупить семейство ее дочери, Марьи, вышедшей за крестьянина села Захарова, Арина Родионовна снова не согласилась, говоря: «Я сама была крестьянка; на что ей вольная!» Известно, что от нее Александр Сергеевич узнал большую часть сказок и песен, которых знал так много, слушая ее, проникся он духом народного языка. В 1824 году он пишет из деревни: «Знаешь ли мои занятия? До обеда пишу записки, обедаю поздно, после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки!» 12 В тетрадях Пушкина г. Анненков нашел семь сказок, бегло записанных со слов няни. Из них три были потом пересказаны им в стихах, четвертая послужила для Жуковского основою сказки о царе Берендее |3. Три (о царе Салтане, о Берендее, о купце Остолопе и Балде) напечатаны г. Анненковым в числе приложений к биографии. Вот, между прочим, в каких словах записана у Пушкина присказка, из которой произошли знаменитые сгихи предисловия, прибавленного ко второму изданию «Руслана и Людмилы» 14:
У Лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том;
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом:
Идет направо — песнь заводит.
Налево — сказку говорит.
«У моря-лукоморья стоит дуб, и на том дубу золотые цепи, а по тем цепям ходит кот; вверх идет — сказки сказывает, вниз идет — песни поет». Нет надобности говорить, что Пушкин в своих стихотворных переделках сильно изменял подробности, то отбрасывая, то прибавляя новые. От этих переделанных сказок (о царе Салтане и проч.) к превосходно воссозданной в истинно народном духе сказке «О рыбаке и рыбке» переход составляют два отрывка других, переложенные в стихи очень близко и остававшиеся забытыми в бумагах Пушкина. Г. Анненков напечатал их в своих «Материалах». Вот начало первой сказки, о том, как мужик убил медведицу и взял ее медвежат:
Как весенней теплой порою.
Из-под утренней белой зорюшки Что из лесу, лесу дремучего Выходила медведица С малыми детушками медвежатами,
Поиграть, погулять, себя показать, и т. д.15
Но Пушкин знакомился с народными сказками и песнями не по одним только рассказам своей няни — проникнувшись любовью к народности, он и сам входил в простонародные кружки, подслушивая там язык и песни. В 1825 г., проводив до Пскова своих деревенских соседей, он — '
время пребывания во Пскове посвятил тому, что занимало теперь преимущественно его мысли — изучению народной жизни. Он изыскивал средства для отыскания живой народной речи в самом ее источнике; ходил по базарам, терся, что называется, между людьми, и весьма почтенные люди города видели его переодетым в мещанский костюм, в котором он даже раз явился в один из почетных домов Пскова. Не удивительно после того, что П. В. Киреевский. в предисловии к своему «Собранию народных песен», говорит:
«А. С. Пушкин доставил мне замечательную тетрадь песен, собранных им в Псковской губернии». Пушкин владел значительным количеством памятников народного языка, добытых собственным трудом |6.
В тетрадях 1830 г. Анненков нашел записанными «народные пословицы, фразы и термины старой нашей литературы», которые и сообщает в своих «Материалах» 17. Чтобы в_ одном месте собрать все относящееся к этому предмету, приведем и понятие самого Пушкина о том, в чем состоит народность произведений литературы. Заметка его об этом не окончена, но существенный — ^ смысл его мнения ясен и совершенно справедливо выводится г. Анненковым из тех строк, которые Пушкин успел написать |8:
«С некоторого времени у нас вошло в обыкновение говорить о народности… Но никто не думал определить, что разумеет он под словом народность. Один из наших критиков, кажется, полагает, что народность состоит в выборе предметов из отечественной истории 19 Другие видят народность в словах, оборотах, выражениях, т. е. радуются тому, что, изъясняясь по-русски,
употребляют русские выражения. Народность в писателе есть достоинство, которое вполне может быть оценено одними соотечественниками: для других оно не существует, или даже может показаться пороком. Ученый немец20 негодует на учтивость героев Расина; француз21 смеется, видя в Кальдероне — Кориона 22. вызывающего на дѵэль своего противника, и порч Все это однакож носит печать народности Есть образ мыслей и чувствований, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу. Климат, образ жизни, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается и а поэзии. В России…» Пушкин не докончил своей заметки fприбавляет I. Анненков), но легко видеть, «то народность он полагал естественным, природным качеством всякого истинно замечательного писателя. Только посредственный талант или выбравший ложную почву деятельности ненароден, потому что заимствует нли подделывает свой взгляд, чувство, язык»23.
Скольким людям, толкующим ныне о народности, нужно посоветовать вникнуть в смысл заметки Пушкина, набросанной двадцать пять лет тому назад, при самом начале этих толков.
Соединив в кратком извлечении данные, представляемые «Материалами» г. Анненкова относительно двух важнейших стихий, участвовавших в первоначальном образовании поэтического характера Пушкина — относительно французского воспитания с одной стороны, русского [народного! элемента, с другой, постараемся, хотя кратко, проследить сведения о жизни Пушкина, доставляемые этою биографиею.
Мы уже сказали, что не будем останавливаться на годах, проведенных в Лицее, потому что этот период подробно известен русской публике; но приведем из записок шестнадцатилетнего поэта отрывок, сохранивший воспоминание о его юношеской вероятно первой, любви, и первоначальную редакцию тех строф «Евгения Онегина» (глава VIII), в которых Пушкин вспоминает о своей лицейской жизни.
«29-го (какого же месяца? быть может, декабря 1815 г., потому что предыдущие выписки у г. Анненкова относятся к 10 декабря, а тетрадь принадлежит, по всей вероятности, к 1815 году).
И так я счастлив был, и гак я наслаждался,
Отрадой тихою, восторгом упивался!..
И где веселья быстрый день?
Промчались лётом сновиденья,
Увяла прелесть наслажденья,
И снова вкруг меня угрюмой скуки тень!..
«Я счастлив был! нет, я вчера не был счастлив; поутру я мучился ожиданьем, стоя notf окошком, смотрел на снежную дорогу — ее не было видно! Наконец я потерял надежду — вдруг нечаянно встречаюсь с нею на лестнице… сладкая минута!
Он пел любовь, но был печален глас.
Увы, он знал любви одну лишь муку!
Жуковский.
«Как она мила была! Как черное платье пристало к милой Б. (фамилия была написана вполне, но потом все буквы, кроме первой, зачеркнуты, как видим на fac-simile итого отрывка, приложенном к биографии).
Я был счастлив 5 минут!» 24
Вот отрывок из «Евгения Онегина» в его первобытном виде;
I
В те дни, когда в садах Лицея Я безмятежно оасцветал,
Читал охотно Елисея 925,
А Цицерона проклинал:
В те дни, как я поэме редкой Не предпочел бы мячик меткой,
Считал схоластику за вздор И прыгал в сад через забор;
Когда порой бывал прилежен,
Порой ленив, порой упрям,
Порой лукав, порою прям,
Порой смирен, порой мятежен,
Порой печален, молчалив.
Порой сердечно говорлив;
II
Когда в забвеньи перед классом Порой терял я взор и слух,
И говорить старался басом,
И стриг над губой первый пух, —
В те дни… в те дни, когда впервые Заметил я черты живые Прелестной девы, и любовь Младую взволновала кровь,
И я, тоскуя безнадежно,
Томясь обманом пылких снов,
Везде искал ее следов,
О ней задумывался нежно,
Весь день минутной встречи ждал,
И счастье тайных мук узнал.
Последняя половина второй строфы относится, быть может, к той самой страсти, о которой говорит отрывок записок, сейчас нами представленный.
По выходе из Лицея, Пушкин, как известно, увлекся удовольствиями молодости, развлечениями света и кружка друзей. Крепкое здоровье его не могло вынесть изнурительного образа жизни, и через восемь месяцев после выпуска он вытерпел сильную горячку (в феврале 1818 года). По выздоровлении он вновь предался «водовороту», его уносившему, как выражается г. Анненков. Как рассеянна была его жизнь в первые два года после того, как он остался распорядителем своих действий, лучше всего свидетельствует обстоятельство, что в это время не вел он записок, которые начинаются только с приезда его в Крым (в 1820 г.). В Кишиневе и в Одессе Пушкин также вел жизнь рассеянную и даже позволял себе множество шалостей. Обо всем этом писано
было довольно много, потому здесь мы опять можем удовольствоваться немногими чертами. Свой эксцентрический костюм в Кишиневе сам Пушкин описывает на Онегине (в одной из неизданных строф):
Носил он русскую рубашку.
Платок шелковый кушаком,
Армяк татарский нараспашку,
И шапку с белым козырьком.
Но только сим убором чудным,
Безнравственным и безрассудным,
Была весьма огорчена Его соседка Дурина,
А с ней Мизинчиков. Евгений,
Быть может, толки презирал,
Быть может, и про них не знал:
Но всех своих обыкновений Не изменял в угоду им:
Зато был ближним нестерпим.
Из его приключений сообщим только одно: в 1822 году Пушкин пропал из Кишинева на несколько времени; он пристал к цыганскому табору, кочевал с ним, доходил до границ империи. Об этом свидетельствует отрывок из «Цыган», не попавший р поэму при ее издании:
За их ленивыми толпами В пустыне, праздный, я бродил,
Простую пищу нх делил И засыпал пред их огнями…
В походах медленных чобил Их песней радостные гулы,
И долго милой Мариулы Я имя нежное твердил26.
Пламенные поклонники поэта, тогда уже признанного великим, с ужасом смотря на такую растрату времени и сил, по их мнению пагубную для таланта, с укоризнами или горестью умоляли его покинуть шалости и развлечения, его недостойные, и все силы души обратить на славную деятельность, которой ждут от него все образованные русские. Одно из таких писем (на французском языке) уцелело в бумагах Пушкина, и г. Анненков сообщает его в переводе:
Когда видишь того, кто должен покорять сердца люден, раболепствующего перед обычаями и привычками толпы, человек останавливается посреди пути и спрашивает самого себя: почему преграждает мне дорогу тот, который впереди меня и которому следовало бы сделаться моим вожатым? Подобная мысль приходит мне в голову, когда я думаю о вас: а я думаю о вас много, даже до усталости. Позвольте же мне итти, сделайте милость. Если некогда вам узнавать требования наши, углубитесь в самого себя и в собственной груди почерпните огонь, который несомненно присутствует в каждой такой душе, как ваша 27.
Такие заботливые напоминовения (прибавляет г. Анненков) Пушкин получал со всех сторон, до самого 1830 года, с которого, как увидим, образ его жизни совершенно изменяется. Нельзя нс сочувствовать столь благородным и так прекрасно высказанным сожалениям и требованиям, какие видим в этом письме; но теперь мы знаем, что увлечения молодости, пагубные для натур слабых и односторонних, не повредили мощной и всесторонней натуре Пушкина — его гений развивался и мужал среди волнений юности, благодаря самым увлечениям жизни, и мы к нему более, чем ко всякому другому, можем отнести его же собственное восклицание:
Блажен, кто смолоду был молод! 28
Пушкин уехал из Петербурга автором «Руслана и Людмилы», возвратился в Петербург автором «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова» 29. Известно, что по возвращении на родину он до самой своей женитьбы увлекался, почти попрежнему, удовольствиями света и наслаждениями молодости всякий раз, как приезжал в Москву или Петербург, и неутомимо предавался труду всякий раз, когда уезжал в деревню. Потому переходим прямо к подробностям, какие сообщает биография о перемене характера, обнаружившейся во время двух последних (1829 г.) его пребываний в Москве до женитьбы. Большею частью останавливался он в доме П. В. Н — на 30.
Из слов П. В. Н — на можно видеть, как изменились привычки Пушкина, как страсть к светским развлечениям, к разноречивому говору многолюдства смягчилась в нем потребностями своего угла и семейной жизни. Пушкин казался домоседом. Целые дни проводил он а кругу домашних своего друга, на диване, с трубкой во рту и прислушиваясь к простому разговору, в котором дела хозяйственного быта стояли часто на первом плане. Надобны были даже усилия со стороны заботливого друга его, чтоб заставить Пушкина не прерывать своих знакомств, не скрываться от общества и выезжать. Пушкин следовал советам П. В. Н — на нехотя: так уже нужда отдохновения начинала превозмогать все другие склонности.
Однако прежняя беспокойная жажда внешнего разнообразия, прежняя тоска, производившая «охоту к перемене мест — весьма мучительное свойство», не совершенно еще исчезла в это время: начало 1830 года было занято планами путешествий: Пушкин задумывал съездить за границу, а когда этот проект не исполнился, просил позволения провожать в Китай нашу миссию31. Об этом осталось даже воспоминание в его стихах:
Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,
Куда б ни вздумали, готов за вами я Повсюду следовать, надменной убегая:
К подножью ли стены далекого Китая,
В кипящий ли Париж, туда ли наконец,
Где Тасса ие поет уже ночной гребец, и пр. 33
«Пушкин познакомился с семейством Н. Н. Гончаровой еще в 1828 году, когда будущей супруге его едва наступала шестнадцатая весна. Он был представлен ей на бале, и тогда же сказал, что участь его будет навеки связана с молодой особой, обратившей на себя общее внимание. Два года однакож
протекли для Пушкина в беспрерывных трудах и разъездах. В 1830 году прибытие части высочайшего двора в Москву оживило столицу и сделало ее средоточием веселий и празднеств. Наталья Николаевна принадлежала к тому созвездию красоты, которое в это время обращало внимание и, смеем сказать, удивление общества. Она участвовала во всех удовольствиях, которыми встретила древняя столица августейших своих посетителей, и между прочим в великолепных живых картинах, данных князем Д. В. Голицыным. Молва об ее красоте и успехах достигла Петербурга, где жил тогда Пушкин. По обыкновению своему, он стремительно уехал в Москву, не объяснив никому своих намерений, и возобновил прежние сбои искания. В самый день светлого христова воскресенья, 21 апреля 1830 года, он сделал предложение семейству Натальи Николаевны, которое и было принято»33.
После того отрадное спокойствие водворилось в душе Пушкина; оно, как замечает г. Анненков, отразилось и на его произведениях. Мы не можем приводить здесь всех подробностей и должны перейти к новым сведениям, какие мог сообщить г. Анненков о роковой дуэли.
Все попытки друзей отвратить удар остались тщетны. В самый день поединка они везли обоих противников чрез место публичного гулянья, несколько раз останавливались, роняли нарочно оружие, надеясь еще на благодетельное вмешательство общества; но все их усилия и намеки остались безуспешны. Только по окончании гулянья на Каменном острову, одна дама, знакомая Пушкину, получив известие, что видели его и г. Дантеса, торопившихся друг за другом и опоздавших на общее веселье, только она догадалась о событии н воскликнула с живым выражением страха: «Тут должно случиться несчастие. Поезжайте за ними». Но уже было поздно.
Пушкин был смертельно ранен выстрелом противника и несколько мгновений лежал без чувств на снегу. Поднявшись, он переменил пистолет, потребовал, чтобы противник, подбежавший к нему, возвратился опять на свое место и, собрав все силы, послал ему выстрел. Известно радостное восклицание Пушкина при виде упавшего соперника, легко пораженного им в руку. Мы упоминаем здесь об этом обстоятельстве, чтоб показать степень страсти, овладевшей всем существом его 34.
Радость была напрасна. Покамест противник садился в сани Пушкина и отправлялся домой, самого Пушкина переносили в карету, заранее приготовленную семейством его соперника на случай несчастия. Пушкин еще поглядел вслед удаляющегося врага н прибавил: «мы не все кончили с ним». Но уж все было кончено, и другой ряд более возвышенных и более достойных мыслей ожидал умирающего в дому его.
Последние минуты Пушкина, его кроткая разлука с жизнью, его нежная заботливость о супруге, его прощение всем клеветникам и врагам их обоих, известны каждому русскому из письма Жуковского 35. В заключение интересных подробностей о жизни Пушкина, заимствованных нами из труда г. Анненкова, повторим его слова, что лучшая биография поэта в его собственных произведениях, потому что у него постоянно живая связь между событиями жизни и произведениями; г. Анненков говорит, что едва ли найдется у Пушкина хотя одно лирическое произведение, которое не было бы вызвано действительною жизнью; происхождение большей части становится ясно по соображению «Материалов» и примечаний нового издания. «В его произведениях беспрестанно слышится живой голос события, и сквозь поэтнче-скую призму их беспрестанно мелькает настоящее происшествие. В разных местах нашего труда мы уж пояснили некоторые из его стихотворений чертами и анекдотами из жизни. Подобным комментариям, со временем, могут быть подвергнуты почти все лирические песни Пушкина». Точно так же и характер Пушкина лучше и полнее всего выразился в его произведениях, — эта удивительная многосторонность ума и сердца, которая дает право сказать о нем, как Баратынский сказал о Гёге:
Ничто не оставлено им
Под солнцем живым без привета;
На все отозвался он сердцем своим,
Что просит у сердца ответа JG.
«Из смешения противуположностей состоит весь поэтический облик Пушкина», говорит г. Анненков, высказав уже все, что мог сказать для раскрытия его характера; «как ни старались мы изложить в посильном описании необычайно подвижные черты его характера, но они не поддаются описанию и требуют, для объяснения и примирения своего, уже творческой кисти настоящего художника». Постараемся, однако, отметить некоторые особенности характера и привычек, особенно резко выступающие в «Материалах», собранных г. Анненковым.
Живость, пылкость, впечатлительность, способность увлекаться и увлекать, горячее сердце, жаждущее любви, жаждущее дружбы, способное привязываться к человеку всеми силами души, горячий темперамент, влекущий к жизни, к обществу, к удовольствиям и тревогам; нравственное здоровье, сообщающее всем привязанностям и наклонностям какую-то свежую роскошг ность н полноту, отнимающее у самых крайностей всю болезненность, у самых прихотей, которыми так обильна его молодость, всякую натянутость, побеждающее наконец всякие односторонние увлечения — эти черты в лице Пушкина ясны для всякого, кто читал его произведения, кто имеет хотя малейшее понятие о его жизни. Обратимся же к другим, с которыми знакомят нас «Материалы» г. Анненкова.
Как Пушкин считал нужным держать себя в свете, видим из советов, которые дает он младшему брату при его вступлении в общество. Многие из этих правил сам Пушкин старался соблюдать, другие нарушал иногда только по пылкости темперамента. Вот в переводе несколько отрывков из его французского письма:
Ты будешь в сношениях с людьми, тебе еще неизвестными; не суди о них по твоему сердцу, которое благородно и добро… Будь холоден со всеми… Фамильярность всегда вредна; но особенно остерегайся предаваться ей с людьми, которые выше тебя… Не принимай никогда благодеяний. Благодеяние почти всегда коварство. Не принимай протекции, потому что она унижает и подчиняет. Я посоветовал бы тебе не предаваться увлечениям дружбы, но не решаюсь леденить твоего сердца в возрасте нежных самообольщений… Если состояние не позволяет тебе жить блистательно, не старайся скрывать своей недостаточности. Скорее можно позволить себе противную крайность.
/Пред суровым цинизмом склоняется общее мнение, а мелкие уловки сует-,-ности делают человека смешным. Никогда не бери взаймы; скорее терпи /нужду. Знай, что она не так ужасна, как ее описывают, и далеко не та«//-.транша, как возможность быть нли показаться человеком нечестным37.
Проповедуя брату осторожность в обращении с людьми, Пушкин сам соблюдал ее, как человек истинно светский. Известно множество примеров того, как он был уклончив в разговоре, поставив себе правилом не противоречить резко высказанному мнению и, для избежания спора, отделываться уступчивыми фразами или переменять разговор. Говорят, что и с людьми близкими он часто находил нужным держать себя подобным образом. «Вообще, — говорит г. Анненков, — он любил закрывать себя и мысль свою шуткой или таким оборотом речи, который еще оставлял возможность сомнения для слушателей: вот почему весьма мало людей знали Пушкина, что называется, лицом к лицу». В замечании брату о том, что бедность вовсе не страшна, опять видны привычки самого Пушкина, который, при всей любви к комфорту, при всем желании блистать в обществе, любил простоту, будучи человеком истинно лучшего тона и в этом, как во всех остальных отношениях.
Вообще, Пушкин был очень прост во всем, что касалось собственно до внешней обстановки. Одевался он очень небрежно, заботясь преимущественно только о красоте длинных своих ногтей. Иметь простую комнату для литературных своих занятий было у него даже потребностью таланта и условием производительности. Он не любил картин, и голая серенькая комната давала ему более вдохновения, чем роскошный кабинет с эстампами, статуями и богатой мебелью, которые обыкновенно развлекали его. Он довольствовался незатейливым помещением в Демутовом трактире, где обыкновенно останавливался в приездах своих в Петербург. Вообще, привычки его были просты, но вкусы и наклонности уже не походили на них. Так, поздние обеды в Михайловском были довольно прихотливы, по собственному его свидетельству… Образ жизни его в деревне чрезвычайно напоминает жизнь Онегина (гл. IV, строфы 37–39, 44). Он также вставал очень рано и тотчас же отправлялся налегке к бегущей под горою речке и купался; зимой он, как и Онегин, садился в ванну со льдом перед завтраком… Если случалось оставаться ему одному дома без дела и гостей, Пушкин играл двумя шарами на бильярде сам с собой, а длинные зимние вечера проводил в беседах с няней Ариной Родионовной.
Несмотря на то, что Пушкин не был расточителен и получал довольно много денег за свои произведения, он почти постоянно. нуждался. Главнейшею причиною этого была беспечность, неаккуратность, неопытность в денежных делах. Можно указать и некоторые другие причины. Так, у него выходило очень много денег на книги; все письма его к брату наполнены списками книг, покупать которые поручалось ему. Карты также уносили много денег. Г. Анненков приводит из его записок следующие строки, интересные по своему простодушному тону:
15 октября 1827. Вчерашний день был для меня замечателен. Приехав в Боровичи, в 12 часов утра, застал я проезжающего в постели. Он метал банк гусарскому офицеру. Перед тем я обедал. При рдсплате не достало мне
5 рублей. Я поставил их на карту. Карта за картой, проиграл 1600 рублей. — Я расплатился довольно сердито, взял взаймы 200 рублен и уехал очень недоволен сам собой 38.
Но гораздо забавнее относящийся также к этой страсти анекдот, пересказываемый г. Анненковым со слов Гоголя. Гоголь, тотчас по приезде в Петербург (около 1829 года) м, еще не имея литературной известности, отправился знакомиться с великим поэтом, произведениями которого так восхищался еще в школе:
Чем ближе подходил он к квартире Пушкина, тем более овладевала им робость и, наконец, у самых дверей квартиры развилась до того, что он убежал в кондитерскую и потребовал рюмку ликеру. Подкрепленный им, он снова возвратился на приступ, смело позвонил и на вопрос свой: «дома ли хозяин», услыхал ответ слуги: «почивают!». Было уже поздно на дворе. Гоголь с великим участием спросил: «верно всю ночь работал?» — «Как же, работал! — отвечал слуга: —в картишки играл». Гоголь признавался, что это был первый удар, нанесенный школьной идеализации его. Он иначе не представлял себе Пушкина до тех пор, как окруженного постоянно облаком вдохновения.
Но главною причиною денежных затруднений Пушкина, повторяем, надобно считать его неаккуратность, беззаботность и неопытность в делах. Примеров ее в «Материалах» чрезвычайно много. Ограничимся несколькими. Задумав издать (первое) собрание своих стихотворений, он в разные времена дал, по забывчивости, трем лицам обещание продать это издание и с одного из них взял даже 1000 рублей задатка 40. Впрочем, забывчивость Пушкина извиняться может тем, что книжку эту собирался он издать в течение целых шести лет! Кроме того, он собирался печатать ее также и на собственный счет по подписке. Можно представить, сколько путаницы возникло с этими четырьмя претензиями, когда печатание книжки действительно началось. Такая же беспечная неопытность проявляется и в письмах его по случаю залога имения в банк: Пушкин высказывает в этом полнейшее незнание дел. Билет Опекунского совета забывает он у приятеля в Москве и пишет об этом, в Post-scriptum, так:
«Да сделай одолжение, перешли мне опекунский билет, который я оставил в секретном твоем комоде; там же выронил я серебряную копеечку; если и ее найдешь, и ее перешли… Ты их счастью не веруешь, а я верую» ^1.
Как характеристична эта одинаковость тона, которым говорится о билете и серебряной копеечке! Скоро мы будем говорить о том, как постоянная нужда в деньгах возбуждала в Пушкине желание быть человеком расчетливым, соблюдающим везде свою выгоду; теперь же перейдем к другой черте характера — мистицизму или, лучше сказать, вере в разные предрассудки. В «Материалах» находим несколько любопытных примеров этому, вроде веры в счастье, приносимое старыми копеечками, вроде того, что приятель поэта, не веривший силе серебряных копеечек, верил могуществу колец и подарил Пушкину золотое кольцо с бирюзой, которое имело силу «предохранять от внезапной беды», — Пушкин носил его до самой смерти, не снимая никогда с руки. Был у
Пушкина и другой, покрытый какими-то знаками, кабалистический перстень, с которым был связан, как он твердо верил, его талант. (Это кольцо теперь находится у В. И. Даля; кольцо с бирюзою у г. Д — са42). Вот, наконец, случай, рассказанный самим поэтом г-же Фукс:
Вам, быть может, кажется удивительным (начал опять говорить Пушкин), что я верю многому невероятному и непостижимому. Быть так суеверным заставил меня один случай. Раз пошел я с Н. В. В.ходить по Невскому проспекту, и. из проказ, зашли к кофейной гадальщице. Мы просили ее нам погадать и, не говоря о прошедшем, сказать будущее. «Вы, — сказала она мне, — на этих днях встретитесь с вашим давнишним знакомым, который будет вам предлагать хорошее по службе место; потом, в скором времени, получите через письмо неожиданные деньги. А третье, я должна вам сказать, что вы кончите вашу жизнь неестественною смертью… Без сомнения, я забыл в тот же день и о гадании и о гадальщице. Но спустя недели две после этого предсказания, и опять на Невском проспекте, я действительно встретился с моим давнишним приятелем, который служил в Варшаве; он мне предлагал и советовал занять его место в Варшаве. Вот первый раз после гадания, когда я вспомнил о гадальщице. Через несколько дней после встречи с знакомым, я в самом деле получил с почты письмо с деньгами, и мог ли я ожидать их? Эти деньги прислал мой лицейский товарищ, с которым мы, бывши еще учениками, играли в карты, и я его обыграл. Он, получив после умершего отца наследство, прислал мне долг, который я не только не ожидал, но и забыл об нем. Теперь надобно сбыться третьему предсказанию, и я в этом совершенно уверен 4І.
Не удивительно, что Пушкин верил предрассудкам: рассказы няни, чудесные и таинственные, с детства овладели его пылким воображением; кроме того, он был расположен к мистицизму, как видим по всему; как ни проницателен был его природный ум, но он никогда не углублялся в отвлеченные философские вопросы, занятие которыми одно может удержать от мистицизма человека с пылким воображением; надобно также припомнить, что он имел вообще много предрассудков, и кроме относящихся к суевериям; наконец, он был мнителен — и об этой последней черте его характера «Материалы» сообщают несколько данных. Будучи телосложения крепкого, развитого гимнастическими упражнениями, он находил в себе расположение к чахотке, и даже ему казалось, что он чувствует признаки аневризма в сердце. К числу стихотворений, высказывающих это постоянное опасение смерти, принадлежит, например, прекрасное «Брожу ли я вдоль улиц шумных»; именно о нем упоминаем потому, что в «Материалах» г. Анненкова напечатаны выпущенные автором стихи, которые еще яснее известных читателям строф говорят, что Пушкин выразил в этом размышлении свою задушевную думу:
Кружусь ли я в толпе мятежной,
Вкушаю ль сладостный покой.
Но мысль о смерти неизбежной Везде близка, везде со мной…
Но не вотще меня знакомит С могилой ясная мечта.
45
А между тем, если кто-нибудь, то именно Пушкин не должен был предаваться мрачным опасениям преждевременной смерти: он мог рассчитывать на долгую жизнь, благодаря крепкой организации, лучшим доказательством которой служит его неутомимость в ходьбе; потому что, быв самым неподвижным ребенком в детстве, он потом чрезвычайно любил ходить пешком, и некоторые из обыкновенных его прогулок были бы под силу немногим; не говорим уж о том, что, живучи в 1833 году на даче на Черной Речке, он ходил каждый день пешком в Архивы и возвращался на дачу также пешком; по возвращении он купался и после этого уж не чувствовал никакой усталости; но гораздо замечательнее этого прогулки его пешком из Петербурга в Царское Село. Он выходил из города поутру, выпивал стакан вина на Средней Рогатке и, погуляв еще после обеда в садах Царского Села, возвращался вечером пешком в Петербург, исходив, таким образом, в день более пятидесяти верст.
Известно, что Пушкин вообще имел в характере расположение любить и уважать предания, любил старину, был, если можно так выразиться, в душе до некоторой степени старинный человек, несмотря на то, что проницательный ум, образованность и практический взгляд на вещи заставляли его превосходно понимать различие между отжившими свое время понятиями и потребностями настоящего. Один из поразительных примеров того, как сильно укоренялись в его сердце предания, представляют его отношения к литературным обществам, которые в первой своей молодости застал он процветающими и распадению котрых, по справедливому замечанию г. Анненкова, сам содействовал более всего, возведя своими произведениями литературу на степень дела, принадлежащего всему русскому обществу, а не тесному кружку немногочисленных любителей, образовав десятки тысяч читателей вместо прежних сотен и вызвав к деятельности сотни писателей вместо прежних немногих дилетантов. Возбудив первыми своими стихотворениями внимание Державина, Карамзина, Жуковского, Пушкин был тогда же принят в число членов, известного литературного общества «Арзамас» 46, душою которого был Жуковский, целью которого было противодействие обществу «Любителей Российского слова» и их устарелым литературным понятиям. Не удивительно, если молодой писатель горячо разделял все симпатии и антипатии поэтов, которых и сам он считал своими учителями, и публика тогда еще ставила выше его. Но замечательно, что до конца своей жизни Пушкин не переставал показывать в себе бывшего члена «Арзамаса». «Пушкин навсегда сохранил (говорит г. Анненков) почтение как к лицам, признанным авторитетами в среде его, так и к самому способу действо-вания во имя идей, обсужденных целым обществом… да и к одному личному мнению, становившемуся наперекор мнению общему, уже никогда не имел уважения». В этом отчасти надобно искать причину нелюбви его к журналистике, влиянием которой заменилось впоследствии влияние литературных обществ, в особенности к «Московскому Телеграфу» 4/. Пушкин не мог привыкнуть к новому порядку вещей, когда журнал приобрел свой голос в суждениях о литературе, не служа выражением мнения тесного кружка людей, коротко знакомых, имевших одни привязанности, не замечавших или щадивших слабости каждого члена своего общества, а сделавшись органом независимого мнения, образовавшегося или начинавшего образовываться в массе публики. В мнениях журналов, особенно «Московского Телеграфа», который первый обнаружил самостоятельность, Пушкин видел произвол личного мнения и, говорит г. Анненков, как только заметил признаки нового направления, «начал свою систему рассчитанного противодействия, имея в виду возвратить критику в руки малого, избранного круга писателей, уже облеченного уважением и доверенностью публики» 48. Попытку осуществить это намерение надобно видеть в основании «Литературной Газеты» 4Э. Можно было бы считать эти замечания о верности Пушкина духу прежних литературных обществ предположением, еще не совсем верным, так много тут странного; но сам Пушкин оставил доказательства того, что не напрасно мы будем до конца его деятельности видеть в нем прежнего члена «Арзамаса». Известно, что каждый член этого кружка получал имя, заимствованное из баллад Жуковского: один был назван Громобоем, другой — Старушкою и т. д. А. С. Пушкину дано было имя «Сверчок»; в 1830 году А. С. Пушкин, уже всеми признанный первым поэтом русским, затмевающим собою всех остальных, помещая свои стихотворения в «Литературной Газете», подписывает их буквами Крс. — это перестановка сокращенной подписи Срк. — Сверчок. Итак, Пушкин еще помнит и любит свое Арзамасское имя, в то время, как уж все, кроме него, давно забыли о существовании «Арзамаса». Другой пример его высокого уважения к литературным обществам: в начале 1833 года избранный членом Российской Академии, президентом которой был тогда Шишков, и духу которой Пушкин, поэтому, кажется, мало мог сочувствовать, Пушкин постоянно посещал еженедельные собрания Академии и «вообще весьма серьезно смотрел» на труды этого ученого сословия.
Мысль о журнале, который противодействовал бы новому положению в литературе, принятому «Московским Телеграфом», постоянно занимала Пушкина с 1826 года — он тогда уже задумывал основать свой собственный журнал; но, по обыкновению, и в этом деле был беспечен; скоро, впрочем, он был обрадован основанием «Московского Вестника»50 (г. Погодина), душою
которого хотел быть, потом — «Литературной Газеты», отношения к которой у него были еще теснее. В 1832 году хлопочет он о разрешении основать ежедневную газету и, наконец, получает позволение, но, скоро охладев к своей мысли, уж не приводит ее в
исполнение51. Только в 1836 Пушкин делается, наконец, редактором журнала, о котором так долго мечтал Б2.
Вместе с желанием иметь орган для выражения своих литературных мнений и противодействия другим журналам, Пушкин, при намерении основать журнал, имел в виду и денежную выгоду. Он прямо и с какою-то особенною аффектациею любил говорить, что пишет по внутренней потребности, для наслаждения творчеством (как это действительно и было), но печатает свои произведения только из единственного желания получить за них деньги, а вовсе не из потребности делиться с публикою своими чувствами или из желания авторской славы (что было уж не совсем справедливо). В «Материалах» г. Анненкова находим много мест из писем и отрывков Пушкина, где он старается уверить в этом, даже как бы хвалится тем, что печатает единственно для денег. Вот несколько примеров. В 1824 году Пушкин пишет о «Бахчисарайском фонтане»: «Радуюсь, что мой фонтан шумит… Впрочем, я писал его единственно для себя, а печатаю потому, что деньги нужны» 53.
Г. Анненков нашел в бумагах Пушкина следующий отрывок неизданного стихотворения:
На это скажут мне с улыбкою неверной:
— Смотрите! вы поэт; уклонкой лицемерной Вы нас морочите. Вам слава не нужна?
Смешной и суетной вам кажется она?
Зачем же пишете? — Я? для себя. — За что же Печатаете вы? — Для денег. — Ах, мой боже,
Как стыдно! — Почему ж?51
Интересен также отрывок из просьбы об отпуске в Оренбург и деревню; просьба эта писана в 1833 году, когда он занимался «Историею Петра Великого» и «Историею Пугачевского бунта»; роман, о котором в ней говорится. — «Капитанская дочка».
«В продолжение двух последних лет занимался я одними историческими трудами, не написав ни одной строчки чисто литературной. Мне необходимо месяца два провести в совершенном уединении, дабы отдохнуть от важнейших занятий и кончить книгу, давно мною начатую, и которая доставит мне деньги, в коих имею нужду. Мне самому совестно тратить время на суетные занятия; но они доставляют мне способ проживать в С.-Петербурге, где труды мои, благодаря начальству, имеют цель более важную и полезную. Если угодно будет знать, какую именно книгу хочу я дописать в деревне — это роман, коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани, и вот почему мне хотелось бы посетить обе сии губернии 5S.
30 июля
Черная Речка».
Пушкин постоянно нуждался в деньгах, потому, естественно, должен был думать о них. Припомним правило, которое дает он брату: порядочный человек не старается никогда скрывать, если нуждается в деньгах; напротив, должен нарочно сам обнаруживать свое затруднение, чтоб импонировать своим «гордым цинизмом»; потому, принужденный признаваться, что живет деньгами, получаемыми за свои произведения, Пушкин естественно приходил к мысли, что ему надобно надменно твердить: «я печатаю единственно для денег». Охота говорить это усиливалась в нем оригинальным отвращением от того, чтоб его принимали в обществе, где он хотел быть исключительно светским человеком, как писателя, серьезно интересующегося участью своих произведений и авторскою славою; об этом будем мы сейчас говорить. Но было бы жалким недоразумением видеть в Пушкине, по своей беспечности, неопытности в денежных делах, постоянно нуждающемся в деньгах и оттого хлопочущем о деньгах, человека сколько-нибудь корыстолюбивого — напротив, мы видим, что, часто будучи вправе преследовать людей, обманывавших его в коммерческом отношении, он этого не делал; сердился, выражал с. вою досаду в письме к какому-нибудь приятелю, и только. Не считаем нужным прибавлять, что всегда он был благороднейшим человеком, — иначе и не могло быть при его характере и правилах. Что он был щедр и любил помогать, это известно из всех его литературных отношений. Позволяем себе наконец привести два отрывка из писем его к брату, который, живучи в Петербурге, некоторое время заведывал его делами. Первое письмо было послано по получении известия о наводнении в Петербурге:
I. Этот потоп56 у меня с ума нейдет. Если тебе вздумается помочь какому-нибудь несчастному, помогай из Онегинских денег; но прошу, без всякого шума, ни словесного, ни письменного (8 декабря 1824) 57.
II. (1825 г.)…PS. Слепой священник58 перевел Снраха (см. «Инвалид» № такой-то), издает по подписке; подпишись на несколько экземпляров.
Благородное желание помочь и ободрить всякого начинающего писателя, в котором замечал он талант, хорошо известно. Об отношениях Пушкина к Гоголю излишне говорить. Многие также знают, с каким радушием старался он о литературных успехах барона Розена, г-жи Дуровой, какими похвалами встретил сказку г. Ершова «Конек-Горбунок», которую внимательно пересмотрел и первые четыре стиха которой (по словам г. Смирдина) принадлежат Пушкину53. Известно также, как Пушкин отправился знакомиться с Губером, тогда совершенно безвестным, услышав, что он занимается переводом «Фауста», как ободрял Губера к продолжению труда, который без Пушкина, вероятно, и не был бы окончен, как, наконец, несколько дней провел, вместе с автором проверяя и поправляя перевод. Не говорим уж о том, с какою радостью приветствовал он каждое произведение тех людей, которых считал, по своему добродушию, великими талантами.
И однакож, несмотря на свою пламенную любовь — даже мало этого сказать, — несмотря на свою безусловную преданность литературе, Пушкин не хотел, чтобы в обществе его считали литератором. Приводим слова г. Анненкова:
Никто так не боялся, особенно в обществе, звания поэта, как Пушкин. Обязанный лучшими минутами жизни уединенному кабинетному труду, он искал успехов и торжеств на другом поприще и считал помехой все, что к нему собственно не относилось. Только в последних годах своей жизни теряет он ложный стыд этот и является в свете уже как писатель. В ту эпоху, которой занимаемся (около 1828–1830), всякое смешение светского человека с писателем наносило ему глубокое оскорбление. Это превосходно выражено им самим в отрывке, который предшествовал созданию «Египетских ночей». Художественно передана там, в лице Царского, борьба различных направлений в одном человеке.
Интересным следствием одного из капризов, рождавшихся от этого нежелания Пушкина, чтобы его принимали за «сочинителя», осталась надпись на драматическом отрывке его «Скупой Рыцарь» — «The cavetous Knihgt, Ченстона». Несмотря на розыски, никто из критиков не мог найти в английской литературе ни Ченстона, ни пьесы «The cavetous Knihgt». Потому предполагали, что Пушкин вздумал назвать переводом то, что было вовсе не перевод, а собственное его поэтическое произведение. Теперь, кажется, невозможно и сомневаться в этом. Г. Анненков не только сам напрасно отыскивал Ченстона и не нашел его, но и получил от издателей английского критического журнала «The Athenaeum», знатоков старинной английской словесности, положительное уверение, что никакого английского писателя Ченстона не было 60. Кроме того, в черновой рукописи английское имя пьесы написано и поправлено несколько раз, так что Пушкин, очевидно, придумывал его. Г. Анненков нашел у Пушкина и другие случаи подобного приписывания своих сочинений посторонним лицам. Так, несомненно оригинальное стихотворение свое «Над лесистыми брегами» Пушкин называет переводом с английского61. У одного из неизданных стихотворений, также оригинального, сначала была сделана надпись «Alfred Müsset», а потом зачеркнута и вместо нее написано «Из VI Пиндемонте» 62.
Здесь мы кончаем наши извлечения из «Материалов» г. Анненкова касательно жизни и личного характера Пушкина,
Теперь мы считаем уже излишним говорить о том, как мною новых и чрезвычайно важных сведений о великом поэте сообщается в биографии, составленной г. Анненковым, как верны и основательны объяснения и замечания, которые он делает, — читатели могли видеть в нашей статье довольно примеров тому. Но без всякого сомнения интереснейшая часть материалов, собранных г. Анненковым, относится к истории того, как созидт-лнсь и развивались гением Пушкина его произведения, и этим-то мы займемся в следующей статье. В ней постараемся мы собрать из «Материалов» данные, объясняющие, если так можно выразиться, авторские привычки Пушкина, его манеру писать, внешнюю сторону его творчества, историю сочинения его произведений, — мы прежде знали об этом только смутно; теперь, на основании чрезвычайно внимательного разбора черновых бумаг Пушкина, г. Анненков сообщает множество данных, в высшей степени интересных. Переходом от подробностей, собранных в настоящей статье, к этой истории создания произведений Пушкина послужат заимствованные также из «Материалов» г. Анненкова данные о развитии таланта и литературных мнений Пушкина.
Р. S. Выше сказано, что издание г. Анненковт обогащено несколькими новыми произведениями Пушкина в прозе и стихах, отысканными новым издателем в бумагах поэта. Между этими драгоценными находками есть несколько стихотворений превосходных. Мы украсили настоящую книжку «Современника» тремя пьесами Пушкина, из которых две совершенно новые; третья (Воспоминание) — нова только во второй половине, начиная со стиха: «Я вижу в праздности, в неистовых пирах». Первая половина напечатана еще при жизни Пушкина. Теперь эти две половины, соединенные через столько лет в одно стихотворение, представляют одну из лучших и характернейших лирических пьес Пушкина в том виде, как она создалась под пером его. В заключение настоящей статьи, приводим еще несколько стихотворных отрывков, впервые появившихся в издании Анненкова.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОКТАВЫ К ПОВЕСТИ:
t ДОМИК В КОЛОМНЕ
(к III октаве)
Modo vir, modo feraina и.
У нас война! Красавцы молодые,
Вы хрипуны………..
Сломали ль вы походы боевые?
Видали ль в Персии Ширванский полк?
Уж люди! Мелочь, старички кривые,
А в деле всяк из них, что в стаде волк!
Все с ревом так и лезут в бой кровавой:
Ширванский полк могу сравнить с октавой.
Поэты Юга, вымыслов отцы.
Каких чудес с октавой не творили?
Но мы ленивцы, робкие певцы,
На мелочах мы рифму заморили,
Могучие нам чужды образцы.
Мы новых стран себе не покорили,
И наших дней изнеженный поэт,
Чуть смыслит свой уравнивать куплет!
Но возвратиться все ж я не хочу К четырестопным ямбам, мере низкой…
С гекзаметром… О, с ним я не шучу:
Ои мне не в мочь. А стих Александрийской?
Уж не его ль себе я залучу? _
Извилистый, проворный, длинный, склизкий И с жалом даже — точная змея…
Мне кажется, что с ним управлюсь я.
Он вынянчен был мамкою не дурой:
За ним смотрел степенный Буало,
Шагал он чинно, стянут был цезурой: Но пудреной пиитике на зло Растрепан он свободною цензурой, Учение не в прок ему пошло-Hugo с товарищи, друзья натуры,
Его гулять пустили без цезуры.
О, что б сказал поэт законодатель,
Гроза несчастных мелких рифмачей!
И ты Расин, бессмертный подражатель Певец влюбленных женщин н царей!
И ты Вольтер, философ и ругатель,
И ты Делиль — Паранасский муравей, Что б вы сказали, сей соблазн увндя! Наш веч обидел вас — ваш стих обидяі
У нас его недавно стали знать.
Кто первый? можете у Телеграфа Спросить и хорошенько все узнать.
Он годен, говорят, для эпиграфа.
Да можно им порою украшать Гробницы или мрамор кенотафа;
До наших мод, благодаря судьбе,
Мне дела нет: беру его себе!
(К октаве VIII)
И там себе мы возимся в грязи, Торгуемся, бранимся так, что любо.
Кто в одиночку, кто с другим в связи, Кто просто врет, кто врет сугубо…
Но Муза никому здесь не грози —
Не то, тебя прижмут довольно грубо,
И вместо лестной общей похвалы Поставят в угол Северной Пчелы! 64
Иль наглою, безнравственной, мишурной, Тебя в Москве журналы прозовут Или Газетою Литературной Ты будешь призвана на барский суд. Ведь нынче время споров, брани бурной, Друг на друга словесники идут,
Друг друга режут и друг друга губят…
И хором про свои победы трубят!
Блажен, кто издали глядит на всех,
И рот зажав, смеется тс над теми.
То над другими. Верх земных утех Из-за угла смеяться надо всеми!
Но сам в толпу не суйся… или смех Плохой уж выйдет: шутками однеми, Тебя, как шапками, и враг и друг, Соединясь, все закидают вдруг.
Тогда давай бог ноги. Потому-та Здесь имя подписать я не хочу.
Порой я стих повертываю круто,
Все ж видно — не впервой я им верчуі
А как давно? Того и не скажу-то.
На критиков я еду, не свищу,
Как древний богатырь — а как наеду… Что ж? Поклонюсь и приглашу к обеду,
Покаместь можете принять меня За старого, обстреленного волка,
Или за молодого воробья,
За новичка, в котором мало толка.
У вас в шкапу, быть может, мне, друзья, Отведена особенная полка,
А, может быть, впервой хочу послать Свою тетрадку в мокрую печать.
Ах, если бы меня, под легкой маской. Никто в толпе забавной не узналі Когда бы за меня своей указкой,
Другого строгий критик пощелхзл!
Уж то-то б неожиданной развязкой Я все журналы после взволновал!
Но полно, будет ли такой мне праздник? Нас мало. Не укроется проказникі
А вероятно, не заметят нас,
Меня с октавами моими купно.
Однакож нам пора. Ведь я рассказ Готовил; — а шучу довольно крупно И ждать напрасно заставляю вас.
Язык мой, враг мой: все ему доступно, Он обо всем болтать себе привык. Фригийский раб, на рынке взяв язык,
Сварил его (у г-на Копа Коптят его). Езоп его потом Принес на стол… Опять, зачем Езопа Я вплел с его вареным языком В мои стихи? Что вся прочла Европа, Нет иужды вновь беседовать о том.
На силу-то, рифмач я безрассудной, Отделался от сей октавы трудной! —
Усядься муза…
МОНОЛОГ ПЬЯНОГО МУЖИЧКА
Сват Иван, как пить мы станем. Непременно уж помянем Трех Матрен, Луку с Петром,
Да Пахомовну потом.
Мы живали с ними дружно:
Уж как хочешь — будь что будь — Этих надо помянуть,
Помянуть нам этих нужно. Поминать так поминать,
Начинать так начинать,
Лить так лить, разлив разливом. Начинай же, сват, пора!
Трех Матреи. Луку с Петром Мы помянем пивом,
А Пахомовну потом
Пирогами, да вином,
Да еще ее помянем —
Сказки сказывать мы станем.
Мастерица ведь была!
И откуда что брала?
А куда разумны шутки,
Приговорки, прибаутки,
Небылицы, былины Православной старины!..
Слушать — так душе отрадно:
Кто придумал их так складно?
И не пил бы, и не ел,
Все бы слушал да глядел.
Стариков когда-нибудь (Жаль, теперь нам недосужно)
Надо будет помянуть.
Помянуть и этих нужно…
Слушай, сват: начну первой,
Сказка будет за тобой…
Наконец, вот еще превосходный отрывок в классическом роде, относящийся к поэту Петрову, уже в преклонной старости написавшему известную оду адмиралу Н. С. Мордвинову.,бэ
Под хладом старости угрюмо угасал Единый из седых орлов Екатерины,
В «рылах отяжелев, он небо забывал И Пинда острые вершины.
В то время ты вставал: твой луч его согрел;
Он поднял к небесам и крылья и зеницы —
И с шумной радостью взыграл и полетел.
Во сретенье твоей денницы.
Мордвинов! не вотще Петров тебя любил: т°#й гордится он и на брегах Коцита,
Ты" Лиру оправдал: ты ввек не изменил Надеждам вещего Пиита…
Не смеем ничего прибавлять в похвалу этому стихотворению, особенно первым двум строфам его, картинность и величественность которых поразительны. За одно это стихотворение, если б г. Анненков не нашел ничего более нового в бумагах Пушкина, — он уже заслуживал бы глубокой благодарности всей читающей публики. Но мы уже отчасти видели, что поиски г. Анненкова принесли обильные плоды, обогатив русскую литературу несколькими превосходными стихотворениями и дав г. Анненкову материалы к воссозданию личности великого русского поэта, что яснее увидим в следующей главе.
СТАТЬЯ ВТОРАЯ
Предыдущая наша статья имела целью познакомить читателей с планом и достоинствами нового издания творений Пушкина, показать, как много новых и чрезвычайно важных данных заключается в «Материалах» для его биографии, с достосовестною неутомимостью собранных г. Анненковым, как внимательно и проницательно г. Анненков старался объяснить нам личность великого нашего поэта, как основательно и осмотрительно он разгадывает черты его характера. Потому первая waiua статья преимущественно состояла из выписок и извлечений; мы почти ничего не прибавляли от себя к рассказам и соображениям г. Анненкова, стараясь только дать по возможности точное понятие об отличительных качествах нового издания и прекрасной биографии, к нему приложенной. Теперь, исполнив одну часть нашей вбязанности, мы можем заняться исполнением другой и представить некоторые мысли и применения, к которым подают повод собранные в «Материалах» факты относительно истории развития произведений Пушкина, относительно процесса их постепенного созидания и обработки.
Известно, что Пушкин чрезвычайно внимательно вбрабо-тывал свои произведения, особенно писанные стихами. Три, четыре раза он переписывал их, каждый раз то исправляя выражения, то изменяя характер и развитие самых мыслей и картин. Но до издания «Материалов для биографии А. С. Пушкина» мы знали об этом только в общих, смутных чертах; теперь для нас становится ясен весь характер и все подробности этих работ. Г. Анненков чрезвычайно внимательно рассмотрел все черновые тетради Пушкина, извлек из них все сколько-нибудь замечательные различия приготовительных и окончательной редакций и, отнеся мелкие и раздробленные факты такого рода в примечания к каждому произведению, вобрал важнейшие в своих «Материалах». Ограничимся здесь сообщением некоторых сведений о постепенном развитии двух или трех произведенив из числа тех, обдумыванием и обработкою которых особенно долго занимался поэт.
«Евгений Онегин» издавался отдельными главами в продолжение нескольких лет1, и между каждым предыдущим и последующим выпусками этого романа Пушкин издавал другие произведения, не имеющие с ним никакой связи. Но эта отрывочность издания не дает еще ни малейшего понятия об отрывочности самой работы. Строфы каждой главы писаны были в разбивку, последующие после предыдущих, без всякого порядка; часто, например, в тетради написана пятнадцатая или двадцатая строфа, потом пятая или десятая и вслед за ними первая или вторая. Между тем над каждою строфою уж выставлена цифра, означающая место ее в полном составе главы. Это мало; не только строфы каждой главы писались в беспорядке, не только Пушкин писал иногда строфы следующей главы, когда еще не готова была предыдущая, но в одно и то же время, на одной и той же тетради он писал и строфы '«Онегина» и сцены «Бориса Годунова». Так, начав писать монолог Григория (в сцене с летописцем, в «Борисе Годунове»), Пушкин бросает его, не кончив, и
пишет XXIV строфу ІѴ-й главы «Евгения Онегинъ», потом несколько строф из следующих глав романа; затем оканчивает монолог Григория, пишет три первые стиха Пименова ответа:
Не сетуй, брат, что рано грешный свет
Покинул ты, что мало искушений
Послал тебе всевышний…
отмечает прозаическою фразою содержание, которое должны иметь следующие стихи: «Приближаюсь к тому времени, когда земное перестало быть для меня занимательным», пишет еще пять стихов, и опять переходит к «Евгению Онегину» (XXV строфа ІѴ-й главы):
Час от часу плененный боле
Красами Ольги молодой…
и рисует пером портрет Ольги. Подобных случаев много мы встречаем и у других писателей. Так, например, Гёте писал сцены своего «Фауста» не в последовательном порядке. Конечно, такая внешняя беспорядочность работы не может быть выставляема на вид, как прекрасный пример для подражания. У самого Пушкина она оправдывается только счастливою памятью его, помогавшею ему не потеряться в хаосе, живостью характера, впечатлительностью, нетерпеливостью, которая так обыкновенна в пылких людях; но должно заметить, что беззаботная непоследовательность в исполнении строго обдуманного плана, не мешая стройности произведений, этим самым изобличает, что процесс изложения на бумаге того, что задумано в уме нли фантазии, есть уж дело второстепенной важности для достоинства произведения и, большею частью, даже для сознания самого писателя, если только он действительно одарен самородным талантом, а не насилует свое воображение для придумывания поэтических картин. В наше время нет безусловных авторитетов, каждое движение которых стояло бы выше критики; но урок, извлекаемый из привычки Пушкина, не может не иметь своей важности для русских писателей. Особенно в наше время, когда и между поэтами или беллетристами и критиками так преобладает мнение о великом значении «отделки», посредством которой доводится произведение до «художественности», в наше время, когда так много придают значения внешней форме, не мешает обратить внимание на отрывок из черновой записи Пушкина, приводимый г. Анненковым, который старается сохранить, как драгоценность, каждую строку, найденную им в бумагах Пушкина, и в этом справедливо поставляет главное право свое на признательность русской публики. В отрывке, о котором мы говорим 2, Пушкин бегло обозревает развитие французской литературы и, перечисляя заслуги Ронсара и Малерба, высказы- > вает, между прочим, следующую мысль: «Люди, одаренные талантами, будучи поражены ничтожностью французского сти-
хотворства, думали, что скудость языка была тому виною, и стали стараться преобразовать его. 3 Пришел Малерб, с такой строгой справедливостью оцененный великим критиком- Буало:
Enfin Malherbe vint el le premier en France
Fit sentir dans les vers ime juste cadence 4.
Но Малерб ныне забыт, подобно Ронсару. Сии два таланта истощили силы свои в борении с механизмом языка, в усовершенствовании стиха. Такова участь, ожидающая писателей, которые пекутся более о наружных формах слова, нежели о мысли, истинной жизни его, не зависящей от употребления!»
Если бы мы сколько-нибудь усумнились в справедливости этого замечания о ничтожности наружной отделки сравнительно с мыслью, без всякой заботы о подборе слов и выражений оживляющей произведение талантливого писателя, то нам достаточно было бы вспомнить об огромной массе написанного почти каждым из великих писателей, чтобы обязательно увидеть, как мало времени им оставалось на процеживанье сквозь умственный фильтр каждого вылившегося из души выражения, на соображения о том, как лучше написать: щука с голубым пером или голубоперая щука, и хороша ли выйдет картина, если сказать: краезлатые облака. Эсхил, Софокл, Эврипид написали каждый около ста трагедий, Аристофан — более пятидесяти комедий, — а все эти люди проводили на народной площади более времени, нежели в своей рабочей комнате. Перейдя две тысячи лет, мы встречаемся с тем же самым явлением: Вольтер, Вальтер Скотт, Гёте написали каждый по нескольку десятков томов. Даже Байрон и Шиллер, умершие так рано, успели написать столько, что остается удивляться количеству их произведений. Вероятно, всем этим людям некогда было долго заниматься подбиранием жемчужины к жемчужине; поневоле надобно предположить, что поэтические брильянты, если только они самородные, гранятся не столь долговременною полировкою, как находимые в бразильских песках.
Если что требует внимательного обдумывания, то это план поэтического произведения. Прояснить в своем уме основную мысль романа или драмы, вникнуть в сущность характеров, которые будут ее проявлять своими действиями, сообразить положения лиц, развитие сцен — вот что важно; если поэт употребит на это по нескольку часов ныне, через месяц или два, через год, как придет ему вдохновенная минута подумать о созидаемом творении, то эти немногие часы принесут более пользы достоинству его произведения, нежели целые месяцы неусыпной работы над улучшением и исправлением вылившегося уже на бумагу произведения. И в этом случае мы ссылаемся на пример Пушкина, который так долго обдумывал планы своих произведений, иногда по нескольку лет ожидая, пока зародившаяся мысль создания созреет в er «голове, найдет себе стройное и полное развитие. «Черновая
подготовка материалов, — говорит г. Анненков, — длилась иногда у Пушкина чрезвычайно долго; затем уже вдохновение скоро обращало их в светлые и мощные произведения искусства» — конечно, потому, что эти «черновые материалы» и составляют существеннейшую часть творчествѣ Очень замечательна в этом отношении история развития его «Египетских ночей», восстановленная теперь г. Анненковым по драгоценным тетрадям поэта. Зародыш, из которого развились «Египетские ночи», есть прекрасное стихотворение о любовниках Клеопатры «Чертог сиял…», написанное Пушкиным еще в 1825 году. Десять лет потом прошло, прежде нежели развилось в уме его произведение, центром которого должно было служить это стихотворение. Несколько раз повесть эта слагалась в уме его и была им отвергаема, как еще не вполне выражающая идею. Некоторые набросанные начерно отрывки, тотчас же брошенные, как неудовлетворительные, остались единственными следами этой долгой и интересной борьбы с планом и содержанием. Так он начал было повесть, которая была после его смерти напечатана в «Сто русских литераторов» 5 под заглавием «Одна глава из неоконченного романа»; бросив вто не могшее, по его мнению, выразить сущности мысли начало, он набросал другой отрывок, из которого г. Анненков внес в свои «Материалы» все, что можно было разобрать; потом написал третье начало повести, напечатанное в прежнем издании его сочинений под именем «Отрывка»; и только после всех этих неудачных, по его мнению, попыток нашел истинное содержание для своих «Египетских ночей» 6. Но и эти многочисленные следы различных эпох развития сюжета составляют еще только одну часть его истории. Прежде, нежели Пушкин увидел, что лучше всего выразит его идею такая повесть, как «Египетские ночи», он думал развить ее содержание в повести из классического мира и памятниками этого периода развития сюжета остались программа повести и три ее отрывка, отысканные г. Анненковым в черновых бумагах7. Главным лицом он избрал Петрония, римского поэта, у которого находят следы новых понятий о жизни, противоположных древним воззрениям, и личность которого могла поэтому служить для выражения идеи, подобной идее «Египетских ночей», контраста между новым и древним миром; быть может, Пушкин увлекался и трагическою смертью Петрония, который, подвергшись опале Нерона, открыл себе жилы в теплой ванне. Место не позволяет нам приводить самых отрызков, но вот программа повести (или, как нам кажется, второй части ее):
Описание дома. Мы находим Петрония с своим лекарем; он продолжает рассуждение о роде смерти; избирает теплые. Греческий философ исчез. Петроний улыбается и сказывает одр. Описание приготовлений. Он перевязывает рану и начинаются рассказы. Первый вечер. О Клеопатре — наши рассуждения о том. Второй вечер. Петроний приказывает разбить драгоценную чашу — диктует Salyricon8—рассуждение о падении человека — о падении богов, о общем безверии — о превращениях Нероча. Раб-христианин…
Вот сколько раздумья, вот скольких трудов стоило Пушкину развитие содержания «Египетских ночей». Другие примеры того, как видоизменялись внимательным углублением в сущность мысли планы произведений Пушкина, представляет рассказ «Братья разбойники». Он первоначально хотел написать более обширную поэму, в которой этот рассказ был бы только эпизодом. Вот программа предполагавшейся поэмы, найденная г. Анненковым: «Разбойники. История двух братьев. Атаман на Волге. Купеческое судно. Дочь купца». Но скоро он заметил, что сюжет не представляет довольно глубины для широкого развития, и сжег свою поэму 9, кроме отрывка, уцелевшего в руках одного из приятелей Пушкина и показавшегося потом Пушкину заслуживающим печати. Г. Анненков предполагает — и, вероятно, справедливо, — что маленькая пьеса «Жених» впоследствии возникла, если можно так выразиться, как экстракт из уничтоженной поэмы. Подобным же образом «Медный всадник» произошел из эпизода задуманной прежде Пушкиным большой поэмы, отрывком из другого эпизода которой осталась «Моя родословная», в рукописи начинавшаяся стихами, которые вошли в описание наводнения. Пушкин справедливо обдумал, что колоссальный «Медный всадник» делает неуместною обстановку «Родословной» 10. Говоря о программах, приведем также чрезвычайно интересные программы «Галуба» 11; они показывают, какое глубокое содержание должна была приобресть, по мысли автора, эта поэма, которой успел он написать только половину. План ее был-задуман еще в 1829 году, но только через четыре года приступил Пушкин к его исполнению. Представляем программы рядом:
1-Я ПРОГРАММА 2-Я ПРОГРАММА 1. Похороны. Обряд похорон. 2. Черкес-христианин, Уздень и меньшой сын. 3. Купец. I день (отсутствия Тазита). Лань. 4. Раб. Почта. Грузинские купцы. 5. Убийца. II день. Орел. Казак. 6. Изгнание. III день. Отец его гонит. 7. — Любовь. Юноша и монах. 8. Сватовство. Любовь отвергнута. 9. Отказ. Битва и монах. 10. Миссионер, 11. Война. 12. Сражение. 13. Смерть. 14. Эпилог.Пушкин следовал при исполнении второй программе, которая нам кажется и позднейшею и более художественною. Г. Анненков справедливо заключает, что существенная мысль поэмы была — изобразить, как Тазит, по нравственному развитию ставший выше сурового, беспощадного дикарства своего племени, тоскующий среди его и наконец отвергнутый им, принимается гуманным обществом христианского мира — и, вероятно (осмелимся прибавить мы), падает в борьбе между прежним и новым, отвергаемым и принимаемым нравственным существованием. Пушкин успел исполнить только половину своей программы и, по обыкновению, зачеркивал ее отделения по мере того, как исполнял их. Сличив поэму с программами, видим, что Пушкин следовал второй; но он также зачеркивал отделы и в первой программе, следовательно, вновь соображал и оценивал их при исполнении. В первой Тазит представляется христианином уже при самом начале поэмы; по второй программе поэма обнимает весь ход его развития; потому вторая кажется нам полнее в художественном отношении, и Пушкин не без причины предпочел ее.
В этом внимательном, продолжительном, недоверчивом обду- * мывании плана заключается, по нашему мнению, драгоценный урок для тех писателей, которые, подумав полчаса, пишут полгода и потом поправляют год — хорошо еще, если пишут, как велит одушевление труда, и потом исправляют, а не сидят в раздумья над каждою фразою, не спутывают различных работ — творить и пересматривать — в одну вялую, утомительную, бесхарактерную работу. Конечно, для каждого особенного характера и темперамента есть свои особенные условия, наиболее соответствующие природе, наиболее благоприятные для деятельности. Человек с ровным, покойным, несколько флегматическим умом несколько удобнее, нежели человек с умом бойким, пылким, нетерпеливым, может выносить развлечения или замедления в своей работе, не портя ее; но нет человека, который бы не работал успешнее, последовательнее, лучше, оставаясь не развлекаемым, нежели получая каждую минуту толчок под руку. Мы принимаем в соображение и то, что если люди самоуверенные или по крайней мере твердые могут писать, не задумываясь над словами, не чувствуя в самую минуту письма потребности перемарывать и зачеркивать одно выражение, чтобы заменить его другим, то для людей с характером мнительным, или по крайней мере несколько робким и застенчивым, было бы насилием их природному расположению или даже чистою невозможностью писать прямо, не перечеркивая многих фраз, не призадумываясь иногда над выражением мысли. Но то верно, что для всякой натуры выгодна твердая, неколеблемая судорожными ужимками поступь. Мы именно то и хотим сказать, что для всякого таланта, каковы бы ни были особенные его наклонности, каков бы ни был характер человека, им обладающего, одно из существеннейших условий успешной деятельности то, чтоб он вполне предавался в минуты творчества течению своей мысли, ничем не задерживая, не возмущая его. Такого рода состояние если не есть еще вдохновение, то довольно близко к нему. И мы думаем, что каждый талант много выиграет, если будет вполне отдаваться своей природе, не стесняясь никакими внешними соображениями. А к числу их принадлежит забота о красоте выражений; забыть о ней в то время, как пишешь, вернейшее средство достичь ее, насколько то в силах нашего дарования. Человек именно тогда производит истинный эффект, когда и не думает об эффектах. Это заметно даже на хороших актерах или певцах. А писатель не актер, он должен быть гораздо ближе к увлечению, забывающему о всем, кроме своего предмета. Недурно при этом случае вспомнить и правило политической экономии о разделении работ, которое давно выражено пословицею: за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Чем занялся, тем и надобно заниматься. Когда пишется, пиши и пиши. Потом, когда уж написано, когда ум утомился напряжением творчества, перечитывай, соображай и обсуждай написанное. Но — опять есть пословица; написанного пером не вырубишь топором — что написалось дурно, нескладно или слабо, тому не придадут силы, красоты или стройности никакие исправления. Последующие пересмотры произведения сглаживают только те недостатки произведения, которые возникают от медленности пера сравнительно с быстрым течением мысли. Исправить самой мысли, недостатков развития, принадлежащих ей самой, они не в силах. И если вы недовольны не мелкими неточностями и угловатостями грамматическими или риторическими, а какими-нибудь существенными сторонами написанного, лучше и даже расчетливее относительно количества времени, нужного для работы, — не переправлять, а бросить написанное неудачно и писать вновь. Конечно, это своего рода геройство; кому не жаль бросить свой труд? кому не стыдно перед собою сознаться, что написал вещь, никуда не годную? Потому-то и нужно не приниматься писать, не обдумав ясно и стройно, что должно быть написано. Повторим, однако, еще раз, что всякая искусственность ведет к холодности и приторности, что лучший мед вытекает из сотов сам собою, а выжиманье приносит пользу только на маслобойне; что существенное правило не только поэтической деятельности, но и вообще жизни: каждый должен делать так, — как прилично его натуре и сущности производимого предмета. Пути и проявления жизни бесконечно разнообразны; можно только находить общие элементы, участвующие в созданиях жизни, но нельзя сказать: такого-то рода деятельность всегда, во всем и у всех должна быть под исключительною властью такого-то правила: всегда и во всем могут быть случаи, когда самое общее, самое непреложное правило встречается с другими законами жизни, отнимающими у него исключительное господство над деятельностью. Потому и правило: обдумывай, обдумывай и обдумывай, потом ничего не будет стоить написать; а написанное необдуманно само ничего не стоит; или, попросту выражаясь: пять раз примерь, раз отрежь — это простое правило всякой человеческой деятельности, а не одного только эстетического мира.
не одно всегда и повсюду управляет человеческою жизнью: встречаются случаи, когда другие законы и условия жизни высказывают свои требования так сильно, что подавляют его и изменяют характер деятельности. Таково лирическое настроение духа, являющееся порывом. Таков (быть может, не совсем уместно по поводу Пушкина, ум которого равнялся таланту и сообщал ему наибольшую цену, говорить о болезненных порождениях, но у нас, как и везде, хотя не в такой мере, как у нас, общая мысль нуждается в отрицательных приложениях, чтобы стать заметною) — таков жалкий случай, когда человек, имеющий способность писать гладко, не одарен способностью стройно мыслить. Случай, к сожалению, весьма и весьма нередкий. Не знаем, как бывало это прежде, потому что имена людей, хромавших в умственном отношении, не доходят до потомства, — но современникам часто приходится встречаться с ними. Что же? ведь и они люди, ведь и они заслуживают сочувствия, да и прямая выгода современников требует не отказывать в особенных предостережениях спотыкающимся. Потому, если вам, читатель, случится встретить поэта или беллетриста, мыслительность которого движется так неверно, что каждому не бесчувственному человеку хочется быть заботливым опекуном его, то уверьте его, что правило обдумывать свои произведения к нему не относится: напротив, чем меньше он будет думать над своими произведениями, тем лучше. И пусть он по преимуществу выбирает их сюжетами предметы, «не вызывающие на размышление»: восхождение солнца, описание весны, утра, бури — особенно прекрасные темы; антологические стихотворения лучше всего приспособлены к его силам: из приключений человеческой жизни очень удобны для него: первая любовь, светские отношения, панегирические повести о грациозных красавицах и о необыкновенно блестящих молодых людях; патетические сцены также не представляют больших затруднений. Но он лучше всего сделает, если распределит время поровну между творческою деятельностью и образованием своей мыслительной способности чтением хороших книг, по выбору опытного руководителя, частыми беседами с дельными людьми и особенно тем, что будет удаляться общества себе подобных. При старательности и скромности почти каждый в состоянии сделаться человеком здравомыслящим и способным судить о вещах. Умственных горбунов от природы мало 12.
Естественнейший метод всякой работы, и ремесленной, и прозаической, и поэтической, состоит в том, чтобы ясно обдумать дело и потом исполнить его, а потом уж приниматься за пересмотр и исправление. Так умеет поступать даже столяр: сначала сообразит, каких размеров нужно сделать вещь, какую штуку дерева и какого именно дерева приготовить для каждой ее части; потом уж, приготовив и сообразив материалы, начинает ее делать, и делает не останавливаясь над полировкою каждого приклеиваемого вершка. Наконец, дав просохнуть, устояться своей работе, принимается за полировку, если только вещь такого рода, что нуждается в полировке. Во всяком случае, хороший столяр славится тем, что делает мебель из хороших материалов, прочно и соответственно ее цели, а не тем, что хорошо полирует ее: порядочно отполировать умеет самый плохой подмастерье.
И как успешно идет работа, когда все в ней обдумано и соображено. У Пушкина, например, который так медленно развивал свои создания в голове, созрев, они выливались на бумагу чрезвычайно быстро. Так, первая песнь «Полтавы» кончена 3-го октября, вторая — 9-го, третья — 16-го, следовательно, каждая песнь написана в неделю или менее 13. Большая повесть «Дубровский» начата 21-го октября, кончена 3-го января, следовательно, написана менее, нежели в два с половиной месяца 14. Интересными примерами того, в какой незначительной мере достоинства, придаваемые мелочною последующею отделкою, возвышают первобытную красоту произведения, с которою оно выходит из-под пера истинно талантливого автора, служат нам произведения, которых Пушкин не успел дописать и, следовательно, не мог пересмотреть и окончательно обработать. Мы спрашиваем, в чем уступает «Галуб» законченнейшим по внешней отделке поэмам Пушкина? Менее ли художественны и самые стихи и картины в этом неотделанном отрывке, нежели в «Кавказском пленнике» или в «Полтаве»? Другое неоконченное и также не получившее окончательной отделки произведение, «Русалка» решительно должна быть названа одним из превосходнейших произведений поэзии Пушкина. «Русалку» едва ли не должно в художественном отношении (не по содержанию, не по мысли, а по эстетическим достоинствам исполнения) поставить наравне с «Медным всадником» и «Каменным гостем», выше и «Цыган», и «Братьев разбойников», и «Полтавы». Но поразительнее всего пример, представляемый «Сценами из рыцарских времен». Это произведение яснее всего показывает, что существенная красота заключена не в словах, которыми умеет гениальный писатель облечь свои мысли, а в том гениальном развитии, которое получает мысль в его уме, воображении, соображении, назовите это, как хотите, — в художественности, с какою представляется ему план, а не в выражении.
«По бумагам Пушкина видно, — говорит г. Анненков, — что «Сцены из рыцарских времен» не настоящее произведение, а только план произведения. Сверху рукописи надписано: План и затем, вместо того, чтоб изложить программу драмы в описании, Пушкин прямо начал сцены, и, раз начав, дописал их. Так составились они, не получив надлежащего развития и представляя еще один остов произведения и сухость, свойственную плану вообще, хотя бы он был и в драматической форме».
Не знаем, насколько развился бы этот план при полной обработка; не знаем, как прекрасна была бы драма тогда; но теперь в «Сценах из рыцарских времен» мы имеем одно из превосходней* ших произведений Пушкина; решаемся даже сказать, что не жалеем о том, что «остов произведения, представляющий сухость», не был обработан, не подвергся перекраиванью, развитию и распространению в объеме. Нам кажется даже, что сухость этого остова можно заметить, только узнав по внешним признакам, что оставшиеся нам «Сцены» — остов, а не вполне законченное художественное произведение; не укажи нам на мысль о сухости и необработанности сам Пушкин, мы должны были бы думать, что даже он сам не мог бы ни прибавить, ни изменить тут ни одного слова, не испортив или не ослабив своей прекрасной драмы. Если бы можно было вполне высказывать свои мнения, то мы сказали бы даже, что «Сцены из рыцарских времен» должны быть в художественном отношении поставлены не ниже «Бориса Годунова», а быть может и выше 15.
С вопросом о важности мелочной обработки тесно связан вопрос: когда автор, заботящийся о художественном достоинстве своих произведений, становится нелицеприятным судьею того, достойны ли они его имени, могут ли быть изданы в настоящей своей форме, или еще не достигли возможного совершенства; вопрос в том, долго ли должно храниться произведение в портфелях автора? Пушкин очень часто буквально исполнял правило Горация: Одержи у себя под замком девять лет», Nonum prematur in annum 16. Множество произведений, совершенно оконченных, лежали у него неизданными по несколько лет. Не будем исчислять всех случаев, ограничиваясь немногими из указанных г. Анненковым. «Цыгане» оставались неизданными по крайней мере три года (изд. 1827, а в1824 уже были готовы); то же было с главами «Евгения Онегина», «Дубровским», «Медным всадником», — одним словом, с большею частью поэм и повестей Пушкина. Один из самых замечательных случаев в этом отношейии составляет судьба «Бориса… Году нова», остававшегося в портфеле автора ше£п»~*ет! 17 Драма эта совершенно окончена в 1825 году, как несомненно свидетельствует сам Пушкин. Впрочем, тут чрезвычайное замедление объясняется особенною важностью, какую придавал этому произведению Пушкин, боязнью отдать его на суд критиков, не приготовленных к тому, чтоб оценить по достоинству произведение, слишком колоссальное для их понятий, по мнению самого Пушкина, и необыкновенно дорогое ему. Г. Анненков сообщает нам об этом интересные отрывки из писем и заметок Пушкина, и мы приводим здесь некоторые из них 18.
«Долго не мог я решиться напечатать свою драму. Хороший или худой успех моих стихотворений, благосклонное или строгое решение журналов о какой-нибудь стихотворной повести, слабо тревожили мое самолюбие. Читая разборы самые оскорбительные, старался я угадать мнение критика, понять, в чем именно состоят его обвинения, и если никогда не отвечал на оные, то сие происходило не из презрения, но единственно из убеждения, что для нашей литературы і) est indi: férent1S, что такая-то глава «Онегина» вышла выше или ниже другой. Но признаюсь искренно, неуспех драмы моей огорчил бы меня; ибо я твердо убежден, что нашему театру приличны народные законы драмы Шекспира, а не светский обычай трагедии Расина, и что всякий неудачный опыт может замедлить преобразование нашей сцены»…
…«С отвращением решаюсь я выдать в свет «Бориса Годунова» й хоть я вообще довольно равнодушен к успеху или неудаче своих произведений, но, признаюсь, неудача «Бориса Годунова» будет мне чувствительна, а я в ней почти уверен. Как Монтань, я могу сказать о моем сочинении: «c’est ипе
oeuvre de bonne foi» 2°. Писанная мною в строгом уединении, вдали охлаждающего света2!, плод добросовестных изучений, постоянного труда, сия трагедия доставила мне все, чем писателю насладиться дозволено: живое занятие вдохновению, внутреннее убеждение, что мною употреблены были все усилия, наконец одобрение малого числа избранных» 22…
И действительно, холодный прием, встреченный этим любимым творением Пушкина, произвел на него самое тяжелое впечатление, которое отчасти даже содействовало развитию его литературных понятий в смысле, противуположном его прежнему бодрому стремлению вперед. «Нововведения опасны и, кажется не нужны», говорит он в черновом письме по поводу разборов «Бориса Годунова» в тогдашних журналах23. Не рассматривая вопроса, до какой степени основательны были эти разборы, скажем только, что «Борис Годунов» действительно не занял того места в истории русского литературного или сценического развития, какое предназначал ему Пушкин. Колоссальны или нет достоинства этой драмы; но она до сих пор не оказала большого влияния ни на писателей, ни на читателей наших, и главы «Евгения Онегина», о которых сравнительно с нею так презрительно отзывается Пушкин, были гораздо важнее ее для нашей литературы. Как бы то ни было, мы не будем удивляться, что Пушкин, обыкновенно столь проницательный, не совсем беспристрастно смотрел на литературную важность своих произведений: «Евгений Онегин» писался легко, а «Борис Годунов» стоил автору многих трудов: кроме того, Пушкин считал драму высочайшею формою искусства. И теперь обыкновенно думают то же. Виною такого мнения, конечно, драмы Шекспира — величие его гения заотавило считать и форму его произведений чем-то монументальным, как некогда на основании превосходства Гомеровых эпопей думали, что бессмертие дается поэту только сочинением эпопеи. Но если Пушкин медлил издавать «Бориса Годунова» потому, что слишком дорожил им, то при издании других произведений, особенно мелких, которым не придавал он большой цены, он не мог останавливаться опасением отдать их на суд журналов и публики. А между тем не только поэмы, повести, но и лирические стихотворения часто лежали в его портфелях неизданными. Берем из сотни указаний, представляемых примечаниями г. Анненкова ко второму тому, несколько случаев. Из стихотворений, написанных в 1824 году, «Ночной зефир струит эфир» было напечатано только в 1827 году. «Аквилон» (Зачем ты, грозный Аквилон) осталось ненапечатанным до смерти, хотя Пушкин, как видно, считал его достойным печати, поправляя в 1830 году; «Коварность» (Когда твой друг на глас твоих речей) явилось только в 1828 году; «К Языкову» (Издревле сладостный союз) только в 1830 году; «Узник» (Сижу за решеткой в темнице сырой) только в 1832 году. Конечно, такая чрезвычайная медленность была личным произволом или особенностью характера, и было бы странно поставлять ее в пример. Напротив, надобно даже сказать, что излишнее задерживание своих произведений неизданными может отчасти вредить свежести творчества и еще прямее — развитию таланта. Но в наше время, кажется, нет надобности настаивать на необходимости своевременной отдачи произведений на общий суд, по малочисленности людей, погрешающих против этого правила. Если
Блажен, кто про себя таил
Души высокие созданья 24,
то блаженны в наше время почти только те писатели, которых не соглашается печатать ни один журнал. Не будем, впрочем, доходить в наших мнениях до несправедливости: если можно упрекнуть многих наших писателей в поспешности, с какою печатают они свои произведения, то эта привычка, не совсем, выгодная для таланта, не достигает ни у кого из них пагубного развития, в каком упрекали французских фельетонных романистов: наши беллетристы посылают свои рассказы в типографию не лист за листом, сами еще не зная, что будет написано в следующей главе романа. Они не только дописывают роман до конца прежде, нежели начинают его печатать, но и перечитывают, исправляют, вообще, сообразно своим убеждениям, заботятся о возможном совершенстве своих произведений. Литературное самолюбие или честолюбие у нас еще очень сильно. В других отношениях оно, конечно, имеет свои вредные следствия, но в том, о котором говорим мы теперь, приносит свою пользу. Каждый, справедливо или несправедливо судя о своих произведениях, все-таки старается написать не как можно больше, а как можно лучше. Потому-то и небесполезно говорить об условиях этого совершенствования. Тотчас после того, как написана повесть или комедия, перечитывать ее почти бесполезно. Автор еще не успел отрешиться от своего произведения, если выражаться высоким слогом; проще говоря, находится еще в том же самом настроении чувств и мыслей, какое выразилось в его повести, еще не мог освободить своей головы от всех понятий и подробностей, которые тогда показались ему хороши, не может поэтому держать себя относительно них независимо, самостоятельно, допускать их овладевать вновь собою только в том случае, когда они действительно того заслуживают, нс сошел еще с привычных точек зрения, и, перечитывая повесть, будет признавать необходимость подробностей, стройность развития, верность характеров, здравость содержания не по свободному сочувствию, а просто по не рассеявшейся еще предубежденности. Время обсуживать свое литературное дело, как и всякое другое дело, приходит тогда, когда настроение, его произведшее, успело уже в нас смениться другими, или, выражаясь громкими фразами, когда поток жизни омоет и освежит наш ум. Скоро или нет настанет это время — зависит от содержания произведения. Если его основное значение было: выразить общие воззрения автора на жизнь или одну из существеннейших сторон ее и на требования искусства, быть может, и никогда не будет в состоянии он критически, спокойно взглянуть на него; в таком случае, конечно, не будет разницы, через день или через год по окончании начнет он свою критику. В том и в другом случае он будет в состоянии сделать только мелочные исправления. Но человек с умом пытливым, наклонным к недоверчивости, очень скоро, почти тотчас же после того, как освежится воображение, утомленное работою, может быть беспристрастным судьею произведения, возникшего из его общих убеждений, а не случайного страстного настроения. Напротив, произведения, порожденные страстью, увлечением, вообще особенным, не постоянным расположением духа, каждый автор, каков бы ни был характер его ума, может обсудить беспристрастно, как скоро минуется это состояние и обыкновенно следующая за ним реакция в противуположном направлении, что бывает иногда через много лет, а иногда и через несколько часов. Так, например, мы не знаем, настало ли бы когда-нибудь для Пушкина время непредубежденным взглядом пересмотреть своего «Бориса Годунова», неразрывно связанного с его общими убеждениями о драме и об одном из важных периодов русской истории, понятия о которой установились у него твердо. Но при подвижности своего характера, конечно, мог он проницательно пересмотреть «Бахчисарайский фонтан» очень скоро после того, как дописал последний стих 25.
Все эти различия, конечно, ясны сами собою; но мы упомянули о них для того, чтобы не оставить повода к предположению, будто бы мы требуем чрезмерного или считаем нужным полагать какие-нибудь неподвижные границы. Напротив, и здравый смысл и эстетика говорят писателю, что отрешение от всяких внешних, формальных стеснений, не вытекающих из сущности самого дела, — существеннейшее условие для успешного труда. Каждый должен поступать так, как велит ему его натура и здравый рассудок. Иному нужно переправлять свои произведения, у другого нет этой потребности и надобности, и каждый должен поступать в этом случае, как лучше для него. Мы говорим только о благоприятнейших условиях работы для людей с такою нравственною организациею, которая встречается чаще всего.
Но как же велики должны быть изменения, вносимые в произведения окончательною отделкою? Вообще эстетические соображения уверяют нас, что в написанном можно исправлять, не вредя произведению, только степень развития подробностей и образ выражения. Перо не успевает следить за мыслью; потому всегда могут встречаться в написанном некоторые неполноты, недостаток довольно закругленных переходов; как бы ни велико было уменье писателя владеть языком, всегда будут встречаться случаи, что некоторым выражениям может быть придано более точности или — силы. Наконец — и это важнее всего — нет человека, который не увлекался бы пристрастием останавливаться с любовью на собственных-мыслях — потому длиннота, растянутость незаметно для автора вкрадывается в его произведение; истребить ее, беспощадно вычеркнуть все лишнее — вот в чем должна состоять существеннейшая часть работы при пересмотре написанного; если автор строго исполнит эту обязанность, его произведение чрезвычайно много выиграет и, став вдвое меньше, объемом, будет иметь в двадцать раз более достоинства для читателя. Но, как мы уже говорили, вносить в план существенные изменения при окончательной переделке — чрезвычайно опасно: в художественном произведении все части должны быть между собою в строгой зависимости, и почти невозможно не нарушить его стройности, изменяя одну из них, — кто может проследить все отношения, связывавшие ее с другими частями? Как ни прилежно будет просматривать свое произведение автор, приводя все его отделы в гармонию с измененным или вставленным вновь эпизодом, почти всегда многие несообразности ускользнут от него, произведение будет иметь вид не вылившегося из одной мысли, а склеенного из разных клочков. Только новое бывает истинно хорошим. С перешитого и переправленного не могут быть никакими щетками и утюгами сглажены следы поношенности и угловатости. Потому, если автор недоволен в своем произведении чем-нибудь существенным, не переправлять его должен он, а бросить и писать все вновь.
От этих общих соображений, внушаемых самыми простыми условиями художественности, обращаясь к авторской манере Пушкина, мы находим у него перечеркивание и исправление в чрезвычайно обширном размере, как бы не только отделка стиха, но и самое облечение мысли в стихотворную форму стоило ему чрезвычайных усилий, как бы эти стихи, поражающие прежде всего своею легкостью, писал он с большим трудом, как бы механизм стиха представлял Пушкину затруднения. Г. Анненков собрал в своих «Материалах» очень много данных этой тяжелой, почти хаотической борьбы с стихом. Многие страницы, заключающие в себе, как можно угадывать по некоторым отдельным словам, неизданные стихотворения или отрывки, перечерканы, испещрены помарками до того, что нет возможности восстановить написанное. Почти то же надобно сказать о черновых списках многих стихотворений, переписанных потом самим Пушкиным набело; снимок одного чернового листка «Полтавы», приложенный к «Материалам», утомит внимание каждого, кто попробует разобрать историю образования стихов:
Казалось, Карла приводил Желанный бон в недоуменье
«Почти каждая строка его стихов, — говорит г. Анненков, — свидетельствует об этой особенности его удивительно-мужественного таланта. Поучительно видеть, как из страницы, кругом исписанной и, можно сказать, обращенной в самую мелкую сеть помарок, вытекает стихотворение, чистое как алмаз, с роскошной игрой света и в изумительной обделке». Прежде, нежели попробуем объяснить обширность размера, какой принимает у Пушкина отделка стиха, укажем обыкновеннейший результат ее — уменьшение объема стихотворения, строгое уничтожение множества, быть может, половины задуманных стихов. Не будем приводить бесчисленного количества стихов и строф, вычеркнутых Пушкиным из «Евгения Онегина». Два-три примера из других произведений будут достаточны для убеждения в том, до какой степени Пушкин боялся растянутости. Размышление Пимена над своею летописью заключалось в рукописи так:
Передо мной опять выходят люди,
Уже давно покинувшие мир.
Властители, которым был покорен,
И недруги, и старые друзья —
Товарищи моей цветущей жизни…
Как ласки их мне радостны бывали,
Как живо жгли мне сердце их обиды!
Но где же их знакомый лик и страсти!1 Чуть-чуть их след ложится легкой тенью,—
И мне давно, давно пора за ними!..
Из этих десяти стихов Пушкину показался не излишним по своей мысли только предпоследний, и весь длинный эпизод, действительно растягивавший монолог бесполезным повторением того, что высказывается в других стихах его, заменен двустишием:
Немного лиц мне память сохранила.
Немного слов доходит до меня.
В «Полтаве» он зачеркивает стихи, описывающие страдания влюбленного казака, отвергнутого Марией (в 1-й песне); в. третьей песне после стихов:
С горестью глубокой Внимал любовник ей жестокой;
Но вихрю мыслей предана…
уничтожена большая часть монолога сумасшедшей:
Ей богу, говорит она,
Старуха лжет Седой проказник Там в башне спрятался. Пойдем,
Не будем горевать о нем.
Пойдем… Какой сегодня праздник?
Народ бежит, народ поет… и т. д.
всего семнадцать стихов. В «Русалке» уничтожен отрывок из нескольких десятков стихов в сцене свадьбы, после упрека дружки девицам за их печальную песню; этот эпизод заключал продолжение упреков и смятения, произведенного появлением утопленницы. Точно так же в начале «Медного всадника» уничтожены длинные размышления Евгения (по возвращении домой в вечер перед наводнением) о том, что он женится на Параше и будет с нею счастлив. Конечно, всякий согласится, что эти стихи без нужды растягивали сцену. Несколько сот таких стихов сохранено в «Материалах», и г. Анненков справедливо обращает внимание писателей на эту строгость Пушкина к собственным произведениям.
Действительно, большая часть современных повестей, романов заставляет сознаться, что слишком многие беллетристы нуждаются в подобном уроке. Из всех недостатков, какие замечаются в современной литературе, самый общий — растянутость и необходимое следствие ее — бледность картин, вялость сцен, пустота и утомительность всего произведения. Кажется, будто бы почти каждый писатель (о бесталанных мы не говорим; но грустно, что одаренные замечательным талантом подвержены этой слабости наравне с бесталанными) считает несравненною драгоценностью всякое выражение, какое только мелькнет в его голове, всякую подробность, какая только ему вообразится, и спешит обогатить ею свой рассказ; кажется, будто он сочтет себя преступником, самоубийцею, похитителем, если лишит читателя хотя одного из тех перлов, которые такою однообразною нитью тянутся из-под его пера; кажется, будто бы он и не мог верить, что даже в кали-форнских золотых россыпях на одну горсть золотого — приходится целый воз простого песку, и что разработывающий их становится богат только через то, что, извлекая немногие зерна золота, с презрением отбрасывает огромнейшее количество никуда негодной примеси. В чем заключается самое поразительное отличие гениальных произведений от дюжинных? Только в том, что «красоты», если употреблять старинное выражение, составляют в гениальном произведении сплошной ряд страниц, а не разведены пустословием бесцветных общих мест. Если бы кто-нибудь захотел в каком-нибудь жалком, забытом романе со вниманием ловить все проблески наблюдательности, все верные черты характеров и действования, все меткие выражения и т. д., он собрал бы довольно много строк, которые по достоинству ничем не отличаются от строк, из которых составлены страницы произведений, восхищающих нас. Не надобно также думать, что и «остов», по выражению г. Анненкова, в дюжинных произведениях не бывает часто так же хорош, как и в первостепенных произведениях.
Различие состоит в том, что страницы гениального произведения наполнены содержанием, а то количество содержания, которое, растянуто на десятках страниц дюжинного произведения, было бы едва достаточно для наполнения одной страницы и расплылось незаметными крупинками в озерах пресных общих мест. Само собою разумеется, что бездарный человек бесполезно прилагал бы величайшие усилия сделать из своего романа что-нибудь порядочное; но со стороны писателя, не лишенного дарования, часто недоставало только решимости сжать свое произведение, чтоб оно из слабого стало очень порядочным. Сжатость — первое условие эстетической цены произведения, выставляющая на вид все другие достоинства. Конечно, во всем может быть вредное излишество; но бесполезно говорить о тех опасностях, которым никто не подвергается; господствующая ныне эстетическая болезнь — водяная, делает столько вреда, что, кажется, отрадно было бы даже увидеть признаки сухотки, как приятен морозный день, сковывающий почву среди октябрьского ненастья, когда повсюду видишь бездонно-жидкие трясины.
Особенно нам, русским, должна быть близка и драгоценна сжатость. Не знаем, свойство ли это русского ума, как готовы думать многие, или, скорее, просто следствие местных обстоятельств, но все прозаические, даже повествовательные, произведения наших гениальных писателей (не говорим о драмах и комедиях, где самая форма определяет объем) отличаются сжатостью своего внешнего объема. «Герой нашего времени» занимает немного более половины очень маленькой книжки; Гоголь, кроме «Мертвых душ», писал только маленькие по числу страниц повести; да и самые «Мертвые души», колоссальнейшее из первостепенных произведений русской литературы, если б даже и было докончено в размерах, предположенных автором (три тома), едва равнялось бы половине какого-нибудь диккенсова, теккереева или жорж-зандова романа. Если обратимся за примерами к Пушкину, он покажет нам то же самое. «Дубровский» и «Капитанская дочка» (которую Пушкин называл, как мы видели, широким именем «романа в двух частях») — повести такого размера, что, будучи помещены в каком-нибудь из наших журналов, разве только обе вместе оказались бы достаточны для наполнения отдела словесности в одном нумере, да и будучи напечатаны обе вместе, вызвали бы у рецензентов других журналов замечание: «Давно мы не встречали в журнале NN отдела словесности столь тощим по объему, как ныне». Зато и заметно различие между этими маленькими рассказами и теми пухлыми произведениями, которые так привольно распространяют свои необозримые члены по сотням огромных журнальных страниц. Прочитайте три, четыре страницы «Героя нашего времени», «Капитанской дочки», «Дубровского»— сколько написано на этих страничках! — И место действия, и действующие лица, и несколько начальных сцен, и даже завязка — все поместилось в этой тесной рамке. Такой сухости не встретите в художественно развитых созданиях писателей и писательниц, прекрасный слог которых все так хвалят. Переверните три листа (читать их не стоит — вы увидите, Щго все еще тянется с первой страницы описание комнаты, в которой сидел герой или героиня рассказа; перевертывайте еще лист — а, наконец-то! описание комнаты кончилось (благодарите судьбу, что герой сидит в комнате: если б ехал или шел по полю, картина была бы во столько же раз длиннее описания комнаты, во сколько раз поле с рекою и рощею обширнее комнаты) — итак, описание комнаты кончилось и началось описание физических принадлежностей героя или героини; смело перевертывайте два листа; только на третьем автор переходит к размышлениям и объяснениям нравственных качеств своего пациента. Через пять листов они (насилу-то!) прерываются появлением в комнате нового лица, которое, выдержав прилично подробное описание, начинает разговор, который (после всех прежних объяснений автора) знакомит вас с характером героя; содержание разговора: герой говорит: «я скучаю» (или «я влюблен»), и если читатель не знает по-русски, то из разговора, занимающего пять страниц, познакомится с значением слово «скучаю» (или «влюблен»). Конечно, все это было бы прекрасно, если бы не было решительно излишне, скучно, вяло и пусто. Впрочем, осуждать не смеем: все перевернутые нами листы написаны прекрасным слогом. А быть может, из этих холодных, бесцветных, ничтожных двадцати или тридцати страниц и составилась бы одна исполненная блестящей или тонкой наблюдательности страница, если б автор более дорожил терпением читателей или хотя бумагою, нежели рубинами и изумрудами своего прекрасного слога. Ведь самое блестящее, самое богатое платье на вешалке имеет очень неизящный вид. Оно хорошо только тогда, когда им облечен живой человек, стройный и свежий. Нет, нам дороже всего брильянты и изумруды:
Алмазна сыплется гора
С высот четыремя скалами:
Жемчугу бездна и сребра,
Кипит, блестит, вверх бьет буграми26…
и в бессилии падает мокрою пылью, производящею на живого человека самое неприятное ощущение, а в слабых людях даже насморк. Иногда приходит охота представить осязательное доказательство того, какой вред приносит растянутость, какой интерес, силу и даже красоту придает сжатость, сделав из какой-нибудь растянутой повести, прошедшей незамеченною, «извлечение», «экстракт», который бы выказал ее достоинства, погибшие в пучинах многословия.
Но возвратимся к авторским привычкам Пушкина, к этой «мелкой сети помарок», которыми опутаны его стихи. Многие видели в этом по преимуществу изумительную и достойную всякого подражания заботливость поэта об усовершенствовании своих стихотворений. Мы согласны, что стихи всегда требуют внимательной отделки, что стихотворение не перемаранное, не перечерканное почти всегда будет страдать шероховатостью. Но от этой лежащей в сущности самого дела необходимости делать в стихах много поправок далеко еще до того бесчисленного множества помарок, какое находим у Пушкина, и нам кажется неизлишним представить некоторые соображения с целью предупредить ложные выводы из этой особенности поэтических работ Пушкина. В наше время, и без того придающее слишком много цены внешности и мелочам, было бы, нам кажется, вредно говорить писателям: «Вы тогда только напишете хорошо, когда переправите двадцать раз каждый стих, когда не оставите ни одного не перечеркнутого слова:
Saepe… stylum verlas -7,
как учил еще Гораций, поправляй и поправляй, тогда только будешь истинным поэтом. Мелочным исправлением, филигранною обработкою фраз достигается художественность». А таков, кажется на первый взгляд, должен быть вывод из черновых тетрадей Пушкина.
Но внимательное рассмотрение обстоятельств значительно изменяет его. Не все стихи Пушкина так перечерканы в черновых списках, как, например, отрывок из «Полтавы», с которого снимок приложен к изданию г. Анненкова; г. Анненков заставляет нас заключить, что многие стихотворения, не уступающие другим в художественности, мало подвергались перечеркиванью; по крайней мере, он после выписанных нами строк о том, какою «мелкою сеткою помарок» покрыты бывают страницы Пушкина, продолжает: «Мы в праве думать, что пьесы, написанные Пушкиным сразу, прошли через то же горнило художественного труда, но только в голове его». Следственно, и сам Пушкин часто «писал сразу» свои произведения. Нетерпеливости его характера, тому самому качеству, которое заставляло его писать вразбивку, также должно быть приписано большое участие в помарках — Пушкин начинал писать стих, не успев мысленно окончить его, не успев предвидеть сочетания рифм; потому рифмы часто заставляли его переделывать стих, это ясно из множества приводимых у г. Анненкова отрывков. Много можно привесть подобных объяснений, основанных на особенностях характера Пушкина.
Но важнее всех этих причин то обстоятельство, что Пушкин, сравнительно с нынешними поэтами, был в исключительном положении. Ему предстояло еще выработать стих — тяжелый труд, от которого, благодаря ему, избавлены теперь русские поэты, с тех самых пор, как начинают читать, привыкающие к стихам, лучше которых по художественности, музыкальности и легкости никто от них не требует, да и сами они не могут вообразить себе.
Кроме стиха, Пушкин должен был выработать себе и язык, конечно, представлявший очень много затруднений. В самом деле, язык Пушкина чрезвычайно много разнится от языка Жуковского и Карамзина. Наконец, Пушкин должен был бороться с приемами, которые были введены ‘в привычку прежними стихотворцами, он должен был отбрасывать множество употребительных в тогдашнее время выражений, которые сами собою подвертывались под перо и между тем уже не годились для его поэзии. Эта борьба с устарелым слогом, уже не существующая для нас, благодаря решительной победе Пушкина, должна была стоить ему многих трудов, потому что, несмотря на все исправления, оставила в его стихах некоторые следы. Теперь никто не будет отрицать, что у Пушкина часто встречаются устарелые и для его времени фразы. Ему было надобно много усилий, чтобы изгонять таких неотвязных гостей.
Наконец, мы позволяем себе высказать некоторые сомнения относительно удобства' для русского языка той версификации, которая господствует со времени Ломоносова. Конечно, мы теперь чрезвычайно привыкли к ней, благодаря отчасти самому Пушкину; тем не менее надобно сказать, что она не так натурально приходится к свойствам нашего языка, как, например, к свойствам немецкого, из которого была заимствована без всяких перемен и приноровлений 28. Хотя столь общий эпизод, относящийся вообще к русской поэзии, может показаться не совсем уместным в статье о сочинениях одного поэта; но до сих пор для большей части и читателей и поэтов произведения Пушкина остаются «образцовою книгою русской поэзии» и какой же лучший случай может быть найден для общего взгляда на русскую версификацию, если не воспользоваться представляющимся теперь? Кроме того, если не Пушкин установил нашу версификацию, то он упрочил преобладание в ней тех или других размеров. ‘
Пересмотрев любой стихотворный сборник, мы будем поражены преобладанием ямба над всеми остальными размерами в русской поэзии. Но невозможно предположить всей огромности этого преобладания, не взяв на себя труда подвести итоги. Лучший пример — второй том нового издания, заключающий в себе лирические стихотворения Пушкина до 1830 года (включительно). Вот общие итоги размеров всего этого собрания стихотворений с 1818 по 1830 год (не считаем лицейских, еще не принадлежащих к самостоятельным произведениям):
Ямбом написано….. стихотворении Хореем………. Амфибрахием…… «? (Дактилем) гекзаметром. 6 « Анапестом……. 11Кроме того, надобно заметить, что большая часть стихотворений, написадіных не ямбическими размерами, принадлежит к числу мелких (эпиграммы, надписи, антологические стихотворения). Если мы не будем принимать их в расчет, у нас на сто с лишком стихотворений ямбических останется семнадцать хореических, шесть амфибрахических и одно анапестическое. Мы видим, что из остальных размеров, кроме ямбического, Пушкин писал почти только хореическим (особенно с 1828 года, как бы утомись однообразием ямба); а размеры, имеющие трехсложные стопы (дактиль, амфибрахий и анапест), употреблял чрезвычайно редко. Но замечательно то обстоятельство, что эти немногие стихотворения все принадлежат к лучшим или любимейшим, по общему правилу, что все редкое бывает или особенно удачно, или особенно неудачно 10.
На чем же основано такое господство ямба и отчасти хорея, изгонящее все другие размеры? Неужели, действительно, ямб — самый естественный для русского языка размер? Так обыкновенно думают; но не так на самом деле. Двусложные стопы (ямб и хорей) господствуют в немецкой версификации, потому что немецкая речь, говоря вообще, сама собою укладывается в двусложные стопы, имея ровное число слогов с ударениями и без ударений 11. Не то в русской речи. Наши слова вообще многосложнее: мы не ставим более одного ударения на сложных словах; гораздо реже, нежели немцы, делаем ударение на местоимениях и частицах. Уж поэтому можно предположить, что у нас речь не будет так натурально укладываться в ямбы и хореи, как у немцев, от которых перешло к нам пристрастие к двусложным стопам. Чтобы видеть, в какие стопы всего естественнее должна ложиться русская речь, попробуем сосчитать количество ударений, в ней находящихся. У нас под руками вторая книжка «Современника» за нынешний год, и из нее мы возьмем три или четыре отрывка, потому что, откуда ни брать их, все равно: результат получится тот же самый. Вот несколько строк из первой страницы повести г. Писемского «Виновата ли она?» Отмечаем ударения большими буквами.
я гкИл одИн, энакОмых ие имЕл никоЮ и единственным моИм развлечЕнием бЫло часА пО-два, пО-три ходИть по ТверскОму бульвАру, н, бОг знАет, чегО не передУмать. ОднАжды я встретИл молодОго человЕка, котОрый прЯмо обратился ко мнЕ с вопрОсом: не знАете ли когО-нибУдь из вАших товАрищей, ктО бы приготОвил менЯ в универснтЕт? Я посмотрЕл на негО прИстально; на вИд емУ бЫло лЕт осьмнАдцать, одЕт он бЫл небрЕжно, в приЕмах егО виднА былА беспЕчность. ЛицО выразИ-тельио и с глубОким оттЕнком меланхОлии. — Если вам угОдно, я могУ взЯть Это на себЯ, отвечАл я.
Всего 193 слога; ударений 66; 3X66=198. Итак, только пяти слогов не достает, чтобы количество слогов было втрое больше количества ударений. Вот начало рассказа «Голубые глазки»:
В однОм из сАмых многолЮдных квартАлов ПетербУрга, в большОм и многолЮдном дОме жилА мещАнка ПраскОвья ИвАновна, в продолжЕние четырнадцати лЕт срЯду помещАлась он А в двУх кОмнатах подвАльного этажА, в сАмѳй глубинЕ дворА.
Всего 75 слогов и 25 ударений. Совпадение чисел точно до странности. Вот последний отрывок — начало первой главы переводного романа «Часовщик»:
Я всегдА хорошО Ездил; я охОтник до лошадЕй и всегдА гордИлся тЕм, что у менЯ сАмый рЕзвый рысАк в цЕлой провИнции, я никогдА не отличАлся блестЯщими успЕхами в свЕте; тем с бОльшим удовОльствием я сознаЮ, что менЯ никтО не обгОнит в чИстом пОле.
83 слога и 27 ударений; 3X27=81; следовательно, только два слога лишних против точного определения. Соединив итоги всех трех отрывков, получим 351 слог и в них 118 ударений; 3X118=354. Итак, уклонение от точного размера: на три слога одно ударение (дактиль, амфибрахий, анапест) равняется только трем слогам на 351 слог, или одной двадцатой. Близость удивительная.
Нам кажется, что из этих цифр нельзя не извлечь заключения, что ямб и хорей, требующие в 30 слогах 15 ударений, далеко не так естественны в русском языке, как дактили, амфибрахии, анапесты, требующие в 30 слогах 10 ударений 12 29.
У Жуковского было гораздо более разнообразия в размерах, нежели у Пушкина; амфибрахий встречается у него гораздо чаще; попадается и дактиль (мы говорим не о гекзаметрах, которые, как бы ни были прекрасны, все-таки дурны) и анапест; Пушкин возвратился к исключительному господству ямба. А между тем кажется, что трехсложные стопы (дактиль, амфибрахий, анапест) и гораздо благозвучнее и допускают большее разнообразие размеров, и, наконец, гораздо естественнее в русском языке, нежели ямб и хорей. О большей естественности их невозможен и спор после цифр, приведенных нами. Не можем не заметить, что у одного из современных русских поэтов — конечно, вовсе не преднамеренно — трехсложные стопы очевидно пользуются предпочтительною любовью перед ямбом и хореем 31.
Обычаи нашего стихосложения также очень стеснительны для русских рифм. Было бы слишком долго доказывать здесь исчислениями и сличениями, что в немецком, французском, английском языке находится гораздо большее, нежели в русском, число рифмующих слов для каждого слова; но представим хотя один пример из немецкого языка. Берем слово Band и изменяем по алфавитному порядку первую букву; получаем рифмующие слова fand, Hand, kannt, Kant, Land, Pfand, Rand, Sand, Wand (всего 10); таких слов в немецком тысячи; но просим найти в русском хотя один подобный случай. Вообще, самое беглое сравнение убеждает, что в немецком (не говоря уже о французском и английском) слова рифмуют по принятым ныне правилам в гораздо большем количестве 13, нежели у нас, потому рифмы могут быть менее стеснительны для поэта и для достоинства стихов.
Потому нам кажется, что и рифма в русском языке должна существовать с некоторыми особенными условиями, вытекающими из сущности языка. Один шаг к этому сделан уже поэтом, о котором говорили мы выше и который также любит дактилическую рифму — это по крайней мере разнообразит рифмы 32. Но младость-радость; ночи-очи и т. д., кажется, нуждаются в большей свободе, чтобы разорвать свой несносный союз. Русская рифма, нам кажется, могла б довольствоваться не одинакостью, а_гіодоб-ностью звуков, как эго бывает иногда у Кольцова. Конечно, это созвучие должно быть сильно, резко, чтобы быть заметным 33.
Но в том, что рифма должна остаться необходимою принадлежностью русского стиха, невозможно сомневаться; вся история русского народного стихосложения показывает его стремление приучить себя к рифме. Точно так же и различие нашего языка с немецким в предпочтении одного размера другим никак не должно вести к заключению, чтобы русская поэзия могла принять стихосложение простонародных песен; потому что сами песни выказывали постоянное стремление подчиниться тем стопам, какие введены в нашей литературной поэзии. Стихосложение нашей народной поэзии само покидает свои прежние правила, учится новым, принятым нашею литературою со времени Ломоносова, и тем само изобличает свою слабость сравнительно с новою версифика-циею. Теперь уж не только литераторы, но и народ не могут возвратиться к старинной форме песни. Да и нельзя жалеть о невозможности восстановить ее господство, потому что старинный наш размер, каковы бы ни были его достоинства, слишком поражает своею монотонностью. Однако пора окончить наше отступление.
Из всех обстоятельств, имевших влияние на привычку Пушкина посвящать много внимания и усилий на обработку формы своих стихов, самое важное то, что Пушкин был по преимуществу поэт формы. Этим не хотим мы сказать, что существенное значение его в истории русской поэзии — обработка стиха; в такой мысли отзывался бы слишком узкий взгляд на значение поэзии в обществе. Но действительно, существеннейшее значение произведений Пушкина — то, что они прекрасны или, как любят ныне выражаться, художественны. Пушкин не был поэтом какого-нибудь определенного воззрения на жизнь,'“как'" Байрон, не был даже поэтом мысли вообще, как, например, Гёте и Шиллер. Художественная форма «Фауста», «Валленштейна», «Чайльд-Г'а-рольда» возникла для того, чтобы в ней выразилось глубокое воззрение на жизнь; в произведениях Пушкина мы не найдем этого34. У него художественность составляет не одну оболочку, а зерно и оболочку имеете.
Одна только определенная сторона в характере содержания может быть уловлена у Пушкина: он хотел быть русским историческим поэтом. «Борис Годунов», «Полтава», «Медный всадник», «Арап Петра Великого», отчасти «Капитанская дочка» были созданы не только художническою потребностью, но и желанием выразить свое определенное созерцание явлений русской истории. Но и здесь Пушкин остался верен самому себе: он не высказал ничего принадлежащего ему; взгляд его на исторические характеры и явления был не более, как отражение общих понятий. Петр — великий человек, мудрый правитель; Карл — опрометчивый герой; Мазепа — коварный изменник — более ничего не высказано в «Полтаве» об этих лицах. «Борис Годунов» — повторение характеров и взглядов, высказанных Карамзиным. Воо'бще, исторические произведения Пушкина сильны общею психологическою верностью характеров, но не тем, чтобы Пушкин прозревал в изображаемых событиях глубокий внутренний интерес их, как, например, Гёте в своем «Гёце фон Берлихингене», с которым неудачно сближали «Бориса Годунова» Говоря все это, мы повторяем мысли, высказанные давно. Пушкин по преимуществу поэт-художник, не поэт-мыслитель; то есть существенный смысл его произведений — художественная их красота. Если, однако, повторить вопрос, которым занималась «чернь тупая» еще при жизни поэта:
Зачем так звучно он поет?
Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?
О чем бренчит? чему нас учит?
Зачем сердца волнует, мучит.
Как своенравный чародей?
Как ветер песнь его свободна;
Зато как ветер и бесплодна;
Какая польза нам от ней? 06
Ныне можно отвечать на эти вопросы, очень основательные, гораздо спокойнее и гораздо выгоднее для значения Пушкина в истории нашего развития, нежели отвечал на них сам Пушкин 37. Он по особенности своего поэтического настроения именно соответствовал если не всем, то по крайней мере одной из важнейших потребностей своего времени, которое, впрочем, едва ли не должно еще назвать и нашим временем. Его произведения могущественно действовали на пробуждение сочувствия к поэзии в массе русского общества, они умножили в десять раз число людей, интересующихся литературою и через то делающихся способными к восприятию высшего нравственного развития. Он сам прекрасно очертил это достоинство литературных произведений, говоря:
Плодят читателей они;
Где есть поветрие на чтенье,
Там просвещенье, там добро38.
О нашей литературе, чтоб она сохранила свою важность, как и вообще о нашей истории, должно судить, принимая в соображение не требования, приложимые к другим землям, а особенности положения русского общества. Байрон, если бы вздумал писать в 1820 году по-русски, не нашел бы себе и сотой доли того сочувствия, какое было пробуждено Пушкиным, и имел бы во сто раз менее значения для нашего развития, нежели Пушкин. Теперь излишне доказывать эт®, когда для всех ясно, как был понимаем Байрон самим Пушкиным, подобных которому по степени развития людей была тогда в России горсть. Но есть и другой пример. Шиллер был, кажется, гораздо доступнее для неприготовленного человека, нежели Байрон. Жуковский перевел Шиллера. Поняли ль его? Оценили ль сколько-нибудь? Нет, эффект производил нс «Кубок», не «Торжество победителей», а пустые «Людмила» или «Ленора» и нелепые баллады Соути «О том, как старушка ехала на коне, и кто ехал с нею» 39; ведь Жуковский для своих читателей имел интерес как «балладник», а не как переводчик Шиллера. Период, представителем потребностей которого был Пушкин, не совершенно еще окончился; и современная русская литература, много отличаясь от литеоатуры 1820–1835 годов, имеет еще с нею гораздо больше общности, нежели различия по своему значению. Это доказывается, между прочим, например, тем, что большинство даже избраннейших читателей еще предпочитает Пушкина Гоголю. И сообразно своим потребностям, этот многочисленнейший разряд общества совершенно прав. Говоря о значении Пушкина в истории развития нашей литературы и общества, должно смотреть не на то, до какой степени выразились в его произведениях различные стремления, встречаемые на других ступенях развития общества, а принимать в соображение настоятельнейшую потребность и тогдашнего и даже нынешнего времени — потребность литературных и гуманных интересов вообще. В этом отношении значение Пушкина неизмеримо велико. Через него разлилось литературное образование на десятки тысяч людей, между тем как до него литературные интересы занимали не многих. Он первый возвел у нас литературу в достоинство национального дела, между тем как прежде она была, по удачному заглавию одного из старинных журналов, «Приятным и полезным препровождением времени» для тесного кружка дилетантов 40. Он был первым поэтом, который стал в глазах всей русской публики на то высокое место, какое должен занимать в своей стране великий писатель. Вся возможность дальнейшего развития русской литературы была приготовлена и отчасти еще приготовляется Пушкиным.
Но если Пушкин по преимуществу поэт-художник, если в его произведениях выразилось не столько развитие поэтического содержания, сколько развитие поэтической формы, то нельзя забывать, что Пушкин, не будучи по преимуществу ни мыслителем, ни ученым, был человек необыкновенного ума и человек чрезвычайно образованный; не только за тридцать лет назад, но и ныне в нашем обществе не много найдется людей, равных Пушкину по ббра-зовайности. Потому хотя в его произведениях не должно искать главнейшим образом глубокого содержания, ясно сознанного и последовательного 41, зато каждая страница его кипит умом и жизнью образованной мысли. Если б читатели по преимуществу искали в нем содержания, они бы, вероятно, потребовали большего; но они не искали, не требовали, и содержание давалось им невзначай, без просьбы с их стороны, и для них это содержание было так обильно и глубоко, что они едва могли выносить это тяжелое для непривычного человека богатство. Каждый стих, каждая строка беглых заметок Пушкина затрогивала, возбуждала мысль, если читатель мог пробудиться к мысли. Это значение Пушкин продолжает еще сохранять до нашего времени. Ограничимся примерами, относящимися специально к понятиям о русской литературе. Что Пушкин не был рожден критиком, это до очевидности обнаруживают его суждения о современных ему русских писателях; если в этих мнениях оставим хоть одну сотую часть искренности, относя остальное к любезности и добродушию Пушкина, то надобно будет сказать, что Пушкин смотрел на хвалимые произведения очень наивно. А между тем и тут найдем у него много верных замечаний; а сколько проницательности, верности в его беглых замечаниях о предшествовавшей ему русской литературе! Так, например, три или четыре длинные и глубокомысленные статьи о Княжнине 42, приносящие величайшую честь их автору, составились из перифраза двух слов, невзначай сказанных Пушкиным: «Переимчивый Княжнин» 4,!. Подобные же истории произошли с беглыми заметками Пушкина о Фонвизине, Ломоносове и проч. Интересно знать, многие ли даже и ныне постигнут всю справедливость заметок Пушкина о Державине 44 или следующей:
…«Стихотворство для Ломоносова было иногда забавою, чаще должностным упражнением» Ч
Сумарокова Пушкин называет «бездарнейшим из подражателей» 46, а о русской литературе конца XVIII и начала XIX века судит он так:
«Ничтожество общее. Французская обмельчавшая словесность envahit tout: 14 знаменитые писатели не имеют ни одного последователя в России, но бездарные писаки, грибы, выросшие у корней дубов: Дорат, Флориян, Мар-монтель, Гимар, М-me Жанлис овладевают русскою словесностью»47.
Если многие из нынешних критиков и историков литературы и теперь задумаются над этими словами, то можно судить, сколько ума и проницательности должен был иметь человек, высказывавший такие мнения в 1825 году, и как многому было можно (и до сих пор должно) учиться у него, о чем бы ни заговорил он, чего бы ни коснулся.
Вообще, влияние человека, одаренного таким огромным умом и так высоко стоявшего по своей образованности, как Пушкин, было неизмеримо важно для развития читателей, им созданных и очарованных его гениальным талантом. В истории русской образованности Пушкин занимает такое же место, как и в истории русской поэзии. Будем же читать и перечитывать творения великого поэта и, с признательностью думая о значении их для русской образованности, повторять вслед за ним: '
Да здравствуют Музы, да здравствует Разум!
И да будет бессмертна память людей, служивших Музам и Разуму, как служил Пушкин 18.
СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ
Издание творений нашего великого поэта, встреченное нетерпеливым ожиданием публики, быстро приближается к окончанию. Через три месяца по выходе двух первых томов явились еще два — третий, заключающий в себе лирические стихотворения.1831–1836 годов, поэмы и повести, писанные стихами, простонародные сказки, песни западных славян, и пятый, содержащий: 1) Записки Пушкина (отрывки автобиографии, мысли, замечания, анекдоты и «Путешествие в Арзерум»); 2) романы и повести, писанные прозою; 3) журнальные статьи. В самом непродолжительном времени, вероятно, в первых числах июля, выйдут и остальные два тома нового издания — четвертый (содержащий «Евгения Онегина», «Бориса Годунова» и другие драматические произведения) и шестой («История Пугачевского бунта» с примечаниями и «возражениями» Пушкина на критику Бронев-ского) *. Таким образом, скоро русские читатели будут иметь в руках полное издание «Сочинений Пушкина», оконченное менее, нежели в течение полугода со времени появления первых томов, — быстрота, за которую нельзя не благодарить издателя, оказавшего тем великую услугу русской публике.
В предыдущих глазах мы представили очерки характера Пушкина и приемов, которыми отличалось его творчество. Теперь мы должны перейти к рассмотрению самых его произведений. Но мы уже говорили в начале первой статьи, что считаем излишним в настоящее время рассматривать сочинения Пушкина в художественном отношении. Против обыкновения, которому любят следовать рецензенты, утверждая, что предшествующие разборы не достаточно объяснили значение рассматриваемой книги, мы решительно сказали, что давно уже произведения Пушкина превосходно оценены и, насколько то возможно было, объяснены эстетическою критикою. Нам приятно было видеть, что и другие рецензенты согласились с этим мнением («Отечественные Записки» 1855 г. № VI, отдел критики) ~. Потому нам остается только взглянуть на те стороны явления, которые, быть может, представляют несколько вопросов, еще не совершенно объясненных, — именно, проследить ход изменения идей, которыми одушевлялась деятельность Пушкина в различные эпохи, и отношение этих направлений к общественному мнению того времени, отголоском которого были журнальные статьи. Взгляд на отзывы, возбужденные в журналах произведениями Пушкина, послужит опорою собственных наших заключений о различных фазисах поэтической деятельности Пушкина, — и мы начнем обозрением отношений критики двадцатых и тридцатых годов к нашему поэту, чтобы ясна была тесная связь, соединяющая образ мыслей нашего времени с потребностями этого недавнего прошедшего, и чтобы наши мнения являлись уже только по изложении несомненных фактов, принадлежащих истории литературы. Эти факты можно было бы изложить очень кратко, если б не были часто высказываемы относительно их предубежденные и односторонние суждения. Теперь же по необходимости надобно представите ход дела с некоторою подробностью, чтобы истина обнаружилась несомненно.
Обыкновенно говорят, будто бы с самого появления «Руслана и Людмилы» началось широкое и чрезвычайно сильное критическое движение в тогдашних' журналах; многие даже воображают, будто бы борьба против и за Пушкина в течение целых шестнадцати лет (1820–1836) так же занимала перья журналистов, как, например, в последующее время прения против и в защиту натуральной школы, два или три года постоянно одушевлявшие русскую журналистику. Такое понятие не совсем точно. Если собрать все, что было написано в журналах двадцатых годов о всех произведениях Пушкина до «Полтавы», то масса будет менее, нежели то, что было в наше время написано, например, по случаю появления комедии г. Островского «Бедность не порок». В тощих книжках тогдашних журналов страницы наполнялись переводами, бесчисленными стихотворениями и вялыми статейками о неимоверно сухих предметах. Отзывы о явлениях литературы ограничивались обыкновенно очень немногими страничками, если не строками. Только в последнее время деятельности Пушкина критика получила более развития. Другая ошибка, еще важнейшая, состоит в том, что думают, будто критика, современная Пушкину, нисколько не умела оценить его. Мы вовсе не имеем желания превозносить прошедшее; готовы сказать о нем вообще, что его значение преувеличивается даже теми людьми, которые наиболее строго судят о нем. Но тем не менее должны мы сказать, что люди умные и, посвоему времени, очень проницательные существовали всегда; что каковы бывают писатели, точно таковы же бывают и критики — те и другие рождаются одним и тем же обществом. Конечно, и во времена Пушкина, как всегда, были нелепые критики, наравне с нелепыми писателями. Но по рецензиям или романам и стихам этих бездарных людей было бы несправедливо судить о той эпохе, как несправедливо судить о нашем времени по произведениям вроде «Ассамблеи», «Энхири-диона любознательного» 3 и тем рецензиям, в которых доказывается, что Гоголь — плохой писатель. И как в наше время писатели, хотя сколько-нибудь сознающие свое достоинство, не обращают ни малейшего внимания на отзывы некоторых критиков, точно так же и Пушкин мог и должен был нимало не оскорбляться отзывами «Галатеи», «Дамского Журнала» 4 и т. д. Бесполезно и теперь вспоминать об этих «беззубых критиках» (по удачному выражению одного из журналов Пушкинской эпохи). Мы хотим проследить мнения, какие были высказываемы о произведениях нашего поэта лучшими из современных ему журналов, которые одни пользовались’ весом в кругу людей образованных. Критика этих журналов была вовсе не так поверхностна, придирчива и пуста, как обыкновенно думают. Мы нимало не хотим утверждать, чтобы «Телеграф» и «Телескоп» были совершенно непогрешитсльны в своих суждениях о Пушкине 5, но непредубежденный читатель, просмотрев сведенные нами факты, вероятно, согласится, что в сущности в этих разборах было более верного и дельного, нежели пустого и придирчивого.
«Наши критики долго оставляли меня в покое», — говорит Пушкин в своих «замечаниях». — «Первые неприязненные статьи, помнится, стали появляться по напечатании четвертой и пятой песни «Евгения Онегина» 6 — но эти статьи принадлежали перьям столь слабым, что не заслуживали ни малейшего внимания, и поэт совершенно напрасно трудился отвечать на упрек г. Б. Федорова 7 за слово «корова», по мнению критика, низкое и неблагородное. Отзывы единственного журнала, пользовавшегося почти исключительным влиянием на публику — «Московского Телеграфа» и после того несколько лет продолжали быть чрезвычайно благоприятны, или, лучше сказать, восторженны. Они даже не заключали в себе никаких замечаний, хотя бы самых легких и нежных. Едва ли не в первый раз «Московский Телеграф» сделал замечание Пушкину в статье о «Цыганах» (М. Т. 1827, ч. 15, стр. III и след.), которая, впрочем, была проникнута еще большим восторгом, нежели прежние отзывы. Этот разбор выставляется нам в самом смешном и жалком виде известною заметкою Пушкина:
«Покойный Р.8 негодовал, зачем Алеко водит медведя и еще собирает деньги с глазеющей публики. В. (кн. Вяземский) повторил то же замечание (в разборе, о котором мы говорим) 9. Р. просил меня сделать из Алеко хоть кузнеца, что было бы не в пример благороднее. Всего лучше было бы сделать из него чиновника или помещика, а не цыгана. В таком случае, правда, не было б и самой поэмы — та tanto meglio» (тем лучше,)10.
Если бы даже и нельзя было защищать упрека, который кажется столь забавен, то довольно просмотреть статью, в которой он помещен, чтобы ее критическое достоинство не нуждалось в защите.
В разборе своем кн. Вяземский сначала говорит, что талант Пушкина развивается, что в «Цыганах» видно «более зрелости, более силы, свободы, развязности», нежели в «Кавказском пленнике» и «Бахчисарайском фонтане»; что эта поэма — лучшее из доселе напечатанных произведений Пушкина; что она переносит нас в новую сферу жизни; что она пробуждает чувства, не «затверженные на память», а свежие, новые; что если она отзывается влиянием Байрона, то подражение едза уловимо. Затем говорится о праве поэта представлять сцены в отрывочной форме, лишь бы только они имели внутреннюю связь и последовательность — она есть в «Цыганах», и, следовательно, поэму нельзя упрекать за внешнюю отрывочность сцен. Потом анализируется содержание поэмы, характеры Алеко и Земфиры; критик находит все поэтическим и художественным; разбирается мнение некоторых, будто бы эпизод об Овидии 11 неуместен в устах цыгана, и доказывается, что этот упрек пустая придирка — здесь следует несколько строк (а статья занимает 12 страниц) о том, что'напрасно Пушкин заставил Алеко водить медведя и тем впал в фарс — статья заклю чается так:
«Пушкин совершил много; но может совершить еще более. Он должен это чувствовать, и мы в этом убеждены за него. Он конечно далеко за собою оставил берега и сверстников своих; но все еще предстоят ему новые испытания сил своих; он может плыть еще далее».
Оставим в стороне фразу о медведе — и мы должны будем согласиться, что все прочее в разборе очень справедливо, и что даже теперь почти нечего прибавить к высказанному в нем. Да и самое недовольство рецензента медведем легко может быть объяснено очень уважительными причинами. Угрюмый и гордый Алеко вовсе неспособен гаерствовать перед толпою, и, действительно, только желание Пушкина вставить в картину его бродячей жизни насмешку над чопорностью условных приличий внушило ему мысль придать своему герою черту, которая не соответствует общему очерку характера.
Удивлением и благоговением к Пушкину проникнуты и следующие за тем отзывы «Телеграфа» — до появления VII главы «Евгения Онегина», разбор которой помещен в последней части «Телеграфа» за 1830 год. Здесь уже с грустью говорится о том, что блестящий талант Пушкина запутался среди отношений, не благоприятствующих его развитию, и рецензент ищет объяснений того факта, что вновь вышедшая глава романа принята публикою нс с таким восторгом, как прежние. Тон статьи умерен и деликатен, но тверд и независим: в нем слышится уважение, но нет и тени прежнего энтузиазма. Еще холоднее, нежели о VII главе «Евгения», отзыв о «Борисе Годунове», помещенный в той же части журнала |2. Наконец — все в той же 32-й части «Телеграфа», находим пародию известной эпиграммы Пушкина «Собрание насекомых»:
ЭПИГРАММА
На ниве бедной и бесплодной Российской прозы и стихов Я, сын поэзии холодной,
Вам набрал травок и цветов;
В тиски хохочущей сатиры Я их когтями положил И резким звуком смелой лиры Их описал н иссушил.
Вот Чайльд Гарольдия15 смешная. Вот Дон-Жуанкя моя;
Вот Дидеротия блажная,
Вот русской белены семья;
Пырей Ливонии удалой И финский наш чертополох,
И мак Германии удалой И древних эллинов горох 16
Все, все рядком в моих листочках Разложено, уложено
И эпиграммы в легких строчках На смех другим обречено.
Обезьяньи 13
(«Московский Телеграф» 1830 г. ч. 32, стр. 133.)
Через два года была помещена другая пародия — знаменитого стихотворения Пушкина «Чернь»:
ТРУДОЛЮБИВЫЙ МУРАВЕЙ
NN
И сторическо-политическо-литературная Г азета, издаваемая в городе Яковом Ротозеевым и Фомою Низкопоклониным 17.
ПОЭТ
(Посвящено Ф. Ф. Мотылъкову)
Самовластительный губитель Забав и доблестей своих,
То добрый гений, то мучитель,
Мертвец средь радостей земных И гость веселый на кладбище,
ПоэтІ скажи мне: где жилище,
Где дом твой, дивный чародей?
Небрежной лирою своей Ты нас то мучишь, то терзаешь,
То радуешь, то веселишь;
К ногам порока упадаешь,
Добро презрением даришь:
То над неопытною девой.
Как старый грешник, шутишь ты…
Скажи, зачем твои сомненья,
Твои безумные волненья,
Зачем в тебе порок и зло Блестящим даром облекло Судьбы счастливой заблужденье?
Зачем к тебе — сует дитя,
Всползли, взгнездилися пороки:
Лжи, лести, низости уроки Ты проповедуешь шутя?
С твоим божественным искусством,
Зачем, презренной славы льстец,
Зачем предательским ты чувством Мрачишь лавровый свой венец?
Так говорила чернь слепая,
Поэту дивному внимая:
Он горделиво посмотрел На вопль и клики чедни дикой,
Не дорож» ее уликой.
Как юный, бодрственный орел,
Ударил в струны золотые,
С земли далеко улетел,
В передней у вельможи сел И песни дивные, живые В восторге радости запел 14.
Бессмыслов
С.-Петербург, 1832.
Здесь, ясно, дело идет о «Литературной Газете», которую издавал Дельвиг (его, очевидно, должно разуметь под именем Якова Ротозеева), литературный клиент Пушкина (которого хочет пародия означить именем Фомы Низкопоклонина). Прозвища «Мотыльков» и «Бессмыслов», очевидно, относит она также к нему.
Форма последней пародии очень жестка; но таковы были тогда литературные обычаи в эпиграммах и пародиях; сам Пушкин часто бывал не менее резок, — довольно припомнить знаменитые статьи Феофилакта Косичкина в «Телескопе», не менее знаменитую статью о Видоке 15 и многие из его эпиграмм — из них приведем только одну, подписанную его именем и напечатанную в «Телеграфе» 1829 года (часть 26, стр. 408).
ЭПИГРАММА
Там, где древний Кочерговский Над Ролленем опочил,
Дней новейших Тредьяковский Колдовал и ворожил:
Дурень, к солнцу став спиною,
Под холодный Вестчик свой Прыскал мертвою водою,
Прыскал ижицу живой.
А. Пушкин
Под «Кочерговским» еще яснее виден «Каченовский» (поместивший незадолго перед тем в свеем журнале одну из статей экс-студента Надоумко) 16, нежели под «Мотыльковым» Пушкин. Потому, если нам теперь предосудительною кажется неделикатность формы, то осуждать можно только вообще литературные обычаи всего общества той эпохи, а не в частности того или другого из людей, поступавших в этом случае точно так же, как и все прочие. Если же непременно захотим обвинять кого-нибудь в частности, то скорее надобно искать виновников такого обычая между приверженцами Пушкина, нежели между его литературными противниками. Положительные указания на то легко найти в тогдашних журналах. Мы, чтобы не увеличивать число цитат, ограничимся одною ссылкою на «Московский Телеграф» (1830 года), часть 31, стр. 79.
Итак, около конца 1830 года отзывы «Телеграфа» о Пушкине изменились; вместо прежнего энтузиазма водворилась сначала холодность, потом явный раздор. В чем же надобно искать причин этой перемены, и кого считать первым виновником той жесткости, до которой часто доходила распря? Обыкновенно во всем обвиняют издателя «Телеграфа», совершенно оправдывая приверженцев Пушкина, тем более самого Пушкина. Факты не подтверждают такого приговора, составленного исключительно на основании авторитета самого Пушкина.
Что касается изменения в сущности суждений о произведениях Пушкина, начиная с 1830 года, журналы (и в том числе «Московский Телеграф») были только отголоском общего мнения огромного большинства публики.
Но справедлива или несправедлива была публика, становясь равнодушнее к новым произведениям Пушкина, нельзя обвинять журналы за то, что они не прошли молчанием этот факт и старались объяснить его; нельзя было бы строго осуждать их и за то, если бы они безотчетно увлеклись общим мнением. Но о «Телеграфе», отношения которого к Пушкину теперь занимают нас, должно сказать, что он старался, пока доставало у него сил внутреннего убеждения, бороться с изменившимся мнением публики; что потом, начав отчасти разделять это мнение, он делал это не по слепому увлечению из одной крайности в другую, а по сознательному и твердому убеждению, которое совершенно гармонировало с общим направлением этого журнала. Он остался верен себе, когда изменившиеся отношения Пушкина к публике заставили его не признавать в последующих творениях поэта того значения для русской литературы, какое имели его первые произведения. Выписки, которые мы приведем сейчас, неоспоримо это доказывают.
Одним из первых поводов вражды близких друзей Пушкина против «Московского Телеграфа» были отзывы этого журнала о «Северных Цветах» Дельвига. Первый год этого альманаха (1827) был встречен в «Телеграфе» безусловною похвалою — которой и заслуживала эта книжка. — «Северные Цветы», — говорил отзыв, — лучший у нас альманах, который может выдержать сравнение с лучшими иностранными».
Точно таков же был отзыв и о следующем выпуске альманаха (за 1828 год). «Барон Дельвиг, — говорилось в «Телеграфе», — не только поддержал прежнюю славу своего издания, но, по отделению словесности, кажется, усовершенствовал его строгою разборчивостью». Между тем, в альманахе за этот год явился «Обзор русской словесности» Ореста Сомова, который отозвался о «Телеграфе» очень холодно, гораздо холоднее, нежели о «Сыне Отечества», «Северном Архиве» и «Северной Пчеле», которые получили на свою долю несколько искренних похвал (хотя беспристрастие и общий голос публики, конечно, требовали отдать справедливость «Телеграфу», бесспорно лучшему из тогдашних журналов); к двусмысленной похвале «Телеграфу» («сей журнал нравится своим разнообразием») Сомов прибавлял упреки в заносчивости суждений и нечистоте слога. Относительно первого нельзя не сказать, что он был совершенно напрасен: откровенные и основательные, но умеренные суждения о книгах составляли одно из лучиліх достоинств «Телеграфа». Издатель этого журнала отвечал Сомову скромно и деликатно; тем нс менее, Сомов, очевидно, обиделся, потому что в следу-
ющем обзоре (1829 г.) с едкими намеками сказал, что не хочет и говорить о журналах, уже утвердившихся во мнении публики; он желчно говорил, что не хочет вновь «подвергаться укоризнам». Зато, без сомнения с расчетом, в «Северных Цветах» этого года (1829) была помещена статья Измайлова «О новой журнальной критике», направленная против Полевого, написанная запальчиво и оскорбительно. Тем не менее, и на этот раз «Телеграф» отозвался об альманахе, уже ставшем к нему враждебно, с горячими похвалами. Очевидно, ему хотелось избежать ссоры.
Но через несколько месяцев он имел несчастие говорить о «Стихотворениях» самого Дельвига и тем раздражить его. Прежде всего должно заметить, что статья была подписана не издателем журнала, Н. А. Полевым, а его братом, К. А. Проповедуя романтизм, «Телеграф», конечно, не мог восхищаться псевдоантичными идиллиями и двустишиями барона Дельвига; но взамен того осыпал похвалами его русские песни. Мы вовсе не предубеждены в пользу г. К. Полевого, но должны сказать, что статья о Дельвиге была написана очень умно и деликатно. Например, рецензент старался смягчить свое справедливое мнение о невозможности в наше время писать теокритовские идиллии17 указанием, что и самому Гёте не удались его античные стихотворения. Многие на месте Дельвига были бы благодарны за такое сближение. Но автор идиллий был не таков. Сам Пушкин, несмотря на свою задушевную дружбу с Дельвигом, не решался делать ему даже изустных замечаний, чтобы не раздражить его литературного самолюбия. В журнальных пародиях Дельвиг был известен под названием «Недотыка». Можно себе вообразить, как он был раздражен статьею «Телеграфа». Правда, этот журнал был так деликатен и уступчив в этом случае, что вслед за статьею поместил возраженйя на нее г. Лихонина, старавшегося доказать, что Дельвиг прав, подражая Теокриту, — но ничто не помогло. Через три или четыре месяца после появления зловредной статьи была основана «Литературная Газета», беспощадно и очень неразборчиво разившая издателя «Телеграфа» — смертоносная статья была написана не им, но барон Дельвиг и его сподвижники не хотели ничего принимать в соображение — они разили, разили ненавистный «Телеграф» и смертельного врага своего, Полевого, пока сами не были поражены одним из своих ударов, слишком нелитературным18 (см. «Лит. Газ.» 1830 г., 2-е полугодие, стр. 72). Исчислять сотни язвительных выходок и целые десятки статей, явившихся в этой газете против издателя «Телеграфа», было бы утомительно и бесполезно.
Вражда Дельвига к этому человеку была, без всякого сомнения, важнейшею причиною вражды, которую начал питать к нему и Пушкин. Это ясно для всякого, кто припомнит беспредельную преданность Пушкина своему другу.
Но из числа главных сотрудников «Литературной Газеты» и
ближайших друзей Пушкина не один Дельвиг был смертельным врагом Полевого. Кн. Вяземский, который в течение нескольких лет столь деятельно участвовал в «Телеграфе» и которому по преимуществу обязана своим происхождением полемика, в которую тогда вовлекался этот журнал, также поссорился с Полевым. Причин ссоры мы не знаем; но можем быть уверены, что во всяком случае они не заключали в себе ничего предосудительного для чести Полевого, потому что иначе его стали бы колоть намеками о том; и каковы бы ни были причины распри, достоверно то, что бывший сотрудник в то время весьма не благоволил к изданию «Телеграфа». Памятниками его вражды остались, кроме статей, помещенных в «Литерат. Газете», несколько эпиграмм, «Письмо к А. И. Г. — ой» (в «Деннице» на 1830 г.)19 и проч. В этой последней филиппике была и знаменитая фраза: «с некоторого * времени журналы наши так грязны, что читать их не иначе можно, как в перчатках» — на что было замечено, что прежде, когда автор письма не чуждался их, они были едва ли лучше.
П. А. Катенин, чрезвычайно уважаемый Пушкиным и как поэт, и как мыслитель, также не мог благоприятствовать Полевому, который с самого начала не разделял мнений Пушкина о его поэтических произведениях (и был в этом совершенно прав).
Из всех случаев оскорбить отзывами о них и самого Катенина и его гениального поклонника упомянем только об одном: в 1827 году Полевой разбирал очерк русской литературы в Атласе Бальби20; в этой статье, наполненной нелепостями, была, между прочим, фраза: «Мельпомена русская только на г. Катенина имеет надежды» — «Телеграф» посмеялся над этим забавным уверением (часть 17, стр. 122). Подобных столкновений было много.
Кроме того, мы уже знаем, что Орест Сомов принадлежал в 1829–1831 годах к отъявленным врагам Полевого; а Сомов имел, может быть, влияние на Дельвига и, конечно, раздувал ненависть 21.
Не удивительно, если Пушкин, горою стоявший за своего друга Дельвига, принимавший к сердцу все его жалобы и горести, оскорблявшийся нападениями на его авторскую славу гораздо более, нежели на свою собственную, — Пушкин, любивший и уважавший кн. Вяземского, благоговевший перед Катениным, был увлечен в их вражду с Полевым.
Вот, по нашему мнению, главнейшая причина распри, разделившей великого поэта с человеком, который, не равняясь с ним по таланту, также заслуживает некоторого уважения и благодарное воспоминание о котором во многих, к сожалению, еще помрачено опалою, какой подвергся он от Пушкина. Это объяснение, оправдывая Полевого, обнаруживает с тем вместе и в самых увлечениях его великого противника благородные побуждения безграничной, бескорыстной преданности друзьям.
Этот главный мотив, без всякого сомнения, усиливается теми природными наклонностями Пушкина, которые прекрасно разъяснены П. В. Анненковым, — уважением к преданиям старины, благоговением к памяти Карамзина и, наконец, особенным расположением к издателю другого журнала, «Московского Вестника», бывшего во вражде с «Телеграфом»22. Последнее обстоятельство не требует подробных доказательств. Но выпишем несколько верных слов г. Анненкова о первой из причин неблаговоления нашего поэта к журналу Полевого.
«Все более оскорбляло Пушкина то уничтожение авторитетов и литературных репутаций (незаслуженных, прибавим мы), которое происходило от немедленного приложения вычитанных (и большею частью справедливых) идей к явлениям отечественной словесности. Несмотря на ловкость и остроумие, с какими иногда (большею частью) производились эти опыты, Пушкин не имел к ним ни малейшего сочувствия. Притом «Московский Телеграф» был совершенною противуположностью духу, господствовавшему у нас в эпоху литературных обществ; он их заменил, образовав новое направление в словесности и критике. С его появления, журнал приобрел свой голос в деле литературы. Расположение литературных обществ к своим сочленам (т. е. превозношение похвалами всех бездарных знакомых) сделалось тогда достоянием истории. Пушкин сохранял убеждения старого члена литературных обществ. К новому порядку вещей, где личное мнение (напротив, общественное мнение, которым только и поддерживается журнал, а не пересуды и похвалы тесною кружка приятелей, как прежде) играло такую роль, он уже не мог привыкнуть всю жизнь. С первых же признаков его появления, он начал свою систему рассчитанного противодействия, забывая иногда и то, что высказывалось по временам (очень часто) дельного и существенного противниками, и постоянно имея в виду только одно: возвратить критику в руки малого, избранного круга писателей, уже облеченного уважением и доверенностью публики» (нет, доверием публики пользовались его противники; скорее надо сказать; писателей, составивших между собою общество взаимного застрахования от критики, как это бывало в старину) 23.
«Телеграф», защищаясь от нападений «Литературной Газеты», должен был нападать и сам. Газета и ее издатель не были щадимы. Вот, напр., несколько пародий24 на антологические стихотворения Дельвига:
сходство
Сшили фрак; и был он модный, прекрасный, изящный.
Мода прошла и — на ветошь он продан: не то ли и с нами?
Феокритов
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
I
Трубку я докурил и, пепел ее выбивая,
Думал: «Так выбивает из света нас Крон беспощадныйі»
II
Роза цвела и поля украшала и взор веселила;
Буря измяла цветок; погиб он для взора. О, смертный!
Жизнь есть цветок, и смерть его мнет: так все на свете!
Феокритов
Место не позволяет нам выписывать других пародий, иногда очень удачных, как переложения русских песен на чухонский лад, напр., «русская песня без чухонских приправ»:
Ты рябинушка, ты кудрявая,
Ты когда взошла, когда выросла, и т. д.
И «русская песня на чухонский лад»:
В густом лесу, в темном бору Цветет, растет рябины куст, и т. д.
Это, конечно, еще более усиливало вражду, и удары на Полевого сыпались в каждом нумере «Литературной Газеты». — Его обвиняли в хвастовстве, невежестве, своекорыстии, отсутствии литературной и коммерческой честности25; было много и других выходок, еще менее дозволительных правилами литературной полемики. Мы не можем с достоверностью решить, какие из этих статей принадлежали Пушкину, какие были помещены по его совету; быть может, многих он и не одобрял; но, во всяком случае, он был душою, он составлял главную силу всей партии, враждовавшей против «Телеграфа», — какие же отзывы в то время делал журнал о его произведениях?
О «Полтаве», которую публика приняла холодно и которая была растерзана в «Вестнике Европы»26, «Телеграф» поместил две статьи. Вот главные места из первой, краткой («Телеграф» 1829 г., часть 26, стр. 337):
«С появлением сей поэмы, Пушкин становится на степень столь высокую, что мы не смеем в кратком известии изрекать приговор новому его произведению. Доселе русские библиографы, и в числе их мы сами, следовали в отношении к Пушкину словам Вольтера, сказавшего о Расине, что под каждою его страницею должно подписывать: прекрасно! превосходно! Впрочем, это естественный ход вещей; всякое необыкновенное явление сначала поражает, а после уже дает время подумать об отчете самому себе. Но, удерживаясь на сей раз от решительного суждения о «Полтаве», мы скажем, однакож, что видим в ней, при всех других достоинствах, новое — народность. В «Полтаве», с начала до конца, везде русская душа, русский ум, чего, кажется, не было в такой полноте ни в одной из поэм Пушкина».
Через полтора месяца явился подробный разбор поэмы, развивающий те же самые мысли («Телеграф» 1829 г., часть 27,
стр. 219–236). Здесь говорится, что Пушкин, сначала писавший под влиянием Шенье, потом Байрона, теперь становится самостоятельным, и что его гению суждено еще развиться несравненно могущественнее, нежели каким он являлся в прежних произведениях. Равнодушие публики к новой поэме, которая в тысячу раз выше прежних, объясняется тем, что публика жаждет живого направления, касающегося общественных интересов, а не шекспировского спокойствия, которое владычествует в «Полтаве», и потом доказывается, что Пушкин прав и неправы, и не развиты, тупоумны те, которые не умеют восхищаться его дивною «Полтавою»: —где в этих словах отголосок вражды? Разъясняя причину восторженного увлечения прежними произведениями Пушкина, критик говорит очень справедливо: «Не разнообразный гений его, не прелесть картин увлекали современную молодежь, а звучные стихи, изображавшие их мысль. Можно утвердительно сказать, что имя Пушкина всего более сделалось известно в России по некоторым его мелким стихотворениям, ныне забытым (?), но в свое время ходившим по рукам во множестве списков» (стр. 227—8) — факт, ныне забытый в свою очередь, но очень важный. Статья оканчивается так: «В заключение мы должны сказать, что новая поэма Пушкина не произвела на публику такого сильного впечатления, какое производили прежние. Это очень естественно; досуг ли читателям отставать от привычки и вникать в внутренний смысл (т. е., выражаясь нынешнею терминологиею: в художественность) поэтических произведений? Им надобны восклицания, возгласы, брань на самих себя, ибо не забудем, что мы современники байроновских читателей». Критик видит истинную причину охлаждения публики, но еще поклоняется с прежним энтузиазмом великому поэту и клеймит, как тупоумных людей, тех, которые покинули его, когда он покинул область живых стремлений для областей холодной художественности.
Разбирая «Северные Цветы» 1830, 1831 и 1832 годов, «Телеграф» восхищается стихотворениями Пушкина; постоянно хвалит стихи Дельвига, князя Вяземского, как скоро они хотя сколько-нибудь заслуживают внимания своим достоинством, хвалит даже повести Порфирия Байского (Ореста Сомова) — вообще, в его суждениях мы не видим и следов полемического пристрастия. Что должно осуждать, над тем критик смеется; но все хорошее он прямо называет хорошим, без оговорок и колебаний.
Когда вышла VII глава «Евгения Онегина», встреченная публикою также холодно, «Телеграф» сказал (1830 г., ч. 32):
«Стихотворения А. С. Пушкина в нашей литературе показывают, что мы еще не совсем оледенели для поэзии. Среди нынешних наших льдов и снегов Пушкин есть явление утешительное. Жалеем об одном: зачем столь блестящее дарование окружено обстоятельствами самыми Неблагоприятными? Освободиться от них очень трудно, если не совсем невозможно. — Мы еще дети и в гражданском быту и в поэтических ощущениях, и потому-то Пушкин кажется так слаб в сравнении с Байроном, изображавшим в некоторых сочинениях своих то же, что представляет нам Пушкин в «Онегине».' «Гостиные, девы и модники — герои деревень, городов н балові Какой подвиг взглянуть на них сардоиическиі» — вот господствующая мысль в «Онегине», которую, может быть, сам творец сего романа худо поясняет себе, ибо иначе он увидел бы, что тесниться вокруг нее в семи стихотворных главах утомительно и для него и для читателей. Первая глава «Онегина» и две-три следовавшие за нею нравились и пленяли, как превосходный опыт поэтического изображения общественных причуд. Но опыт все еще продолжается, краски и тени одинаковы и картина все та же. Цена новости исчезла, и тот же «Онегин» нравится уж не так, как прежде. Надобно прибавить, что поэт и сам утомился. В некоторых местах VII главы «Онегина» он даже повторяет сам себя (следуют примеры). Высказав все о VII главе «Онегина», с удовольствием заметим, что прелесть стихов в оной, во многих местах сила мыслей и поэтические чувствования показывают неизменность дарования Пушкина».
Едва ли теперь можно согласиться с этим отзывом, но в нем все-таки не заметно недоброжелательства критика к разбираемому им автору.
Когда вышел «Борис Годунов», о нем был напечатан следующий отзыв («Моек. Телегр.» 1831 г., ч. 37, стр. 245):
«Бориса Годунова» можно обозревать в двух отношениях. Первое, как произведение Пушкина, русского литератора, русского поэта. С этой стороны, «Борне Годунов» есть великое явление нашей словесности, шаг к настоящей романтической драме, шаг смелый, дело дарования необыкновенного. Нужно ли прибавлять, что Пушкин становится им, уже решительно и бесспорно, выше всех современных русских поэтов? имя его делается после сего причастно небольшому числу великих поэтов, доныне бывших в России, и между ими горит оно яркою звездою.
«Но бывши русским, бывши современным, Пушкин принадлежит в то же время векам и Европе. Вот второе отношение, в котором должно рассматривать «Бориса Годунова». Здесь получает он, без сомнения, почетное место, но только как надежда на будущее, более совершенное. Первый опыт Пушкина в сем отношении не удовлетворяет нас: первый шаг его смел, отважен, велик для русского поэта, но не полон, ие верен для поэта нашего века и Европы. Можем теперь видеть, что в состоянии сделать вспоследствии Пушкин, этот ознаменованный небесным огнем истинной поэзии человек; но в «Борисе Годунове» он еще ие достиг пределов возможного для его дарования. Язык русский доведен в «Борисе Годунове» до последней, по крайней мере в наше время, степени совершенства; сущность творения, напротив, близорукая и запоздалая».
Когда в «Северных Цветах» 1832 г. были напечатаны «Бесы» Пушкина, «Телеграф» отозвался об этой пьесе с восторгом изумления; о сцене «Моцарт и Сальери», помещенной в той же книжке, было сказано: «Это несравненное произведение можно постигнуть, только прочитав вполне» (1832 г., часть 43, стр. 112). Сущность отзыва о последней главе «Евгения Онегина», вышедшей в то же время, состоит в том, что она удивительно хороша «по полноте и прелести рассказа» и что заключение романа есть одно из лучших мест его (часть 43, стр. 117). Наконец (в той же части, стр. 566), извещая о появлении нового издания лирических пьес Пушкина, «Телеграф» с негодованием упрекает публику за охлаждение к великому поэту:
«Сказав, что мелкие стихотворения Пушкина в настоящее время не возбуждают восторга, как бывало то прежде, мы, кажется, повторим известное каждому наблюдателю словесности русской. Еще более: стихотворения сии ныне встречают холодность, и слава богу, когда дело оканчивается одним равнодушием! Так нет! В публике нашей заметна еще какая-то неприязнь к ним, какое-то желание унижать произведения поэта прежде столь любимого, недавнего идола всей русской молодежи. Событие неоспоримо!»
Заключим наши выписки общим суждением «Телеграфа» (1829 г., часть 26, стр. 80) о поэмах пушкинской эпохи и постепенном развитии самого Пушкина:
«Поэты наши принимали тот дух, те формы мыслей, коими доныне ознаменовывались все поэмы Пушкина. От сего главные недостатки; однообразие духа, в каком изображаются герои поэм; забвение форм, под коими должна бы проявляться национальность и частность (т. е. индивидуальность, выражаясь нынешним языком). Прибавим к этому неполноту плана, слабую завязку, на которой обыкновенно держатся новые поэмы, оставление в тенях многих частей и отделку только некоторых, отчего поэма бывает только рядом картин, часто дурно связанных; к этому ведет и самое деление поэм на книги, а книг или глав на строфы и куплеты. Заметим, что Пушкин с каждою поэмою удаляется от таких недостатков; «Цыгане» его были уже весьма чужды их, а «Мазепа» (т. е. «Полтава»), как говорят, есть творение, полное жизни и совершенной самобытности. Вступление, напечатанное при 2-м издании «Руслана и Людмилы», «Утопленник», известные нам сцены из «Бориса Годунова» показывают, как хорошо понимает Пушкин национальность, местность, в которую должны облекаться действующие лица каждого из его творений. О последователях его ни об одном еще нельзя сказать этого».
Через двадцать пять лет что мы найдем неверного в этих понятиях? И многим ли мы можем дополнить их?
Это обозрение, которое многим покажется слишком длинно, зато другим недостаточно подробно, едва ли оставляет место сомневаться, что отношения главного критического журнала 1825–1830 годов к Пушкину были вовсе не таковы, как обыкновенно полагают. Мы видим, что если мало-помалу личная неприязнь к издателю «Телеграфа» овладела великим поэтом и если нападениями других своих противников, друзей Пушкина, и отчасти самого Пушкина, Полевой был вызываем на некоторые полемические выходки, обычные в то время, то невозможно сказать, чтобы издатель «Телеграфа» был виноват в том: не он начал полемику; напротив, он старался избежать ее. Еще важнее то, что, несмотря на свои личные враждебные отношения с Пушкиным, как членом одной из литературных партий, Полевой продолжал рассматривать поэтические произведения его с беспристрастием и отдавать полную справедливость их достоинствам. Мы привели много примеров (и каждый, кто потрудится перелистовать «Московский Телеграф», найдет их в гораздо большем числе), что критика произведений Пушкина в этом журнале вовсе не состояла в придирках к словам — напротив, она стремилась проникнуть в существенный смысл произведения и часто достигала того успешно; старалась определить отношения каждого нового произведения к прежним и прекрасно исполняла это. Она удачно объясняла и отношения различных созданий нашего' поэта к публике — одним словом, была критикою, достойною этого имени. И нельзя не сказать, что все обыкновенные нарекания о тупоумии, пустоте и т. д. критики, которую встречали сочинения Пушкина при его жизни, — чистый предрассудок, насколько они касаются «Московского Телеграфа» в цветущее время его существования, когда он имел сильное' влияние на мнения публики.
Но начиная с 1831, особенно с 1833 года, новый журнал «Телескоп» начинал брать первенство над «Телеграфом» во мнении если не большинства публики, то людей, мнением которых может дорожить писатель. Посмотрим же, каковы были отношения «Телескопа» к Пушкину.
Предшественницами учено-литературной критики, которая одушевляла «Телескоп», были грозные статьи «экс-студента Никодима Надоумко», явившиеся в «Вестнике Европы» 1828 и 1829 годов… Вот несколько отрывков, которые могут дать понятие о том, что говорил Надоумко.
«Я сидел и думал о приближающемся новом годе, — говорит Он в первой из своих статей («Литературные опасения за будущий год») — Слава богу! вот и еще один год скоро с плеч долой! Вот и еще на один шаг подвинемся мы на поприще жизни! Но подвинули ль мы с собою хоть на один дюйм то, что долнцю составлять главную цель бытия нашего?.. Наше просвещение, и преимущественно наша литература… Тут мрачная тень пробежала пред моими взорами… Давно уже она обернулась назад, и в протекающий год едва ли переменила, едва ли даже приготовилась переменить свое направление… Мне стало грустно и тяжко». — В эту минуту пришел к автору Тленский, один из прославленных поэтов новой школы, и, услышав о его грустном раздумье, стал доказывать, что наша литература процветает, что «литературный горизонт наш покрывается беспрестанно новыми блестящими созвездиями». — Надоумко прерывает его:
— Потрудись указать мне в толпе метеоров, возгорающихся и блуждающих в нашей литературной атмосфере, хоть один, в котором бы открывалось таинственное парение гения в страну вечных идеалов, о котором прожужжали нам все уши велеумные журналисты? По сю пору близорукий взор мой, преследуя неисследимые орбиты хвостатых и бесхвостых комет, кружащихся на нашем небосклоне, — сквозь обвивающий их чад мог различить только то одно, что все они влекутся силою собственного тяготения в туманную бездну пустоты, в созданный гигантскою фантазиею Байрона страшный хаос:
…Ьездна пустоты,
Без протяженья и границ,
Ни жизнь, ни смерть, как сон гробов,
Как океан без берегов,
Задавленный тяжелой мглой,
Недвижный, темный и немой! П
«Сии маленькие желтенькие, синенькие и зелененькие поэмки, составляющие теперь главный пиитический приплод наш, — несмотря на щеголеватую наружность, в коей они обыкновенно являются, — не суть ли только эфемерные призраки, возникающие из ничего и для ничего по прихотям зевающей от безделья фантазии?.. Это и не удивительно. Льзя ли ожидать чего-нибудь дельного, связного и цельного от произведений, являющихся рапсодическими клочками, сшитыми кое-как на живую нитку, и светящихся насквозь от множества— не то искусственных, не то естественных — скважин и щелей, нисколько не затыкаемых бесчисленными тире и точками? — Не бессовестно ли требовать от творения единства и сообразности с идеею, когда сам творец не имеет часто в голове ясного и определенного понятия о том, что он хочет писать, а просто пишет то, что на ум взбредет?.. Таковы-то едва ли не все нынешние пиитические произведения, в коих услужливые журналисты усиливаются открывать таинственное стремление в страну идеалов! — Это значит, как говорят французы, chercher midi â quatorze heures!..
«Бог судья покойнику Байрону! Его мрачный сплин заразил всю настоящую поэзию и преобразил ее из улыбающейся Хариты в окаменяющую Медузу! — Правда, самого его вннить не за что. Он был то, чем сотворили его природа и обстоятельства. Невозможно не преклонить колен перед величием его гения, но невозможно вместе и удержать горестного вздоха о том, что сия исполинская сила души, для которой рамы действительности были столь тесны, не просветлялась ясным взором на вселенную и не согревалась кроткою теплотою братской любви к своим земным спутникам. Это был одноокий колоссальный Полифем, проливающий окрест себя ужас и трепет!.. Но его мутный взор, его мрачное человеконенавидение, его враждебная апатия ко всем кротким и мирным наслаждениям, представляемым нам благою природою, — принадлежали собственно ему самому и составляли оригинальную печать его гения. Посему Байрон есть и останется навсегда великим — хотя н зловещим — светилом на небосклоне литературного мира. — То беда, что сня грозная комета, изумив появлением своим вселенную, увлекла за собой все бесчисленные атомы, вращающиеся в литературной атмосфере, и образовала из них хвост свой. Все наши доморощенные стиходеи, стяжавшие себе лубочный диплом на имя поэтов дюжиною звонких и богатообрифмо-ванных строчек, помещенных в альманахах и расхваленных журналами, загудели а Іа Byron:
Запели молодцы: кто в лес, кто по дрова И у кого что силы стало! 28
Пошли беспрестанные резанья, стрелянья, душегубства — ни за что, ни про что… для одного романтического эффекта!..»
Надоумко в одной из последующих статей доказывает разбором «Полтавы», что в понятиях Пушкина нет ничего похожего на байроновское миросозерцание. Общее заключение его о русской литературе 1820–1829 года высказывается таким образом по поводу замечания, что «Телеграф» прилагает к литературе «высшие взгляды»:
«Это более смешно, чем жалко! Наша литература, в настоящие времена, так мелка, так ничтожна, что ее с высока-то и не приметно! Напротив — надо понагнуться да понагнуться, чтоб разглядеть хорошенько крошечные крапинки жизни, иногда на ней выступающие! Забавное дело! Что подумали бы мы о чудаке, который, собираясь переплыть через Патриарший пруд на корыте, разложил бы перед собою ландкарту и компас и от всего сердца принялся бы определять географическую широту и долготу его по парижскому меридиану? Каков кажется нам «Метафизик» Хемницера, с философическою важностью взваливающий вину своего падения на центральное влечение и воздушное давленье? А между тем в нашем литературном мире делается чуть ли еще не хуже. Велемудрые наши крикуны, собирающиеся иа Телеграфической сходке, ие стыдятся к хламу, унавоживающему нашу литературу, прикидывать мерку бесконечного и безусловного, по которой немецкие критики определяют величие «Мессиады» 29 или «Орлеанской девственницы». Им чудится идеальное парение в «Нулине»; они видят развитие идей человечества в «Выжигине»!!! Одно только может извинить пред судилищем литературного правосудия сию хулу на изящество; это — грех неведения!»
Вот как г. Надоумко рассуждал о «Евгении Онегине», в котором — не должно забывать — хотели видеть русского Чайльд-Га-рольда:
«Бывало время, когда каждый стих Пушкина считался драгоценным приобретением, новым перлом нашей литературы. Какой общий, почти единодушный восторг приветствовал первые свежие плоды его счастливого таланта! Какие громкозвучные рукоплескания встретили Евгения Онегина в колыбели! Можно было по всей справедливости применить к юному поэту горделивое изречение Цезаря: пришел, увидел, победил! Все преклонились перед ним до земли; все единогласно поднесли ему венец поэтического бессмертия. Усумниться в преждевременном апотеозе героя считалось литературным святотатством; и несколько последних лет в истории нашей словесности по всем правам можно назвать эпохою Пушкина. Не будем оскорблять минувшее бесполезными истязаниями: что было, то было! Скажем более: нмя Пушкина и без прихотливого каприза моды, коей был он любимым временщиком, имело бы все права на почетное место в нашей литературе: энтузиазм, им возбуждаемый, не был совершенно не заслуженный. Но теперь — какая удивительная перемена! Произведения Пушкина являются и проходят почти неприметно. Блистательная жизнь Евгения Онегина, коего каждая глава бывало считалась эпохой, оканчивается почти насильственно, перескоком через целую главу30 — и это не производит никакого движения, не возб)Чкдает никакого участия. Третья часть стихотворений Пушкина, обогащенная обширною сказкою31 в новом роде, которого гений его еще не испытывал, скромно, почти инкогнито, прокрадывается в газетных объявлениях наряду с мелкою рухлядью цехового рифмоплетного рукоделья; и — (о верх унижения!) — между журнальными насекомыми, «Северная Пчела», ползавшая некогда перед любимым поэтом, чтобы поживиться от него хотя росинкой сладкого меду, теперь осмеливается жужжать ему в приветствие, что в последних стихотворениях своих — Пушкин отжил!!! Sic Iransit gloria mundi!..32
«Что ж значит сия перемена?.. Приписать ли это внезапное охлаждение той же ветротленной прихотливости моды, которая прежде баловала так поэта, или видеть в нем добросовестное раскаяние вразумившегося беспристрастия?.. Вопрос сей должно решить внимательным рассмотрением последних произведений Пушкина.
«Начнем с «Последней Главы Онегина»33. Признаемся откровенно, сия последняя глава показалась нам ничем не хуже первых. Та же прихотливая резвость вольного воображения, порхающего легкокрылым мотыльком по узорчатому, но бесплодному полю светской бездушной жизни; та же яркая пестрота красок и цветов, мелькающих подвижною калейдоскопическою мозаикой; то же беглое, но цепкое остроумие, везде оставляющее следы легкого, юмористического угрызения; та же чистота и гладкость стиха, всюду льющегося тонкой хрустальной струею. Одним словом, мы нашли здесь продолжение той же пародни на жизнь, ветреной и легкомысленной, но вместе затейливой и остроумной, коей мы любовались от души в первых главах «Евгения». Посему, читая ее. мы не испытали никакого разочарования, не подверглись никакому неприятному впечатлению; и если иногда приходило нам в голову, что поэту, создавшему «Бориса Годунова», время б быть постепеннее, то мы оправдали его необходимостью: надобно ж было кончить, чтб начато!.. Но, отдавая искренний отчет в собственных наших чувствованиях, мы не думаем, чтоб их разделяло с нами общее мнение. Большинство публики, в минуты первого упоения, обмороченное вероломными кликами шарлатанов, спекулировавших на общий энтузиазм к Пушкину, видело в «Онегине» какое-то необыкновенное чудо, долженствовавшее разродиться неслыханными последствиями. Оно думало читать в нем полную историю современного человечества, оправленную в роскошные поэтические рамы, ожидало найти в нем русского «Чайльд-Гарольда». И могло ли устоять долго это добродушное ослепление, когда откровенная искренность поэта сама его разрушала беспрестанно? Каждая новая глава «Онегина» яснее и яснее обнаруживала непритязательность Пушкина на исполинский замысел, ему приписываемый. С каждою новою строкою становилось очевиднее, что произведение сие было не что иное, как вольный плод досугов, фантазии, поэтический альбом живых впечатлений таланта, играющего своим богатством. Напрасно самое пристрастное доброжелательство усиливалось отыскать в нем черты высшего эстетического значения. Его воздушная легкость ускользала от всех покушений приязненной критики, домогавшейся узаконить его в ранге художественного произведения, имеющего известные права и подчиненного известным условиям. «Евгений Онегин» не был и не назначался быть в самом деле романом, хотя имя сие, под которым он явился первоначально, осталось навсегда в его заглавии. С самых первых глав можно было видеть, что он не имеет притязаний ни на единство содержания, ни на цельность состава, ни на стройность изложения; что он освобождает себя от всех искусственных условий, коих критика вправе требовать от настоящего романа. В так называемом романе Пушкина, от начала до конца, мелькают, говоря его же словами;
Ни с чем не связанные сны.
Угрозы, толки, предсказанья,
Иль длинной сказки вздор живой,
Иль письма девы молодой.
И постепенно в усыпленье И чувств и дум впадает он,
А перед ним воображенье
Свой пестрый мечет фараон. (VIII. 37)
Самое явление его, неопределенно-периодическими выходами, с беспрестанными пропусками н скачками, показывает, чго поэт не имел при нем ни цели, ни плана, а действовал по свободному внушению играющей фантазии. Смело можно было угадывать, что при первой главе «Онегина» Пушкин и не думал, как он кончится; и вот собственное его откровенное признание в последней главе:
Промчалось много, много дней С тех пор, как юная Татьяна И с ней Онегин в смутном сне Явилися впервые мне —
И даль свободного романа Я сквозь магический кристал Еще не ясно различал. (VIII. 50)
Но сие признание сделано уже слишком поздно. Оно не спасло откровенного поэта от мести тех, кои, думая видеть в мыльных пузырьках, пускаемых его затейливым воображением, роскошные огни высокой поэтической фантасмагории, наконец должны были признать себя жалко обманувшимися. Раздраженная толпа вымещает теперь свое прежнее чрезмерное ослепление несправедливой холодностью. «Последняя Глава Онегина» наказывается незаслуженным пренебрежением оттого, что первым удалось возбудить восторг не совсем заслуженный. Сам поэт, без сомнения, это предчувствовал: ибо последнее прощание его с читателями, коим он заключает сию последнюю главу, растворено юмористическою едкостью, изобличающею тайное недовольство самим собою и представляющею разительную противуположность с тем разгульным одушевлением веселого самодовольствия, коим проникнуты первые главы «Онегина»:
Кто б ни был ты, о мой читатель.
Друг, недруг, я хочу с тобой Расстаться ныньче как приятель.
Прости. Чего бы ты со мной Здесь ни искал в строфах небрежных:
Воспоминаний ли мятежных,
Отдохновенья ль от трудов,
Живых картин, иль острых слов,
Иль грамматических ошибок,
Дай бог, чтоб в этой книжке ты Для развлеченья, для мечты.
Для сердца, для журнальных сшибок,
Хотя крупицу мог найти.
За сим расстанемся, прости. (VIII. 48, 49)
Не знаем, как принято сие обращение другими: что же касается до на', то мы извлекли из него поучительное заключение, к чести поэта, но — не в добрую примету для нашей словесности. Явно, что Пушкин, с благородным самоотвержением, сознал наконец тщету и ничтожность поэтического суесловия, коим, увлекая других, не мог, конечно, и сам не увлекаться. Его созревший ум проник глубже и постиг вернее тайну поэзии: он увидел, что для гения — повторим давно сказанную остроту — не довольно создать Евгения… Но лучше ли от того нашей словесности? При ее крайнем убожестве блестящая игрушка, подобная Онегину, все, по крайней мере, наполняла собой ужасную ее пустоту. Видеть эту игрушку разбитою руками, ее устроившими, и не иметь, чем заменить ее, — еще грустнее, еще безотраднее»34.
Но тот же самый «Телескоп» признает великим творением «Бориса Годунова», который был осужден другими журналами и совершенно равнодушно, или даже неприязненно встречен публикою. Это произведение оправдывается критиком против всех мелких упреков, какие делались ему в то время; «превосходно», «прекрасно» — повторяется на каждой странице разбора. Говорят, что Надоумко строго судил о прежних произведениях Пушкина потому, что был лишен эстетического вкуса; едва ли это так; людям, которые высказывают такое мнение, советуем прочитать его статью о «Борисе Годунове» («Телескоп», 1831, стр. 546–574) — она положительно убедит их, что ни один из нынешних записных критиков не может похвалиться таким верным и проницательным эстетическим тактом, какой обнаруживается этим разбором.
Надобно заметить, что, говоря о Пушкине, Надоумко и «Телескоп» имели в виду не столько отдельного поэта, сколько представителя русской литературы, и потому высказывали по поводу его произведений то, что должно было разуметь о целой литературе. Здесь дело шло, собственно говоря, не об авторе «Евгения Онегина», а об умственной жизни нашего общества в ту эпоху, о публике, которая произвела Пушкина, которая восхищалась «Русланом и Людмилою», как народною поэмою, не понимая ее, «Кавказским пленником», как Байроновскою поэмою, также не понимая его, и которая осталась недовольна «Борисом Годуновым», также не понимая его.
Но, как бы то ни было, хотя в суждениях «Телескопа» о Пушкине и много ошибочного, — во всяком случае для каждого, кто возьмет на себя труд перечитать статьи экс-студента Надоумко и разборы «Телескопа», или даже, пробежав наши выписки, припомнит преувеличенные толки о богатстве нашей литературы и т. д., — несомненно то, что в основаниях этих суждений есть много и дельного.
Какое же заключение извлечем мы из этих припоминаний? Кажется, трудно не согласиться, что и при жизни Пушкина его произведения были оцениваемы не голословно, не пошло, не мелочно. Конечно, мы говорим только о лучших тогдашних критиках. Были в то же время между рецензентами люди и другого разбора, как бывают они везде и всегда. Нашелся, например, человек (имя его, к счастию, не выставлено под статьею), который не посовестился утверждать, что VII глава «Евгения Онегина» заимствована из «Ивана Выжигина» (!!!)35; были другие рецензенты, более честные, но столь же жалкие по уму, которые привязывались к словам и другим мелочам — но неужели Пушкин должен был обращать внимание на этих людей, которые служили тогда предметом насмешек и сожаления? Неужели и мы должны иметь их в виду, говоря об отношениях Пушкина к современной ему критике? Лучше предать забвению эти вещи, не заслуживающие ничего, кроме забвения и сожаления…
В следующей статье, продолжая говорить об отношениях критики к Пушкину, мы рассмотрим взгляд на нашего великого поэта критиков ближайших к нашему времени.
СТАТЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ
Ранее, нежели мы надеялись, новое издание сочинений Пушкина завершилось выходом двух последних томов, благодаря заботливости издателя, сдержавшего свои обещания публике с точностью. Хвалить внешний вид издания, теперь оконченного, считаем совершенно излишним, потому что между нашими читателями, вероятно, не найдется ни одного, который бы уже не просматривал, не перечитывал его. Не считаем нужным указывать и внутренние достоинства издания сравнительно с прежним изданием, потому что уже говорили об этом в начале наших статей. Было бы утомительно для читателей, если бы мы вздумали вдаваться теперь в мелочные указания статей и стихотворений Пушкина, рассеянных по журналам и не вошедших в состав издания, сделанного г. Анненковым, — важнейшие из этих пропусков были уже указаны критикою но случаю выхода в свет издания 1841 года, и если не были пополнены г. Анненковым, то, конечно, не по забывчивости, а только потому, что план нового издания не допускал помещения этих статей, большею частью полемических. Исчисление других, совершенно незначительных журнальных заметок не есть, по нашему мнению, дело критики, которая должна обращать внимание только на вещи, имеющие внутреннее значение: длинным и сухим спискам подобного рода место в специальных библиографических трактатах и в примечаниях к будущему «Полному собранию сочинений Пушкина» (если когда-нибудь русская литература будет иметь такое собрание) — заглавие, которого скромно и благоразумно не дал г. Анненков своему изданию, полному только в предписанных ему границах. Во всяком случае, эти статейки едва ли могли бы прибавить что-нибудь значительное к тому, что уже дано «материалами», столь тщательно собранными из бумаг Пушкина г. Анненковым. Прибавления, какие в настоящее время могли бы быть сделаны к изданию, были бы совершенно ничтожны в сравнении с массою драгоценных новых данных, представленных «Материалами для биографии Пушкина», примечаниями нового издания и некоторыми пьесами его, не входившими в состав прежнего издания.
В предыдущей главе мы говорили об отношениях к Пушкину современной ему критики; мы видели, что если она в плохих или недобросовестных журналах часто унижалась до тупости и забавной придирчивости, то посредством лучших своих органов — «Телеграфа» и «Телескопа», успела высказать довольно много справедливых замечаний о достоинствах и недостатках отдельных произведений Пушкина и — что еще важнее и труднее — д*же об отношении следующих его произведений к предыдущим, о постепенном развитии его таланта. Но само собою разумеется, что оценка деятельности поэта, столь полного силы, жизни и движения, как Пушкин, не могла быть полна, пока значительная часть этой деятельности еще скрывалась в будущем; разумеется также, что писатель, столь важный в истории общего развития нашей литературы, как Пушкин, не мог быть точно оценен по своему значению и влиянию на судьбу литературы, пока это влияние не выразилось положительными фактами; мерило для оценки воспитателя дается только деятельностью его воспитанников. Потому критика, современная Пушкину, вовсе не будучи лишена ни смысла, иногда прекрасного, ни проницательности, иногда очень меткой, и нимало не заслуживая пренебрежения, с каким о ней иногда отзываются, напротив, имея право на наше внимание не менее других отраслей тогдашней литературной деятельности, — эта критика тем не менее далеко уступает своею глубиною последующей критике ', имеет значение только как приготовление к этой критике, подобно всей тогдашней литературе, имеющей важность преимущественно потому только, что она служила почвою, на которой могла возникнуть деятельность последующей литературной эпохи, которая, в свою очередь, особенно драгоценна для нас не как нечто имеющее абсолютное значение, а как зародыш и залог будущего развития русской литературы, приближение которого должно быть заветным желанием каждого образованного русского. Каково бы ни было безотносительное достоин-
ство произведений Пушкина, Грибоедова, Лермонтова, Гоголя и современных нам русских писателей, но они еще милее для нас, как залог будущих торжеств нашего народа на поприще искусства, просвещения и гуманности.
Критика, возникшая вскоре по смерти Пушкина — сказали мы — гораздо полнее и точнее, нежели современная ему критика, определила значение этого великого писателя в русской литературе. Повидимому, надобно было бы предполагать, что результаты ее исследований еще у всех свежи в памяти и не должны быть снова подробно пересказываемы, как вещи общеизвестные. На самом деле такое предположение, несмотря на всю свою естественность, оказывается несправедливым. Если бы воскресли люди, голос которых так недавно еще был выслушиваем как голос самой истины, — чем он и был действительно, — если бы воскресли эти люди и посмотрели на то, что пишется ныне, они воскликнули бы словами одного из нынешних поэтов, который, вероятно, сам уже позабыл свои прежние слова:
Или В ЭТИ ГОДЫ Люди и забыли,
Чем во дни былые Доблестны мы были? 2
Но, увлеченные воспоминаниями, мы удалились от нашего предмета — рассмотрения того, каким образом понимала Пушкина критика, господствовавшая в нашей литературе после падения современной ему критики. Журналы старых годов не всегда можно иметь в руках, потому не излишне будет в коротких словах повторить существенные мысли многочисленных статей о Пушкине, столь подробно и верно оценивших его поэтическую деятельность.
Прежде всего надобно заметить, что эти статьи 3 сильно восставали против едких отзывов экс-студента Надоумко о «Полтаве», «Нулине» и «Евгении Онегине» и холодных отзывов «Телеграфа» о последующих произведениях Пушкина. Они доказывали, что как «Борис Годунов», так и «Евгений Онегин» — великие создания. Потому в смутных воспоминаниях, какие остались у большей части нынешних читателей от этих статей, едва ли не самым положительным осталось мнение, что они были безусловным панегириком Пушкину; что произведения Пушкина были в них представлены равно художественными по форме и колоссальными по идее; что Пушкин был поставлен в них неизмеримо выше всех русских поэтов, не исключая никого. Многим на основании этих неточных воспоминаний представляется даже, будто бы критика ставила Пушкина одним из величайших мировых поэтов, равным Шекспиру в «Борисе Годунове», едва ли не выше Шиллера и Байрона. Выписки, которые мы приведем ниже, вернее покажут понятия критики о поэтическом значении Пушкина; мы
здесь не хотим излагать ее мысли собственными словами — способ всегда более или менее произвольный, и считаем нужным сделать только два или три замечания относительно общего характера этой критики.
Чтение выписок, которые мы представим, убедит каждого в том, как независимы и нелицеприятны были ее суждения. Быть может, даже ныне, когда отдаленность времени дает нам полную возможность судить без увлечений, многим покажется, что критика говорила о Пушкине не довольно восторженно. Но тем не менее каждый может видеть, что она была проникнута глубоким благоговением к имени Пушкина. На это, кроме главной причины — великого достоинства самых произведений Пушкина и пламенного сочувствия. этой критики ко всему, что было прекрасного в русской литературе, есть и другая причина, зависевшая от обстоятельств. Это указано в самом начале статей. В конце жизни Пушкина публика охладела к своему любимцу; но «безвременная смерть Пушкина, как и должно было ожидать, снова и с большею силою обратила к падшему поэту сочувствие и любовь общества. Не успело еще войти в свои берега взволнованное утратою поэта чувство общества, как подняла свое жужжание и шипение на страдальческую тень великого злопамятная посредственность. Она начала, прямо и косвенно, толковать а поэтических заслугах Пушкина, стараясь унизить их… веселое скакание водовозных существ на могиле льва возмущает душу, как зрелище неприличное и отвратительное; а наглое бесстыдство низости имеет свойство выводить из терпения. Мудрено ли, что и такое ничтожное само по себе обстоятельство, раздражая людей, способных понять и оценить Пушкина как должно, только более и более увлекало их в благородном удивлении к великому поэту?» Далее говорится, что, наконец, эти обстоятельства миновались, и настало время судить о Пушкине совершенно хладнокровно. Но каждый, у кого бьется в груди сердце, знает по опыту, что человек энергический никогда не будет говорить совершенно хладнокровно о том, от чего когда-нибудь возмущалось его сердце. Кто был современником пошлых выходок против великого поэта, кто был некогда поражен громовою вестью о его ранней кончине, тот может со временем судить о нем беспристрастно, но никогда не будет в состоянии говорить о нем без следов прежнего увлечения. Каждому человеку из позднейшего поколения легко судить о том по недавнему горькому опыту. Кто из нас, внезапно пораженных вестью о смерти Гоголя, возмущавшихся потом недостойными выходками против этого великого таланта, не сохранит навсегда в душе следов скорби, которой с такою горечью предавались мы?
Мы упомянули об этом чрезвычайно сильном сочувствии критики к поэту, между прочим, и потому, что этим отношением объясняется ее стремление истолковать сколь возможно выгоднее для того или другого произведения смысл его, иногда в противоречие тому, чего по своему беспристрастию не может не заметить и не высказать сама критика. Примеров можно привесть очень много. Ограничимся двумя или тремя. В «Цыганах» идея произведения выражена в характере и действиях Алеко, и Алеко есть идеал безукоризненный в глазах автора. Но критика не может не видеть, что понятия, которыми руководствуется Алеко, ложны; что он требует от других того, чего сам не хочет делать для них. Критика очень жарко изобличает жестокость и несправедливость Алеко — и с тем вместе старается доказать, что идея поэмы выразилась не в лице Алеко, а в кротких воззрениях старого цыгана, хотя очевидно, что по мысли Пушкина цыган этот, как человек снисходительный только по своему невежеству и робости, не имеющий истинного понятия о любви, стоит ниже Алеко. Критика готова даже предположить, что Алеко Пушкина очищается страданием, между тем как очевидно, что по мысли Пушкина Алеко невинный страдалец, который сокрушен незаслуженною потерею и которому не от чего исправляться, не в чем раскаиваться 4. Другой пример: очевидно, Пушкин обвиняет Онегина за то, что в деревне он не отвечал страстною любовью на письмо' Татьяны; что и эту его холодность и любовь к ней, загоревшуюся в нем после, Пушкин совершенно объясняет сентенииею:
О люди! все похожи вы На прародительницу Эву:
Что вам дано, то не влечет;
Вас непрестанно змий зовет К себе, к таинственному древу:
Запретный плод вам подавай,
А без того вам рай не рай;
очевидно также, что Пушкин обвиняет Онегина за эту любовь и представляет ответ ему Татьяны как безусловно истинный и правый. Критика не могла согласиться с этими понятиями, по ее мнению, сухими, узкими и фальшивыми. Она жарко н подробно высказывает свой взгляд на Онегина и на Татьяну (как она является в последней главе), противуположный взгляду самого Пушкина на эти личности и мотивы их действий, — и однакоже не хочет дойти до вывода, необходимо следующего из этих фактов: или Онегин и Татьяна изображены в романе не такими, как представлялись мысли самого автора, следовательно, Пушкин также не мог понять и очертить их в полном и истинном свете, как и Лермонтов своего Печорина, или они изображены действительно такими, какими представлялись понятиям самого автора, и в таком случае о них должно сказать то же, что о людях одного разряда с Алеко.
После замечания, нами сделанного, легко понять эти важные противоречия и недомолвки. Но как ни велико было благоговение критики к Пушкину, ее желание окружить имя Пушкина всем блеском бессмертия, но проницательность анализа и пламенная любовь к истине были в ней гораздо сильнее. Развитие русской литературы было для нее выше увлечения самыми милыми именами, горячее желание развития жизни и просвещения в родной земле сильнее самой любви к русской литературе, которая была ей драгоценна именно потому, что есть двигательница жизни и просвещения. Потому нет в этой критике ни умышленных умолчаний, ни пристрастного взгляда на тот или на другой факт литературы. И если она иногда, увлекаемая любовью, как в настоящем случае, не делает вывода из своих понятий, то понятия эти всегда выражены полно, ясно и сильно, так что и заключение ясно само собою, и для каждого мыслящего читателя оно уже высказано.
Другое замечание: для истинного критика рассматриваемое сочинение очень часто бывает только поводом к развитию собственного взгляда на предмет, которого оно касается вскользь или односторонне. Так произошла большая часть увлекательных эпизодов, которыми богаты статьи о Пушкине. Это не всегда понимают и не всегда отличают мысли критика от понятий, высказанных в разбираемом произведении, считая критика только простым комментатором автора. Какие удивительные страницы написаны на русском языке о «Цыганах», о характере Онегина, о Татьяне, о русском обществе и русской женщине! Мы очень ошиблись бы, если бы, начав яснее понимать все эти вещи, о которых они говорят, предположили, что узнали их от Пушкина, а не от его критика.
Критика, о которой мы говорим, так полно и верно определила характер и значение деятельности Пушкина, что, по общему согласию, ее суждения до сих пор остаются справедливыми и совершенно удовлетворительными. Нужно только одно — предлагать вопросы, — ответы уже приготовлены. Жаль только, что иногда забываются важнейшие вопросы, или очень часто забывают искать на них ответа где следует, а хлопочут об изготовлении посильных ответов собственного изделия, не всегда мастерского. Во втором нас нельзя будет обвинить; остается только нам желать, чтобы вопросы были избраны нами не совершенно неудачно.
Когда мы захотим составить себе ясное понятие о личности Пушкина, как поэта, прежде всего является сомнение: можно ли считать этого гения, умершего в цвете сил физических и нравственных, вполне совершившим свое назначение в русской литератур«, исполнившим для ее развития все, что исполнить было в силах его натуры? Никому не приходит в голову подобное сомнение, когда дело идет, например, о Байроне, который также умер в молодых летах, об Андрее Шенье, который также погиб в цвете сил и таланта, ни, — чтобы привесть пример, более близкий нам, — о Кольцове, который умер моложе Пушкина и начал развиваться гораздо в более поздние лета. Но о Пушкине мы часто Думаем почти так же, как о Лермонтове, который действительно
отнят смертью у русской литературы, далеко не достигнув полного развития своих сил, который в будущем обещал несравненно более того, что успел сделать. Но разница между двумя поэтами в этом отношении огромна. Сравните стихотворения, написанные Лермонтовым в 1836–1837 годах, с его стихотворениями, принадлежащими 1840–1841 годам, и вы увидите в последних огромное превосходство над первыми и по глубине содержания и по совершенству формы. Но такой разницы не заметно, например, между стихотворениями Пушкина 1835–1836 и 1829–1830, даже 1825–1826 годов; если в 1835 году были написаны «Полководец», «Туча», «Пир Петра Великого», «Опять на родине», то 1830 году принадлежат «К Вельможе», «Поэту», «Для берегов отчизны дальной», «Бесы», «Подражания Данту» и проч., а 1825 году «В крови горит огонь желанья», «Под небом голубым страны своей родной», «Сожженное письмо», «Я помню чудное мгновенье», «19 октября», «Буря мглою небо кроет», «Чертог сиял» и проч. Чтобы найти осязательную разницу между стихотворениями последних лет жизни Пушкина и его предыдущими стихотворениями, мы должны отступить до 1822–1823 годов. Мы указали на лирические произведения, потому что они, по общему согласию, дают самое верное средство следить за ходом развития поэта. Почти тот же результат обнаруживается и большими произведениями Пушкина. В примечании мы представляем два списка их по хронологическому порядку 18.
Первый из этих списков показывает, что с 1832 года до конца своей жизни Пушкин не напечатал ни одного значительного произведения в стихах, кроме только «Скупого рыцаря», явившегося в 1836 году. Потому становится понятно, каким образом в статье «Телескопа» за 1835 г. «О русской повести и повестях Гоголя» 5,
принадлежащей тому же перу, которое через несколько лет написало статьи о Пушкине, могло быть сказано: «Я не включаю в число современных поэтов Пушкина, который уже совершил круг своей художнической деятельности». Действительно, в последние годы жизни Пушкина нельзя было не думать, что великий писатель совершенно оставил прежнее поприще своей славной деятельности и отныне хочет сделаться исключительно прозаиком и сосредоточить свои силы преимущественно на исторических трудах. Яьившиеся по смерти его превосходные поэтические создания, сочинение которых современники, не знавшие определительно года, когда они были писаны, естественно должны были относить к последним годам жизни поэта (в чем убеждала и неоконченность «Галуба», «Русалки», «Арапа Петра Великого», «Египетских ночей») — эти посмертные сочинения могли тогда заставить оставить прежнее мнение и думать, что смерть пресекла дни Пушкина в эпоху самой сильной его поэтической деятельности. Но теперь, благодаря данным, которые сообщены г. Анненковым, мы знаем год, которому принадлежит создание каждого из произведений Пушкина, и не можем разделять этого предположения. Просматривая второй из приведенных нами списков, видим, что с 1833 года Пушкин уже не написал ни одного значительного художественного произведения6. Три последние года его жизни^были посвящены исключительно историческим трудам; да и три предидущие года (1831–1833) были уже очень скудны поэтическими произведениями. Г. Анненков относит к ним только простонародные сказки — шалость великого поэта, и «Русалку» и «Медного всадника». Поэтическая деятельность, видимо, стала для Пушкина второстепенною, начиная с 1830 года, которому принадлежат, по отметкам г. Анненкова, его драматические сцены. Кроме того, если в 1820–1825 годах мы замечаем быстрое и неослабное развитие поэтического таланта, то постепенность этого развития замедляется, если не исчезает, впоследствии. Это легко видеть, обратив внимание на следующие цифры:
1820. «Руслан и Людмила». 1821. «Кавказский пленник». 1822. «Бахчисарайский фонтан». 1824. «Цыганы». 1825. Шесть глав «Онегина»; «Борис Годунов».
Невозможно спорить против того, что произведение каждого последующего года в этом ряду гораздо выше, прежних произведений. Но так ли очевидно последовательное возвышение художественного достоинства произведений в следующем ряду:
1827. «Арап Петра Великого». 1828. «Полтава». 1830. «Драматические сцены». — «Каменный гость». — «Повести Белкина». 1832. «Русалка». — «Дубровский». 1833. «Медный всадник». — «Пиковая дама». — «Капитанская дочка». — «Египетские ночи».
Лучшие из этих произведений стоят совершенно на одной высоте, и ряд их повсюду прерывается произведениями, имеющими только второстепенное достоинство. Так за «Женихом», прекрасным созданием из народной жизни (1827), следуют (до 1833) многие из простонародных сказок, очень слабых, как всеми признано. Так за «Арапом Петра Великого» (1827) следуют «Повести Белкина» (1830). Смешно было бы думать, как думали в 1831–1836 годах, что талант Пушкина начинал ослабевать, — потому что в эти годы он создал «Каменного гостя», «Русалку» и «Медного всадника»; но, очевидно, с 1826–1830 он достиг возможной высоты своего развития (если не достиг ее еще раньше, около 1825 года, которому принадлежат «Евгений Онегин» и «Борис Годунов») и что с этого времени относительное достоинство поэтических его произведений не возрастает неуклонно с каждым годом, зависит не от более позднего года, как прежде, а просто от изменяющихся обстоятельств свободного вдохновения, то на время капризно покидающего своего любимца, то возвращающегося к нему с прежнею силою. Невозможно также не видеть, что Пушкин в последние годы менее дорожит своим поэтическим талантом, — это видим и из его писем, в которых он, например, считает важным делом только историю Пугачевского бунта, а «Капитанскую дочку» — ничтожною безделкою, написанною для развлечения, для отдыха 7, еще убедительнее то же самое видим из небрежности, с которою он посвящает свой талант прелестным игрушкам, которым сам не придает цены, каковы «Домик в Коломне* (1830), «Простонародные сказки», «Родословная моего героя» (1833) и проч. Наконец, самое положительное доказательство того, что Пушкин в последние годы пренебрегает своим поэтическим талантом— изменившееся направление его занятий: он очень мало пишет поэтических произведений и обольщается славою историка.
Все эти факты не были прежде известны в такой точности, как знаем их теперь мы, благодаря новому изданию и приложенной к нему биографии. Но проницательность критики, о которой мы говорим, не нуждалась в этих мелочных сличениях цифр, чтобы найти истинный ответ на вопрос: чего могла бы ожидать русская поэзия от Пушкина, если бы он прожил долее? Не было ли все, нам от него теперь оставшееся, только первым периодом его поэтической деятельности, вторая эпоха которой дала бы нам нечто новое и гораздо высшее? Не должно ли о Пушкине сказать, как мы говорим о Лермонтове, что он похищен смертью, далеко не совершив того, что совершил бы? Нет, говорит критика, талант Пушкина высказался нам весь, он сделал для русской литературы всё, что призван был своею натурою сделать:
«Много творческих тайн унес с собою в раннюю могилу этот могучий поэтический дух; но не тайну своего нравственного развития, которое достигло своего апогея и потому обещало только ряд великих в художественном отношении созданий, но уже не обещало новой литературной эпохи, которая всегда ознаменовывается не только новыми творениями, но и новым духом. Исключительные поклонники Пушкина, под его влиянием образовавшиеся эстетически (продолжает критика), уже резко отделяются от нового поколения своею закоснелостию и своею тупостию в деле разумения сменивших Пушкина корифеев русской литературы… По мере того, как рождались в обществе новые потребности, как изменялся его характер и овладевали умом его новые думы, а сердце волновали новые печали и новые надежды, все стали чувствовать, что Пушкин, не утрачивая в настоящем и будущем своего значения, как поэт великий, тем не менее был и поэтом своего времени, своей эпохи, и что это время уже прошло, эта эпоха сменилась другою, у которой уже другие стремления, думы и потребности. Вследствие этого Пушкин является перед глазами наступающего для него потомства уже в двойственном виде: это уже не поэт безусловно великий и для настоящего и для будущего, но поэт, в котором есть достоинства безусловные и достоинства временные, поэт, только одною стороною принадлежащий настоящему и будущему, которые более или менее удовлетворяются им, а другою, большею и значительнейшею стороною, вполне удовлетворявший своему настоящему, которое он вполне и выразил и которое для нас — уже прошедшее» 8.
Против первой половины выписанного нами места невозможно спорить, имея факты, доставленные изданием г. Анненкова. Каждый понимающий ход развития русской литературы, понимающий значение Лермонтова, Гоголя и беспристрастно смотрящий на позднейших наших писателей, согласится и с последующими мыслями критика без всяких дальнейших объяснений. Но и теперь, хотя уже прошло много лет с того времени, как были сказаны эти слова, очень многие, даже из молодого поколения, не понимают еще, почему же Пушкин принадлежит уже прошедшей эпохе, почему он не может быть признан корифеем и современной русской литературы? Причиною этих недоумений — то странное обстоятельство, что не для всех ясно значение Пушкина в русской литературе, хотя оно давно объяснено; потому продолжим наши выписки: они для некоторых напомнят то, что, повидимому, должно было бы ныне быть известно каждому:
«Пушкин был призван быть первым поэтом-художником Руси, дать ей поэзию, как искусство… Стих Пушкина, вдруг как бы сделавший крутой поворот в истории русской поэзии, явивший собою что-то небывалое, не похожее нн на что прежнее, — этот стих был представителем новой, небы-валов поэзнн. Если бы мы хотели охарактеризовать стих Пушкина одним словом, мы сказали бы, что это по превосходству поэтический, художественный, артистический стих, — и этим разгадали бы тайну всей поэзии- Пушкина.
^омеРа> вы видите возможную полноту художественного совершенства; но «на не поглощает всего вашего внимания, не ей исключительно вы удивляетесь: вас более всего поражает и занимает разлитое в поэзии Гомера дР^вне-эллинское миросозерцание и самый этот древне-эллинский мир… И Шекспире вас тоже останавливает прежде всего не художник, а глубокий сеРДЦеведец, мирообъемлющий созерцатель… В поэзии Байрона прежде всего обоймет вашу душу ужасом удивления колоссальная личность поэта, титаническая смелость и гордость его чувств и мыслей. В поэзнн Гёте перед вами выступает поэтически-созерцательный мыслитель… В Пушкине, напротив того, прежде всего увидите художника, призванного для искусства, исполненного любви ко всему прекрасному, любящего все н потому терпимого ко всему: отсюда все достоинства и все недостатки его поэзии. Его назначение было усвоить навсегда русской земле поэзию, как искусство, так чтобы русская поэзия имела потом возможность быть выражением всякого направления, всякого созерцания. До Пушкина у нас не было ни одного поэта-художника; Пушкин был первым русским поэтом-художником. Поэтому даже самые первые, незрелые, юношеские его произведения, каковы «Руслан и Людмила», «Братья разбойники», «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан», отметили своим появлением новую эпоху в истории русской поэзии. Все увидели в них не просто новые поэтические произведения, но совершенно новую поэзию, которой они не знали на русском языке ие только образца, но на которую они не видали никогда даже намека. И эти поэмы читались всею грамотною Россиею; они ходили в тетрадках, переписывались девушками, учениками на школьных лавках, сидельцами за прилавками магазинов и лавок. Тогда-то поняли, что различие стихов от прозы заключается не в рифме и размере только, но что и стихи, в свою очередь, могут быть и поэтические и прозаические. Это значило уразуметь поэзию уже не как что-то внешнее, но в ее внутренней сущности. Явись теперь на Руси поэт, который бил" бы неизмеримо выше Пушкина, его появление не могло бы наделать столько шума, возбудить такой общий, неслыханный энтузиазм, — потому что после Пушкина поэзия уже не невиданная, не неслыханная вещь. И по тому же самому, теперь уже слишком слабый успех мог бы получить поэт, который, не уступая Пушкину в таланте, даже превосходя его в этом отношении, был бы, подобно ему, преимущественно художником» 9.
Итак, существенное значение деятельности Пушкина состоит, по определению критики, в том, что он первый познакомил русскую публику с поэзиею, первый дал нам произведения истинно поэтические и художественные. Обыкновенно до сих пор продолжают, по смутным воспоминаниям о мнениях «Телеграфа» и «Телескопа», толковать, что заслуга Пушкина преимущественно состоит в народном элементе, который ввел он в нашу литературу. LaMo собою разумеется, что каждый русский есть русский, и что поэтому Пушкин, будучи поэтом и вместе с тем будучи русским, был русским поэтом, и его поэзия есть русская поэзия, а не немецкая или китайская. Повидимому, теперь давно пора бы забыть о столь важных и удивительных открытиях. Но если глубокая Мысль очень долго нс бывает понимаема большинством, то, с другой стороны, фразы, лишенные существенного смысла, фразы, представляющие набор слов и более ничего, имеют свойство очень упорно держаться в памяти. Так случилось и с знаменитым определением существенной стороны деятельности Пушкина. Надобно было бы, вместе с нашим критиком, сказать просто, что до Пушкина Россия не имела великих поэтов; что Пушкин первый дал нам прекрасные стихи, писанные на родном языке, а не переведенные с другого языка; что этим увлек он всю публику, до негостоль же мало знакомую с поэзиею, как до построения московской железной дороги — с железными дорогами; — но это, с одной стороны, слишком просто, с другой стороны, слишком неудобно для составления пышных фраз. Старая фраза о том, что Пушкин ввел народность в нашу литературу, представляла перед этою скромною и верною мыслью большие выгоды — она лишена внутреннего содержания, потому очень удобна для реторических распространений; да кроме того, к ней уже успели привыкнуть — обстоятельство очень важное для людей, не имеющих охоты думать. Потому-то мы до сих пор и слышим рассуждения о Пушкине не как о первом нашем поэте, а как о «народном нашем поэте». На эти фразы мы находим в статьях о Пушкине следующий ответ:
«Поэзия Пушкина удивительно верна русской действительности, изображает ли она русскую природу или русские характеры: на этом основании, общий голос нарек его русским национальным, народным поэтом. Нам кажется это только наполовину верным. Народный поэт тот, которого ^есь народ знает; национальный поэт тот, которого знают все сколько-нибудь образованные классы народа, как, например, немцы знают Гёте и Шиллера. Наш народ не знает ни одного своего поэта: он поет себе доселе: «Не
белы-то снежки…», не подозревая даже того, что поет стихи, а не прозу. Следовательно, с этой стороны смешно было б и говорить об эпитете «народный» в применении к Пушкину или к какому бы то ни было поэту русскому. Слово «национальный» еще обширнее в своем значении, чем народный. Под «народом» всегда разумеют массу народонаселения. Под «нациею» разумеют весь народ, все сословия от низшего до высшего, составляющие государственное тело. Национальный поэт выражает в своих творениях и основную, безразличную, неуловимую для определения субстанциальную стихию, которой представителем бывает стихия народа, и определенное значение этой субстанциальной стихии, развившееся в жизни образованнейших сословий нации. Национальный поэт — великое дело! Обращаясь к Пушкину, мы скажем, по поводу вопроса о его национальности, что ои не мог не отразить в себе географически и физиологически народной жизни, ибо был не только русский, но притом русский, наделенный от природы гениальными силами; однакож в том, что называют народностью или национальностью его поэзии, мы больше видим его необыкновенно великий художнический такт. Он в высшей степени обладал этим тактом действительности, который составляет одну из главных сторон художника. Прочтите его чудную драматическую поэму «Каменный гость» — она, и по природе страны и по нравам своих героев, так и дышит воздухом Испании; прочтите его «Египетские ночи» — вы будете перенесены в самое сердце жизни издыхающего древнего мира… Таких примеров удивительной способности Пушкина быть как у себя дома во многих и самых противоположных сферах жизни мы могли бы привести много, но довольно и этих. И что же это доказывает, если не его художническую многосторонность? Если он с такою истиною рисовал природу и нравы даже никогда не виданных им стран, как же бы его изображения предметов русских не отличались верностию природе?» 10
Делая вслед за этим выписку из статьи Гоголя: «Несколько слов о Пушкине» ", критика находит очень справедливыми мнения Гоголя, особенно его определение национального поэта: «Поэт может быть и тогда* национальным, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят, они сами» — но, прибавляет критика:
«Если хотите, с этой точки зрения, Пушкин более национально-русский поэт, нежели кто-либо из его предшественников; но дело в том, что нельзя определить, в чем же состоит эта национальность. В том, что Пушкин чувствовал и писал так, что его соотечественникам казалось, будто это чувствуют и говорят они сами? Прекрасно! Да как же чувствуют и говорят они? Чем отличается их способ чувствовать и говорить от способа других наций?.. Вот вопросы…» 12
В самом деле, нет ничего легче, как толковать о предметах, еще не имеющих фактического значения, еще принадлежащих области фантазий. Факт бывает неопровержим, не допускает разногласий; потому о нем нельзя наговорить так много и таких блестящих фраз, как о фантомах, созданных досужим воображением.
Но возвратимся к определению существенного характера поэзии Пушкина. Согласно с «Телеграфом», до сих пор многие уверены, что натура великого поэта совершенно изменилась в 1825–1830 годах, что бесстрастный художник 1835 года был решительною противуположностью Пушкину 1823 года, который являлся русским Байроном, если не русским Андреем Шенье. И относительно этого мнения находим следующие, чрезвычайно верные, замечания:
«Пушкина некогда сравнивали с Байроном. Это сравнение более, чем ложно, ибо трудно найти двух поэтов, столь противоположных. Мнимое сходстве это вышло из ошибочного понятия о личности Пушкина. Главное дело ь том, что натура Пушкина была внутренняя, созерцательная, художническая. Пушкин не знал мук и блаженства, какие бывают следствием страстно деятельного увлечения живою могучею мыслью, в жертву которой приносится и жизнь и талант. Он в самой истории, так же как и в природе, видел только мотивы для своих поэтических произведений… Так как поэзия Пушкина вся заключается преимущественно в поэтическом созерцании мира, потому она отличается характером более созерцательным, нежели рефлектирующим… Такой взгляд на мир вытекал уже из самой натуры Пушкина; этому взгляду обязан Пушкин изящною елейностию, кротостию, глубиною и возвышен-ностию своей поэзии, и в этом же взгляде заключаются недостатки его поэзии. Как бы то ни было, но по своему воззрению Пушкин принадлежит к той школе искусства, которой пора уже миновала совершенно в Европе и которая даже у нас не может произвести ни одного великого поэта. Дух анализа, исследования, страстное, полное вражды и любви мышление сделались теперь жизиию всякой истинной поэзии. Вот в чем время опередило поэзию Пушкина и большую часть его произведений лишило того животрепещущего интереса, который возможен только как удовлетворительный ответ на вопросы настоящего».
«Первыми своими произведениями он прослыл на Русн за русского Байрона, за человека отрицания. Но ничего этого не бывало: невозможно предположить более аити-байронической натуры, как натура Пушкина» 13.
Относительно мнимого глубокого разрыва с действительностью, который будто бы составлял главную характеристику музы Пушкина в первый период ее развития, приведем еще замечание
0 стихотворении «Демон» и «Сцене из Фауста», которые яснее других известных произведений Пушкина выразили сущность разочарования, производившего столь сильный эффект на тогдашних читателей и критиков.
«Сцена из Фауста», варьяция, разыгранная на тему драматической поэмы Гёте, многим так понравилась, что они, не зная Гетева «Фауста», порешили, будто она лучше его. Действительно, эта сцена написана удивительно легкими и бойкими стихами; но между нею и Гётевым «Фаустом» нет ничего общего. Она — не что иное, как распространение мысли, выраженной
1 Іушкиным в маленьком стихотворении «Демон». Этот демон был «довольно мелкий, из самых нечиновных». Он соблазнял одних юношей
В те дни, когда им были новы
Все впечатленья бытия;
поэтому ему легко было подшучивать над ними, и они со страхом смотрели на него.
«Знакомое с демоном другого поэта и, наше время с улыбкою смотрит на пушкинского чертенка. Его Мефистофель — просто-напросто остряк прошедшего столетия, которого скептицизм наводит теперь не разочарование, а зевоту и хороший Сон. Фауст Пушкина — не измученный неудовлетворенною жаждою знания человек, а како£-то пресытившийся гуляка, которому уже ничего в горло нейдет, un homme blasé» 15.
Правда, нельзя не признать, что первые произведения Пушкина очень заметно отличаются от последующих по своему духу, нельзя не видеть, что юноша, написавший «Цыган», не написал бы таких объективно-бесстрастных произведений, как «Медный всадник» и «Каменный гость»; знаменитые стихотворения «Чернь» и «Поэт, не дорожи любовию народной» (1828–1830) не могли явиться в 1820 или 1821 годах. Г. Анненков собрал много материалов для объяснения обстоятельств, имевших свою долю влияния на эту перемену в великом поэте. Он указывает на дружбу с Катениным, на влияние «Московского Вестника» и проч. Без сомнения, впечатлительная натура Пушкина не могла не уступать до некоторой степени мнениям лиц, с которыми он был в тесных сношениях. Но Катенина знал Пушкин с 18 или 19 лет, следовательно, должен был подчиниться ему — если мог подчиниться — еще тогда же, а статьи «Московского Вестника» были очень слабы, и Пушкин был гораздо выше их авторов по духу, следовательно, не мог им подчиняться. Можно было бы к этим влияниям приискать еще другие обстоятельства, действовавшие в подобном же духе, особенно — прекращение тех приятельских отношений, памятником которых осталось стихотворение «Арион» 16 — но очевидно, что все эти факты имели только второстепенную важность в истории развития нашего поэта. Главною причиною перемены должно считать именно ту, которая указана критикою, — натуру самого Пушкина. В первой молодости он мог волноваться, — с кем из молодых людей этого не случается?
То кровь кипит, то сил избыток 17;
— но потом, когда он достиг зрелости, когда его образ мыслей установился сообразно с его собственною натурою, порывы, навеянные молодостью и так называемым «духом века», исчезли сами собою, как исчезают в зрелом человеке все молодые стремления, если были только увлечениями молодости, а не глубокими потребностями самой натуры. Ни благодарить, ни упрекать за эту перемену решительно некого, кроме самого Пушкина и его природы. Впрочем, и перемена была вовсе не так велика, как многие еще думают, разделяя заблуждение «Телеграфа». Мы теперь очень хорошо видим, что все монологи Алеко — фразы, прекрасные, но лишенные внутренней правды, и что Алеко вовсе не Бельтов, даже не Печорин, а разве Владимир, судьбу которого некогда рассказал нам г. Майков в своей поэме «Две судьбы». Пушкин не изменился, он только развился; с его картин, по его собственному выражению, только слетели чуждые краски, и слетели, по его же собственному очень справедливому выражению, от самой невинной причины — от лет; сначала, как всякий молодой человек, Пушкин увлекался чужими стремлениями —
Но краски чуждые, с летами.
Спадают ветхой чешуей…
Так исчезают заблужденья С измученной души моей 18.
Но молодежь двадцатых годов обманулась «чуждыми красками», которые «беззаконным рисунком чернили» юношеские поэмы и особенно лирические стихотворения Пушкина; молодежь приняла эти «чуждые краски» за колорит, свойственный гению самого живописца; быть может, нельзя слишком строго упрекать молодежь. за эту ошибку, потому что разве легко отгадать, как со временем разовьется юноша, еще находящийся под чужим влиянием? Да и публика позднейшей эпохи, более опытная и требовательная, разве мало делала подобных ошибок? Но, смейтесь или жалейте об этой ошибке, остается тот факт, что от этой ошибки очень много зависел восторг, с каким были встречены первые произведения Пушкина. Просим читателей припомнить выписанное нами в предыдущей статье замечание «Телеграфа» о том, какие стихотворения создали славу Пушкина. Когда потом разочаровались в этих надеждах, публика охладела к поэту, невинным образом обманувшему ее, и поэт отплатил публике за холодность презрением. Он резко и горько высказал ей, в знаменитых стихотворениях «Чернь» и «Поэт, не дорожи любовию народной», что не хочет обращать на нее внимания, что не хочет иметь с нею дела. Но в этих ответах его обстоятельствам и гневу принадлежит только тон речи, а не сущность мыслей, которая лежала в душе Пушкина и тогда, когда он был превозносим единодушным энтузиазмом всей читающей Руси. Еще в 1824 году он говорил:
Блажен, кто про себя таил Души высокие создания…
Блажен, кто молча был поэт И терном славы неувитый.
Презренной чернию забытый.
Без имени покинул свет!
Что слава? Шопот ли чтеца,
Гоненье ль низкого невежды,
Иль восхищение глупца? 19
Разницы между «презренною чернью» 1824 года и «тупою чернью», «бессмысленным народом» 1828 года очень мало. Теория, говорящая, что поэт творит для себя, а не для своих читателей, которые не могут его понимать, на суждения и потребности которых не должен обращать он внимания, — всегда была теориею Пушкина, и не только «Каменный гость» и «Медный всадник», но точно так же и главы «Онегина» по нескольку лет скрывались в его портфеле от «презренной черни». Повторяем, разница между 1823 и 1833 годами была невелика, и «Чернь» выразила всегдашний образ мыслей великого поэта. В наше время (Чего не видим в наше время?) есть люди, думающие, что «чернь» была в самом деле кругом виновата и что Пушкин был совершенно прав в своем образе мыслей о призвании поэта 20 — невозможно отвечать на это лучше, нежели следующею выпискою:
«В Стихотворении «Чернь» заключается художническое Profession de foi Пушкина. Действительно, смешны и жалки те, которые смотрят на поэзию, как на искусство втискивать в размеренные строчки с рифмами разные нравоучительные мысли. Но если до истины можно доходить не тем, чтобы соглашаться с глупцами, то и не тем, чтобы противоречить им, а тем, чтобы забывая о их существовании, смотреть на предмет глазами разума. Не только поэты с их «вдохновениями и сладкими звуками», но и сами жрецы, с которыми Пушкин сравнивает поэтов, не имели бы никакого значения, если б толпа не соприсутствовала жертвоприношениям. Поэт, которого поэзия выросла не из почвы субстанциальной жизни своего народа, не может ни быть, ни называться народным или национальным поэтом. Никто не обязывает поэта воспевать непременно гимны и карать сатирою порочных; но каждый умный человек вправе требовать, чтобы поэзия давала ему ответы на вопросы времени. Кто поэт про себя и для себя, тот рискует быть единственным читателем своих произведений. И действительно, Пушкин велик там, где он просто воплощает в живые прекрасные явления свои поэтические созерцания, но не там, где хочет быть мыслителем и разрешителем вопросов. Превосходно его стихотворение «Поэт», в котором он развивает мысль, что поэт, пока не потребует его Аполлон к священной жертве, ничтожнее всех ничтожных детей мира, а как скоро коснется его слуха божественный зов, душа его стряхивает с себя нечистый сон жизни, как пробудившийся орел, но мысль эта теперь совершенно ложна. Наше время преклоняет колени только перед художником, которого жизнь есть лучший комментарий на его творения, а творения — лучшее оправдание его жизни. Личность Пушкина высока и бла-
городна; но его взгляд на свое художественное служение тем не менее был причиною постепенного охлаждения восторга, который возбудили его первые произведения. Правда, самый неумеренный восторг возбудили его самые слабые, в художественном отношении, пьесы; но в них видна была сильная, одушевленная субъективным стремлением личность. И чем совершеннее становился Пушкин, как художник, тем более скрывалась и исчезала его личность за чудным, роскошным миром его поэтических созерцаний. Публика, с одной стороны, не была в состоянии оценить художественного совершенства его последних произведений (и это, конечно, не вина Пушкина); с другой стороны, она вправе была искать в поэзии Пушкина более нравственных и философских вопросов, нежели находила их (и это, конечно, не была ее вина). Между тем, избранный Пушкиным путь оправдывался его натурою и призванием: он не пал, а только сделался самим собою, но, по несчастию, в такое время, которое было очень неблагоприятно для подобного направления, от которого выигрывало искусство, но мало приобретало общество» 21.
Одно из важнейших оснований признавать «презренную толпу», то есть большинство, «бессмысленным народом», «тупою чернью» состоит в том, что «современники, встретив с восторгом первые, незрелые, слабые в художественном отношении произведения Пушкина, холодно и даже неприязненно отвернулись от его позднейших, совершеннейших произведений, и тем ясно доказали свою неспособность быть судьями в деле искусства, свою тупость и бессмысленность» 22. В предыдущей статье мы старались показать этот факт в его истинных границах; теперь приведем суждения позднейшей критики, которую никто не отважится обвинить ни в тупоумии, ни в недостатке чрезвычайно тонкого и верного эстетического вкуса, — приведем суждения этой позднейшей критики о самых характеристических и важных произведениях двух различных эпох поэтической деятельности Пушкина, и эти суждения с достаточною ясностью решат вопрос о том, до какой степени был основателен или неоснователен первоначальный восторг и последующее охлаждение публики. Как самые характеристические произведения, мы избираем, для первого периода отношений публики к Пушкину, «Руслана и Людмилу» — первое и «Онегина» — важнейшее по достоинству из произведений, возбудивших всеобщий энтузиазм; для второго — «Бориса Годунова» — первое и важнейшее из произведений, встреченных холодно. Из этих суждений, — справедливость которых никто не захочет оспаривать в настоящее время, если не из убеждения, то из уважения к авторитету, против которого восставать не легко, — мы выведем и общее суждение о Пушкине, которое будет только повторением того, что говорилось в статьях, нами цитуемых, — но которое, — чего доброго, — могло бы, пожалуй, многим показаться и ново, и даже парадоксально (ведь всё, чего мы не знаем или что мы забыли, — парадокс) без этих выписок, которые должны совершенно успокоить людей, боящихся мнимых, парадоксов, насчет притязаний наших на оригинальность во мнениях: если истина уже сказана другими, не нужно хлопотать о придумывании оригинальностей; должно только повторять ее, чтобы знали или при-
помнили ее те, кому не мешает ее знать и помнить. Итак, предлагаем наши выписки, — во-первых, о «Руслане и Аюдмиле»:
«Суд современников бывает пристрастен; однакож в его пристрастии всегда бывает своя законная и основательная причинность. Ни одно произве-іение Пушкина не произвело столько шума и криков, как «Руслан и Людмила». Для нас теперь «Руслан и Людмила» не больше, как сказка, лишенная колорита местности, времени и народности; и в наше время не у всякого даже юноши станет охоты и терпения прочесть ее всю, от начала до конца. Но в то время, когда явилась эта поэма, она действительно должна была показаться необыкновенно великим созданием… все (в ней) было так ново, так оригинально, так обольстительно — и стих, которому подобного ничего не бывало, и склад речи, и смелость кисти, и яркость красок, и игривое остроумие. По всему этому «Руслан и Людмила» — такая картина, появление которой сделало эпоху в истории русской литературы. Юноши двадцатых годов были правы в энтузиазме, с которым они встретили «Руслана и Людмилу» 23.
Статьи об «Онегине» принадлежат к числу самых блестящих в ряду статей о Пушкине. Жаль, что место не позволяет нам при-весть здесь большого отрывка из них, — среди бесцветных толков о мелочах отрадно и здорово перенестись и перенесть читателя к чему-нибудь лучшему — но мы должны ограничиться несколькими строками, заключающими в себе сущность взгляда на «Онегина».
«Онегин» есть самое задушевное произведение Пушкина, и можно указать слишком на немногие творения, в которых бы личность поэта отразилась с такою' полнотою, так светло и ясно, как отразилась в «Онегине» личность Пушкина. Здесь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здесь его чувства, понятия, идеалы… Не говоря уже об эстетическом достоинстве «Онегина», — эта поэма имеет для нас, русских, огромное историческое и общественное значение… Прежде всего в «Онегине» мы видим поэтически воспроизведенную картину русского общества, взятого в одном из интереснейших моментов его развития… Историческое достоинство этой поэмы тем выше, что она была на Руси и первым блистательным опытом в этом роде. В ней Пушкин является не просто поэтом только, но и представителем впервые пробудившегося общественного самосознания: заслуга безмерная! До Пушкина все произведения русской поэзии как-то походили больше на этюды и копии, нежели на свободные произведения самобытного вдохновения. Первым национально-художественным произведением был «Евгений Онегин»… Вместе с современным ему произведением, «Горе от ума», роман Пушкина положил прочное основание новой русской поэзии, новой русской литературе. До этих двух произведений русские поэты не умели быть поэтами, принимаясь за изображение мира русской жизни… Оба эти произведения положили собою основание последующей литературе, были школою, из которой вышли и Лермонтов и Гоголь. Без «Онегина» был бы невозможен «Герой нашего времени», так же как без «Онегина» и «Горя от ума» Гоголь не почувствовал бы себя готовым на изображение русской действительности, исполненное такой глубины и истины».
«Онегина» можно назвать энциклопедиею русской жизни и в высшей степени народным произведением. Удивительно ли, что эта поэма была принята с таким восторгом публикою и имела такое огромное влияние и на современную ей и на последующую русскую литературу? А ее влияние на нравы общества? Она была актом сознания для русского общества, почти первым, но зато каким великим шагом для него! Этот шаг был богатырским размахом, и после него стояние на одном месте сделалось уже невозможным» 24. ’
513
Н. Г. Чернышевский, т. IJ
На основании этих выписок суждение о правах «Бориса Годунова» и других чисто-художественных произведений Пушкина на значение для публики и для истории литературы уже готово. Как бы ни были прекрасны в художественном отношении «Каменный гость», «Галуб», «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь» и проч., но можно ли сказать о них, что «все в них ново, оригинально, и стих, которому подобного ничего не бывало, и смелость кисти, и яркость красок»? Что «в них отразилась вся душа, вся любовь поэта, его чувства, идеалы»? Что «они имеют огромное общественное значение, служа представителями впервые пробудившегося общественного самосознания»? Что «они имели счастие, подобно «Онегину», быть первыми национально-художественными произведениями»? Что «они имели огромное значение для общества»? Но каковы и чисто-художественные достоинства «Бориса Г одунова»?
«Борис Годунов» был принят совершенно холодно, как доказательство совершенного падения таланта, еще недавно столь великого… Как тогда, так и теперь у «Бориса Годунова» были жаркие поклонники; но как тогда, так и теперь число этих поклонников было очень малочисленно, а число порицателей огромно. Которые из них правы, которые виноваты? Те и другие равно правы и равно виноваты; потому, что, действительно, ни в одном из прежних своих произведений не достигал Пушкин до такой художественной высоты, и ни в одном не обнаружил таких огромных недостатков, как в «Борисе Годунове». Эта пьеса была для него истинно-Ватерлооскою битвою, в которой он развернул во всей ширине и глубине свой гений и, несмотря на то, все-таки потерпел решительное поражение. Пушкин смотрел на Г одунова глазами Карамзина, и не столько заботился об истине и поэзии, сколько о том, чтобы не погрешить против «Истории Государства Российского». Потому его поэтический инстинкт виден не в целости, а только в частности его трагедии. Лицо Годунова, получив характер мелодраматического злодея, лишилось своей целости и полноты; из живописного изображения, каким бы должно было оно быть, оно сделалось мозаическою картиною или, лучше сказать, статуею, которая вырублена не из одного цельного мрамора, а сложена из золота, серебра, меди, дерева, мрамора, глины. От этого пушкинский Годунов является читателю тс честным, но низким человеком, то героем, то трусом, то мудрым и добрым царем, то безумным злодеем, и нет другого ключа к этим противоречиям, кроме упрека виновной совести. От этого, за отсутствием истинной и живой поэтической идеи, которая давала бы целость и полноту всей трагедии, «Борис Годунов» Пушкина является чем-то неопределенным и не производит почти никакого резкого сосредоточенного впечатления, какого вправе ожидать от него читатель, беспрестанно поражаемый его художественными красотами, беспрестанно восхищающийся его удивительными частностями. И действительно, если, с одной стороны, эта трагедия отличается большими недостатками, то, с другой стороны, она же блистает и необыкновенными достоинствами. Первые выходят из ложности идеи, положенной в основание драмы; вторые — из превосходного выполнения со стороны формы» 25.
Обвинять ли публику, спросим мы, если она не была увлечена пьесою, в которой «нет живой поэтической идеи», нет «целости и полноты», которая не «производит никакого сосредоточенного впечатления», «является чем-то неопределенным», и в которой «прецрсходны» только «частности»?
«Каменный гость», «Галуб» и другие посмертные произведения Пушкина не могут подлежать упреку в эстетических недостатках, которыми страждет «Годунов»; но все они, за исключением «Медного всадника», имеют мало живой связи с обществом, потому и остались бесплодны для общества и литературы.
Читатели, вероятно, уже успели утомиться нашими ретроспективными рассуждениями и выписками. Но — мы живем в ретроспективное время. Если не говорить о Пушкине, то о чем же говорить ныне в русской литературе? Правда, можно очень справедливо возразить на это: да зачем же говорить о русской литературе? Но такое возражение было бы очень прискорбно, потому что оно ведет к вопросу: о чем же говорить? 26 Оставим, однако, диалогическую форму и продолжим умозаключение: говоря о Пушкине, лучшее, что возможно сделать — возвратить внимание читателей к тому, что было уже сказано о нем, потому что лучше и вернее ничего нельзя не только сказать, но и придумать в настоящее время. Но всему есть мера, даже выпискам и повторениям, и наша статья близка к концу; нам остается только привести общее заключение о значении Пушкина в истории русской литературы — оно опять будет опираться на выписке — иначе невозможно в настоящее время, когда все должно быть защищено авторитетами; и как благодарны должны быть мы тому счастливому обстоятельству, что многое, нужное для настоящего времени, уже давно сказано — иначе мы или не могли бы, или не умели бы сказать ничего.
Вот общее суждение о Пушкине:
«Первые поэмы и лирические стихотворения Пушкина были для него рядом поэтических триумфов. Однакоже, как скоро начало устанавливаться в нем брожение кипучей молодости и субъективное стремление начало исчезать в чисто-художественном направлении, — к нему начали охладевать. Наиболее зрелые, глубокие и прекрасные создания Пушкина были приняты публикою холодно, а критиками оскорбительно. С другой стороны, люди, страстно любившие искусство, в холодности публики к лучшим созданиям Пушкина видели только одно невежество толпы; смотря на искусство с точки зрения односторонней, его жаркие поборники не хотели понять, что если симпатии и антипатии большинства бывают часто бессознательны, то редко бывают бессмысленны и безосновательны, а напротив, часто заключают в себе глубокий смысл. Странно же, в самом деле, было думать, чтоб то самое общество, которое так дружно, так радостно, в первый еще раз в жизни своей откликнулось на голос певца и нарекло его своим любимым, своим народным поэтом, — странно было думать, чтоб то же самое общество вдруг охладело к своему поэту за то только, что он созрел н возмужал в своем гении, сделался выше и глубже в своей творческой деятельности… Между тем, время шло вперед, а с ним шла вперед и жизнь, порождая из себя новые явления. Общество русское с невольным удивлением обратило взоры на нового поэта, смело и гордо открывавшего ему новые стороны жизни и искусства. Равен ли по силе таланта или еще и выше Пушкина был Лермонтов — не в том вопрос: несомненно только, что, даже и не будучи выше Пушкина, Лермонтов призван был выразить собою и удовлетворить своею поэзиею несравненно высшее, по своим требованиям и своему характеру, время, чем то, которого выражегіЬем была поэзия Пушкина… Другой поэт, вышедший на
литературное поприще при жизни Пушкина и приветствованный им, как великая надежда будущего, подарил публику таким творением, которое должно составить эпоху и в летописях литературы, и в летописях развития общественного сознания (дело идет о Гоголе и «Мертвых душах»). Все это было безмолвною, фактическою философиею самой жизни и самЬго времени для решения вопроса о Пушкине» 27.
Нового сказать еще нечего после этого. Потому и мы перескажем «собственными словами» (как говорится на ученическом языке) то, что так превосходно и верно была сказано о Пушкине критикою предыдущего поколения 28:
До Пушкина не было в России истинных поэтов; русская публика знала поэзию только по слухам, из переводов, или по слабым опытам, в которых искры поэзии гасли в пучинах реторики или льдах внешней холодной отделки. Пушкин дал нам первые художественные произведения на родном языке, познакомил нас с неведомою до него поэзиею. На этом был главным образом основан громадный успех его первых произведений. Другая причина энтузиазма, ими возбужденного, заключалась в том, что, по увлечению молодости, Пушкин согревал их теплотою собственной жизни, не чуждой стремлениям века, до известной степени заманчивым и для нашего тогдашнего общества. Последующие его произведения, не представляя уже интереса первых даров поэзии русскому обществу, успевшему вкусить ее из первых произведений Пушкина, не могли возбуждать энтузиазма, который пробуждается только новым. Холодность публики усиливалась холодностью самих произведений, которые имели перед прежними то преимущество, что были совершеннее в художественном отношении, но в которых общество не находило уже ничего, имеющего связь с его жизнью. Торжество художественной формы над живым содержанием было следствием самой натуры великого поэта, который был по преимуществу художником. Великое дело свое — внести в русскую литературу поэзию, как прекрасную художественную форму, Пушкин совершил вполне, и, узнав поэзию, как форму, русское общество могло уже итти далее и искать в этой форме содержания. Тогда началась для русской литературы новая эпоха, первыми представителями которой были Лермонтов и, особенно, Гоголь. Но художнический гений Пушкина так велик и прекрасен, что, хотя эпоха безусловного удовлетворения чистою формою для нас миновалась, мы доселе не можем не увлекаться дивною художественною красотою его созданий. Он истинный отец нашей поэзии, он воспитатель эстетического чувства и любви к благородным эстетическим наслаждениям в русской публике, масса которой чрезвычайно значительно увеличилась, благодаря ему — вот его права на вечную славу в русской литературе.
ПУТЕШЕСТВИЯ А. С. НОРОВА
С.-Петербург. 1854
Пять томов: томы: I и II. Путешествие по Египту и Нубии, издание второе; томы III и IV. Путешествие по святой земле, издание третье, дополненное; том V. Путешествие к Семи Церквам, упоминаемым в Апокалипсисе, издание второе 1.
Старинная русская литература была богата сказаниями о путешествиях по святой земле: от Даниила, русской земли игумена, до Арсения Суханова и Андрея, в монашестве Аарона, Игнатьева, идет непрерывный ряд паломников, описывавших свои хождетшя в назидание и душевное спасение благочестивым читателям. Многочисленность списков, в которых дошли до нас важнейшие из этих повествований, доказывает, что они были любимым чтением наших набожных предков. Иначе и быть не могло при общей благоговейной ревности к святым местам палестинским, которою всегда был проникнут русский народ. Всякий, кто мог, шел поклониться гробу господню; и надобно думать, что число таких благочестивых путников было очень велико еще в XII веке. В «вопрошаниях» Кирика Нифонт, епископ новгородский, говорит о клятвенных обещаниях посетить святую землю, как о самом распространенном обычае между православными своей паствы. Подобным образом выражается и Даниил игумен в предисловии к своему сказанию (мнози ходивше святых сих мест и видевше святый град Ісрусалим). Кому бог не дал этого счастья, для тех отрадою было читать и слушать рассказы паломников, пользовавшихся особенным уважением за свой подвиг, как видим из того же предисловия Даниила игумена.
Ревность к посещению святой земли, набожное усердие читать ее описания, слушать рассказы о ней — не ослабевали в православных в течение двух последних столетий. Напротив, никогда число набожных паломников не было так велико и едва ли когда-нибудь повествования их слушались с- большим любопытством, с живейшею любовью. Но, по стечению обстоятельств, которое на первый раз может показаться загадочным, прошло более века
прежде, нежели эта отрасль литературы, так сильно интересовавшая русский народ, достигла развития, вполне соответствующего общему развитию русской литературы. В самом деле, какие новые сказания о святой земле мы видим до тридцатых годов текущего столетия? «Дневные записки путешествия в Сирию и к достопамятным местам, в пределах Иерусалима находящимся» Сергея Плещеева (С. Петербург, 1773 г.) чрезвычайно кратки и не представляют ничего замечательного, хотя от автора, литературная деятельность которого обращена была на географические труды 19, можно было бы ожидать сочинения обширного и очень хорошего. Иеромонах Саровской общежительной пустыни Меле-тий в «Путешествии во Иерусалим» (Москва, 1798 г.) описывает святые места довольно подробно; но его книга — компиляция из прежних путешествий, уж бывших известными русской публике. Еще менее замечательны небольшие книжки, изданные Вешняковыми и Новиковым и Киром Бронниковым 20; единственным достоинством того и другого сочинения может назваться простота изложения, доходящая, однако, до сухости. Все книги, нами перечисленные, не пользовались даже в свое время ни малейшею известностью и нисколько не могли заменить старинных путевых записок Григоровича Барского Плаки-Альбова, которые пользовались нераздельным уважением любознательных и набожных читателей и имели не менее шести изданий 21. Эта книга, отличающаяся несомненными достоинствами, заслуживает, чтоб сказать о ней несколько слов.
Григорович в начале своего «Путешествия» рассказывает, что учился в киевской академии, где дошел до «начал философских», несмотря на советы отца оставить науки, которые ведут единственно к «излишнему прению, славолюбию, гордости, зависти»; мать защищала любознательного юношу, имевшего к науке «непреоборимую естественную склонность и охоту». Около двадцати
лет ему было, когда болезнь в ноге принудила его оставить академию. Один из киевских студентов, Липицкий, «отъезжал тогда в Польшу до града Львова, ради совершения высших наук; тому поревновав, возжелал я отъехати с ним, тояжде ради вины, наипаче же ради исцеления ноги моей, слышал бо яко тамо искусные обретаются врачи». В бембергской школе пробыл Григорович недолго, постоянно подвергаясь гонениям от униатов за свое православие. Отчасти, чтоб избежать этих неприятностей, отчасти, чтоб «постранствовать по чужим землям и видеть иных людей обычаи», вздумал он итти в Рим. Во время этого путешествия постепенно развилась у него мысль поклониться сначала святым местам греческим, потом и палестинским. Таким образом, посетив Солунь, Афонскую гору, Иерусалим, Каир, по возвращении из Египта во второй раз обошед всю Палестину и Сирию, он поступил в трипольское училище, где оставался несколько лет; путешествовал по Архипелагу и прожил шесть лет в монастыре на острове Патмосе, потом несколько лет в Константинополе; наконец, обозрев снова афонские монастыри, возвратился через Болгарию, Молдавию и Польшу на родину, где хотел привесть в порядок и приготовить к изданию свои путевые записки; но, как говорит издатель, «пожив только 35 дней в отеческом доме, быв болен опухолью ног», скончался на 46-м году. Скоро его записки, хотя не приведенные в окончательный порядок, распространились по Малороссии во множестве списков. Преосвященный Симон Тидорский, потом граф А. Г. Разумовский и Амвросий, архиепископ московский, хотели издать книгу, которою так интересовались все набожные читатели, но и сами скончались вскоре после того, как начинали приготовлять ее к печати, не успев исполнить своего намерения. Наконец, князь Потемкин, «ведая совершенную пользу и надобность оныя для общества», поручил издание тогдашнему литератору Рубану, который пополнил записки Барского примечаниями, впрочем немногочисленными и неважными, и, «оставив слог таковым, как был у автора, то есть славенороссийским, исключая некоторых польских и малороссийских слов, которые пременяемы на употребительные были, что и сам сочинитель без сомнения учинил бы, если б жизнь его продолжилась, ибо он имел намерение к исправлению всего путешествия».
Василий Григорович — путешественник наблюдательный и любящий подробно описывать все виденное; потому записки его, особенно первый том (второй почти весь посвящен' описанию афонских монастырей, монотонному и довольно утомительному), представляют чтение разнообразное и занимательное, тем более, что, путешествуя по большей части пешком и Христа-ради, он испытывал много приключений, придающих иногда живой драматизм рассказу. Но часто также его записки, которых не успел он пересмотреть и исправить, бывают растянуты и заключают в себе повторения. Славенороссийский язык их также делает чте-
ние тяжелым для людей, привыкших к новому языку Ломоносова. Вообще, вся книга по своему характеру принадлежит еще литературе старинной Руси, и даже в прошедшем веке могла быть читаема большинством только по решительному недостатку удовлетворительных сочинений, писанных сообразно развитию вкуса и образованности.
Настоятельная потребность образованной публики заставила прибегнуть к переводам, которых явилось много. Так, сам Рубан, издатель Григоровича, перевел с латинского «Посетитель и описатель святых мест, в трех частях света состоящих, или путешествие Мартына Баумгартена в Египет, Аравию, Палестину и Сирию», 3 части (С.-Петербург, 1794). Путешествие в Иерусалим Шатобриана было переведено даже два раза 22; также переведены были сочинения Мишо, Пужула, Корнеля и некоторых других путешественников. Но все они едва ли даже не менее записок Григоровича могли удовлетворять русского читателя. Если какая-нибудь страна должна быть непременно описана для нас соотечественником и единоверцем, то именно святая земля; это не нуждается в объяснениях; потому ни одно из переводных путешествий не нашло себе доступа к русской публике, ни одно не могло прийтись по-сердцу русскому читателю. Жажда читать о гробе господнем, о святой земле оставалась попрежнему нисколько не удовлетворенною.
Таково было положение дела, когда, в непродолжительный период времени, явились два сочинения, оба написанные красноречиво, но существенно различающиеся между собою по характеру содержания и по обширности взгляда авторов их. Первым, по времени появления, было «Путешествие по святым местам» А. Н. Муравьева (Спб. 1832); вскоре русская публика еще с большим сочувствием прочла «Путешествие по святой земле» (Спб. 1838) и «Путешествие по Египту и Нубии», служащее дополнением к «Путешествию по святой земле» (Спб. 1840 г.) А. С. Норова. Существенное различие между этими сочинениями можно обозначить вернее всего так: «Путешествие к святым местам» было прочитано с удовольствием, как отчет в благочестивых впечатлениях образованного русского писателя, возвышающегося часто в благоговении своем до истинного красноречия; «Путешествие по святой земле» и «Путешествие по Египту и Нубии», отличаясь теми же достоинствами, тем же красноречием, тем же благочестивым одушевлением, заняли, сверх того, почетное место в ученом отношении между всеми сочинениями по этому предмету, как произведения равно благочестивого и ученого ис-следователя-путешественника, коротко знакомого со всеми изысканиями своих предшественников, как произведения исслсдова-
теля, самостоятельно поверяющего, объясняющего, дополняющего результаты, которых достигла наука. При всем высоком ученом значении своем «Путешествие по Египту и Йубии» и «Путешествие по святой земле», постоянно касаясь вопросов, имеющих самый живой интерес для всякого сколько-нибудь образованного читателя, излагая эти вопросы с тою ясностью, которая всегда бывает следствием светлого взгляда на предмет, постоянно оживляя археологические разыскания рассказами о дорожных впечатлениях, картинами природы и современных нравов, по единодушному отзыву были признаны сочинениями, равно интересными для ученого и неученого читателя, столь же занимательными и понятными для большинства публики, сколько важны они для историка, археолога и этнографа; ими были равно удовлетворены читатели, искавшие в них разъяснения специальных вопросов, остававшихся до того времени темными, и читатели, желавшие вообще познакомиться с странами, столь интересными и столь мало у нас известными; читатели, искавшие по преимуществу благочестивого, читатели, искавшие по преимуществу живого, и читатели, искавшие по преимуществу ученого рассказа о странах, из которых одна важна для нас, как колыбель древнейшей цивилизации, другая священна, как колыбель божественной веры.
«Путешествие по святой земле» было издано прежде «Путешествия по Египту и Нубии»; но сам автор, называя это последнее «введением» к первому, поместил его в первых томах издания; следуя такому порядку, указываемому автором, мы должны начать и наше обозрение с «Путешествия по Египту и Нубии».
Большая часть русских, посещавших святую землю, были также и в Нижнем Египте; но ни один из предшествовавших А. С. Норову русских путешественников, описавших свое паломничество, не плавал вверх по Нилу далее Каира; поэтому, отличаясь от всех прежних русских сочинений о Египте полнотою и ученостью описания Нижнего и Среднего Египта, «Путешествие по Египту и Нубии» было первою русскою книгою, в которой описывается Верхний Египет и Нубия; в нем в первый раз русские прочли рассказ русского путешественника о развалинах Фив, Элефантины, Ипсамбула и Филе. Точно так же это сочинение было первою русскою книгою, в которой сообщены, и не только сообщены, но пополнены результаты исследований французской ученой экспедиции, Шамгпольйона и других египтологов. Чувство, увлекшее автора в продолжительное и трудное странствование, он сам объясняет так:
«Пройдя половину пути жизни, я узнал, что значит быть больным душою. Волнуемый каким-то внутренним беспокойством, я искал душевного приюта, жаждал утешений, нигде их не находил, и был в положении человека, потерявшего путь н бродящего ощупью в темноте леса. Мысль о путешествии в святую землю давно таилась во мне; я не чужд был любопытства
видеть блестящий Восток, но Иерусалим утвердил мою решимость; утешение лобызать следы спасителя мира на самых тех местах, где он совершил тайну искупления человечества, заставило меня превозмочь многие препятствия (предисловие к «Пут. по св. земле»).
Побуждаемый этою христианскою потребностью, благочестивый путешественник отправляется из Вены в Александрию. Ученые труды его ознаменовываются счастливыми результатами с самого первого шага в путь: в Триесте, верный классическим своим воспоминаниям, он открывает римскую надпись и срисовывает одежду поселян, сохранившую отпечаток древности; пользуясь несколькими днями, остающимися до отплытия корабля, который перевезет его в страну пирамид, он посещает Венецию и Аквилею. Строго соблюдая правило, принятое в самом начале и сообщающее такую свежесть рассказу, — «избегать, сколько возможно, описаний, повторяемых во всех путешествиях» (предисл. к «Путешествию по Египту и Нубии»), он не передает впечатлений, произведенных на него Влециею, «о которой уж так много известно читателю», но посвящает несколько интересных страниц «забытой всеми путешественниками» Аквилее, где находит древний, неизвестный до того времени жертвенник, на котором написано имя Герения, друга цицеронова. Предания классической древности сопровождают его в плавании вдоль итальянских и греческих берегов; но вот и песчаное прибрежье Египта.
«Первые воспоминания, пробудившиеся во мне, были библейские, — как бы невольно вылетело из уст моих; из Египта воззвах сына моего! Тут колоссальный образ Моисея, с распростертыми дланями рад народом израильским, предстал моему воображению» («Пут. по Er.» I, 31).
Александрия производит унылое впечатление своим нынешним некрасивым видом, своими некогда чудными, теперь искаженными рукою невежд развалинами; «но (говорит благочестивый автор) ни обелиск Клеопатры, ни колонна Помпеева не обращали столько моего внимания в Александрии, как тот малый остров, откуда свет божественного писания, столь долго таившийся в земле обетованной, разлился по всему миру», где совершен был перевод священных книг семьюдесятью толковниками. И при этом случае, основываясь на положительном свидетельстве Иосифа Флавия, говорящего, что жилище для переводчиков было назначено на острове, автор исправляет ошибку ученой французской комиссии, которая полагала, что место, где переведена библия, находилось на твердой земле (I, 44). Потом, рассказав историю христианства в Александрии, он переходит к описанию так называемой Помпеевой колонны, и, опровергая мнение, будто бы это памятник Диоклетиану, признает вероятнейшим, что колонна воздвигнута в память основателю города, Александру Македонскому. За обозрением развалин следует интересная глава о нынешней торговле Александрии и о египетском флоте. Другая глава посвящена плаванию до Каира, развалинам Саиса, воспоминаниям
о монастырях и святых отшельниках, прославивших пустыню Среднего Египта. В Каире автор остается довольно ^олго, подробно обозревает его здания, различные учреждения Мехмеда-Али, находящиеся в городе и окрестностях, нр5вы жителей, рассказывает интересную историю Мехмеда-Али и объясняет систему орошений (стр. 100–198). Две следующие главы посвящены поездке к пирамидам. Исследование их внутренности, соображение различных мест у древних писателей приводит русского ученого к заключению, что обыкновенное предположение, будто бы пирамиды были надгробными памятниками фараонов, несправедливо; свое собственное мнение о их назначении автор высказывает так:
«Но к чему эти таинственные пути и галлереи? К чему этот сфинкс, стерегущий подошвы пирамид? Теперь, когда я посетил храмы древнего Египта и Нубии, я вижу, что сфинксы не воздвигались египтянами иначе, как у преддверия храмов, а не у гробниц; Плутарх говорит определительно, что: «Сфинксы ставились обыкновенно перед храмами: египтяне выражали ими свою символическую феогонию» (de Iside, § 9). Из этого, мне кажется, само собою обнаруживается, что пирамиды хотя и заключали в себе прах их первых основателей, но, вместе с тем, они служили как бы храмом, для некоторых религиозных таинств, о которых нам остались темные предания в древних писателях. Пирамиды в Мерое имеют при входе их пристроенные пилоны, как у храмов… Скажем также, что едва ли не из-под сфинкса надобно искать путей во внутренность пирамид; даже символический образ сфинкса представляет много поводов к таким догадкам в стране, исполненной глубоких символов» (I, 216–218). '
«На конце ее (горизонтальной галлереи второй пирамиды) находится так называемая погребальная комната. Тут найден был вскрытый уже саркофаг с остатками костей. Эти кости были впоследствии исследованы в Лондоне, и оказалось, что оин не человечьи, а бычачьи; если это правда, — вот еще довод, что так называемые погребальные комнаты царей и цариц не суть их настоящее место погребения — и по этому обстоятельству невольно представляется мысли поклонение египтян быку Апису» (I, 223).
В журнальной статье невозможно представить многих других глубоких соображений ученого путешественника (например, о Ме-ридовом Озере, о гигиеническом основании бальзамирования, как предохранительного средства против чумы, порождаемой гниением трупов, и проч.); но не можем не представить следующего его открытия, свидетельствующего о том, как справедливо заметил он в предисловии: «единственный светоч в истории первобытной есть библия», и служащего одним из многочисленных примеров того, с кг^им успехом он «старался постоянно руководствоваться ее указаниями» (Предисл. к «Пут. по Египту».).
«Из числа разрушенных пирамид (Дашура и Сахары)… одна, менее разрушенная и более приближенная к Нилу, обратила мое особенное внимание. Эта пирамида была воздвигнута не из камней, а из необожженных кирпичей. Кирпичи, имеющие вершков по семи в длину, делались из прибрежного илу, в который, для связи, клали солому, и потом они сушились на солнце: вот образец плинфоделания египтян, на которое употреблялись израильтяне, как повествует библия: «И заповедал фараон приставникам, и сказал: не давайте теперь соломы народу для делания кирпича, пусть сами идут
и собирают солому. И разошелся народ по всей земле Египетской собирать тростник для соломы». Здесь сказано: тростник для соломы. Это обстоятельство должно присовокупить к многочисленным доводам, что главные работы израильские производились в самой Дельте, где при устьях Нила такое изобилие в тростнике, меж тем как ниже Дельты он прекращается… Заметим также, что израильтяне употреблены были, большею частью, для строения городов, а не пирамид, как иные думают. Со всем тем израильтяне могли быть также употреблены на работах в Мемфисе, и эта пирамида, быть может, есть остаток рабства израильтян (Иосиф Флавий приписывает сооружение некоторых пирамид израильтянам. Antiqu. II, 5). Я взял с собою один из этих кирпичей, современный Моисею» I, 236–238).
Пирамиды и развалины Мемфиса естественным образом приводят автора к обозрению истории первобытного Египта. Как одно из многих объяснений, которые сообщает здесь русский исследователь, на основании библейских свидетельств исправляя и пополняя мнения своих предшественников, приведем его решение столь затруднявшего ученых вопроса о том, кто были цари-пастыри (Гиксосы), покорявшие Египет:
«Мы видим из библии, что когда династия коренных египетских фараонов низвергла иго пастырей, то новый фараон, который, по словам Книги Исхода, не знал Иосифа, бывшего при фараоне пастырской династии, имел главною целью освободиться от населения израильского в земле Гесем. Вот речь его: «Приидите убо, прехитрим их, да не когда умножатся, и егда аще приключится нам брань, приложатся и сии к супостатом». Страх, выраженный здесь, напоминает слова Исаии: «И будет страна иудейска в страх египтянам». Из приведенных слов явствует, что находившие на Египет народы были из одной страны с израильтянами, и, вероятно, те, кои после названы филистимлянами, которых физическое преимущество несколько раз означено в библии; но, конечно, не скифы, как сказал Шамполион, основываясь на одном созвучии прочтенного им в гироглифах имени. Притом же и Манефоон, говоря о XVII династии пастырей, прибавляет: «они были братья финикиян». В подтверждение наших предположений заметим весьма важное обстоятельство, что доселе жители Верхнего Египта и Нубии выводят свое происхождение из Востока, который они называют Шерк. Но всего поразительнее то, что арабский писатель Бен-Аяс, в своей Космографии, именно говорит, что берберы или нубийцы производят себя от. царя Голиафа, т. е. от филистимлян. Даже в Иродоте название пастуха Филитиса может приводить к некоторым догадкам, что построение пирамид принадлежит не египтянам, а народам чужеземным. Зодчество этих громад не имеет отпечатка зодчества египетского;—пирамиды, по нашему мнению, суть подражание первым диким памятникам мира, каковы: столп Вавилонский или башня
Белуса. Иродот и Страбон говорят, что эта башня имела вид пирамид: а в отрывке из Берозия мы читаем, что Небуласар, отец Навуходоносора, нагромоздил гору из необычайной величины камней. Мы 'находим еще другую вероятную причину к таковому мнению по одному месту Манефона. Он говорит, что нахлынувшие на Египет пастыри (Гиксосы) разрушили все города и храмы египетские. Шамполион прибавляет, что ни одно из великих зданий Египта не было пощажено. Хотя трудно разрушить большие пирамиды, но… пастыри не пощадили бы по крайней мере их наружности, напротив того, они сохранили их, может быть, как памятники своих родных племен. Если же нам возразят, что египетский фараон Мерис воздвигнул пирамиду на озере своего имени, то мы можем ответствовать, что по прошествии тысячи лет от построения первой пирамиды египтяне могли забыть о ненависти их предков к пастырям и подражать этому роду зданий» (I, 269–272).
Если б мы могли представить здесь все замечательные соображения, которыми автор проливает свет на египетскую историю и в особенности на те факты, которыми соприкасается онсі с еврейскою, мы должны были бы переписать всю главу. Упомянем, по крайней мере, о предположении ученого автора касательно времени образования дельты; относя его к доисторическому периоду, он думает (и эта ипотеза теперь оправдывается), что цивилизация перешла из Нижнего в Верхний Египет, а не наоборот, как обыкновенно думали; далее: доказательства его, что столицею фа- \ раонов в эпоху Моисея был Цаон, а не Мемфис — мысль, также после него принятая в науке, что увидим ниже; определение местности земли Гесем; мнение, также принятое ныне учеными, об исходной точке путешествия израильтян, которое рассмотрим ниже; наконец, доказательства, что Но-Аммон — не Фивы (Диосполь Великий), а Диосполь Малый, в Нижнем Египте, и множество других объяснений, равно справедливых и важных. Через Гелиополис автор возвращается в Каир и, окончив описание его, приступает к подробному статистическому обозрению Египта (главы XVIII–XXIII), чем и заключается первый том. Второй посвящен путешествию в Верхний Египет и Нубию, до больших порогов Нила. В этом плавании, первом, описанном русским ученым, прежде всего встречает автор пустыни, прославленные святыми отшельниками фиваидскими, потом знаменитые гипогеи Бени-Гас-сана (II, 17–25). Путевые приключения, картины природы, наблюдения над крокодилом и бегемотом, краткие обозрения развалин египетских городов, и христианских монастырей быстро сменяются, пока, на десятый день плавания, путешественник достигает; Фив, описанию которых посвящено семь глав (V–IX и, на возвратном пути, XX–XXI). Мы не можем следить за ученым — автором по всем памятникам этого «первенца городов, великолепнейшего под солнцем», но должны представить, хотя в извлечении, описание последней группы, им обозреваемой, развалин Карнака, в которых наш автор открыл даже после Шампольйона много нового и важного:
«Вступим между двумя пирамидами в гигантские ворота. С первым взглядом во внутренность воображение самое холодное приводится в смущение невиданными дотоле массами колонн и пиластров, то цельных, то разрушенных; но оно уже испугано, завидя прилежащую к этому огромному перистилю храмину с необъятным множеством столпов, которых создание превышает силы народа, самого могущественного.
Hane posuisse deos! должно воскликнуть с Саназаром.
Сойдите теперь в этот перистиль. Из груд самых драгоценнейших материалов, разбитых вдребезги обрушенными на них рядами колонн, которые загромоздили всю площадь, высится одна необычайная колонна в гигантской прелести с своею лотосовою капителью. Но завиденная вами храмина все влечет вас к себе; вот ее колоссальные привратники — вы едва обращаете на них внимание и, вступив в преддверие, узнаете, что все виденные вами доселе здания, хотя б вы обошли весь земной шар, — игрушки перед этим столпотворением! Этот лес колонн, величины невообразимой — и где же?
внутри здания — повергает вас с первого раза в глубокую задумчивость о зодчих. Вы невольно спрашиваете, не исполины ль библии, эти человецы име-нитии, жившие несколько столетий, оставили здесь следы своего существования? Этих столпов, или, лучше сказать, скал, 136. Те 12 колонн, которые поддерживают среднюю часть храма, разрезывая его на два этажа, выше прочих. По сделанному расчислению, сто человек могут свободно поместиться на каждой капители этих колонн. Церковь св. Мартина, одна йз самых больших в Лондоне, уставится четыре раза в этой зале, имеющей 318 футов в длину и 159 ф. в ширину. Большая часть колонн в совершенной целости, другие же страшно наклонены с нависшими над ними громадами. Потолок состоит из каменных плит невероятной величины. Во всех этих зданиях нигде не употреблена известь и все держатся одним напором тяжестей.
Теперь представьте себе все эти громады стен и колони одетыми сверху донизу резными картинами, с фигурами столь же гигантскими, как и зодчество.
Из картин, не описанных Шамполиоиом, мне показалась отличнее перед прочими картина на северной стене, изображающая бога Фота, начертываю-щего на древе жизни в третий раз имя Рамзеса II… и еще другая картина на западной стене: там представлен, в колоссальном виде, Аммон-Pa (которому был посвящен этот храм); он сидит на престоле; фараон подводит к нему, держа за руку, прекрасную женскую фигуру, которая изображает, как мы думаем, одну из Паллакид, т. е. дев высокого или царского рода, посвященных Аммону; небольшой рог на челе девы выражает, вероятно, это звание. За Аммоном стоит богиня Гатор (Венера). Это брачное торжество фараона.
Бродя долго по этому разрушению, я подошел нечаянно к остатку нижней стены исполинского Аммонова храма; — и как велико было мое удивление, когда я открыл на разбитой гранитной картине очень малого размера и от которой осталась только нижняя половина — изображение победителя, наступившего пятою на главу простертого под ним еврея. Народные черты лица израильтянина поразительно сходны… Подобное открытие Шамполиона тотчас заставило меня узнать в этом изображении библейское событие о нашествии фараона Сесака на Иерусалим. Важность этого дополнения к открытии} Шамполиона заставила меня немедля взяться за карандаш. Я со всевозможною верностью срисовал этот достопримечательный бареллеф. Пред фараоном едва видны две фигуры: стоящая на коленях, а другая, как бы просящая пощады. Происходящая сцена изображена на вари или священной барке» (II, 126–132).
От Фив автор продолжает Путь свой до больших нильских порогов, описывая развалины Элефантины, Филе, Ипсамбула и множества других древних городов, изображая нравы нубийцев и картины дикой и величественной природы их страны. Наконец, начертав на крайней точке своего пути, над пропастью, на стене скалы Эбшир, обращенной к родному северу:
Alme soll possis nihil Russia Visere majus!
(О солнце! да не видишь ты величия равного величию России— примененные к родине стихи из Carmen Saeculare, Горация:
Alme sol…
Poss-s nihil urbe Roma
Visere majus!)
пускается в обратный путь. Снова осматривая во всей подробности развалины Ипсамбула, он открывает, при сличении Шамполь-
иона с Геродотом, эпоху и цель построения знаменитого ипсам-бульского храма, видя в нем памятник побед Сезостриса в Эфиопии и опровергая ошибочное, основанное только на созвучии, сближение «Ипсамбул» и «Псамметих», предлагаемое Вилькин-соном и Риттером.
«Читая шамполионовы объяснения иероглифических картин Ипсатибула и заглянув в Иродота, мы приходим к заключению, что храм Ипсамбула 'l создан Сезострисом в воспоминание опасностей, которые он избежал при покорении Эфиопии. Выпишем строки Иродота: «Из всех египетских царей один только Сезострис царствовал над Эфиопиею. Он соорудил каменные статуи перед храмом Вулкана' в память избегнутых нм опасностей» (Lib. II,
§ 110). То же самое говорит Диодор, определяя даже место побед Сезостриса: «в первой Эфиопии» (Lib. I, § 55), то есть в Нубии, между первыми и вторыми порогами Нила. Троглодиты именно названы у Стравона в числе народов, покоренных Сезострисом… Эти колоссы (стоящие перед храмом) суть истинные портреты Сезостриса: их лица совершенно сходны с лицом поверженного колосса Мемфийского, который был воздвигнут в память побед Сезостриса над эфиопами» (II, 233–236).
В Дакке описывает путешественник греческие надписи, неизвестные Летронну (II, 259–261), и, срисовав в Келабше интересный фреск, драгоценный, как памятник первых веков христианства, и изображающий торжество святой мученицы, преданной пламени (II, 271), прощается с Нубией, которая столько веков закрыта была от нас завесою тайны и которая, прибавим, так хорошо известна нам теперь, благодаря трудам таких ученых, как автор «Путешествия по Египту и Нубии». О.бозрев Элетию, Эсне, вторично Фивы, Дендерах с его знаменитым зодиаком, который объясняет очень проницательно, Абидус, монастырь Эль-Боххара, ученый путешественник достигает области Фаюм, которую подробно исследует в подтверждение своему мнению о протяжении „Меридова Озера (пространство которого определяет он так, что вполне подтверждается основательность известий Геродота и Страбона), и, наконец, чрез Каир, Мансуру и Дамьят отправляется в Палестину.
Наш очерк, слишком краткий, и наши выписки, по необходимости, слишком малочисленные, могут, однакож, до некоторой степени показать, какую важность в ученом отношении имеет «Путешествие по Египту и Нубии»; не говорим уж о том, что автор вполне знакомит нас с важнейшими результатам^ открытий, сделанных новейшими учеными: мы видели, что на каждом шагу он исправляет и дополняет их собственными открытиями, собственными исследованиями. Мы ограничились указанием немногих примеров; если б мы захотели перечислить все, нам должно было бы по нескольку раз ссылаться на каждую главу, почти на каждую страницу сочинения, классическое достоинство которого давно уж признано. Но неполный обзор наш был бы слишком односторонен, если б мы, обращая главное внимание на ученую важность книги, опустили из виду ее повествовательную
часть. Интересные путевые встречи, картины природы, изображенной с поэтическим одушевлением, личное знакомство с замечательнейшими людьми нового Египта, беседы с Мехмедом-Али и Ибрагимом, частые разговоры с Клот-беем, Солиманом-пашою и многими другими придают живую занимательность рассказу. Выпишем зіесь по нескольку строк из двух сцен, изображающих пер. вые свидания путешественника с знаменитым вице-королем Египта и его храбрым сыном.
«По обширному крыльцу, слабо освещенному, мы вступили в аванзал и уже оттуда прямо вошли в диванную верховного паши. Посреди обнаженной комнаты стоял на полу огромный подсвечник, подобный нашим церковным паникадилам; в нем горели такие же огромные свечи, как наши местные, а в глубине комнаты довольно высокий диван занимал всю стену; никаких других мебелей тут не было. Завидя нас в дверях, Мепмет-Али, сидевший поджав ноги в углу дивана, имея перед собою своего драгомана, тотчас встал, подошел к нам, приветствовал дружелюбно по обычаю восточному и пригласил нас сесть возле него, между тем как его первый министр Богос Бей и драгоман почтительно стояли против него.
Все мое внимание устремилось на маститую голову этого знаменитого человека, и я старался прочесть в чертах его лица бурную историю его жизни. Чело его, осененное белою обширною чалмою, и весь низ лица, покрытый широкою седою бородою, при малой движимости физиогномии
и телодвижений показывают сначала тихого и скромного старца; но быстрота серых его глаз, блистающих из-под насупленных седых бровей, и принужденная, хотя и тихая улыбка обнаруживают, после пристального рассмотрения, глубокую скрытность, стойкость, гениальный ум и наконец — истребителя Мамелюков. Я вглядывался в его физиогномию в продолжение церемонного процесса, когда подносили ему и нам шербет и трубки, которые мы приняли с обычными на Востоке приветствиями, обращенными к нему, при-ложа руку ко лбу и сердцу: он нам отвечал таким же образом. Пер
вый вопрос его, мне сделанный, был о цели моего путешествия. Я отвечал ему, что я хаджи, едущий в Иерусалим. Мне показалось, что это его удивило, ибо он ожидал, что я ему скажу, что я приехал видеть возрождающийся под его рукою Египет. Но он продолжал речь в моем смысле…
Вскоре более привлекательный для него разговор занял нас: я изъявил ему
желание видеть во всех подробностях Египет, а он предлагал мне все нужные пособия… Мы провели более часа в любопытной беседе о его нововведениях, и я остался вполне довольным его необыкновенно ласковым приемом»
(I, 105–108).
«Ибрагим-паша отправлялся в Сирию, по причине вновь возникших беспокойств; он не замедлил прибыть (в Дамьят). На другой же день поутру, узнав, что я желаю его видеть, он пригласил меня и принял запросто, в присутствии только одного драгомана. Ибрагим показался мне человеком лет за сорок пять; роста среднего; борода его очень мелкая; глаза серые и довольно быстрые, но без гениальности. Первое слово его было, что он меня, как человека военного, принимает по-походному; он спросил меня, где я был ранен, сказал мне, что читал подробное описание знаменитой кампании 1812 года; я, с своей стороны, начал ему говорить про его последнюю кампанию против турок, о сражении под Кюниею, и сказал ему, что я везу с собою план его кампании, данный мне Солиманом-пашею. Наконец он мне объявил, что надеется встретить меня в Сеи-Жан-д’Акре или в других местах Сирии; я сам коснулся имени этой крепости, взятие которой составляет один из лучших венков его; вспомнили Наполеона, и тут глаза его заблистали. «Да, воскликнул он, Наполеон не мог ее взять». Я ие счел нужным говорить ему, что это сравнение не совсем правильно, к тому же нам поднесли шербет и трубки…» (II, 412–413).
Кроме всех исчисленных нами достоинств, «Путешествие по Египту и Нубии» замечательно статистическими сведениями о Египте, которые автор собрал из верных источников. Важнейшие изменения, происшедшие с 1835 года в положении страны, отмечены в дополнениях; потому что второе издание, ныне вышедшее, пересмотрено автором, как доказывает сличение его с прежним. Еще более пополнений находим в новом издании «Путешествия по святой земле»; сам автор называет его «дополненным» и говорит в предисловии: -
«Приступив к третьему изданию моего Путешествия по святой земле, я старался сделать мою книгу достойнее того лестного приема, которым она была почтена. Мне приятно было видеть, что новейшие исследования ученых путешественников Робинсона и Смита, вполне достойные того внимания, которое обратили на них Англия и Германия, подтвердили сделанные мною изыскания библейских мест» (III, предислов. VI).
Подтверждением этих слов будет служить наш обзор, в котором обратим исключительно внимание на археологическую и повествовательную стороны сочинения, оставляя неприкосновенною чисто религиозную часть его, придающую, конечно, наибольшую привлекательность книге, но не подлежащую нашему разбору. Не можем, однако, не заметить следующих строк, показывающих общий характер сочинения и его достоинства:
«География и топография Палестины в применении к тексту священного писания были доселе мало объяснены очевидцами. Я имел отчасти целью облегчить в этом отношении чтение многих мест Ветхого и Нового заветов… Я тогда только пользовался указаниями путешественников, когда находил на месте их показания согласными с текстом библии. Библия есть вернейший путеводитель по святой земле, и я считаю себя счастливым, что по большей части имел при себе во время моего пути только одну библию» (III, предислов. VII–IX).
Действительно, если высокий христианский дух просвещал благочестивого автора во время путешествия по долине Нила, в которой по преимуществу видит он землю, освященную временным пребыванием спасителя, прославленную чудесами Моисея и подвигами Иосифа, эпиграфом к описанию которой служат ему слова Осии: «Из Египта воззвах сына моего», обзор развалин и иссохших каналов которой заключает он пророчеством Исаии: «И опустошит господь море египетское и возложит руку свою на реку духом высоким», — если в Египте, где так много других воспоминаний, направляло взор автора чувство христианина, то в земле народа божия, в стране, освященной жизнью и страданием спасителя мира, тем более должен проникнуться и проникается путник духом священного писания. Но, как и прежде, он с благочестием соединяет ученость и, основываясь на библии, пользуется всеми пособиями науки. Доказательство того представляют первые же страницы книги, заключающие в себе глубокомысленное и принятое после русского путешественника европейскими учеными определение точки исхода израильтян из Египта:
«Должно заметить, сколь ошибочно полагают путь израильтян из Египта от Мемфиса. JLJapb Давид обозначает (псал. LXXVII, 12 и 13) Цоан местом действий между Моисеем и фараоном египетским, а в книге Моисеевой этот путь начертан довольно подробно. Сперва объяснена причина, почему Моисей не повел израильтян прямым путем в землю обетованную. «Егда же отпусти фараон люди, не поведе их бог путем земли Фили-стимския, яко близь бяше, да не когда раскаются людие видевше рать, и возвратятся во Египет. И обведе бог люди путем, иже в пустыню к Черм-ному морю». Далее: «воздвигше же ся сынове израилевы от Сокхофа, опол-чишася во Офоме при пустыни. И рече господь к Моисею: рцы сыном Израилевым, н обратившеся да ополчатся прямо придворию, между Магдолом и между морем, прямо Веельсенфону, пред ними ополчишися при мори»… Прежде этого Моисей сказал фараону, что он пойдет на три дня в пустыню, для принесения там жертвы богу, — это есть расстояние от Цоана до Суэйза; к тому же Моисей избрал этот путь с намерением, чтобы скрыть от фараона свое направление к Палестине (XIII, 17–18). Но путь из Мемфиса в Палестину чрез Суэйз есть путь прямой, который не соответствует тому обводу в пустыню к Чермному морю, о котором говорил Моисей. И земля Мемфиса ие может быть названа соседнею с Палестинскою (яко близь бяше)» (III, 17–19).
Потом автор определяет положение Веельсенфона в подтверждение своему мнению и приводит много других доказательств, его подкрепляющих. Место не позволяет нам приводить в других случаях выписок из новейших европейских исследователей, посетивших святую землю после А. С. Норова и принимающих мнения, им высказанные, но мы хотим представить хотя один пример того, до какой степени признаны последующими учеными открытия, сделанные русским ученым, и потому приводим по изданию, вышедшему в нынешнем году, следующее место из «Библейских исследований в Палестине» и пр. Робинсона и Смита, замечательнейшего из новых трудов по географии Палестины:
«Обозрение местности убедило нас, что ни от какого пункта близ Гелиополя или Каира (т. е. в окрестностях Мемфиса) невозможно достичь Черм-ного моря в три дня пути, о котором говорит библия. И расстояние, и совершенный недостаток воды по этим дорогам делают невозможным предположение, нами отвергаемое (т. е. что израильтяне вышли из Мемфиса). Мы читаем, что из Египта вышли шестьсот тыс^іч мужей, старше двадцаіа_лет; конечно, столько ибГбыло с ними" и взрозддо женщин и, по крайней мере, еще столько же деуе^ юношей и девиц моложе двадцати лет; кроме того, было множество рабов с огдаидыми стадами окота. Итак, все число израильтян не могло быть" менее двух миллионов. Обыкновенный дневной путь самого крепкого и снабженного всем войска полагается ие более, как в двенадцать английских географических миль (которых считается 60 в градусе; итак, версты в день); в Пруссии дневной марш войска полагается не более трех'иемепких миль (21 верста); и притом через каждые три дня войско необходимо должно имёть день отдыха. Невозможно предполагать, чтоб израильтяне с женами, детьми и стадами были в состоянии проходить в сутки большее расстояние. А по всем путям от Гелиополя (близ Мемфиса) или Мемфиса до Чермного моря расстояние не менее шестидесяти английских географических миль (105 верст) — чего никак не могли перейти они менее, нежели в пять дней.
Препятствие, происходящее от недостатка воды для людей, израильтяне могли б устранить, взяв запас воды из Нила, как ныне делают караваны. Но фараон тем же путем преследовал их с огромным количеством лошадей, колесниц и конного войска, — а это было бы невозможно ни по одной из дорог, ведущих от Каира к Чермному морю. Правда, и ныне берут иногда с собою лошадей, но для них берут и огромный запас воды, какой до крайности обременил бы фараона — по два меха для лошади; шесть таких мехов составляют вьюк верблюда, следовательно, на каждых трех лошадей необходимо брать верблюда с водою. И прн всем том часто лошади падают, не Перенося этого пути. Что касается израильских стад, то овец и коз было бы еще можно гнать этою дорогою; но для стад рогатого скота был бы нужен такой же огромный запас воды, как н для лошадей» (часть I, стр. 82–83).
На основании этих соображений и определения местностей, подобного тому, какое встречаем у русского ученого, Робинсон и Смит заключают, что исходным пунктом израильтян должно принимать. Цоан. В параллель всем последующим выпискам нашим из «Путешествия по святой земле», мы точно так же іуюгли б привести подобные места из исследований, изданных после этой книги немецкими и английскими учеными, и показать, как оправдываются новейшею наукою мнения, принимаемые русским исследователем; но, повторяем, этого не позволяет нам место, и мы должны ограничиться одним примером, представленным выше, позволяя себе только еще два или три раза впоследствии сослаться на Робинсона и Смита, а в большей части случаев не приводя и этих цитат, чтоб не увеличивать объема нашей статьи. Изложенное выше мнение об исходе израильтян из Цоана, а не Мемфиса, необходимо заставляет нас возвратиться к мнению ученого автора, что во время Моисея столицею Египта был не Мемфис, как обыкновенно думали, а Цоан. Вот доказательства, которыми подтверждает он этот чрезвычайно важный для истории факт:
«Из священных писателей о Мемфисе упоминает первый Исаия, а из языческих — Иродот. Если б Мемфис был при Моисее столицею Египта, то. конечно б, священные книги древнее Исаии упомянули о нем; к тому же сам Моисей в книге Числ указывает на Цоан, как на главный город Египта, а впоследствии и божественный песнопевец Давид в псалме LXXVII, 13, где самое выражение: поле Цоан обозначает плоскую местность. Ныне доказано, что исход израильтян последовал во время владычества XIX династии, а эта династия была не мемфисская, а танетийская» (т. е. цоанская, потому что Танет другое имя Цоана) (III, 10–11).
Точно так же Робинсон и Смит (часть I, стр. 88) доказывают, что двор фараона, современного Моисею, был в Цоане. Точно так же принимается ныне всеми учеными мнение русского путешественника, что земля Гесем или Гошен, которая была отдана израильтянам в Египте, лежала при озере Мензале, по пелу-зийскому рукаву Нила, где теперь провинция Эль-Шаркийе, самая богатая из всех областей нынешнего Египта («Путеш. по Египту» I, 269 и след. «Путеш. по св. земле» III, 19. Робинсон и Смит, часть I, стр. 84 и след.).
Через Суэзский перешеек, описание которого оживлено картинами жизни бедуинов, автор достигает земли обетованной, юговосточные границы которой весьма точно определяет при помощи
^библии; видит Газу, с воспоминаниями о Сампсоне, Аскалон, равно знаменитый во время могущества филистимлян и в период крестовых походов; повсюду припоминает библейские пророчества, славные события истории, и таким образом доходит до местности, где должно искать Аккарона, одного из главных городов филистимских, положение которого оставалось неизвестно прежним ученым. Соображая указания библии, ученый исследователь приходит к заключению, что древний Аккарон — нынешнее селение Барга, лежащее между Азотом и Иемне. Робинсон и Смит определяют положение Аккарона также между Азотом и Иемне (Робинс., часть III, стр. 231). Наконец, на вербную субботу достигает он цели благочестивого своего странствования — Иерусалима, которому посвящена большая половина первой части путешествия; не говоря уж о подробном и точном описании города, о прекрасном очерке его истории, скажем, что автор посещает все окрестности и повсюду объясняет затруднявшие предшественников его местности; с благоговейным одушевлением повествует он о страстной седмице и торжестве пасхи. По нашему плану, мы не можем следить за автором в этом обозрении;
но не можем не выписать, по крайней мере, двух мест: рассказа о впечатлении, какое производит первый взгляд на храм гроба господня, и описания Омаровой мечети, занимающей местность храма Соломонова, которой никто из русских не видел до А. С. Норова, которой не видел почти никто и из других христианских путешественников, а из видевших никто не описал с такою точностью.
«Среди тишины темной ночи я приступил в первый раз к величественному преддверию храма гроба господня; обе половины огромных ворот были открыты настежь. Бесчисленные огни свечей блистали перед большими стенными иконами, изображающими снятие со креста и погребение спасителя. Тотчас при входе, в ложе привратника, я увидел сидящих, поджав ноги, турок, с трубками во рту и играющих в шахматы; — мое сердце сжалось грустью;— толпа расступилась перед нашим янычаром, — и в нескольких шагах от нас лежал на помосте камень, одетый желтым мрамором и окруженный большими свечами, — это тот самый, на котором благообразный Иосиф облекал в плащаницу снятое со креста тело Иисусово. — «Господи!» сказал я невольно, пав ниц со слезами — «страдания твои еще не прекратились! Крещеные во святое имя твое и искупленные тобою владеют этим миром, а нечестивые стерегут святилища твои!»
Но христиане не должны смущаться, что такие великие святыни находятся в уничижении языческом: — спаситель мира и себя подвергнул на земле тяжким страданиям. В смятении чувств, я не помню, как я дошел до гроба спасителя: — тут я дышал свободнее — отдельный придел скрывает погребальный вертеп господа…» (III, 90–91).
«Самые следы чудесного храма Соломонова стерты с лица земли… На этом священном месте возвышается теперь великолепная мечеть Омарова; она занимает в ряду восточных зданий то же место, которое имеет Пантеон в классической архитектуре. Мечеть Омарова в Иерусалиме, называемая Эль-Сахара-л-лах, пользуется почти одинаковою знаменитостью на Востоке, как и мечетн Медины н Мекки. Магомет в первые годы издания корана Повелел, чтобы мусульмане во время молитв своих обращались к мечети
Иерусалимской. Вход в нее воспрещен христианам под смертною казнью. Сидней Смит, защитник мусульман противу французов во время экспедиции Бонапарте, не мог найти способа проникнуть туда. Даже до сей гіоры, когда влияние европейцев на Востоке сделалось так сильно, мы знаем о внутренности мечети Омаровой только по неверному описанию Али-бея (испанского ренегата)… Госпожа Бельзони, переодетая в мусульманское платье, в 1818 году, быстро пробежала часть мечети Омаровой, волнуемая страхом и все что сказала о ней, также совершенно неверно. Но то, что мы знаем положительного об этой мечети, заимствовано у медика Ричардсона, который видел эту мечеть втайне, находясь в служении при Муселиме иерусалимском. Я имел случай осмотреть… мечеть Омарову, эль-Сахару. Мое описание не может быть обстоятельно, потому что в одни час времени я не мог вникать в подробности, но, по крайней мере, оно будет верно. Скажу прежде о случае, доставившем мне туда вход. — В бытность мою в Египте я пользовался благосклонностью Мегмета-Али. Я получил от него… письмо к паше Сирийскому Шерифу, его зятю. По счастливому стечению обстоятельств Шериф-паша во время моего пребывания в Иерусалиме прибыл туда… Не желая, чтоб он отказал мне в чем бы то ни было лично, я послал… моего драгомана выхлопотать от паши разрешение на вход в мечеть Омарову. Шериф-паша представлял ему все трудности и опасности, сопряженные с исполнением нашего желания, хотел сзывать на совет шейхов иерусалимских, желая сложить на ннх неуспех; но мой драгоман, зная, что в письме Магметэ-Али к Шерифу было употреблено выражение; «выполнить все, чего душа моя пожелает», пребыл настойчив. Положено было, что на следующий день, рано поутру, кавас паши Сирийского явится к нам с повелением имаму мечети Омаровой; но вместе с тем нас просили скрыть несколько наш европейский костюм под восточною одеждою. Никогда не было примера такого почти официального дозволения, и, без сомнения, мы одолжены за этот успех могущественному действию имени русских. Кавас явился к положенному часу… Некоторые нз нас были одеты совершенно що-восточному, но если кто из нас менее всех походил на мусульманина, то это, конечно, я: на европейское мое платье был накинут нараспашку армянский халат, а на голове моей, вместо чалмы или фески, была моя старослуживая военная фуражка. Люди наши, на всякий случай, были хорошо вооружены… Мы вступили под свод грозных для христиан ворот; они занимают место тех… где апостолы Петр и Иоанн исцелили хромого… Мусульмане из особенного предпочтения к этим воротам всегда освещают их лампами… Оставя в воротах туфлн, мы вступили на мраморный помост обширного двора. Этот помост имеет, как полагают, 1 000 футов в длину и 500 в ширину и весь устлан плитами белого мрамора… Середина этой мраморной площадки занята четверостороннею платформою, возвышающеюся ступеней на 20, также из белого мрамора. Туда ведут с каждой стороны крыльца, украшенные роскошными портиками. Посреди этой платформы отделяется еще другая, о седьми нли восьми ступенях, и на ней уже возвышается осьмиугольный храм, исполненный зодческой гармонии. Купол, самой чистой сферической пропорции, основан на восьмиугольном фонаре и слит с ним в прямую линию; он увенчан золотым полумесяцем. Стены одеты разноцветною узорчатою кафелью, которая отливается синим цветом; во многих местах цветочные узоры искусно слиты с позолоченными изречениями корана. Несколько фонтанов, под красивыми куполами на легких колоннах, льстят слуху своим журчаньем под жарким небом. Разбросанные группы кипарисов, лавров и померанцев вырываются кое-где из скважин мраморных плит… Я не видел внутренности Золотых ворот оттого, что не знал, что туда есть вход; говорят, что они замечательны. Предание, что в эти ворота войдет христианский победитель мусульман, глубоко вкоренено в здешних жителях. На этом предположении Золотые ворота закладены еще при Омаре… Они были наружными вратами храма или притвора Соломонова…. Неподалеку от Золотых ворот, при повороте городской стены от востока на юг, показывают в ней мусульмане большой камень, говоря, что он принадлежал трону Соломонову… Против восточных дверей храма построен мраморный водоем особенной красоты. Он имеет также форму осьми-угольника; своды его, покрытые подобным куполом, как на мечети, поддержаны кругом двойным рядом легких коринфических колонн. Это место на- аывают троном или судилищем Давидовым. Мы вошли в эль-Сахару через северные двери, которые называются Бабуль Джинна, т. е. двери рая. Южные двери называются «двери молитвы», восточные — «Давидовы»; западные — «двери войны». Все они были тогда растворены; но темный свет, падающий сквозь разноцветные стекла из семи окон купола, разливал необыкновенную таинственность на предметы. Два круга колонн из разного мрамора, с позолоченными капителями, поддерживают арки потолка: они, конечно, принадлежали зданиям древнего Иерусалима. Первый ряд, заключающий 16 колонн и 8 пиластров, идет вокруг стен, а второй ряд, имеющий 15 колонн и 4 тумбы, находится под самым основанием купола и имеет, по моему счету, 83 шага в окружности. Этот второй ряд колонн основан на небольшом подъеме и идет вокруг необделанного, огромного камня или скалы, обнесенной позолоченною решеткою. Длина этой скалы — во весь диаметр купола; ширина — менее, а высота превосходит человеческий рост. Эта скала составляет святилище храма; весь Восток имеет к ней глубокое благоговение и по ней называется мечеть эль-Гаджара Сахар-лах, т. е. мечетью божественного камня… Есть предание, что этот камень перенесен сюда из Вефиля… что на этом камне опочил Иаков, когда он видел во сне небесную лестницу, и что на нем был ^утвержден кивот заівета… По словам имама, камень этот упал с неба… Под камнем есть спуск в пещеру; перед входом туда стоят прислоненные к камню и к решетке разные хоругви. Тут щит Магомета, знамя и огромный меч Али; но тут же я копье Давидово. Тут же, на камне, лежит подлинная рукопись корана… При сходе в пещеру камень поддержан е двух краев двумя малыми колоннами из белого мрамора; они утверждены косвенно в пол и в камень. Эти колонны, по мнению магометан, долж НЫ раздавить всякого христианина, дерзающего ступить между ними; несмотря иа то, мы спустились в пещеру по восьми или девяти ступеням, также из белого мрамора. Эта пещера, называемая магометанами «сходом в подземное царство душ», есть не что иное, как квадратная комната, шагов в восемь пространства и немного выше человеческого роста. Она грубо оштукатурена, кроме потолка, который образован камнем. «Не думайте, — сказал мне имам, — чтобы стены поддерживали этот камень, нет, он держится сам собою, а стены служат только для образования пещеры». Эти слова объясняют столь известную басню о камне, державшемся на воздухе… Внутри мечети расточены кафельные украшения, вместе с мрамором, который похищен из храма гроба господня. На кафедрах блестящие кафели представляют вид драгоценных камней… Мусульмане уверены, что если бы Христиании, вошедший в эль-Сахару, стал молить бога об уничтожении исламизма, то он услышал бы его. Вероятно, они основывают такое мнение на сказанном в книге Паралипоменон о посвящении храма Соломоном: «и явися господь Соломону нощию и рече ему: нэбрах место сие мне в доме жертвы… И ныне очи мои будут отверсты и уши мои послушны к молению места сего». Но судьбы божии совершаются! с каждым днем времена язычников скончава-ются; невнятый слух, пагубный предвестник падения царств, быстро распространяется от Каспийского моря до Южного океана, среди последователей Магомета — и запустение водворяется в разрушающихся капищах Ваала…» (III, 270–292).
Читатели извинят нас за то, что мы нарушили стройность этого последнего описания, принуждены будучи опустить большую часть исторических воспоминаний, возбуждаемых Соломоновым храмом, и высказанных с истинно-поэтическим одушевлением: мы желали, по крайней мере, передать существенное и необходимость заставляла нас ограничиться только извлечением из обширного
рассказа, занимающего целую главу. Первым местом, куда направился путешественник из Иерусалима, был Вифлеем. И здесь, как везде, он записывает предания, бывшие до него неизвестными, находит предметы, не замеченные другими, не столь проницательными или не столь счастливыми путешественниками.
«Высота, находящаяся на левой стороне от дороги (из Иерусалима в Вифлеем), называется горою патриарха Иакова: а еще левее, совсем в стороне от дороги, находится выдолбленный камень; в простонародья говорят, что тут пресвятая дева часто отдыхала с младенцем Иисусом. Об этом камне я доселе не читал ни в одном из путешественников. Ныне я нахожу в путешествии Даниила Игумена указание на самый этот камень. Когда мы вспомним, что Даниил путешествовал в начале XII века, то нельзя не удивляться чудному сбережению сего камня, лежащего на распутии; это даст нам меру того уважения, которое сохраняют жители Палестины к предметам, с которыми хотя несколько соединены священные предания» (III, 385–386).
Прилагая рисунок этого замечательного открытия, автор говорит, что некогда камень был принадлежностью терм. Потом он определяет местность «горняго града иудина», находя, что это Иута или Иетте (III, 390), и поправляя ошибку Робинсона. Вторая поездка его из Иерусалима в Вефиль, которого не посещал ни один известный путешественник, поэтому описание Вефиля (IV, 13–17) первое в науке; на пути автор определяет неизвестное прежде положение Рамы (впоследствии Робинсон определяет ее подобным же образом), отыскивает там надгробный памятник, который, быть может, есть гробница Самуила, потом находит Га-ваон (ныне Эль-Бир), знаменитый чудом Иисуса Навина, — все эти местности не были прежде определены или определялись ошибочно. Третья поездка автора из Иерусалима в Вифанию, Иерихон, к Мертвому морю, в обитель св. Саввы, где находит он драгоценные славянские рукописи, которые привозит в отечество. Пятою поездкою из Иерусалима было путешествие в Хеврон; оттуда путешественник опять возвращается в Иерусалим, чтоб проститься с местом, освященным страданиями спасителя, направляясь в Галилею. На пути этом он определяет местность Эмауса, Каридф-иарима, Силома, описывает Яфу, Наблус, Сихем, Самарию, Фавор и, наконец, Назарет, в одном из храмов которого замечает надпрестольный образ нерукотворенного лика спасителя. По преданиям назаретским, этот образ — список с образа, принесенного апостолом Фаддеем эдесскому царю Авгарю. Никто из предшествовавших русскому исследователю путешественников не писал еще об этой драгоценности; он делает снимок с образа, приложенный к первому изданию книги; потом, обозревая берега озера Тивериадского или Теннисаретского, исправляет ошибки других изыскателей и точным образом определяет местность Ген-нисарета и Капернаума; посещает Кану Галилейскую, гору Кар-мил, Акру, Тир и, наконец, Смдон, границу земли обетованной, повсюду в прекрасных очерках припоминая библейские события и рассказывая славные исторические воспоминания.
строен мраморный водоем особенной красоты. Он имеет также форму осьми-угольника; своды его, покрытые подобным куполом, как на мечети, поддержаны кругом двойным рядом легких коринфических колонн. Это место называют троном или судилищем Давидовым. Мы вошли в эль-Сахару через северные двери, которые называются Бабуль Джинна, т. е. двери рая. Южные двери называются «двери молитвы», восточные — «Давидовы»; западные — «двери войны». Все они были тогда растворены; но темный свет, падающий сквозь разноцветные стекла из семи окон купола, разливал необыкновенную таинственность на предметы. Два круга колонн из разного мрамора, с позолоченными капителями, поддерживают арки потолка: они, конечно, принадлежали зданиям древнего Иерусалима. Первый ряд, заключающий 16 колонн и 8 пнластров, идет вокруг стен, а второй ряд, имеющий 15 колонн и 4 тумбы, находится под самым основанием купола и имеет, по моему счету, 83 шага в окружности. Этот второй ряд колонн основан на небольшом подъеме и идет вокруг необделанного, огромного камня или скалы, обнесенной позолоченною решеткою. Длина этой скалы — во весь диаметр купола; ширина — менее, а высота превосходит человеческий рост. Эта скала составляет святилище храма; весь Восток имеет к ней глубокое благоговение и по ней называется мечеть эль-Гаджара Сахар-лах, т. е. мечетью божественного камня… Есть предание, что этот камень перенесен сюда из Вефиля… что на этом камне опочил Иаков, когда он видел во сне небесную лестницу, и что на нем был утвержден кивот завета… По словам имама, камень этот упал с неба… Под камнем есть спуск в пещеру; перед входом туда стоят прислоненные к камню и к решетке разные хоругви. Тут щит Магомета, знамя и огромный меч Али; но тут же и копье Давидово. Тут же, на камне, лежит подлинная рукопись корана… При сходе в пещеру камень поддержан с двух краев двумя малыми колоннами нз белого мрамора; они утверждены косвенно в пол и в камень. Эти колонны, по мнению магометан, долж ны раздавить всякого христианина, дерзающего ступить между ними; несмотря иа то, мы спустились в пещеру по восьми или девяти ступеням, также из белого мрамора. Эта пещера, называемая магометанами «сходом в подземное царство душ», есть не что иное, как квадратная комната, шагов в восемь пространства и немного выше человеческого роста. Она грубо оштукатурена, кроме потолка, который образован камнем. «Не думайте, — сказал мне имам, — чтобы стены поддерживали этот камень, нет, он держится сам собою, а стены служат только для образования пещеры». Эти слова объясняют столь известную басню о камне, державшемся на воздухе… Внутри мечети расточены кафельные украшения, вместе с мрамором, который похищен из храма гроба господня. На кафедрах блестящие кафели представляют вид драгоценных камней… Мусульмане уверены, что если бы христианин, вошедший в эль-Сахару, стал молить бога об уничтожении исламизма, то он услышал бы его. Вероятно, они основывают такое мнение «а сказанном в книге Паралипоменон о посвящении храма Соломоном: «и явися господь Соломону нощию и рече ему: іизбрах место сие мне в доме жертвы… И ныне очи мои будут отверсты и уши мои послушны к молению места сего». Но судьбы божии совершаются! с каждым днем времена язычников скончава-ются; невнятый слух, пагубный предвестник падения царств, быстро распространяется от Каспийского моря до Южного океана, среди последователей Магомета — и запустение водворяется в разрушающихся капищах Ваала…» (III, 270–292).
Читатели извинят нас за то, что мы нарушили стройность этого последнего описания, принуждены будучи опустить большую часть исторических воспоминаний, возбуждаемых Соломоновым храмом, и высказанных с истинно-поэтическим одушевлением: мы желали, по крайней мере, передать существенное и необходимость заставляла нас ограничиться только извлечением из обширного
рассказа, занимающего целую главу. Первым местом, куда направился путешественник из Иерусалима, был Вифлеем. И здесь, как везде, он записывает предания, бывшие до него неизвестными, находит предметы, не замеченные другими, не столь проницательными или не столь счастливыми путешественниками.
«Высота, находящаяся на левой стороне от дороги (из Иерусалима в Вифлеем), называется горою патриарха Иакова; а еще левее, совсем в стороне от дороги, находится выдолбленный камень; в простонародья говорят, что тут пресвятая дева часто отдыхала с младенцем Иисусом. Об этом камне я доселе не читал ни в одном из путешественников. Ныне я нахожу в путешествии Даниила Игумена указание на самый этот камень. Когда мы вспомним, что Даниил путешествовал в начале XII века, то нельзя не удивляться чудному сбережению сего камня, лежащего на распутии; это даст нам меру того уважения, которое сохраняют жители Палестины к предметам, с которыми хотя несколько соединены священные предания» (III, 385–386).
Прилагая рисунок этого замечательного открытия, автор говорит, что некогда камень был принадлежностью терм. Потом он определяет местность «горняго града иудина», находя, что это Иута или Иетте (III, 390), и поправляя ошибку Робинсона. Вторая поездка его из Иерусалима в Вефиль, которого не посещал ни один известный путешественник, поэтому описание Вефиля (IV, 13–17) первое в науке; на пути автор определяет неизвестное прежде положение Рамы (впоследствии Робинсон определяет ее подобным же образом), отыскивает там надгробный памятник, который, быть может, есть гробница Самуила, потом находит Га-ваон (ныне Эль-Бир), знаменитый чудом Иисуса Навина, — все эти местности не были прежде определены или определялись ошибочно. Третья поездка автора из Иерусалима в Вифанию, Иерихон, к Мертвому морю, в обитель св. Саввы, где находит он драгоценные славянские рукописи, которые привозит в отечество. Пятою поездкою из Иерусалима было путешествие в Хеврон; оттуда путешественник опять возвращается в Иерусалим, чтоб проститься с местом, освященным страданиями спасителя, направляясь в Галилею. На пути этом он определяет местность Эмауса, Кариаф-иарима, Силома, описывает Яфу, Наблус, Сихем, Самарию, Фавор и, наконец, Назарет, в одном из храмов которого замечает надпрестольный образ нерукотворенного лика спасителя. По преданиям назаретским, этот образ — список с образа, принесенного апостолом Фаддеем эдесскому царю Авгарю. Никто из предшествовавших русскому исследователю путешественников не писал еще об этой драгоценности; он делает снимок с образа, приложенный к первому изданию книги; потом, обозревая берега озера Тивериадского или Геннисаретского, исправляет ошибки других изыскателей и точным образом определяет местность Ген-нисарета и Капернаума; посещает Кану Галилейскую, гору Кар-мил, Акру, Тир и, наконец, Сидон, границу земли обетованной, повсюду в прекрасных очерках припоминая библейские события и рассказывая славные исторические воспоминания.
«Здесь я оканчиваю мое путешествие по святой земле (восклицает благочестивый ученый, покидая Сидон и отправляясь в Малую Азию). Иерусалим, бедный, дикий, разрушенный, пастушеский Вифлеем, забытый в горных ущельях Назарет, разбросанные груды городов израильских, заглохшие пути земли обетованной преисполнили все мои надежды! Увидев святую землю, я узнал всю тщету виденного мною доселе, и если б я начал овой путь на Восток с Палестины, то не поехал бы смотреть на колоссальное великолепие древних египтян!»
Мы видели, что каждый шаг ученого путешественника ознаменован услугами библейской географии, топографии, археологии; но автор оказывает также значительную услугу критической истории нашей древней литературы, приложив к своему сочинению «Замечания на путешествие игумена Даниила в ХІІ-м веке». Всем известно, что хождение Даниила один из замечательнейших памятников древней русской литературы; но списки его, до нас дошедшие, очень поздни и искажены переписчиками. Для того, чтоб исправить ошибки, часто очень затруднительные, необходимо знание описываемых мест, и, конечно, только автор «Путешествия по святой земле», так подробно ее исследовавший по всем направлениям, мог исполнить необходимое, но трудное восстановление текста. Он говорит:
«Я несколько раз отказывался читать рассказ Даниила, находя в нем самые грубые географические и местные несообразности; но, уверенный в несомненности путешествия Даниила и проникнутый важностью столь древнего памятника, я, с помощью моего собственного путешествия, воспоминаний и некоторых древиих источников, имел, наконец, утешение объяснить такие ошибки, вкравшиеся в книгу Даниила от невежественных переписчиков и даже приписчиков».
Надобно сказать, что это исправление во всех подробностях совершенно справедливо и обеспечивает достоверность показаний «Хождения», весь интерес которого раскрыл нам только автор «Путешествия по святой земле», постоянно приводя примеры, с какою точностью составлено это сказание, «гораздо более важное, чем бы можно было предполагать по его краткости».
Если «Путешествие по святой земле» было замечательнейшим сочинением в русской литературе, подобно той части «Путешествия по Египту и Нубии», в которой описывается Нижний и Средний Египет, то «Путешествие к Семи Церквам», подобно плаванию по Нилу в Верхний Египет и Нубию, было с тем вместе и первым по времени из русских описаний путешествий по обозреваемой автором земле. В самом деле, в русской литературе единственными книгами, заключавшими сведения о Малой Азии, до того времени были «Путешествие чрез Южную Россию, Крым и Одессу в Константинополь, Малую Азию, Северную Африку, Мальту, Сицилию, Италию, Южную Францию и Париж» г. Всеволожского и «Обозрение Малой Азии в нынешнем ее положении» г. Вронченко. Справедливость требует сказать, что обе эти книги прекрасны. Но г. Всеволожский на быстром пути своем
едва касается берегов Малой Азии, которой посвящает очень немного страниц. Огромный труд г. Вронченки был бы ^капиталь-ным приобретением в литературе самой богатой; но, во-первых, он говорит только о настоящем положении Малой Азии; во-вторых, — что еще важнее, — он писан с целью собрать драгоценные материалы для специальных ученых, а вовсе не для чтения большинству публики; поэтому г. Вронченко придал своему сочинению форму, которая составляет принадлежность так называемых Handbuch’oB, недоступных для обыкновенного читателя. Самое уж оглавление книги его достаточно показывает это: сначала помещен краткий очерк границ страны, потом следуют рубрики «Частного обозрения». Отделение первое: I. Горы; II. Большие равнины; III. Реки; IV. Озера; V. Минеральные воды и т. д. Отделение второе: I. Свинцово-серебряные рудники; II. Медные рудники; III. Соль и т. д. Каждое подразделение состоит из отделов еще мельчайших, каждый отдел заключает в себе полный, драгоценный для ученого исследователя, но сухой список имен, тяжелый для обыкновенного читателя. Мы почитаем такую форму достоинством сочинения, совершенно соответствующего своей цели; но обширный круг публики не может пользоваться подобными книгами. Г. Вронченко некоторыми отделами своего труда (о нравах жителей) показывает, что владеет замечательным талантом рассказчика, но он справедливо предпочел сухую ученую форму, которая давала ему возможность не опустить ни одной подробности, мелочной для читателя, но существенной для географической полноты. Поэтому для большинства русской публики, повторяем, «Путешествие к Семи Церквам» было первою книгою о Малой Азии.
Как в Палестине, так и в Малой Азии путешественник на каждом шагу встречает местности, ознаменованные битвами крестоносцев; но здесь присоединяются к поэтическим воспоминаниям о них еще более поэтические воспоминания о славных событиях классической древности. Эти рассказы, благоговейные сказания о подвигах апостолов и их преемников, насадителей христианства в этой стране, откуда свет его распространился на Европу, история церкви в последующих веках, придают чрезвычайный интерес «Путешествию», которого разнообразие и занимательность еще более возвышаются живыми картинами чудной малоазийской природы и нравов разноплеменных жителей этой страны. И здесь ученость автора дает ему средства объяснить много вопросов, которые прежде были темными или понимались неправильно, заметить много нового, еще бывшего неизвестным; так, например, в Лаоди-кии находит он надпись, свидетельствующую-о соборе, бывшем против ереси монтановой, около 321 года (стр. 66); лидийские надгробные курганы, прототип египетских пирамид, дают новое подтверждение мнению его, что египетские пирамиды, по крайней мерс главные и древнейшие, были построены чужеземными завоевателями, которые долгое время владели Египтом (стр. 144), — чрезвычайно важное открытие, достоверность которого теперь подтверждается исследованиями Аепсиуса, разоблачающего загадки древнейшего периода египетской истории, оставшиеся тайною для Шампольйона. Но мы не будем перечислять всех новых соображений и наблюдений, сделанных в Малой Азии ученым автором; обозревая путешествия «по Египту и Нубии» и «по святой земле», мы обращали преимущественно внимание на эту сторону трудов русского изыскателя; подобная же точка зрения должна по необходимости принадлежать анализу его исследования об Атлантиде; поэтому, обозревая «Путешествие к Семи Церквам», мы хотим ограничиться описательною и повествовательною стороною сочинения, столько же отличающегося достоинствами изложения, сколько и учеными достоинствами.
Из Бейрута, мимо Кипра, плывет автор в Атталию на греческом торговом корабле «Пенелопе»; пассажиры подвергаются опасностям от корыстолюбия шкипера, который, по каким-то выгодным торговым сделкам, сходит на берег в Лимисоли, где свирепствует чума; в Атталии объявляют невинным пассажирам, что выход на берег воспрещен для них, потому что в городе этом чума; напрасно объясняют они, что в таком случае нс могут быть они опасны для Атталии; напрасно автор изъявляет готовность выдержать карантин для успокоения паши зачумленного города: странное запрещение не отменяется. Тогда путешественники выходят на берег насильно, разгоняя одним видом пистолетов толпу янычар, и паша, поняв после этого нелепость своего распоряжения, принимает их очень почтительно, даже радушно. Дорога из Атталии через Бурдур в Колоссы ужасна, но виды восхитительны.
«Я доселе не видывал ничего привлекательнее, ничего свежее, ничего живописнее роскошной долины, которая находится между исполинскими горами Баба-дагом и Хонас. К ней можно справедливо отнести изречение одного древнего писателя, что боги нарочно для нее раздвинули огромные горы (Aelian. III, 1). Здесь сила растительной природы является во всем ее могуществе. Редко можно видеть столь густые рощи, столь огромные развесистые деревья, такую яркость зелени на лугах, такую кристальную прозрачность в быстро текущих ручьях, такое разнообразие в отливах света, столько таинственных уединений для отдыха усталым путникам: самые скалы исполинских гор там, где они соединяются с долиною, теряют свою мрачность, одеваясь густою тканью яркозеленого плюща разных родов, и манят под свод своих пещер» (V, 51).
Лаодикия, Иераполис представляют грустное зрелище разрушения и нищеты, сменившей древнюю роскошь и великолепие; Филадельфия радует христианина благочестием и гостеприимством своих жителей, которые мужественно защищали всегда свою пламенную веру в о Христа; но от Сардиса осталось только имя. Вот отрывки из воспоминаний и впечатлений путника:
«С таким сердоболием сын человеческий, превечная истина, призывает лаодикийских христиан к покаянию! Лаодикийцы пребыли ни хладны, ни горячи. Но познавшие свет должны были принять осуждение, нбо нельзя служить в одно время богу и идолу богатства — мамоне. Роскошь лаодикий-цев достигла высшей степени; торговые обороты их города сделали его одним из главнейших в Азии; руно его стад затмило знаменитое'руно милетское. Тацит говорит, что когда Ааодикия была разрушена землетрясением, жители отказались от помощи Рима и сами восстановили с прежним великолепием свой город. То же самое было, когда ее разрушил Митридат-Эвпатор; но злато лаодикийцев не было злато, очищенное огнем. Все сокровища не могли уж восстановить пышный город от повторенных ударов грома небесного; земля поглотила в последний раз почти весь город, и он уже не восстал более; звери и гады гнездятся теперь в его развалинах, исчезающих с лица земли» (V, 69–70).
«Почти при выезде из Лаодикии, проехав через Ликус по мосту, и даже с холмов, прилежащих к Лаодикии, открываются вам скалы Иераполиса; они удивляют взор своею белизною и своим странным образованием. Чем более вы к ним приближаетесь, тем непонятнее вам кажутся с пе'рвого взгляда эти скалы, образованные из белоснежных глыб и полос, резко отражающие лучи солнца; они представляют вид окаменелых водопадов, и действительно должно так их назвать. На обширной платформе, которая образована уступом скал, процветал древний Иераполис или «священный город», так названный по тем феноменам, которые в этом месте представляет природа, и по большому количеству храмов, воздвигнутых в нем разным божествам. Эти храмы в страшном разрушении устилают всю местность города и их великолепные остатки рассеяны даже по скатам скал и в глубине оврагов, разметанные землетрясением. Один путешественник, пораженный величием этой картины, сказал, что этот город можно причесть не токмо к главным городам Востока, но даже и мира» (V, 81–82).
«Неиодалеку от Иераполиса, оставя за собой селение Сарай-Кией, в обширной горной долине, мы проехали по мосту через реку» Меандр, столь прославленную поэтами, столь известную своими бесконечными извилинами и как любимое пристанище лебедей. Влево рисовались хребты гор, продолжение Кадмуса; за ними, в оконечной перспективе, высились к облакам, как исполины, шпицы гор в разнообразных и самых живописных очерках. Извилины Меандра заставили поэтов сказать, что, глядя на него, нельзя угадать, куда он стремится: к устью ли ® море или обратно к своему истоку. Плодоносив долин Меандра радует взор, особенно после мертвенности скал Иераполиса» (V, 99).
«Призвание сына человеческого, чрез св. Иоанна, глубоко врезано доселе в сердцах малого стада христиан этого города… «Вем твоя дела; яко малу имаши силу и соблюл есн мое слово и не отверглся еси имени моего… И аз тя соблюду от годины искушения. Побеждающему, сотворю столпа в церкви бога моего». Это воззвание одушевляет вседневную молитву христиан филадельфийских. Памятование сих глаголов было всегда щитом города противу варварских полчищ кирмиян под предводительством Алитира и потом противу страшнейших врагов, оттоманов, предводимых Орхаиом, сыном Отто-мановым. Вся Малая Азия была уже покорена его мечу, одна Филадельфия, как бы сохраняя в себе залог всех семи Церквей Апокалипсиса, стояла непобедимо под знаменем креста. Цирк и три театра Лаодикии сделались логовищем шакалов и волков, Сардис стал ничтожною деревушкою, в Пергаме и Фиатире видны только одни мечети вместо памятников. Одна Филадельфия спаслась чрез свою твердость… Победоносный меч Баязета также долгое время притуплялся о стены Филадельфии. Доблестный защитник Филадельфии и некоторые из знатнейших граждан погибли от оттоманов, но город не был разорен. И даже, когда гроза своего века, Тамерлан, предавал огню и пламени весь Восток, смерти ангел, разрушения не коснулся Филадельфии, защищенной своим ангелом хранителем» (V, 102–106).
«По мере приближения к Сардису, вам открываются два высокие хребта живописных гор; первый ряд этих гор состоит из окал с разодранными шпицами, а вершины второго хребта правильно закруглены и увенчаны снегом. Разгромленные и покрытые прахом развалины Сардиса прислонены к трем совокупленным вместе горам Тмолуса. Стены города, от обрывистых высот, на одной из которых был Акрополис, или цитадель, сходили в три ряда в обширную равнину, омываемую золотоносным Пактолом. На горизонте этих долин, к северу, встают огромные надгробные курганы царей сардисских — эти пирамиды варварских народов. Один из этих курганов высится, как исполин, над прочими. Таков первый вид места, где был Сардис, второй город по Риме своим великолепием и только уступавший Вавилону. Я глядел на картину его опустошения, сидя на мраморных ступенях амфитеатра, находящегося на полвысоте средней горы, куда я с трудом добрался по грудам поверженных зданий. То был храм Кивелы, матери богов, древнейший памятник ионического зодчества. Среди груд стен, карнизов, архитравов, капителей чистого белого мрамора встают только две величественные и громадные колонны; не только капители, образец изящного резца, но весь гармонический рисунок этих колони приковывает к себе внимание набредшего на них путника… Я спустился в задумчивости от храма Кивелы к берегам Пактола искать отдохновения и пристанища от зноя, — и столица лидийская представила мне только несколько разодранных шатров кочующих туркоманов; они предложили мне козье молоко и пригоршню отрытых ими древних монет, которые все были времен римских кесарей; но тут не было ии одной греческой, нн одна из них не говорит уж о могущественном Крезе, но только о победителях его победителей, также давно сметенных с лица земли.
Quid tibi visa, Craesi regia Sardis?
Как нравится тебе столица Креза, Сарды?
Horat. Epist. 1. XI» (V, 118–122).
Может быть, большая часть наших читателей назовет эти выписки’ совершенно излишними, потому что «Путешествие к Семи Церквам» точно так же, как и Путешествия «по святой земле» и «по Египту и Нубии», давно уж известно всей публике, давно уж оценено, подобно этим «Путешествиям», которые были приняты с таким живейшим сочувствием. Поэтому не увеличиваем числа наших заимствований, не следуем за автором в Смирну, Пергам, Эфес и Патмос, столь богатые классическими и христианскими воспоминаниями, доставляющими русскому путешественнику столько прекрасных страниц, и спешим перейти к изложению его «Исследования об Атлантиде», которое первоначально составляло одну из глав его «Путешествия к Семи Церквам», но потом, при увеличении объема новыми изысканиями, составило особенный обширный трактат, напечатанный в виде приложения к этому путешествию.
Вот по переводу автора, в извлечении, знаменитый рассказ Платона об этой славной в доисторическое время земле, вопрос о положении которой так занимает всех исследователей древнейшей истории и географии. Когда Солон был в Сансе, жрецы египетские удивили его своими рассказами о событиях глубокой древности, неизвестных грекам; Солон сказал своим учителям, что древнейшие греческие предания не простираются далее времен потопа, бывшего при Девкалионе и Пирре:
«Тогда один из старейших жрецов сказал ему: О, Солон, Солон, вы, греки — дети; у греков нет ни одного старца! Вы все новички относительно древности, и вам ничего неизвестно, что было древле, как здесь, так и у вас. Вы ничего не знаете о прекрасном поколении людей, ваших родоначальников.
Наши скрижали свидетельствуют, как ваш народ устоял противу усилий мощного народа, напавшего несправедливо на всю Европу и Азию и рришедшего с Атлантического моря, которое тогда могло быть проходимо в брод. Оно имело остров противу устья, которое вы на своем языке называете «Ирак-ловы колонны». Сам же остров был пространнее, чем Азия и Ливия вместе. В названном нами острове, Атлантиде, были цари, имевшие власть могущественную, которая распространялась и на другие острова и части материка. Сверх того, они владычествовали внутри Ливии до Египта, а в Европе до Тиррении. Их силы покусились покорить разом вашу и нашу землю. Тогда афиняне приняли предводительство над эллинами и восторжествовали над своими противниками, оградив таким образом многих от порабощения, и нам, живущим внутри пределов Иракловых, даровали свободу. Но случившиеся после того землетрясения и наводнения поглотили в один день и в одну ужасную ночь все ваше воинство и вместе с тем остров Атлантида погрузился в море и исчез. От этого море на том месте сделалось неудобным для мореплавания от ила и отмелей, которые оставил по себе погрузившийся остров» (Платон, в «Тимее»),
В другом разговоре, «Критий», возвращаясь к тому же рассказу, Платон заставляет Солона прибавлять, между прочим, что Аттика в древности была несравненно больше, нежели в их время, потому что большая половина ее погружена в море в одно время с Атлантидою, вследствие того же самого переворота, и что Атлантида простиралась в длину на 3 000 стадий (500 верст), а в ширину на 2 000 стадий (340 верст). Обыкновенно полагали, что Платон помещает Атлантиду на нашем Атлантическом океане; одни ученые думали, что это был обширный материк у западного берега Африки, следами которого остались Канарские острова; другие даже хотели видеть в нем Америку и под погибелью Атлантиды понимать прекращение плаваний в эту отдаленную страну. Основанием такому предположению служили имена «Геркулесовы столбы» и «Атлантическое море», которые, без точнейшего исследования, понимались в том самом смысле, какой имели они у позднейших классических писателей и сохранили доныне. Но из такого предположения рождаются необъяснимые несообразности. Теперь известно, что в глубокой древности ни греки, ни египтяне не могли иметь преданий о морях и землях за Гибралтарским проливом; что сами карфагеняне начали плавать далее Гибралтара уж очень поздно: как же Атлантида, предания о которой древнее девкалионова потопа, могла лежать за Гибралтаром? И если она лежала на нынешнем Атлантическом океане, то как же можно было придумать, что с этого острова переходили в брод в Египет и в Аттику? Это можно сказать только о близком острове, лежащем где-нибудь на восточной части Средиземного моря; и как же погружение Атлантиды и части Аттики считать соприкасающимися явлениями, если эти страны разделял весь материк Европы и Африки, все Средиземное море? Читатель, самый твердый в прежнем мнении, относившем Атлантиду за Гибралтар, признает эти трудности необъяснимыми при своей ипотезе, и согласится, что они прекрасно разрешаются исследованием глубокомысленного автора. Прежде всего вникнем в значе-кие географических имен, употребляемых Солоном и египетскими жрецами.
Надобно знать, что гигант Атлас, от которого названо Атлантическое море, уж позже перенесен в Западную Ливию; гораздо древнее предание, что Атлас жил в Египте и учил египтян астрономии; Павзаний говорит также об Атласе виотийском, в Греции; Эфиопия в древнейшее время называлась Атлантия. Атлас был сын Азии (Азиею в древности называлась исключительно часть Малой Азии). Итак, Атлантическим морем должно было называться в глубочайшей древности Средиземное и только впоследствии, при расширении географических познаний, перенесено было это имя на тот океан, который называется ныне Атлантическим.
Точно так же и столбы Геркулесовы стали означать гибралтарские скалы уж впоследствии времени; прежде «Столбами Геркулесовыми» называлось главное западное устье Нила, где был геркулесов город и храм (Гераклеум). Еще вероятнее, что под «Столбами Геркулесовыми» надобно понимать скалы Босфора, которые по первоначальному преданию были пределом странствий Геркулеса; во всяком случае, первоначально относилось это имя к местности на восточной части Средиземного моря и только впоследствии, с распространением географических познаний, было перенесено на Гибралтар, подобно тому, как на запад перенесены были гигант и гора Атлас и Атлантическое море. Примеров подобного перенесения множество. Укажем совершенно подобные отношения древнейшей и последующей Гесперии, Макарийских островов, входа в плутоново царство и проч.: все эти имена постепенно отдалялись на запад из восточной части Средиземного моря.
Прибавим, что, по древнему преданию, Европа и Африка считались одним материком. Вот, наконец, предания, прямо говорящие о погружении в море материка, лежавшего между Европою, Азиею и Африкою в восточной части Средиземного моря.
Плиний рассказывает, что Кипр соединялся в древности с материком Сирии. Солон говорит, что от Киликии до Египта была земля. Масуди (арабский географ) рассказывает предание, что из Египта на остров Кипр можно было переходить в брод, а потом море затопило северную часть Египта (где ныне озеро Мензале). Другой арабский писатель, Якут, сообщает предание, что море потопило часть Греции, Сирии и многие земли около них; возвышенности затопленных стран кажутся ныне островами восточной части Средиземного моря. У Диодора Сицилийского также говорится, что море затопило большое пространство материка Азии и низменные долины Самофракии. Наконец, арабский писатель Эль-Бируни сообщает, что между Александрией) и Константинополем была земля. Конечно, эти свидетельства и доказательства развиваются автором несравненно убедительнее, нежели в нашем кратком перечислении; сверх того, мы по необходимости привели.
может быть, только десятую часть доказательств, представляемых в его разыскании; тем не менее, мы уверены, что даже после этого краткого и неполного перечня все читатели согласятся, что автор имеет на своей стороне всю вероятность, когда говорит:
«Атлантида, по нашему предположению, занимала «се пространство Средиземного моря от острова Кипра до Сицилии, возле которой на север было Тирренское море и Тиррення. Это пространство совершенно соответствует тому, которое Платон определяет для Атлінтиды, именно, 3 000 стадий в длину и 2 000 в ширину».
Нельзя не согласиться, что это «Исследование» удовлетворительнейшим образом разрешает столь затруднявший всех объяс-нитеЛей вопрос о положении «Платоновой Атлантиды» и тем оказывает важную услугу древнейшей географии.
Заключаем наш обзор, слишком краткий в сравнении с тем,' какого требовали бы ученое достоинство и живая занимательность «Путешествий» автора, давшего русской публике замечательнейшие описания святой земли и Нижнего Египта, первые и столь же замечательные описания Верхнего Египта, Нубии и Малой Азии. Несмотря на свою недостаточность, обозрение наше до некоторой степени показало, однакож, какое место не только в русской, но и вообще в европейской литературе занимают эти труды, насколько они двинули науку вперед и с какою верностью представили решение многих важнейших и затруднительнейаих вопросов древней истории, географии и археологии.*
ПРОПИЛЕИ *
Сборник статей по классической древнооти, издаваемый П. Леонтьевым. Книги III и IV. Москва.
1853–1854
СТАТЬЯ ПЕРВАЯ
Положение человека, который не приобрел привычки читать книги ни на одном языке, кроме русского, но хочет, однако, познакомиться с всеобщею историею, очень невыгодно. Отрывочные статьи, рассеянные по журналам, — вот почти все, что представляет ему русская литература. В самом деле, можно по пальцам пересчитать заслуживающие внимания русские книги по всеобщей истории: 1) История Афинской республики от убиения Гиппарха до смерти Мильтиада, г. Куторги; 2) О поклонении Зевсу в древней Греции, г. Леонтьева; 3) Судьбы Италии в средние века, г. Кудрявцева; 4) Аббат Сугерий, г. Грановского. Затем остается только лучший у нас учебник г. Лоренца. Итак — отрывок из афинской истории, отрывок из греческой мифологии, отрывок из истории Италии в средние века, отрывок из истории Франции XII века, вот наш собственный исторический архив. Не довольствуясь этими прекрасными отрывками и рассказами учебника, любознательный русский читатель, конечно, должен будет обратиться к переводам исторических книг. Не многим обильнее будут его находки и на этом поле; вот они, все без исключения, какие только имеют хотя малейшее достоинство: «Всемирная история», Беккера (шесть частей, обнимающие древнюю и среднюю историю), — сочинение, заслуживающее чтения только за недостатком лучшего; извлечение из Герена, составленное г. Погодиным; «История Греции», Гиллиса (книга, потерявшая всякую цену и переведенная смесью польского языка с русским, так что ее невозможно читать); «Кесари», Шампаньи (один отрывок о Нероне); «Рассказы о временах Меровингов», Тьерри; «История крестовых походов», Мишо; «История Карла V», Робертсона (оба эти сочинения далеко не соответствуют настоящему положе-
нию науки, и язык перевода в той и другой книге устарел); «Изображение переворотов в системе европейских государств», Ансильйона (книга также очень устаревшая); «Римские папы», Ранке (дурной перевод) — и конец всему, кроме истории Наполеона, которой посчастливилось обратить на себя особенное внимание переводчиков; на русском языке существуют: «За
писки» Бурьена, герцогини Абрантес и Жомини, «История Наполеона», Вальтер-Скотта; «История Консульства и Империи», Тьера (три или четыре тома из десяти), и компиляция Полевого: «История Наполеона». Таким образом, составление полной русской библиотеки по всеобщей истории не разорит и бедняка. Из купленных им книг он довольно подробно (если не довольно хорошо) познакомится с историею Наполеона; затем с удовольствием и пользою прочитает сочинения гг. Грановского,' Кудрявцева, Куторги и Леонтьева; узнает очень хорошо времена Меровингов из рассказов Тьерри; узнает кое-что о Нероне от Шампаньи, о крестовых походах от Мишо, о Карле V от Робертсона, о папах XVI–XVII веков, насколько то позволит ему русский переводчик Ранке; а потом? потом может отдыхать на лаврах, справедливо гордясь тем, что поглотил всю историческую мудрость на русском языке, или (и мы советуем ему сделать это) может читать сочинения, доселе остающиеся на русском языке лучшими по своему предмету: «Древняя история об египтянах, о карфагенянах, об ассириянах и о греках», Ролленя; «Римская история», Ролленя и «История о римских императорах», Кре-виера и Ролленя, все три переведены «трудами и тщанием Василия Тредиаковского». Это, повторяем, сочинения еще ничем не заменимые для русского читателя, и да будет почтен нашею признательностью трудолюбивый ученый, который, быть может, и пе надеялся, что переводы его будут заслуживать чтения в
1855 году.
Чем же можно объяснить такое странное положение русской литературы по всеобщей истории? Предоставляем каждому читателю объяснять его, чем угодно, а нам кажется, что тут нечего и объяснять: «на нет и суда нет». Просмотрев другие отделы наук, мы увидим то же самое, что в историческом отделе; следовательно, факт имеет такую всеобщность, которая очень ясно говорит о своих причинах. Если не издаются книги, то, вероятнее всего, потому что нет на них требования. Кому эта причина кажется недостаточною, может отыскивать другие.
Как бы то ни было, но интересно следующее замечание. Большая часть исчисленных нами сочинений переведена в 1830–1840 годах; два или три принадлежат 1840–1850 годам; в последние пять или шесть лет не было переведено пи одно историческое сочинение, заслуживающее внимания Если угодно, можно объяснять это упадком книжной торговли.
Никто не удивится малочисленности оригинальных сочинений,
издаваемых у нас по всеобщей истории: силы большего числа современных ученых, занимающихся историею, сосредоточены на разрабатывании русской истории; это очень естественно. Несмотря на все многочисленные и прекрасные труды по этой части, мы еще слишком недостаточно знакомы с нею, и русская история, важнейшая для нас, как своя родная, с тем вместе есть самая привлекательная для неутомимых исследователей и потому, что обещает самое обильное поле для новых открытий, самостоятельных взглядов, вообще для приобретения ученой славы. Кроме того, приятно трудиться на таком поприще, где труд оценяется по достоинству читателями; а у нас теперь уж есть публика, если не слишком многочисленная, то все же состоящая не из десяти или двадцати человек, способная основательно судить о достоинстве трудов по русской истории. Между тем люди, издающие сочинения по другим частям истории, до сих пор остаются одинокими, едва находя несколько разрозненных ценителей своим трудам.
Потому нет ничего удивительного, если этих трудов является очень мало. Но почему бы, казалось, не знакомить русскую публику с лучшими сочинениями по всеобщей истории посредством переводов? Работа эта неутомительна; успех ее не мог бы, кажется, подлежать сомнению; понаслышке всякий знает о важнейших достоинствах знаменитейших исторических сочинений; притом же большая часть из них писаны очень увлекательно и могут всякого, сколько-нибудь любящего чтение человека заинтересовать не только содержанием, но и самым изложением. А между тем все-таки они остаются у нас известны только по именам. Найти причину тому чрезвычайно трудно для того, кто не захочет удовольствоваться прекрасною пословицею, на которую сослались мы выше.
Ужели, в самом деле, историческая литература не нашла бы у нас ни поддержки, ни сочувствия со стороны публики? Но ведь этот вопрос совершенно равняется другому: неужели любознательность не привилась еще к нашей публике? Потому что, какою отраслью знания может интересоваться публика, которую не интересует история? Можно не знать, не чувствовать влечения к изучению математики, греческого или латинского языков, химии, можно не знать тысячи наук и все-таки быть образованным человеком; но не любить истории может только человек, совершенно неразвитый умственно.
Или публика может довольствоваться двумя-тремя историческими статьями, которые поместил журнал в течение года? Все наши журналы, какими бы титулами они себя ни называли, по преимуществу литературные; ни один из них не может уделять более четырех или пяти листов в месяц чисто ученому отделу; иначе он изменил бы своему существенному назначению. М.іжно до некоторой степени понять возможность того, что журналы наши поглотили беллетристику, хотя это не свидетельствует о массив-
ности объема поглощенной ими отрасли литературы; но каким образом немногие страницы отдела наук могут — не говорим поглощать науку, но даже удовлетворять тех читателей, которые интересуются чем-нибудь, кроме беллетристики? Ужели довольно прочитать три-четыре печатных листа, чтоб удовольствоваться на целый месяц?
Или все наши любознательные люди удовлетворяют своей жажде знания чтением на иностранных языках? Об этом редко случается слышать; но постоянно слышится общая мысль, будто б у нас публика чрезвычайно пристрастилась к иностранным книгам. Мнение совершенно ложное. Во всех других европейских землях чтение на иностранных языках вошло в нравы публики гораздо глубже, нежели у нас. Можно видеть в русском обществе какие угодно недостатки, но уж наверное самый неосновательнейший из упреков — мнимое пристрастие к иноземному, о котором так часто толкуют, и тем подтверждают известную аксиому, что каждый любит обвинить себя в тех недостатках, которых не имеет, с чрезвычайною осторожностью избегая прикосновения к своим действительно слабым сторонам. Нет народа, который не любил бы своего родного, нет народа, который не уважал бы себя до чрезвычайности, начиная от китайцев и кончая северо-амери-канцами.
Русских часто сравнивают с северо-американцами, по большей части несправедливо; но эти два народа, столь противоположные, совершенно сходятся между собою в том, что у обоих чувство национальной гордости развито необыкновенно сильно, как ни в одной из других цивилизованных наций. Русский издавна привык считать свой народ первым в мире. И, чтоб указать пример, скажем опять, что ни в одной из европейских земель не читают так мало на иностранных языках, как в России. Разве у нас было бы возможно перепечатывать французские книги (о них исключительно идет речь, когда говорят о пристрастии к иностранным языкам), как, например, перепечатываются в Лейпциге английские и, до запрещения перепечатки, в Париже не только немецкие и английские, но даже итальянские и испанские? Да у нас это разорило б издателя. «Revue Etrangère», этот очень маленький по объему журнал, имеет возможность существовать только благодаря своей чрезвычайно высокой цене. Откуда ж взялось предубеждение, будто бы у нас чрезвычайно много людей, любящих читать по-французски? Оттого, что наши беллетристы до самого последнего времени преимущественно принадлежали или старались показать, что принадлежат к немногочисленному кругу людей, воспитываемых на французском языке (кругу, который в Англии и Германии гораздо обширнее, нежели у нас), и привычки этих немногих переносили на все общество, вовсе не причастное великосветскому блеску. Одним словом, мнение о пристрастии к иноземному настолько же выдерживает критику, как
существовавшие когда-то у нас повести из великосветской жизни, и ему давно пора б исчезнуть, подобно этим повестям.
А если чтение беллетристических произведений на французском языке очень мало распространено в нашем обществе, то еще слабее привычка читать серьезные книги на иностранных языках. Конечно, люди, по призванию занимающиеся ученою или литературною деятельностью, ни в одной из европейских земель не могут избавиться от этой необходимости; но и тут надобно сказать, что у нас они гораздо чаще, нежели, например, в Германии или Франции, ограничиваются только одним из иностранных языков. Но мы говорим не о них. Г изо переводится на английский язык не для Маколея и Ранке на французский не для Тьера. Во всех нациях число любознательных людей, читающих книги только на своем языке, бесконечно превышает ту горсть людей, которым легко доступны чуждые литературы. Потому наука делается достоянием общества только в той мере, в какой передается на его языке. И ни об одном из европейских народов нельзя сказать этого так полно, как о русском. Это известію каждому, кто живет не исключительно в ученом или литературном кружке.
Какие длинные рассуждения, чтоб доказать простую истину, что у нас, как и везде, на одного читающего иностранную историческую книгу должны приходиться если не сотни, то наверное десятки людей, желающих прочесть ее на родном языке! Что делать! Чувствуешь потребность оградить самого себя, не только других, от сомнений в существовании этого факта, когда видишь, как мало отражается он в нашей действительной литературной жизни, когда видишь, что исторических книг на русском языке нет (кроме книг по русской истории) — поневоле чувствуешь влечение усумниться в существовании потребности на них. Быть и не обнаруживаться 2 — какое странное сочетание качеств у этой загадочной любознательности! Много трудных противоречий соглашала некогда немецкая философия; но этого ие могла б согласить и она. Нет, никакие соображения не могут доказать существование того, что не обнаруживается; сказать: «да, я не
сомневаюсь», все-таки зависит от доброй воли. Потому, не считая других обязанными непременно разделять наше мнение, мы принуждены ограничиться, по правилам старинной логики, условным силлогизмом: если в обществе есть любознательность, то эта любознательность должна быть более всего обращена на историю; а если есть потребность исторической литературы, то очень прискорбно и еще более удивительно, что историческая литература не существует или почти не существует. Мы хотим думать, что любознательность и потребность есть. Другие могут думать иначе, если у них достанет на то твердости характера.
Но мы видим в «Пропилеях» удовлетворение той потребности исторической литературы, которую хотим признавать. Попреж-
нему ил*и даже более, нежели прежде, остается совершенно скудна наша литература по средней и новой истории. По краййей мере, благодаря изданию г. Леонтьева, на русском языке ежегодно выходит теперь прекрасная книга по древней истории. Мы не хотим пока говорить о безотносительных достоинствах «Пропилей» — об этом после — в настоящем положении нашей литературы «Пропилеи» представляют драгоценнейшее для нас явление уж потому, что служат единственным органом ученой деятельности по всеобщей истории на русском языке.
Нет надобности много говорить о том, как важен в истории отдел, занимаемый классическим миром. Довольно указать несколькими словами на главнейшие причины, по которым тесное знакомство с греческою и римскою жизнью доселе продолжает считаться одним из необходимейших знаний в круге общего образования. Римляне и особенно греки достигали такой степени цивилизации, что новая Европа только в самое последнее время, говоря вообще, стала выше их. До начала или даже до половины прошедшего века древние сохраняли перед новыми решительное преимущество в большей части сторон умственной и даже материальной жизни, по справедливости считались учителями наших европейских предков. Теперь вообще отношение изменилось. Новая Европа превзошла своим развитием цивилизацию классического мира; тем не менее очень во многом еще остаются для нас греки примером. Мы говорим не только о их скульптуре и архитектуре, но также и о многих более существенных сторонах жизни3. Кроме того, даже и в тех отраслях развития, где мы стали выше древних, чрезвычайно поучительно знать, как думали и действовали гениальные предшественники при совершенно других условиях жизни. Сравнивая текущие вопросы с общим историческим ходом классического мира, мы легче понимаем существенный ход событий и в новой Европе. Наконец, каково бы ни было значение классического мира относительно новейшей цивилизации, его история приобретает чрезвычайную важность в системе общего образования потому, что обыкновенно обработы-вается гораздо полнее и удовлетворительнее для истинной любознательности, нежели история новой Европы. Давно уж все толкуют о том, что история должна знакомить нас с ходом развития обществ и народов, а не только с военными событиями п сухими именами, не имеющими существенной важности для нравственной и экономической жизни народов. Но до сих пор только при изложении древней истории эти понятия довольно заметно прилагаются к делу большею частью историков. Греческие мифы, законодательство Ликурга, общественные отношения в Спарте и Афинах, развитие наук и искусств, торговли и нравов — вге это более или менее обращает на себя внимание каждого, пишущего о греческой истории; возникновение и развитие общественных отношений в Риме подробно излагается в каждой
книге, называющейся римскою историею. Очень редко можно встретить такой объем содержания в книгах, говорящих о новой истории. Две-три сухие фразы о порче или улучшении нравственности, краткий и бесплодный перечень известнейших ученых —. вот все, что мы найдем в большей части сочинений, излагающих историю Франции, Англии, Германии. Потому надобно сказать, что, при ныне господствующем характере изложения, из всех отделов истории древний — самый способный удовлетворять любознательности читателя, желающего знать историю в истинном ее смысле. Быт народов доселе излагает одна только древняя история.
Так уж самое заглавие, которое дал г. Леонтьев своему изданию, выражает, что этот сборник преимущественно посвящен самой важной части истории — быту народов; он называет свои «Пропилеи» сборником статей по классической древности; подобное заглавие едва ли было б найдено для сборника статей по новой истории, потому что трудно найти даже слово, которое выражало б огромную важность изучения быта в истории новых времен, как выражает его слово «древности», когда говорится об отдаленных временах. Заглавию соответствует и содержание сборника, в котором равно обширное место с рассказами о событиях занимают статьи по истории литературы, искусства, о нравах и общественных отношениях. Едва ли кто-нибудь захотел бы уступить две трети страниц этим последним отделам, издавая сборник по новой истории; а если б и захотел, не нашел бы статей. На десять человек, занимающихся исключительно громкими событиями и именами, едва ли найдется между исследователями новой истории один, обращающий главное внимание на развитие истинно важных вопросов и элементов исторической жизни.
Ученое издание, подобное «Пропилеям», должно иметь на русском языке двоякую цель: во-первых, знакомить русских читателей с классическим миром, передавать факты из его жизни и понятия о них, насколько они уж утвердились в современной иауке; если мы не ошибаемся, сам издатель, посвящая свою деятельность в первых трех книгах преимущественно трудам подобного рода, считал эту цель важнейшею. Она действительно и придает живое значение его сборнику. Мы видели, каково обилие русской литературы по древней истории; положение дела таково, что более или менее остроумные, глубокомысленные исследования о специальных вопросах, которые могут быть очень важны для специалистов, но лишены значения или недоступны для большинства любознательных людей, для нас вовсе еще не так нужны, как основательные трактаты о важнейших и общеинтересных предметах науки; пусть эти статьи будут представлять мало неизвестного глубоким специалистам, стоящим совершенно в уровень с развитием науки, — число таких читателей у нас очень ограниченно. Огромное большинство людей, удовлетворять потребностям которых должно русское издание по всеобщей истории, желает не столько того, чтоб им двигалась вперед наука в абстрактном смысле, а того, чтобы раздвигались границы знания, доступного русскому читателю. Пусть большая часть помещенных в «Пропилеях» статей не содержит в себе почти ничего нового для их ученого издателя; если эти статьи будут написаны основательно, они будут совершенною новостью для девяноста девяти из ста его читателей. Распространить в публике знакомство с классическою древностью, вот для чего собственно и нужно издание, подобное «Пропилеям». Но само собою разумеется, что статья, подписанная именем известного ученого, или проливающая новый свет на один из темных вопросов науки, должна также с радостью быть принята во всякое издание, на каком бы языке оно ни печаталось. Делая многое для многих, тем приятнее да. ть что-нибудь приятное и для немногих; поставляя главною целью издания общую пользу, небесполезно сообщить ему и чисто ученый блеск, украсив его несколькими статьями, имеющими высокое достоинство не только для читателей, но и для самой науки.
В этом отношении есть очень заметное различие между характером двух томов «Пропилей», которые мы теперь рассматриваем. В третьем преобладают статьи, имеющие главною целью передать на русском языке в самостоятельной форме результаты которых уже достигла наука, или вообще содействовать распространению у нас знакомства с классическою древностью; в четвертом, напротив, большая часть статей заняты исследованиями о специальных вопросах и имеют в виду не столько массу читателей, сколько самую науку. Будем и за тот и другой том благодарны издателю; пожелаем только того, чтобы в следующих томах его полезного и прекрасного издания нашлось опять место для второго отдела, представляющего «сведения о трудах новейших ученых», как находилось оно в первых трех томах: мы уверены, что общий приговор читателей признавал, например, статьи г. Леонтьева, заключающие подробное критическое изложение «Истории Грецчи» Грота, принадлежащими к числу самых важных во всем издании. Быть может, даже многие скажут, что для них было бы приятно, если б две или три из статей о древностях и развалинах северного берега Черного моря были отложены для следующего тома с тем, чтобы дать в четвертом место продолжению статей ученого издателя о Гроте или г. Грановского о лекциях Нибура. Надобно желать расширения, а никак не стеснения или прекращения прекрасному второму отделу «Пропилей». Вот единственное замечание, какое может сделать самая строгая критика изданию г. Леонтьева, взятому в целом.
Обозревая отдельные статьи, помещенные в двух последних томах «Пропилей», мы распределим их по характеру содержания на относящиеся к литературе, искусству, нравам и собственно так называемой истории древнего мира, относя к последнему раз-
ряду и чисто археологические статьи о древностях северного берега Черного моря.
Первое место в литературном отделе «Пропилей» все читатели, конечно, отдадут началу перевода «Илиады» (песнь первая и большой отрывок из второй) Жуковского. Эти остатки недоконченного труда, которым хотел увенчать Жуковский свою поэтическую деятельность, напечатаны, с отдельною нумерацией) страниц, в четвертом томе. По той же системе, какой следовал поэт при переводе «Одиссеи», он поручил немецкому филологу, г. Фишингеру, приготовить для себя подстрочный немецкий перевод «Илиады», и перелагал этот перевод в русские стихи.
Нет сомнения, что отрывки «Илиады», являющиеся теперь, возбудят до некоторой степени внимание публики к вопросу о переводе Гомера на русский язык и в особенности о переводах Жуковского. В самых «Пропилеях» явилась уже написанная по этом^ поводу статья г. Каткова: «Несколько слов о попытках переводить Гомера простонародным языком». Потому считаем обязанностью несколько остановиться на этих вопросах. Г. Катков совершенно справедливо доказывает, что переводить «Илиаду» простонародным языком, как пытались некоторые, такая же вопиющая несообразность, как, например, переводя комедии Аристофана, заменять особенное наречие спартанских послов малорусским или костромским. Это значило бы сообщить переводу колорит, не свойственный подлиннику, делать фальшивый перевод. Совершенно справедливо. Но именно по этому самому невозможно согласиться с мнением г. Каткова, что Гомер может быть переводим устарелым языком. Он говорит:
Гомерические песни должны были во многом иметь для грека образованной эпохи характер архаический, старинный, отчасти именно такой, какой имеет для нас язык славянский. Эпический язык был у греков запечатлен значением священного и очень отличался от литературного языка, как он установился в позднейшее время. Нам даже кажется, что русский переводчик Гомера поступил бы весьма нерасчетливо, если б не воспользовался богатою сокровищницею славянского языка и не черпал из нее характеристических красот. Еще более может послужить для этой цели изучение старинных, собственно русских, светских памятников нашей письменности — грамот, летописей, юридических актов.
Нам кажется, что и славянский или летописный, устарелый, элемент в переводе Гомера будет точно так же сообщать ему чуждый, фальшивый колорит, как сообщает, по справедливому мнению г. Каткова, простонародное наречие. Народностей не должно смешивать, говорит г. Катков. Точно так же нельзя смешивать и исторических воспоминаний. Агамемнон не Димитрий Донской, и если греческая хламида не зипун, то и не боярская ферязь. Странно, как г. Катков допускает подобное превращение, сам говоря, что «при существовании литературного языка, формы речи, не вошедшие в него, не могут быть употребляемы для перевода с чужого языка; не могут, потому что за ними, как тень, следит
их местное значение». Он сам говорит, что перевод всегда по необходимости сглаживает колорит подлинника, но не дол;.' и придавать ему чуждого колорита. «Уж лучше покажите нам Гомера в каком-нибудь неопределенном костюме, нежели в кафтане удалого русского ямщика; пусть уж лучше старый рапсод будет представляться нам неясно, в тумане, чем жалким образом кривляться перед нами и корчить нашего приятеля казака Киршу Данилова», — ясно, что по смыслу речи должно прибавить: или чем сидеть неподвижным боярином времен Алексея Михайловича, или рассыпаться расторопным и неуклюжим дьяком Андреем Щелкаловым. «Для перевода гомерического эпоса нужно свежее слово», говорит сам г. Катков; а в летописях и грамотах свежести несравненно меньше, нежели у Кирши Данилова. Одним словом, кто внимательно прочтет очень основательные соображения г. Каткова, тот выведет заключение, что по возможности простой и свежий литературный язык — единственный, пригодный для Гомера в русском переводе.
«Одиссея» в переводе Жуковского не имела успеха 4, какого надеялись большая часть из нас, потому что язык ее очень искусственный. Сверх того находим, принужденность слога, которая усиливается слишком буквальным подражанием подлиннику в расстановке слов, очень часто неестественной для русского языка. Все это осталось в таком же виде и в переводе «Илиады»:
Г не «нам, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,
Гибельный гнев, приключивший Ахеянам много великих Бедствий и воинов многих бесстрашные души низведший В область Аида…
Слог этот, может быть, очень художествен, но вместе с тем по-русски он выходит очень искусствен и тяжел в чтении. Но вопрос о языке сам собою решится, если решится вопрос о том, удачно ли выбран для перевода гекзаметр. От качеств, которые неразрывно сроднились в русском языке с этим размером, всего более зависит и натянутость слога, которою отличается все писанное по-русски гекзаметром.
Гекзаметр обыкновенно превозносится у нас, потому что мы наслушались похвал гибкости, благозвучию и т. д. греческого гекзаметра и потому, что писать сносные гекзаметры умеют у нас немногие, а все трудное высоко ценится. Но, собственно говоря, русский гекзаметр не имеет тех достоинств, какими отличается греческий, и совершенно нейдет к системе нашего стихосложения, нарушая коренные требования нашей поэтической речи.
В греческом гекзаметре спондеи (соответствующие нашим хореям) беспрестанно перемериваются с дактилями; потому гекзаметрические стихи самых разнообразных размеров беспрестанно перемешиваются между собою (всех форм гекзаметра тридцать две). У Гомера очень редко можно встретить два к ряду гекзаметра одинаковой формы и, вероятно, ни разу не встретится к
SCJ
ряду трех одинаковых стихов 23. Это качество и ставят главным достоинством греческого гекзаметра, оно причиною того, что он гибок, благозвучен, разнообразен. Напрасно стали бы искать разнообразия стоп в русском гекзаметре: он почти постоянно состоит из однообразных дактилей с однообразным хореем на конце 24. Вообще, собственно говоря, русские гекзаметры следует считать не гекзаметрами, т. е. стихами, в которых дактиль постоянно смешивается с хореем, а просто дактилическими стихами, в которых изредка, невзначай, попадаются хореические стопы, довольно частые для того, чтоб раздражать ухо неправильным нарушением дактилического размера, но слишком редкие для того, чтоб ухо привыкло к этому нарушению и ожидало его, как чего-нибудь правильного. Потому лишенный разнообразия, главного своего достоинства в греческом языке, гекзаметр остается какою-то утомительною и вялою прозою, читаемою наподобие стихов, и допускающею все натянутости, напыщенности в языке, непозволительные в прозе, не вознаграждая их увлекательностью, какая принадлежит стихам, понятным для народа. Беспрестанное перенесение фразы из одного стиха в другой, совершенно противное духу нашего стихосложения, окончательно увивает всякую возможность читать гекзаметр, как размер, понятный русскому уху 25. Мы не знаем, как пели рапсоды свои гекзаметры; но ни
один русскийне. скажет, чтобы возможно было петь следующее:
Но когда наконец обращеньем времен приведен был Г од, в который ему возвратиться назначили боги В дом свой, в Итаку (но где н в объятиях верных друзей он Все не избег от тревог), преисполнились жалостью боги Все. Посидон лишь единый упорствовал гнать Одиссея…
А стихи, которых невозможно пропеть, едва ли заслуживают имени стихов. И надобно прибавить, что мы, не понимая разнообразия размера, в этом раздиранье и перепутыванье фраз поставляем существенное достоинство гекзаметра. В русском оно попадается втрое чаще, нежели в греческих гекзаметрах. Так всегда бывает с искусственным подражанием: упускаются из виду существенные качества оригинала, зато утрируются его странности. Есть в гекзаметре и другие противоречия основным требованиям русского мелодического стиха. Пока нам кажется достаточно и этого основания, чтобы сказать, что он ненатурален в нашем языке. Но если не гекзаметром, то каким же размером переводить Гомера? Каким вам угодно из тех, музыкальность которых понимает русское ухо: ямбом, хореем, дактилем, амфибрахием, анапестом, если угодно, правильным смешением ямба с анапестом или хорея с амфибрахием 5 — только таким размером, который легче всего для переводчика и с тем вместе не дик и не вял для русского уха. Легкость — необходимое условие для удачного перевода Гомера. Стих его очень гармоничен по-гречески — русские стихи без рифм вялы, тяжелы, скучны; потому необходимы в переводе Гомера рифмы. Но они стеснительны? — Кто не может владеть рифмою, но, однакож, непременно хочет прославиться переводами с греческого, может перевесть Геродота или Фукидида, чем окажет великую услугу русской литературе. — А как же можно нарушать размер подлинника? Но если так, французские стихи пришлось бы переводить силлабическим размером, а арабские — размером, для которого у нас не существует и названия. Буквальность нр ргть білизогть, а только несообразность.
Так, например, «Хвастливый воин», комедия Плавта, переведена г. Шестаковым слишком буквально, так что через это теряет колорит подлинника: у Плавта, из всех латинских поэтов, самый непринужденный язык. Верность перевода вовсе не требует того, чтобы в русском слоге сохранять особенные обороты, свойственные только латинскому языку. Вообще, латинские и греческие драматурги чрезвычайно нуждаются в особенном изяществе перевода; их пьесы так отличаются от наших своею манерою, что даже и при чрезвычайной легкости перевода читаются довольно тяжело. Надобно также прибавить, что, переводя стихотворное произведение прозою, вообще мы не можем держаться буквально всех оборотов подлинника: они часто обусловливаются самою формою стиха, так- что, лишившись ее при переходе на другой язык, фраза часто должна бывает или распутаться, или сократиться, или быть пополнена, чтобы не казаться странною и не мешать ровному ходу речи. Нет надобности прибавлять, что перевод г. Шестакова сделан добросовестно. Мы хотели бы поговорить о значении Плавта, его влиянии на Мольера и через Мольера — на новейшую литературу, но нам остается говорить на этих страницах еще о многих важных статьях, из которых две имеют даже свою историю, это именно — «Очерки древнейшего периода греческой философии», г. Каткова, и «Письма из Рима и Неаполя», г. А. А. Авдеева.
«Очерки древнейшего периода греческой философии» — статья очень хорошая, имеющая, как и многое на свете, свои недостатки, но имеющая и неоспоримые достоинства. Главным достоинством ее было бы то, — если б она первая явилась на русском языке по этому предмету; но когда-то в одном из наших журналов была статья подобного содержания, писанная очень замечательным мыслителем ®. Следственно, главное достоинство, которое могли б иметь «Очерки», уж нельзя присвоивать им. Зато остаются у них другие хорошие качества: достаточная полнота, основательность. Есть, как мы сказали, и недостатки — чрезвычайно презрительный тон, с которым автор говорит о разных немецких ученых, сравняться с которыми мы ему от души желаем; темнота выражений такого рода: «прежние понятия об этом были ошибочны, из нашего изложения, напротив, видно» — при чем для ясности надлежало бы прибавлять, что «прежние» ошибочные понятия уж несколько десятков лет тому назад заменены теми самыми, которые очень основательно выводятся ученым автором. Здесь-то и нить завязки романа, по выражению Гоголя. Рецензент одного из наших журналов 7, самым наивным и горячим образом приняв к сведению все эти фразы и презрительные отзывы, написал очень длинный разбор, в котором доказал как 2X2=4, что до появления «Очерков» никто в целом мире не понимал духа древнейших греческих философских систем, что все философы ошибочно толковали системы Фалеса, Пифагора и проч., что «Очерками» положено первое основание истории философии, и т. д. и т. д. Ясно было, что неопытный панегирист слишком далеко увлекся в своих безмерных похвалах, основанных единственно на изучении статьи г. Каткова и незнакомстве с курсами истории философии. Один из людей, знающих, как надобно предполагать по его статье, истинное положение науки8 несколько ближе, вздумал напечатать в «Москвитянине» статью, очень убедительно доказавшую рецензенту, что надобно осторожнее судить о предметах, когда незнаком с сущностью дела. Статья была направлена против рецензента и наполнена похвалами достоинствам «Очерков»; она даже признавала в них новость некоторых взглядов и очень высокую степень самостоятельности, одним словом, была также не совсем умеренна в похвалах. Тогда автор «Очерков» напечатал в одной из следующих книжек того же «Москвитянина» огромную статью в 68 страниц, на которых и доказал, что похвалы рецензента, написавшего панегирик, нисколько не преувеличены, что «Очерками» действительно в первый раз от изобретения финикиянами азбуки положено, основание истории философии, которая и не существовала до минуты появления «Очерков», что все прежние труды (несравненно превосходящие достоинством его «Очерки») действительно никуда не годятся, писаны людьми тупоумными и невежественными, и т. д.9. Все это сопровождалось, приличным количеством бесцеремонных укоризн противнику (который вовсе и не нападал на «Очерки» г. Каткова), укоризнами, каких в течение двух тысяч лет никто не возвергал даже на злосчастного Зоила. А противник был действительно достоин некоторого осуждения разве за то, что хотя и нападал на панегириста, но все-таки хотел видеть самостоятельность и высокое значение для науки в одной из очень обыкновенных статей, которые могут свидетельствовать только об основательном знакомстве своего автора с предметом, но и только; хотел видеть особенное значение для науки, не привившейся у нас, в такой статье, которая и у нас не может быть названа лучшею по своему предмету. Какую философскую или психологическую мысль можно вывесть из подобной истории? Такую, что панегирические критики, основанные единственно на восторге, могут иметь самое вредное влияние.
Напротив, история, возникшая по поводу «Писем из Рима и Неаполя» г. Авдеева, кончилась для автора совершенно иначе, именно в его пользу. Около того самого времени, как один рецензент провозглашал, что положены основания истории философии, другой рецензент необыкновенно удивился, прочитав у г. Авдеева описание римского храма св. Петра, который все мы, профаны в деле архитектуры, привыкли понаслышке считать первым по художественной красоте созданием искусства. Г. Авдеев, занимаясь архитектурою как специалист, объяснил, довольно понятно и для нас, что хорош в храме св. Петра только один купол, а все остальные части плана не выдерживают даже снисходительной критики. За это рецензент объявил его невеждою и упрекнул г. Леонтьева, зачем он печатает такие невежественные суждения в своем сборнике. В следующем томе «Пропилей» г. А. А. Авдеев принужден был доказать, что мнение, которого он держится, господствует между всеми людьми, имеющими понятие об архитектуре |0. Он превосходно заключает свой ответ словами, которые могли б служить эпиграфом ко многим из разборов разных прославляемых произведений литературы или науки:
«Архитектору все-таки нельзя нс порадоваться за свое искусство. Чтоб взяться построить что-нибудь, надобио быть по крайней мере простым плотником или каменщиком. А в литературе, видно, н карточный домик идет иногда за строенье, и, что еще обиднее, без шуму его даже не сдунешь».
Г. Бессонов избрал слишком сухой предмет для своего рассуждения, объясняя на 80 страницах, в какой мере можно доверять «Фастам» Овидия, как источнику для римской мифологии. Специалисты давно знают решение этого вопроса, очень незатруднительное, а большинству читателей он не интересен и не нужен. Если б вместо этого длинного исследования г. Бессонов написал статью об Овидие и его сочинениях или изложил какой-нибудь отдел римской мифологии, труд его принес бы гораздо более пользы. Почти такое же мнение должны мы высказать о разборе Платонова Филеба, который написан г. Меншиковым в доказательство того, что «диалог этот по изяществу формы и художественной своей отделке занимает едва ли не первое место в ряду творений Платоновых», несмотря на то, что разрозненность и неровность частей этого разговора поражала еще древних и заставляет многих новейших сомневаться в его целости или «не вполне признавать его высокое достоинство». Пусть многотомное издание творений Платона трактует в одном из своих предисловий, до какой степени основательно то и другое мнение и какой из разговоров Платона занимает первое место в ряду его произведений по изяществу формы: неспециалисты могли б удовольствоваться общим понятием о высоком художественном достоинстве Платоновых разговоров и, конечно, скорее желали б увидеть на русском языке или просто перевод Филеба, или хорошее жизнеописание самого Платона, или изложение одной из частей его философии. «Диоген Киник» (перевод из Гёттлинга) также не может быть назван произведением особенно удачным; многие соображения Гёттлинга решительно неуместны. Но мы должны похвалить статью г. Благовещенского «о пантомимах» за выбор интересного предмета и занимательность рассказа, нимало не вредящую основательности исследования.
Из статей о римских нравах — «Брак и свадебные обряды древних римлян», г. Тихановича, составлена недурно. Законный брак у римлян бывал двух родов — с поступлением (жены) под власть (мужа) и без поступления под власть. В первом случае вся собственность жены, даже ее приданое, передавалось мужу; он был судья жены, мог, вместе с родственниками, произносить ей даже смертный приговор; зато по смерти мужа она делалась его наследницею. В браке без поступления под власть мужа жена продолжала оставаться членом прежней своей семьи, пользовалась своим имуществом, зато не была наследницею по муже. Этот обычай появился в Риме позднее, но мало-помалу вытеснил из жизни первую форму брака и был шагом к эманципации, которой в последнее время республики достигли римские женщины. Двоеженство никогда не было известно римлянам. Обручальные кольца были уж в обыкновении у них. Мац адесящ-признавался, по народному предрассудку, неблагоприятным лля^саадеб, как и у нас. Идя в дом жениха, невеста должна была показывать вид, что ее уводят насильно, — опять сходство с нашим'народным обычаем. Так, обычай требовал, чтоб она сама не переступала через порог дома жениха — ее переносили через порог — церемония, служившая воспоминанием о похищении невест в древнейшие времена.
«День в Римском цирке» — статья Августа Данца, написана очень живо и составлена очень внимательно. Немецкий ученый пересказывает подробно описанные историками великолепные игры, которые дал Калигула в день своего рождения, и дополняет эту картину известными нам из других случаев сведениями о цирке. Все, что только бывает великолепнейшего на наших театрах и народных праздниках, ничтожно в сравнении с невероятною роскошью, какою удивляли мир игры Римского цирка. Внутренняя площадь или арена его имела до 310 сажен (более полуверсты) в длину и более 90 сажен в ширину. Места зрителей, шедшие амфитеатром в 50 рядов, отделялись от арены каналом в 10 футов ширины и 10 футов глубины. Цирк вмещал, по словам Дионисия, 150 000, а по словам Плиния, до 260 000 зрителей. Однако он не мог вмещать и половины желающих; Тиберий оставил своему преемнику 150 миллионов руб. серебром в казнохранилище — и в пять месяцев Калигула истратил их на игры. Уж из этого можно судить о роскоши игр. Но для главного торжества был назначен день его рождения. Со всей империи везли на игры ди. ких зверей и вели лошадей. Со всех концов мира стекаются зрители. С полночи накануне игр масса уж ломится в цирк; шум ее пробудил Ка\игулу, и в досаде он велел выгнать палками беспокойную толпу. При этом были задавлены двадцать римских всадников и столько же дам, кроме множества простолюдинов. Но подобные пустяки не останавливают любопытства. На рассвете цирк уж полон. Огромная арена, вместо обыкновенного песку, усыпана зеленым малахитовым порошком, по которому выведены узоры полосами киновари; малахит покрывает арену потому, что Калигула держит сторону зеленых против синих (все участвующие в скачках разделяются на эти две партии). Трубы возвещают прибытие Калигулы: впереди необозримой процессии идут ликторы, потом едут и идут телохранители, наконец, сам Калигула на колеснице из слоновой кости, запряженной шестью лошадьми в ряд. Он сам правит лошадьми и медленно объезжает арену, преклоняя хлыст на приветствия народа. За колесницею Калигулы едут сто других колесниц, запряженных четвернею… Процессию замыкают две колесницы, из которых одна запряжена четырьмя верблюдами, другая — четырьмя слонамй. Проехав через арену до противоположного конца, откуда начинается скачка. Калигула выбирает себе трех противников из сенаторов и начинает ристание. Конечно, он остается победителем, и народ, в знак восторга, бросает вверх плащи (как у нас подбрасывают шапки). Довольный успехом, цезарь отправляется в свою ложу и дает
знак начинать общие скачки. Римляне, смотря на арену, забыли о всем мире; их укрывает от солнца огромное шелковое покрывало, великолепно вышитое золотом, осеняющее весь цирк, — но Калигула придумал им сюрприз — в полдень, по его знаку, покрывало вдруг снимается, и зрители остаются под жгучими лучами солнца. Выпускать из цирка не велено никого. Римляне четверть часа томятся палящим зноем; но Калигула довольно позабавился их мучениями, цирк застилается густым влажным облаком: насосы, скрытые под ареною и в верхней галлерее цирка, орошают все пространство дождем благоуханных эссенций, которые ручьями стекают по ступеням, и в ту же минуту покрывало опять осеняет цирк. Лошади устали, их уводят отдохнуть; пора закусить и зрителям — тысячи столов с роскошнейшими кушаньями покрывают арену: хозяин угощает свой народ и, кушая сам в ложе, любуется на толкотню и суматоху, с какою бросаются и теснятся к столам сотни тысяч проголодавшихся граждан. Обед кончен, столы приняты, зрители опять сидят по местам, начинается второе зрелище — выступают на сцену дрессированные животные. Два льва преследуют зайцев, ловят их и опять пускают бежать; рыбы в канале плавают, повинуясь голосу своих приставников. По канату, протянутому с верхней галлереи. цирка вниз на арену, сходит ученый слон, неся на спине своего вожака. Выносят шесть столов, уставленных кушаньями в золотых и серебряных сосудах; выходят двенадцать слонов, шесть в мужской, шесть в женской одежде, попарно возлегают за столы на приготовленные перины, начинают кушать, как истинно образованные граждане. Потом обезьяны забавляют своими кривляньями.
Но вот начинаются охота и гладиаторские бон. Последних, мы не будем описывать, скажем только о битвах с зверями, и они уже слишком возмутительны. Игры начинаются тем, что слон бьется с носорогом, гиппопотам — с медведем; слон и медведь побеждены, они ревут. в предсмертных судорогах; народ рукоплещет j победителям. Потом отворяются все двери карцеров (зверинцев), на сцену бросается множество львов, тигров, леопардов, медведей, гиен — они в ожесточении терзают друг друга. Восемьсот зверей погибают таким образом. Их крючьями вытаскивают из цирка на прилежащие улицы, где с жадностью рвет их голодная чернь, таща домой окровавленные куски на лакомое для голодных кушанье. На арене уже новое зрелище: в один миг 50 страусов, 32 жирафа, 20 зебров, 15 лосей, 100 оленей, 20 слонов, 40 диких лошадей, 60 буйволов наполняют арену, а 36 крокодилов — канал, ее окружающий. Против них выходят жители всех стран света, каждый с своим оружием; сам цезарь, страстный охотник, стреляет из ложи зверей, подбегающих близко. Охота кончилась, и снова чернь влечет по улицам трупы, выброшенные в добычу ей. Кровь покрыла зеленую скатерть арены, кровь стоит озерами. Их засыпают свежим песком, и начинается новый
бой — битвы людей с зверьми. Сначала выпускаются три буйвола — бойцы выказывают свою ловкость, вспрыгивая на спину разъяренного животного, которое мчится «по арене до изнеможения, и тогда боец, сильно дернув его за рога, повергает на сцену. Потом выступают против львов и медведей бойцы, вооруженные только крепкими сетями, — они должны запутать в них противника и, безвредного, утащить в клетку. Вот уж много бойцов растерзано в неравной борьбе. Зрители опьянены запахом человеческой крови — они жаждут последнего акта — и по данному знаку выведены на сцену сотни пленных, вооруженных мечами; отворяются карцеры — и 2Q0 голодных медведей, 400 львов, тигров и гиен бросаются на своих жертв. Все пленные погибли, и жадные звери перед глазами зрителей пожирают полуживых людей. Но Калигула ныне любит сюрпризы — он велит схватить еще двенадцать человек из среды зрителей и бросить на арену. Что ж, ведь надобно пощёкотать чувства? Но довольно. Звери, оставшиеся в живых, раскаленным железом загоняются назад в карцеры; трупы бойцов стаскиваются крючьями в огромные подвалы, арена снова усыпается песком, снова чиста — теперь пора повеселиться невинным образом. Посредством особенных машин, на средине цирка является лес; к ветвям дерев привязано множество редких птиц. В то же время впускается на арену тысяча страусов, несколько тысяч овец, свиней, оленей, домашней птицы; отворяются ворота цирка, и чернь бешеным потоком врывается на арену. Зрители наслаждаются ловлею, толкотнею, дракою, которая кипит по всей сцене; чтоб еще увеличить сумятицу, из ложи цезаря и нескольких других бросают в толпу марки с обозначением разных подарков. В места сенаторов также бросают драгоценные вещи, билеты на получение домов и поместий — и между сенаторами водворяется также суматоха. Но уж наступает вечер — да и Калигуле наскучило всё. Он встает, за ним пустеет цирк до следующего кровавого праздника.
Нам должно теперь сказать несколько слов о статьях, имеющих предметом описание памятников и изыскания в развалинах Черноморского берега, и затем у нас останутся для следующего обзора исторические исследования и рассказы в теснейшем смысле слова, принадлежащие, без сомнения, к лучшим статьям сборника.
«Керчь и Тамань», г. Беккера; «Древности Томи», его же; «Разыскания на месте древнего Тинаша», г. Леонтьева; «Разыскания в окрестностях Симферополя», графа А. С. Уварова, «О керченских гробницах», г. Линевича, находятся по своему предмету в близкой связи и сообщают множество важных древних надписей и подробностей о вещах, найденных в курганах, так что значительно пополняют материалы для истории того края в греко-римском периоде. Но мы не решаемся делать общий обзор содержания этих обширных статей, потому что при этом воз-можно избежать ошибок только тому, кто лично осматривал описываемые места. Г. Кёне напечатал в третьей книге «Пропилеи» описание музея древностей, принадлежащего г. Монферрану. Г. Кёне считает это собрание, заключающее до 73 замечательных произведений древнего ваяния и множество других древностей, богатейшим из собраний, принадлежащих частным людям в России. Особенно драгоценна в нем превосходная бронзовая статуя Юлия Цезаря, единственная дошедшая до нашего времени. Она была открыта в Риме Н. Н. Демидовым и тотчас тайно вывезена во Флоренцию, из опасения, чтобы дирекция римских музеев, узнав о такой важней находке, не удержала ее в Риме. Даже мраморные статуи Юлия Цезаря, самые бюсты его, очень редки; а находящаяся теперь у г. Монферрана бронзовая статуя — доселе единственная в мире, и, кроме того, по словам г. Кёне, эта статуя в художественном отношении выше всех остальных, принадлежа к числу первоклассных произведений ваяния. Стиль ее, по мнению г. Кёне, указывает на эпоху искусства, современную Цезарю. Вообще, г. Кёне усвояет этой статуе одно из первых мест между всеми известными бронзовыми статуями, которые в художественном отношении ценятся чрезвычайно высоко.
СТАТЬЯ ВТОРАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ
Древняя история достигла гораздо высшей степени обработки, нежели история средних веков или последних столетий. Беспрестанно повторяемые фразы о том, что история должна излагать развитие внутреннего быта народов, а не рассказывать, подобно летописи, сборнику анекдотов или дюжинному роману, разные шумные или эффектные происшествия, — эти фразы по большей части остаются бесплодны в отношении к истории нового мира. Очень мало найдется первоклассных историков, которые, посвящая свои труды исследованиям о средних веках или новейших временах, главное вниманий обращали бы, подобно Г изо и Шлоссеру, на развитие существенно важных сторон народной жизни: общественных и экономических отношений, образованности и т. д.; большею частью внимание исследователя занято вопросами об именах, личностях и подробностях разных шумных событий. Но в древней истории истинные понятия о существенном ее предмете уж успели утвердиться и применяются к делу большинством изыскателей; оттого и сочинения о ней, говоря вообще, приобретают для людей, требующих от истории того, чего на самом деле должно в ней искать, такой интерес, какой редко представляют сочинения о последующих временах. Было бы слишком долго исчислять причины, которым обязана обработка древней истории таким направлением; но, между прочими, есть одна, о которой мы должны упомянуть, потому что ею также объясняется положение очень многих основных вопросов древней истории, к числу которых принадлежат и вопросы, составляющие предмет важнейших по ученому достоинству статей в рассматриваемых нами томах «Пропилей»; эта причина — малочисленность источников. Ученый, который хочет, например, рассказать царствование Людовика XIV или Фридриха II, может представить тысячи фактов и миллионы подробностей, которые не были изложены в такой полноте его предшественниками; тысячи томов печатных материалов, сотни фолиантов, скрывающихся в библиотеках и архивах, представят ему неисчерпаемое богатство данных, и его сочинение может приобресть большое ученое достоинство сообщением новых фактов, хотя б и ограничивалось изложением так называемой политической истории. Не то с древним миром. Здесь все источники давно уж исчерпаны относительно событий внешней истории, потому что эти источники очень малочисленны. Следовательно, нужно переработать материалы с новой точки зрения, для того чтобы сказать что-нибудь новое и сообщить ученое значение своему труду; от внешней истории необходимо обратиться к внутренней истории, которая мало была разработана прежними исследователями. Но источники древней истории не только малочисленны — они отрывочны и неполны; в этом заключается невыгодная сторона дела. Если и в новой истории, столь обильной материалами, исследование развития народной жизни часто бывает затруднительно по недостатку фактов, то гораздо ощутительнее это препятствие в решении вопросов о жизни древних народов. Часто самые основные воззрения должны быть выводимы здесь из двух или трех указаний, ограничивающихся шаткими, неясными намеками. Особенно должно это сказать о древнейших временах. Потому не удивительно, что решения вопросов, к ним относящихся, бывают разногласны; не удивительно покажется и то, что в предпочтении одного решения другому часто нужно бывает руководиться не положительными фактами, сохранившимися именно о той стране, о которой идет дело, а преимущественно аналогиею с тем, что происходило или еще происходит в других странах. Конечно, в таком случае заключения будут только правдоподобны; но аналогия иногда бывает так поразительна, что трудно подвергать сомнению вывод, которому она благоприятствует. Если же отказаться от ее пособия, то часто надобнЬ будет отказаться от всякого положительного вывода. Нам казались нужными эти замечания потому, что на основании их решается большая часть спорных вопросов из греческой истории, исследуемых в важней-'ших статьях третьего и четвертого томов «Пропилей». Мы говорим о статьях: г. Леонтьева «Историческая Греция до персидских войн» и г. Куторги «Критические разыскания о законодательстве Клисфена».
Статьи г. Леонтьева об «Истории Греции», составляемые по сочинению Грога, не нуждаются в наших похвалах, которые будут
только повторением общего отзыва. Ученый автор не просто сокращает многотомное сочинение Грота: он, как знаток дела, подвергает основательной критике мнения этого историка, представляет их в связи с трудами других исследователей и принимает из них только то, что кажется ему самому справедливым, показывая причины, по которым нельзя соглашаться с остальным. Таким образом, его изложение, в высшей степени интересное, имеет полное право на имя самостоятельного ученого труда. Обширная статья, помещенная в третьем томе, говорит о «достоверной истории» Греции до персидских войн, служа продолжением прежнему рассказу о мифической Греции. После прекрасной характеристики самой страны в связи с ее влиянием на развитие народа, ее населившего, и общего взгляда на узы, которыми связывались разрозненные греческие племена в одно целое по своему духу, г. Леонтьев рассказывает первоначальную историю Спарты и Афин.
Первым достоверным событием спартанской истории г. Леонтьев, согласно с Гротом, принимает введение Ликургова законодательства около половины IX века до р. х., и в этом случае расходится с мнением ученых, полагающих, что учреждения, приписываемые преданием Ликургу, — древнейшие учреждения дорийского племени, и что они только сохранились у спартанцев, быть может, были развиты ими, но не могут быть сочтены особенным явлением, возникшим исключительно в Спарте, и возникшим так поздно, как утверждает предание о Ликурге. Впрочем, здесь разногласие более в словах, нежели в сущности мнений; г. Леонтьев признает, что так называемые Ликурговы учреждения были в сущности только развитием древнейшего племенного устройства, лежавшего в характере дорийского племени. Существенное разноречие с господствовавшим до последнего времени взглядом мы находим только в одном пункте. Грот и г. Леонтьев отвергают известие, что земля была разделена между спартанскими гражданами на равные участки. Но нам кажется, что возражения, ими представляемые, недостаточны для опровержения обыкновенного мнения. Неизвестно говорит Г рот — какими мерами охранялось это учреждение. Но спартанские законы о наследстве и праве отчуждения поземельной собственности не так подробно известны нам, чтобы можно было заключать о несуществовании подобных мер. Нам кажется даже, что исправленный текст Гераклида Понтийского, на котором основывает свои сомнения Г рот, свидетельствует, напротив того, о неподвижности поземельной собственности у спартанцев. Вот слова Гераклида: «У лакедемонян считается позорным продавать землю, а из древнего участка это вовсе не дозволено» — итак, земля не продавалась почти никогда, а участки, назначенные в древности, вовсе не могли быть отчуждаемы из рода. Следовательно, неизвестно только, как предотвращалось дробление участков Между сыновьями владельца. Но, если вспомним, что вообще число спартанцев
скорее уменьшалось (от беспрестанных войн и других причин), нежели увеличивалось, то должны будем заключить, что в большей части семейств дробление родовых участков не могло быть слишком велико, если б даже и не было принято против него никаких мер. Кроме того, слова Гераклида ясно говорят о «древних участках», неприкосновенность которых была особенно важна для государства. Этим самым сильно подтверждается мнение о древней раздаче от государства равным гражданам равных участков. «Но в Спарте были в VI–V веке богатые люди, — говорит Г рот, — а спартанское богатство должно было состоять исключительно в земле, а не в деньгах», — почему же не могло состоять оно в награбленных у неприятеля драгоценных металлах, в скоте, рабах и т. д.? Что касается сомнений о дележе, основанных на молчании писателей до Полибия (во II веке до р. х.), они вовсе неубедительны; тем более, что беглые упоминовения о равном дележе земли между спартанцами есть у Платона, Аристотеля, Исократа; а более подробных объяснений не могли и дать эти писатели, говорящие совершенно о других предметах. Наконец, самое сильное возражение Грота приводим собственными словами г. Леонтьева, чтобы показать, как оно шатко, несмотря на свое остроумие: «Очень может быть, что философ Сферос, друг и спутник Клеомена (предпринявшего новый раздел земли между обедневшими гражданами с целью возвратить Спарте прежнее могущество), был одним из первых, пустевших в ход эту гипотезу». Мы ничего не знаем о Сферосе, и предположение Г рота чисто произвольно. Но как он хочет объяснить уверенность в разделе земли Ликургом мечтами Клеомена о возможности подобного дела, так мы объясняем недоверие самого Грота к известию, переданному Полибием и Плутархом, тем, что Грот, напитавшись мнениями английских современных экономистов о невозможности подобного дела в настоящее время, перенес их мнения на экономическое устройство эпохи, не имеющей в этом случае никакого сходства с нашим временем. Не подлежит сомнению, что в древности племена, поселяясь в завоеванной стране, делили землю между всеми воинами, участвовавшими в завоевании; так было везде. То же повторялось и в начале средних веков, когда разные германские племена завоевывали римские провинции. Поэтому нельзя сомневаться, что и дорийцы, завоевав часть Пелопонеса, разделили между собою землю. А как воины эти были равны между собою — равенство их постоянно оставалось существенною чертою спартанского устройства, — то, конечно, и участки были равны. Если б мы не знали этого о спартанском первобытном учреждении из положительных свидетельств, то должны были бы так предположить на основании того, что при подобных обстоятельствах то же явление бывало повсюду. Тем менее места сомнению, когда есть положительное свидетельство такого достоверного историка, как Полибий. Во-
/
обще, все изложение экономических учреждений в Спарте носит у Грота явные следы узкого понимания вещей под влиянием экономистов, занимающихся полемикою против разных современных идей. Он позабывает при этом о формах экономических отношений, преобладавших в патриархальном обществе, с которыми сов'.падает и учреждение, приписываемое Ликургу, и потому с его мнением невозможно согласиться. Все остальное в истории Спарты, как пересказывает ее г. Леонтьев, не представляет важных поводов к разноречию.
Но при самом начале Афинской истории Грот опять излагает Гипотезу, едва ли справедливую. По греческим преданиям, пе-лазги, первоначальніые^ікщ^ели Греции, были отличны от гелленов) пришедших впоследствии времени с севера. Ионийское племя, населившее, между прочим, Аттику, было гелленского происхождения. Мифически это выражается тем, что Ион был Енук Геллена. Вообще у всех древних писателей геллсны представляются народом, различным от пелазгов, и к гелленам, а не к пелазгам причисляются ионяне. Трудно найти факт в первобытной греческой истории, относительно которого свидетельства были бы так многочисленны и согласны. Но Грот, основываясь на том, что афиняне считали себя в Аттике туземцами, а не пришельцами, называет ионян пелазгами и считает их самым первобытным населением этой-страны, хотя мнение афинян о том, что они жили в Аттике с незапамятных времен, нисколько не противоречит преданию о их гелленском происхождении, потому что пришествие гелленов в среднюю Грецию относится к глубочайшей древности. Г ипотеза Г рота совершенно произвольна. Можно доказывать родство всех гелленов с пелазгами; но странно отказывать ионянам в теснейшем родстве с ахейцами и дорийцами. Обыкновенно также думают, со времени Нибура, что ионяне завоевали Аттику и покорили прежних ее жителей. Г рот также отвергает это мнение, основываясь преимущественно на том, что в числе знатных афинских родов есть многие, происходящие, по всей вероятности, от первобытных жителей страны. Но это не противоречит факту завоевания. Грот не сомневается в том, что спартанская область была завоевана дорийцами, которые покорили ахеян; между тем в числе спартанцев были роды не дорийского, а ахейского происхождения; даже спартанские цари, по его собственным словам, считали себя потомками ахеян, то есть покоренных туземцев, а не дорийцев, победоносных пришельцев. Из первобытной римской истории также видим, что некоторые роды из побежденного племени принимались в племя победителей. Другие возражения против последователей Нибура еще слабее. Так, например, мнение, будто бы ионийский диалект вернее других сохранил первобытную полноту гласных, совершенно несправедливо. Ионийский диалект более всех других уклонился от древних форм — это факт, не подлежащий сомнению. Здесь было
бы неуместно продолжать этот специальный разбор, слишком сухой. Но внимательное рассмотрение приводит к тому, что Ни-бурово мнение о завоевании гелленскими ионянами Аттики, населенной первоначально другим племенем, гораздо вероятнее гипотезы, отвергающей завоевание. Что же касается различия первобытных жителей от позднейших пришельцев ионян, в нем, кажется, невозможно и сомневаться. Вообще, вопросы о первобытной истории Грот излагает менее удовлетворительно, нежели о последующих временах. Он не имеет той гениальной проницательности, которая нужна для самостоятельных и прочных открытий в хаосе темных известий, и когда противоречит своим предшественникам, которые руководились удивительно глубокими соображениями Нибура, то обыкновенно приходит к предположениям, удовлетворительным менее, нежели выводы последователей Нибура. Г. Леонтьев справедливо говорит, что здравый смысл, которым отличается Грот, недостаточен для разъяснения мрака первобытной истории. Гораздо лучше- его соображения о тех вопросах, разрешить которые можно и без помощи гениальности, одним здравым смыслом. Во всяком случае, сочинение Грота — единственная полная история Греции, написанная очень основательно и заслуживающая той известности, какую приобрела; если бы г. Леонтьев ограничивался только изложением того, что находим у Г рота, он оказывал бы большую услугу русским читателям; но, присоединяя к изысканиям Грота свои собственные и знакомя читателей со всеми другими замечательными мнениями о спорных вопросах греческой истории, он еще более возвышает ученое достоинство своего труда. Именно в таких статьях нуждается русская историческая литература, и, конечно, все читатели «Пропилей» с самым живым интересом ожидают их продолжения.
1 Г. Куторга пишет очень мало, и нельзя не пожалеть о том. Конечно, исследования, им печатаемые, представляют новые решения очень важных и трудных вопросов, — и мы согласны, что такие произведения требуют слишком многих изысканий. Но положение нашей исторической литературы таково, что ученый, трудясь для движения науки вперед, может также посвящать некоторую часть своего времени и на такие труды, которые если не двинут вперед науку вообще, то будут совершенно новыми у нас. Исследование г. Куторги о Клисфене займет почетное место в общей европейской исторической литературе, объясняя один из главнейших фазисов развития афинского законодательства". В третьем томе «Пропилей» напечатана только первая часть этого труда: исследование о даровании гражданских прав метекам. Так как содержание этого трактата касается интереснейших сторон общественного устройства и так как г. Куторга излагает вполне справедливые, но еще очень мало известные у нас понятия о племенном быте, то представим здесь извлечение из его изыскания.
Сведений о преобразованиях, введенных Клисфеном в афинское законодательство по изгнании Пизистратидов, дошло до нас очень мало. Тем драгоценнее они, потому что Клисфеновы реформы составили чрезвычайно важную эпоху в развитии афинских общественных отношений. К числу немногих указаний о сущности этих реформ принадлежат слова Аристотеля: «Клисфен поместил в филы многих иностранцев и рабов метеков». Это место очень затрудняло ученых; выражение «рабы метеки» было непонятно, и темноту приписывали испорченности текста. Но эти исправления текста были несправедливы, как потому, что сами ье представляли несомненного смысла, так и потому, что делались наперекор авторитету всех дошедших до нас рукописей Аристотеля. Потому г. Куторга, отвергая мысль о произвольных изменениях чтения, переданного всеми списками, делает попытку объяснить его без всяких исправлений, и для того в подробности разбирает смысл затруднительных выражений «поместил в филы» и «рабы метеки». Для этой цели ему необходимо было объяснить положение различных сословий жителей афинского государства; но <дак> как скудные сведения, дошедшие до нас об этом предмете, вполне ясны становятся только при сличении их с фактами, известными нам об устройстве других племен, проходивших те же ступени развития, какие проходило афинское государственное общество, то г. Куторга излагает общий ход этого развития, следуя методу Нибура, доказательства которого дополняет результатами собственных исследований. Ясность и основательность всего этого разыскания дает нам возможность представить его в существенных чертах читателям, как пример удачного приложения сравнительного метода, столь необходимого для истории, особенно древнейшей истории, которая только при помощи его дает выводы прочные и чрезвычайно важные для понимания всех последующих явлений народной жизни. Введение этого метода в науку — одна из важнейших заслуг великого Нибура, и можно без преувеличения сказать, что степенью уменья прилагать сравнительный метод преимущественно должна измеряться способность ученого с пользою исследовать темные, но важные времена первобытной истории. Прославленный метод Гримма в сущности есть тот же самый метод Нибура, только примененный более специальным образом.
Прежде всего надобно заметить, что в древних государствах все народонаселение разделялось по отношению к государственным правам на две неравные половйны: людей, участвовавших в управлении государством, и людей, не имевших права ни подавать голоса в народных собраниях, решавших важные дела, ни делаться членами совета или, выражаясь римским термином, сената, управлявшего общим ходом текущих дел, ни отправлять правительственные должности. Подобное устройство видим в городах средних веков; в больших размерах почти то же замечаем
доныне в некоторых западных государствах, особенно в Англии. Общий ход государственного развития в государствах, внутренние силы которых увеличивались с течением времени, состоял в том, что постепенно это различие сглаживалось раздачею прав жителям, которые прежде лишены были участия в управлении. Так было и в Афинах.
Афиняне делились первоначально на четыре колена или «филы», имевшие племенное значение; здесь может возникнуть вопрос о том, все ли народонаселение афинского государства входило в состав этого деления, или только одни люди, участвовавшие в управлении. По мнению Нибура, разделяемому г. Кутор-гою, только эти люди. Но собственно об устройстве афинских первоначальных фил не дошло до нас точных известий, и Нибур основывает свое мнение на сравнении афинского общественного быта с римским; в Риме также были колена, состоявшие из родов, как и в Афинах, как и в большей части других древних государств; но в состав колен входили только члены класса, управлявшего государством. Г. Куторга подтверждает эту аналогию, показывая, что «быть приняту в состав филы» и «получите участие в государственном управлении» значит у греческих писателей одно и то же. Часть населения, лишенная прав, не входила в состав фил. Но каким же людям Клисфен дал право участия в филах, или в государственном управлении? Для определения этого опять надобно точнее припомнить общий ход развития гражданских обществ в древности и в начале средних веков, когда опять из племенного быта созидались государства. Везде мы видим, что первоначально участвовали в управлении государством только люди, имевшие поземельную собственность, и что с течением времени остальные классы народа приобрели участие в государственных правах, которые перестали быть неразрывно связаны с землею. Соединение государственных прав с поземельною собственностью произошло оттого, что первоначально была только общинная, а не частная поземельная собственность; земля принадлежала обществу, а не частным лицам, которым участки ее отдавались только в пользование: все, принадлежавшие к составу государственного общества, получали участки, не имели их только люди, не входившие в состав этого общества. Подобное тому устройство до сих пор сохранилось в нашем сельском быте. Точно так же делили землю между всеми членами дружины или общины германцы, занимая какую-нибудь область. Рабы и покоренные, конечно, не получали от завоевавшей общины этих участков, они также не имели и участия в государственном управлении. Мало-помалу участки эти сделались полною собственностью частных лиц; но попрежнему оставалось понятие и правило, что только люди, владеющие землею, — члены государственного общества. Так было повсюду у германцев, римлян и различных греческих племен. Так должно было быть и в Афи-пах, что подтверждается общим сходством внутренней истории гражданских отношений в этом государстве с другими государствами.
Но с течением времени одни из владельцев богатели, другие — беднели, одни делались людьми могущественными, другие— слабыми, беззащитными. При самоуправстве и неопределенности отношений, чем всегда отличаются государства, еще не достигшие очень высокой степени благоустройства, бедные и слабые владельцы должны были терпеть очень много притеснений от соседов; для многих также были очень тяжелы государственные подати и повинности; что им оставалось делать? или продавать свои участки, или искать покровительства могущественных людей, которые защищали б их от притеснений, принимая известные права над их землею. Последнее явление встречаем повсюду. Так, в V веке по р. х., когда Римская империя разрушалась, когда безопасности было мало, и по внутренним беспорядкам, и потому, что германцы беспрестанно делали свои набеги, — в это тяжелое время мелкие свободные землевладельцы принуждены были искать защиты и помощи у богатых людей, которым передавались вместе с своим имуществом; таким образом образовался класс колонов или поселян, бывших во власти частных людей. Еще в обширнейших размерах происходило подобное явление во время распадения империи Карла Великого. Беспорядки и потрясения этой тяжелой эпохи были так невыносимы для слабых, что «свободные люди, владевшие небольшими участками земли, обращались к более сильным, избирали их своими покровителями (patronus) и господами (seigneur) и давали им присягу в верности и покорности (fidelitas et homagium). Такое добровольное поступление одного лица в зависимость другого (commendatio, гесот-mendatio, traditio) было признано правительством и сделалось государственным постановлением». Так произошел класс вассалов из свободных алодиальных владельцев, потомков германских воинов, получивших по жребию участки земли при завоевании страны. Можно прибавить, что до некоторой степени подобные явления встречаем и в смутные времена русской истории, когда поселяне и мелкие земледельцы «записывались» за бояр в монастыри, чтобы иметь от них защиту и участвовать в льготах, которыми пользовались их поместья и вотчины. — Теперь легко будет для нас убедиться в основательности объяснения, которое дает г. Куторга словам Аристотеля: «Клисфен дал право гражданства рабам метекам». Он полагает, что «метеками» назывались в Афинах «владельцы небольших участков, которые передались со всем своим поземельным имуществом другому лицу и поступили в число людей его». Правда, до сих пор, руководствуясь определением словаря Генриха Стефана, под именем метеков хотели ученые понимать иноземцев, поселившихся в чуждом государстве и постоянно живущих в нем под покровительством законов, но устраненных от участия в гражданских правах. Но это значение получено было словом метек уже в позднейшие времена, после Аристида, по предложению которого все свободные жители Аттики получили право гражданства. Но в старину это слово должно было относиться к туземцам, не имевшим гоаж-данских прав; это ясно, во-первых, из того, что, относя его к иноземцам, прибавляют к нему эпитет «иностранец»; во-вторых, еще определительнее узнается основной смысл слова метек, когда сравним его с подобными ему «периэк» и «синек»: этими словами означались туземцы, не пользовавшиеся гражданскими правами и состоявшие, под покровительством могущественных землевладельцев. Туземность древних метеков прямо подтверждается словами Исократа, говорящего, что они были «соотечественники» или «соплеменники» людям, имевшим гражданские права. Каким же образом произошел в Афинах этот класс людей свободных, но потерявших права? Точно так же, отвечает г. Куторга, как в Римской империи, в империи Карла Великого и проч. принужденные искать безопасности и льгот в покровительстве людей сильных, владельцы небольших участков передавались могущественным покровителям вместе с своею собственностью, отказываясь от звания самостоятельных владельцев и теряя через то гражданские права.
Если мы примем это объяснение, имеющее за себя, по нашему мнению, всю вероятность, то для нас будут совершенно понятны слова Аристотеля и коренное значение важных преобразований, сделанных Клисфеном в распределении государственных отношений в древней Аттике, также и общий ход событий, вызвавших эти реформы.
Подчиняясь богатым землевладельцам, говорит г. Куторга, метеки надеялись найти покровительство; но скоро покровители начали притеснять их, как это было и при распадении Римской империи, по рассказу Сальвиана. Бедные делаются еще беднее через покровительство, прибавляет этот писатель, объяснив, как слабые землевладельцы передавались могущественным; их принимают как людей, не принадлежащих к числу рабов, а владеют ими как своею собственностью, так что вольные люди обращаются в рабов. Так же точно и мелкие алодиальные владельцы средних веков, поступая в число вассалов, мало-помалу севершенно утрачивали личную свободу, превращались в рабов, как часто их и называли, несмотря на то, что по закону они не были рабами. «В таком же положении были афинские метеки. Они потеряли прежние права свои и стояли как бы в средине между свободными и рабами. Они были свободными метеками по своему происхождению, но рабами по положению в обществе. Этот класс людей и разумеет Аристотель под словом: рабы метеки». Но в Аттике были кроме этих туземных метеков другие метеки — иноземцы, поселившиеся в Афинах. Аристотель упо-
минает и о них. Потому слово метеки в его фразе надобно понимать относящимся и к слову «рабы» и к слову «иноземцы». Клисфен дал право гражданства метекам рабам и метекам иноземцам.
Нет надобности говорить о важности этого объяснения, открывающего указание на один из основных фактов внутренне^ истории Афинского государства, и мы совершенно согласны с мнением г. Леонтьева, что исследование г. Куторги приводит к результату, имеющему всю убедительность, возможную в подобных случаях. Строг. я логичность выводов и основательность толкования древних свидетельств в этом разыскании равно замечательны. Мы не можем разделять мнений ученого исследователя только относительно одного пункта — оснований, по которым произошла неразрывная связь, существовавшая в первобытной государственной форме между званием гражданина, эвпатрида или патриция, и участием в общинной государственной собственности. Г. Куторга относит возникновение общинной поземельной собственности, раздававшейся во владение всем членам племени, к земледельческому быту, который признает первобытным: «нет никакого сомнения, говорит он, что первоначальное состояние человека было земледельческим, а рыбная ловля и охота занятием второстепенным и отчасти позднейшим. Многие писатели доказывали, что общество проходило разные степени, что человек сделался прежде всего рыболовом и охотником, познакомился потом с скотоводством и только впоследствии времени узнал хлебопашество. Этот систематический переход неестествен и совершенно противоречит сведениям о патриархальном быте, приобретенным в позднейшее время» — напротив, он совершенно подтверждается ими и совершенно естествен: ненатурально человеческому обществу дичать, натурально ему цивилизоваться. Предания всех народов свидетельствуют о том, что прежде, нежели узнали они земледелие и сделались оседлыми, они бродили, существуя охотою и скотоводством. Чтобы ограничиваться греческими преданиями и относящимися именно к Аттике, укажем на миф о Церере и Триптолеме, которого научила она земледелию, — очевидно, что по воспоминаниям греческого народа нищенское и грубое состояние дикарей охотников было первым, а с благоденствием оседлой земледельческой жизни познакомились люди уже впоследствии. Такие общие всем народам предания совершенно подтверждаются для всего европейского отдела индо-европейских племен исследованиями Гримма, которые справедливо считаются безусловно верными в своих главных выводах. То же самое прямым образом доказывают положительные факты, записанные в исторических памятниках; мы не знаем ни одного народа, который, став раз на степень земледельческого, ниспал потом в состояние одичалости, не знающей земледелия; напротив того, у многих из европейских народов достоверная история записала почти с самого начала
весь ход распространения земледельческого быта. К числу таких народов принадлежат германцы и отчасти славяне. Мы выставляем наше несогласие с этим положением г. Куторги, между прочим, именно потому, что вывод, изложенный нами и не подлежащий сомнению после новейших исследований, гораздо сильнее подтверждает его справедливый взгляд на государственное значение поземельной собственности, нежели теория, будто бы земледельческий быт есть первоначальное состояние народа. Частная поземельная собственность была необходимым условием государственных прав потому, что произошла из общинной собственности, которою пользовались все лица, составлявшие племенное общество, и не пользовался никто, не принадлежащий к этому обществу (роду, колену, племени); а общинная собственность — существенная принадлежность не земледельческого, а бродячего, пастушеского или звероловческого быта. У пастушеских народов, беспрестанно перекочевывающих с места на место, личная поземельная собственность недостаточна, стеснительна и потому не нужна. У них только община (племя, род, орда, улус, юрта) хранит границы своей области, которая остается в нераздельном пользовании у всех ее членов; отдельные лица не имеют отдельной собственности. Совершенно не то в земледельческом быте, который делает необходимостью личную поземельную собственность. Потому-то от кочевого состояния ведет начало связь земли с племенными и, впоследствии, с государственными нравами. Таким образом, новейшие изыскания, доказывающие, что европейские народы сначала были звероловами и пастухами и только в позднейшие времена сделались земледельцами, как нельзя лучше подтверждают гениальные открытия Нибура о племенном устройстве, принимаемые г. Куторгою. Эти изыскания также совершенно подтверждают другую основную мысль, принимаемую г. Куторгою, — . мысль об одинаковости племенного устройства у всех народов, проходящих первые ступени исторического развития. Мы имели случай говорить о том, что значение исторической филологии преувеличивается ее исключительными поклонниками |2; говорили даже, что тех же самых выводов, какие получены ею, можно было бы достичь Менее утомительным путем — изучением быта диких и полудиких племен, существующих доселе. Но, во всяком случае, выводы уже получены, и нет возможности сомневаться в их основательности. Потому нет сомнения, что если бы Нибур жил в настоящее время, то он воспользовался бы трудами Гримма, как драгоценнейшим пособием для своих изысканий. Нам кажется, что они дали бы прочную опору и понятиям о поземельной собственности, на которых основывается у г. Куторги объяснение Клисфеновой реформы. Как бы то ни было, нельзя, однако, не повторить, что это объяснение, сделанное с замечательною проницательностию и несомненною ученостью, должно быть считаемо одним из капитальнейших трудов,
какие только появились в последнее время для объяснения развития гражданских отношений в Афинской истории.
Статья г. Грановского «Чтения Нибура о древней истории», подобно статьям г. Леонтьева о сочинении Г рота, представляет извлечение, сопровождаемое критическими замечаниями о тех положениях автора, которые кажутся несправедливыми излагателю. Г. Грановский передает мнения великого историка о главных событиях и действователях греческой истории до конца пелопонесской войны; и мы не ошибемся, сказав, что эти статьи наших ученых принесут наиболее пользы читателям «Пропилей» и будут почти всеми считаемы лучшим украшением рассматриваемых нами томов этого сборника. Такие трактаты, как исследование г. Куторги о законодательстве Клисфена или переведенное в IV томе «Пропилей» сочинение покойного Д. Л. Крюкова «О первоначальном различии римских патрициев и плебеев в религиозном отношении», находят себе у нас мало ценителей и остаются в русской литературе одинокими явлениями, имеющими более внутренней значительности, но не внешнего значения для читателей, за исключением, быть может, десяти или двадцати человек. Напротив, сочинения, соединяющие ученую основательность с подробным изложением общеизвестного в науке, но представляющегося новым в нашей литературе, если не прославят своих авторов, то будут истинно полезны. Мы не будем распространяться о достоинствах статьи г. Грановского, потому что в этом случае нас предупредили отзывы всех рецензентов, разбиравших третий том «Пропилей», и займемся сочинением Крюкова, являющимся теперь в русском переводе 13.
Крюков не успел оставить после себя много сочинений; да и те немногие, которые окончены им, должны быть названы скорее отрывками (как, напр., статья о трагическом характере истории Тацита, помещенная в «Москвитянине») или, как сочинение, переведенное теперь в «Пропилеях», опытами, которые были бы только предшественниками трудов более обширных и глубоких, если бы смерть не отняла так рано у науки замечательного исследователя, у русского ученого сословия — профессора, который в немногие годы сделал так много для водворения классической филологии в России. Судьба Крюкова была подобна судьбе Ли-новского, Лунина, Прейса, которые умерли почти в самом начале своей прекрасной и плодотворной деятельности, оставив по себе незабвенную память во всех, знавших по личным сношениям, какою колоссальною ученостью, глубокомыслием и страстною любовью к своей науке были одарены эти люди, от которых могли мы ожидать столь многого и которые ушли от нас, не совершив и сотой части того, что совершили б, если бы жизнь их продлилась хотя двадцатью, хотя десятью годами. Скорбно чтим мы память этих рано угасших деятелей науки и с печальным благоговением смотрим на их труды, которые так много обещали в бу-
дущем. С этим чувством мы приступаем и к изложению «Мыслей о первоначальном различии римских патрициев и плебеев в религиозном отношении» — не с тою целью, чтобы показывать, почему идеи Крюкова об этом предмете не утвердились в науке, а единственно в намерении познакомить с глубокомыслием и ученостью покойного исследователя тех читателей, которые не захотят следовать за автором в лабиринт специальных изысканий и подробностей, из которого извлекает он свои мысли. Мы хотим не анализировать мысли Крюкова с критической точки зрения — это уже давно сделано для специалистов первоклассными немецкими учеными, удостоившими большого внимания труд, изданный для них, а считаем своею обязанностью распространить ближайшее знакомство с исследованием Крюкова и его достоинствами.
Тот самый процесс постепенной раздачи гражданских прав классу населения, первоначально лишенному их, какой видим в Афинской истории, составляет существенное содержание и вку'-тренней истории римского государства, в источниках которой записан он гораздо полнее и яснее. Но все летописцы и историки, отрывки которых дошли до нас, принадлежат уже тому времени, когда первый период борьбы между патрициями и плебеями окончился, и различие между этими двумя первобытными классами римского населения относительно гражданских прав исчезло. Потому они в своих известиях довольно часто смешивают понятия, относящиеся к различным эпохам, и истинные черты различия между плебеями и патрициями при возникновении римского государства могут быть восстановлены только при пособии критики. Обыкновенно думают, со времен Нибура, что существенное различие между патрициями и плебеями состояло в государственных правах. Победители (патриции) не могли слиться с побежденными тотчас же после победы над ними, не приняли их в свои колена и роды (curia и gens) и не дали им никакого участия в государственном управлении, принадлежавшем исключительно членам господствующего племени, входившим в состав патри-цийских колен и родов. Из этого основного различия проистекало и религиозное различие: поклонение известным богам, покровителям государства, принадлежало исключительно господствующему племени, потому что эти боги были боги владычествующего племени, чуждые покоренному населению. Потом, когда сблизились побежденные с победителями в политических правах, когда государственные права стали принадлежать всем свободным туземцам города Рима, и поклонение государственным богам сделалось общим для всех, участвовавших в государственных правах.
Крюков, напротив того, различие между патрициями и плебеями основывал преимущественно на религиозном их единстве и считал остальные государственные права их уже второстепенным следствием участия, в общей патриц > йской религии. Этим.
однако, еще не вполне определяется отношение его понятий к обыкновенному воззрению на первобытное различие между патрициями и плебеями. Обыкновенно думают, что только между патрициями существовало религиозное единство, происходившее от общего поклонения государственным богам (богам первоначальных патрицийских племен), между тем как плебеи, сведенные в Рим из различных племен, не имевших между собою ничего общего, не имели и общего религиозного поклонения, пока не приобрели религиозного единства через приобретение участия в государственной религии. Напротив, по мнению Крюкова, вместе с общей патрицианскою религиею первоначально существовала в Риме и общая плебейская религия и только впоследствии патрицианская религия сначала подавила ее на некоторое время, потом слилась с нею. Из самого изложения этих понятий в исследовании Крюкова мы увидим, на каких предположениях они основаны, увидим также и степень их убедительности; но с тем вместе убедимся, каким глубоким знакомством с классическою древностью обладал покойный наш ученый, столь рано отнятый смертью у русской филологии, как самостоятельны были его изыскания в древних писателях и какою замечательною силою мысли был он одарен.
«Римские патриции говорят о себе, уже при первых зачатках Рима, как о племени издревле оседлом и живущем в племенном или родовом быту, — начинает он свое исследование. — Они ставят себя таким образом в противоположность плебеям, чуждым всяких родовых связей», — то есть, не имевшим общего племенного единства. Отчасти эта разрозненность происходила от разноплеменности; но даже и племенные отношения тех плебеев, которые до покорения патрициями или до прихода своего в Рим (если предположить, что были также плебеи, поселившиеся в Риме добровольно, — предположение сомнительное) были в рле-меином родстве между собою и имели родовой быт, не были признаваемы государством, состоявшим первоначально из одних патрициев. «Но, — продолжает Крюков, — органическое единство, которое усвоивается патрициям, могло принадлежать им только в духовном смысле, а не в смысле однокровности, потому что и патрицийское общество произошло посредством разнородных переселений в Рим. Многие роды патрициев были, очевидно, чуждого происхождения. Потому они были связаны между собою только нравственными узами; по всей вероятности, религиозное родство соединяло их». Об этом можно заключить из способа принятия в патрицианскую общину. Оно совершалось посредством кооптации; «но так как этот акт был в употреблении при принятии в какую бы то ни было жреческую общину, то отсюда мы без сомнения вправе — предполагать совершенное единство религии». Таким образом, патриции отличались от плебеев религиею. Доказательством тому служит первобытное воспрещение брачных связей между патрициями и плебеями. Древние писатели говорят, что позднейшая римская религия произошла через слияние двух различных религий, из которых одна чтила богов под символическими изображениями, другая имела идолов. Первоначально римляне, по единогласному свидетельству Варрона, Плиния, Плутарха, Тертуллиана, не знали идолов, служение которым явилось, по словам Варрона, из Этрурии, во время Тарквиния старшего. Но эти известия, по мнению Крюкова, не совершенно точны в том отношении, что считают символическую религию единственною древнейшею, а введение изображений богов приписывают позднейшим временам. Этрусский элемент существовал в Риме еще до Тарквиния; потому, считая символическую религию принадлежащею. латинам, а поклонение изображениям богов — этрускам, надобно допустить, что обе различные религии существовали в Риме одновременно. Следы противоположности этих элементов сохранились и в позднейшем римском богослужении, которое рбразовалось из их слияния. «Если мы спросим, в каком же отношении находились они первоначально к двум различным частям римского народа, патрициям и плебеям, мы невольно должны предположить, что первоначальные различия религии могли совершенно совпадать с различиями самого народа». Потом Крюков доказывает, что патриции оставались чужды всякой этрусской примеси, а в плебеях был силен этрусский элемент. После того становится для него очевидным, что происшедшая из Лациума символическая религия была патрицианскою, а этрусская религия, имевшая изображения богов, принадлежала плебеям. Нет надобности говорить, что это мнение основано на предположениях, которым противятся самые основные факты римской первобытной истории. Если — с чем соглашается сам Крюков — плебеи были разноплеменного происхождения, то у них не могло быть общей религии, пока они, вместе с другими гражданскими правами, не получили и права считать государственной религии (принадлежавшей прежде, как и все другие государственные учрёждения, одним патрициям) своею религиею. Итак, первоначальное религиозное различие между патрициями и плебеями состояло не в том, что одни имели одну, другие — другую религию, а в том, что патриции. имели богослужение, признанное государственным, а плебеи не имели в нем участия. Точно так же мы знаем, что это различие было только одним из следствий совершенного отчуждения плебеев от всех государственных прав; и это отчуждение основывалось на том, что патриции имели свое родовое и племенное устройство, а плебеи не были приняты в состав их родов и колен или курий. Что же касается вопроса о патрициях, переселившихся в Рим из других племен, то они именно через то и стали патрициями, что были приняты в состав патри-цнйских племен посредством кооптации — учреждения, дававшего вообще участие в правах племени, а не исключительно только в богослужении. Что патриции были нисколько не чужды этрус. скому влиянию, доказывается множеством государственных учреждений, существовавших в Риме тогда, когда еще одни только патриции составляли государство. Так, например, сам Крюков говорит, что устройство войска у римлян было чисто этрусское. Точно так же нельзя противопоставлять плебеев, как этрусков, патрициям, как латинам, потому что в плебеях, как и в патрициях, преобладал латинский элемент, с чем согласен и Крюков. Вообще, Крюков не успел своим исследованием доказать понятий, им принимаемых. Остается несомненным, что различные системы языческого богослужения — одна, не имеющая статуй и почитающая богов под видом разных символов или фетишей — оружия, камней и т. п., другая, имеющая статуи, принадлежат различным степеням развития; сначала возникает фетишизм, потом, с возвышением образованности, фетиши вытесняются статуями. Римские писатели свидетельствуют, что и в Риме было точно то же и что два различные поклонения, о которых говорит Крюков, явились не в одно время, а сначала служение символам (фетишам), потом статуям. Крюков сам, кажется, чувствовал, что его доводы, опровергающие этот факт, не вполне убедительны. По крайней мере он заключает свое исследование словами: «Если еще остается некоторое сомнение (в том, что символическое служение принадлежало патрициям, а этрусское — плебеям), то оно решительно уничтожится при рассматривании первоначального отношения плебеев к патрициям и царя (Rex) к обоим. Это будет предметом особенного рассуждения, в котором мы попытаемся также представить историю борьбы и взаимного слияния обеих религий». Но издать это обещанное дополнение не суждено было Крюкову, и его мысли остались недосказанными. Потому-то было б и несправедливо слишком долго останавливаться на возражениях им. Но по крайней мере одно успел доказать Крюков своим исследованием: то, что у него был богатый запас классической учености и сила мысли, могшая обнимать тысячи запутанных, противоречащих друг другу фактов и в строгой системе подводить их под общую точку зрения.
Затем должны мы говорить о прекрасной третьей статье г. Кудрявцева: «Римские женщины по Тациту. Агриппина младшая и Поппея Сабина» |4. Мастерской, можно сказать красноречивый, рассказ, сила и верность в обрисовке характеров делают эту статью вполне достойной двух предыдущих. Мы желали бы выписать несколько страниц из художественного рассказа г. Кудрявцева — потому что это было бы единственным средством познакомить с достоинствами его тех из наших читателей, которые не имели еще случая прочитать самой статьи, — но этим нарушалась бы строгая связь развития драмы, которую пересказывает нам автор, следуя своему великому руководителю, и мы скажем только, что немногие романы имеют такую завлекательность.
как история Агриппины и ее соперницы, и что г. Кудрявцев умел и понять и изобразить эту кровавую историю с искусством истинного художника.
Интересна и статья г. Бабста: «Антоний и Клеопатра»; лучшими ее страницами показались нам те, в которых рассказывается обаятельное влияние Клеопатры на любовника, которого довела она до погибели и которого так бесстыдно хотела покинуть, чтобы броситься в объятия Октавиана. Быть может, некоторые читатели с удивлением услышат, что Клеопатра, которую привыкли по преданию считать идеалом красоты, была очаровательна не красотою, а умом и изысканнейшим кокетством: «Мы имеем положительные известия, — говорит г. Бабст, — что она была нехороша собою. Но ее вкрадчивые речи, ее страстный взор, обольстительная игра глаз, неподражаемая грация в каждом движении очаровывали всех невольно. Она обладала необыкновенным даром поддерживать страсть всеми средствами, какие имеет в руках ловкая, умная и кокетливая женщина».
Просматривая статьи, помещенные в третьем и четвертом томах прекрасного издания г. Леонтьева, мы обращали наибольшее внимание на те сочинения, которые содержат в себе новые и самостоятельные решения важных спорных вопросов древней истории; но из этого не следует, чтобы мы ниже их ценили другие статьи, задача которых состоит в изложении на русском языке того, что. будучи уже хорошо известно специалистам, может быть еще не вполне знакомо многим из русских читателей. Таково положение критики, что она может распространяться только о том, что представляет какие-нибудь стороны, требующие объяснений или замечаний; о ясном и несомненном в науке она говорит только: «это совершенно справедливо и хорошо изложено». Но если лЛя не находили удобным останавливаться в отдельности над каждою из статей, имеющих целью распространение в русских читателях знакомства с историею и бытом древнего мира, то вообще мы должны сказать, что именно на этих-то статьях и основано то высокое значение, какое имеют «Пропилеи» в русской литературе. Желаем видеть в пятом томе, которого с нетерпением ожидаем, столько же таких статей, сколько было их в третьем томе.
МОРСКОЙ СБОРНИК,
издаваемый Морским Учебным Комитетом. Год 1855. Книжки 1—9
(январь — сентябрь)
Заслуженное уважение, которым начал в последнее время пользоваться «Морской Сборник», и многие, в высокой степени интересные особенности этого издания поставляют в обязанность каждому журналу, желающему беседовать с своими читателями об истинно важных явлениях нашей литературы, посвятить разбору «Морского Сборника» особенную и подробную статью. В самом деле, по общему мнению всех внимательно следивших за «Морским Сборником» с конца прошедшего года, он составляет одно из замечательнейших явлений нашей литературы, — быть может, самое замечательное во многих отношениях. И достаточно хотя в легком очерке указать основания, по которым произносится такое суждение, чтобы убедить в его справедливости тех читателей, которые сами еще не имели случая познакомиться с достоинствами издания, о котором мы говорим.
Мы должны начать с того замечательного факта, которому должно приписывать самое благоприятное и сильное влияние на качества, сообщившие этому изданию особенную важность. Этот факт — высокое покровительство и, скажем более, руководительство его императорского высочества великого князя Константина Николаевича, дающего направление морскому министерству по званию генерал-адмирала, носимому его высочеством, которому угодно обращать свою высокую заботливость и на усовершенствование ученого издания, принадлежащего его министерству.
Только при этом высоком покровительстве и руководительстве «Морской Сборник» мог сделаться тем, чем он сделался по согласному мнению публики: то есть замечательнейшим из наших специальных журналов, и по учено-литературному достоинству статей, и по высокой важности помещаемых в нем официальных документов.
Быстрое совершенствование замечалось в «Морском Сборнике» уже довольно давно; но особенно почетное место в нашей
литературе занял он с нынешнего года, когда официальный отдел его расширился вследствие известий о подвигах и судьбе защитников Севастополя, между которыми столь блестящим образом отличались наши черноморские моряки, а неофициальная часть приобрела некоторые новые отделы и существовавший прежде учено-литературный отдел обогатился многими прекрасными статьями.
Следуя порядку программы «Морского Сборника» и оставляя, как независимый от редакции журнала, чисто-административный первый отдел его (постановления и распоряжения правительства), отличаемый и внешним образом от остальной части издания римскими цифрами в нумерации страниц, мы начинаем обозрение «Морского Сборника» за первые девять месяцев текущего года рассмотрением его второй рубрики, носящей заглавие: «Официальные статьи и известия». Это один из тех отделов, которые отличаются особенно превосходным характером и наиболее содействовали возбуждению сочувствия к «Морскому Сборнику» во всех его читателях. То направление, которое указал журналу его высокий руководитель, непосредственно выразилось в составе и духе отдела, о котором теперь мы говорим. Кто подумал бы, что здесь преобладает однообразный и сухой тон, который многим кажется необходимым спутником официального изложения, ошибся бы в настоящем случае: большая часть отчетов и донесений, напечатанных в «Морском Сборнике», представляют для внимательного человека чтение поучительное. Мы не говорим о письмах «Сестер Крестовоздвиженской Общины», предполагая, что все наши читатели уже достаточно знакомы с их высоким интересом, потому что газеты постоянно перепечатывали извлечения из этих писем, равно замечательных по живости и точности рассказа о различных эпизодах страшной и славной осады Севастополя, о положении раненых геройских защитников этой крепости, по скромности и правде, с которою сестры-говорят о своих неутомимых попечениях на спасение и успокоение страждущих. Мы не говорим также о донесениях гг. Мансурова и Доргобужи-нова, на которых возложена обязанность заботиться о раненых моряках, — они также представляют самую верную картину наших севастопольских госпиталей и служат лучшим свидетельством человеколюбивой заботливости морского управления о своих подчиненных — эти донесения мы также предполагаем известными читателю. Но, чтобы продолжать перечень статей, относящихся к защитникам Севастополя, упомянем о «списках раненых нижних чинов Черноморского флота», постоянно помещаемых в «Морском Сборнике»: доселе мы знали только общие цифры, здесь в первый раз было введено прекрасное правило сохранять для памяти имена не только офицеров, но и простых воинов, пострадавших за отечество, и передавать для сведения родственникам известия о их положении. Нет надобности распространяться о впечатлении, которое производят на читателей эти списки:
«Херсонской губернии, Александрийского уезда. Деревни Байдановки. 17-го рабочего экипажа мастеровой Прокофий Клименко. На 10 бастионе, 10-го октября, ядром оторвало левую ногу. Нога отнята выше колена. Выздоравливает. — Деревни Чистополь. Матрос 32-го флотского экипажа Михаил Горкуш, на 4-м бастионе, 22-го октября, осколком бомбы ранен в голову. Рана заживает. Почти здоров…»
Да, мужественные защитники родных укреплений, принадлежащие к морскому ведомству, ваши имена не остались безвестными, они внесены в летопись той осады, которая, благодаря вашей беспредельной храбрости, вынудила у самих врагов признание о доблестях русского воина. Вслед за этими списками читатель постоянно находит многочисленные известия о мерах начальства к призрению матросов, оправившихся от ран. Все они были спрашиваемы, в чем теперь состоят их желания, которые по возможности будут выполнены правительством. И сколько скромности, самоотвержения было выказано этими страдальцами! — Вообще, они сохраняли убеждение, что, жертвуя своею кровью, только исполнили свой долг и не считали себя имеющими какие-либо особенные права на благодарность и пособия; нужно было настоятельно требовать, чтоб они высказали свои желания, — иначе они молчали, не думая просить ни о чем; да и будучи настоятельными расспросами принуждены говорить, большая часть из этих воинов ограничивали свои желания — возвращением на бастионы или общим, скромным препоручением себя милостивой заботливости начальства… Вот, например, каковы были ответы 653 раненых матросов, о которых известия передаются в январской книжке «Морского Сборника»:
«На вопросы, в чем состоят их нужды, чего желают для себя или 'для родных, они почти все единогласно отвечают: «Батюшка царь не оставит нас, а мы желаем, если господь поможет выздороветь, то поскорее явиться к товарищам на бастионы, отплатить врагам». При настоятельном же требовании от них указания на способы пособия, выразили желание:
«Изъявили вообще упование на милосердие начальства 228; остальные 377 человек просили одной милости — дозволить нм вернуться на бастионы и в команды».
Сколько мыслей родят эти строки, запечатленные такою поразительною правдою! Из 653 человек только 43, да и то единственно по повторенному требованию, изъявляют определенные желания и надежды, — и как скромны эти желания! Остальные — говорят только, что поручают себя милости начальства — пусть оно само чём-нибудь наградит их, если находит достойными награды… А большая часть не произносят даже, и этих слов… Как ярко обрисовывается одним таким фактом жизнь русского воина, умирающего за отечество, не ожидая воздаяний! Как хорошо обрисовывается ими жизнь русского простолюдина вообще! — Но морское начальство, как видим из «Сборника», хочет, чтобы верная служба отечеству не осталась без воздаяний для этих людей, столь чуждых даже мысли о воздаянии. И «Морской Сборник», исполняя эту цель правительства в литературной сфере, передает нам достойные памяти имена всех нижних чинов его ведомства, проливших кровь за родину, и прилагает к своим книжкам портрет и краткую биографию то одного, то другого из этих скромных, но истинных героев. Так, при мартовской книжке находим портрет унтер-офицера Круглова, при июньской — квартирмейстера Полукарова, при июльской — боцмана Буденко, при первой августовской — квартирмейстера Караси-кова, при первой сентябрьской — боцмана Ананьина.
Многие из отчетов по различным частям морского управления, напечатанные в «Сборнике», представляют читателю очень важный интерес, заключая в себе не только изложение фактов, но и выводы, замечательные по своей полноте и точности и вместе с тем служа убедительнейшими доказательствами неусыпной ревности морского министерства об усовершенствованиях по всем частям подведомственных ему учреждений. Не перечисляя всех таких отчетов, чтобы не утомлять читателей слишком длинным списком, назовем, в пример, только отчеты по медицинской части, по ревизионному управлению и по комиссариатскому департаменту. Для ознакомления читателей, еще не имевших под руками «Морского Сборника», с характером этих официальных документов, позволяем себе привесть здесь небольшую выписку из заключительных замечаний «отчета директора Комиссариатского департамента за 1854 год».
«Усиленная деятельность Комиссариатского департамента в прошедшем году, вынужденная обстоятельствами, не осталась бесплодною. Она обнаружила многие хорошие и дурные стороны разных частей управления, и приобретенный опыт будет служить основанием дальнейших усовершенствований.
Усиление состава флота, вооружение всех трех дивизий, назначение шестимесячной кампании, формирование запасных рот н морского ополчения, — все эти обстоятельства застали департамент, так сказать, врасплох, ибо не могли быть предварены никакими приготовительными распоряжениями, и притом в такое время года, когда все подряды и контракты заключены, и всякая медленность в заготовлениях отнимала возможность успеха.
Сложность учреждения хозяйственного управления представилась первым препятствием к успешным действиям. Необходимость заставила департамент в некоторых случаях приступать к исполнению распоряжений, не ожидая утверждения оных высшими инстанциями. Впоследствии, с высочайшего соизволения, предоставлено было директору департамента в некоторых случаях распоряжаться непосредственно и таким образом дана была возможность неупустительно принимать меры к полному обеспечению флота необходимыми потребностями.
Обыкновенные способы заготовлений, посредством подряда и гласных публичных торгов, во многих случаях оказались неудобными; ибо всякое объявление, заранее сделанное, возвышало цену на требуемый предмет и отнимало возможность приобретать его из первых рук. Поэтому департамент вынужден был хозяйственным образом, чрез агентов, делать некоторые закупки на бирже н у фабрикантов, и таким образом вошел в непосредственное сношение с лицами, которые до сего времени не имели обыкновения вступать в обязательство с казною.
В истекшем году опыты заготовлений разных материалов и продуктов из первых рук увенчались полным успехом, нбо почти все произведенные таким образом закупки, несмотря на спешность, обошлись казне дешевле, чем заготовление чрез посредство подставных подрядчиков, и особенно отличались превосходным качеством приобретенных продуктов.
Но произведенный опыт убедил также департамент и в той истине, что полезное улучшение не может ограничиться одним привлечением к участию в делах людей благонадежных, ибо это участие обусловливается необходимыми преобразованиями подведомственных департаменту управлений. Все усилия департамента возбудить в честных торговцах и фабрикантах желание иметь с казною дело останутся тщетными до тех пор, пока управления, от которых зависит прием товаров, не получат образование, более согласное с целию их учреждения.
Существенный недостаток в определительных и точных штатах отдельных команд и отсутствие свода табелей обмундирования крайне затрудняли и продолжают затруднять департамент, при поверке требований командиров, по предметам комиссариатского довольствия. Департамент в течение всего истекшего года старался собрать все необходимые сведения, чтобы привести в ясность сию важную часть. Но огромный труд свода табелей обмундирования и штатов не мог быть кончен, хотя часть его уже готова. В течение нынышнего года департамент надеется представить иа утверждение начальства все свои предположения насчет правильного устройства и упрощения порядка довольствия команд мундирными материалами. В настоящее время должно сознаться, что неопределенность требований, замеченная и устраненная в смете Комиссариатского департамента, еще вполне существует в требованиях командиров и отпусках комиссариата.
Необыкновенно продолжительная кампания прошедшего года обнаружила ясно все недостатки существующего порядка отчетности командиров и все затруднения, с которыми сопряжено точное соблюдение всех предписанных форм оной. В видах улучшения сей важной части, составлен уже департаментом проект совершенно нового устройства отчетности по расходу морской провизии, и проект этот, ежели будет утвержден высшим начальством, будет приведен в исполнение в кампанию нынешнего года.
По воле его императорского высочества управляющею Морским Министерством, все гг. дивизионные командиры представили замечания свои о недостатках по комиссариатской и провиантиой частям, замеченных ими в про- ' должение кампании прошедшего года» *.
Кроме исчисленных нами разнообразных и в высокой степени важных донесений, отчетов и списков по различным отраслям морского управления, в «отделе официальных статей и известий» находим в каждом нумере «Сборника» по нескольку <С^статей^> научного содержания, из которых назовем отчеты о опытах над прикшинским каменным углем (№ 4-й, отд. II, и № 8, вторая часть, отд. II); историко-статистические описания Ижорских (№ 5-й, отд. II) и Александровского заводов (№ 7-й, отд. II),
Морск. Сборн., 1855 г., № 2, отд. II, стр. 238.
статья о морских библиотеках, севастопольской (№ 3-й, отд. II) и кронштадтской (№ 6-й, отд. II).
Опыты, произведенные, по приказанию его императорского высочества генерал-адмирала, контр-адмиралом фон Шанцем над новгородским прикшинским каменным углем, приводят к следующему выводу: «с высушенным прикшинским углем можно, в случае нужды, производить самые простые кузнечные работы, не требующие сварки. Употребление его (сравнительно с английским углем) сопряжено с лишнею тратою времени и самого топлива. Кроме того, прикшинский уголь может производить на обработываемое железо до некоторой степени вредное влияние» (№ 4, отд. II, стр. 310). При вопросе о распространении употребления русского угля, возбужденном в последнее время, выводы эти очень важны.
«Описание Адмиралтейских Ижорских заводов» составлено г. подполковником Швабе. На месте нынешних Ижорских заводов были в 1714 г., по указу Петра Великого, устроены пильные мельницы. Но объем этих заводов оставался незначительным до начала текущего столетия, когда положено основание настоящему их устройству. Ныне Ижорские заводы состоят из 13 различных отделений, как-то: молотовые заводы, медно-литейный и плющильный завод, якорный завод и проч.
Александровский пушечный завод (в Петрозаводске) основан также Петром Великим и сначала изготовлял ежегодно орудий по 40 тысяч пудов и снарядов до 60 тысяч пудов. Ныне же производит он вдвое большее количество.
Морская севастопольская библиотека была основана в 1821 году командиром черноморского флота, адмиралом Грейгом. В 1834 году адмирал Лазарев предложил офицерам пожертвовать по одному проценту из жалованья на построение для этой библиотеки отдельного здания; предложение было единодушно принято, и на значительный капитал, составившийся таким образом, было построено, при пособии от покойного государя императора Николая I, прекрасное здание, открытое в 1844 году. Но через восемь месяцев после открытия оно сгорело; тогда покойный государь император благоволил пожаловать 52 000 р. серебром на построение нового здания библиотеки, которое и было открыто в 1850 году. В октябре прошедшего года библиотека содержала 8 300 сочинений, на разных языках, в 15 334 томах. На приобретение новых книг и поддержание заведения употреблялось ежегодно до 5 600 р. серебром. Она была средоточием жизни всех офицеров в Севастополе. С открытием осады великолепное здание начало страдать от бомб, из которых одна, пробив крышу, произвела пожар, который с трудом был потушен. Тогда постоянный покровитель библиотеки, покойный государь император, вновь благоволил пожаловать 25 000 р. серебром на ее исправ-ленивк
Флотская библиотека в Кронштадте, существующая с 1832 года, составилась и поддерживается, подобно севастопольской, вычетом одного процента из жалованья флотских офицеров, ею пользующихся. По словам отчета, «с появлением в Кронштадте библиотеки образ жизни морских офицеров много изменился: чтение и дельные умственные занятия начали соделы-ваться необходимою потребностию для молодых людей, ее посещающих». К 1 января текущего года библиотека эта заключала сочинений на русском языке 7 907; на французском — 1 607; на английском — 814 и на немецком — 1 560, на других — 44, всего 11 995 сочинений и, кроме того, богатую коллекцию географических карт.
Третий отдел «Сборника» — гидрографический, введен в это издание с нынешнего года и предназначен заменить собою «Записки Гидрографического Департамента», издававшиеся прежде отдельным журналом. Одна из рубрик этого нового отдела, «Лоцманские заметки», также заменяет собою издававшиеся прежде от гидрографического департамента отдельными книжками «Известия о переменах по Лоции». Чрез это соединение с журналом, представляющим общий интерес, статьям гидрографическим дается больший круг читателей, а «Лоцманские известия», постоянно печатаясь в издании, выходившем прежде ежемесячно, а в последнее время (с августа) даже по две книжки в месяц, приобретают возможность своевременнее доходить до людей, которым необходимы эти сведения.
Обширнейшая из помещенных в гидрографическом отделе статей— «Карты лейтенанта Мори» (№ 6, 7, 8). В наших литературных журналах довольно часто упоминалось об этих картах, чрезвычайно важных и для мореплавания, и для физической географии; но «Морской Сборник» первый сообщил о них подробные известия. «Карты ветров и дождей» лейтенант Мори успел издать пока еще только для Атлантического океана от экватора до 60° северной широты. Поверхность океана разделена в них на квадраты по 5° географической широты и долготы и для каждого такого квадрата показано, какие ветры и как часто дуют на этом пространстве в течение каждого из месяцев года, как часто господствуют штили, туманы, случаются бури и т. д. На основании этих карт составлены для каждого месяца года «Лоцманские карты», по которым корабль, идущий из Европы в Америку'или обратно, может, смотря по эпохе года, к которой относится его плавание, выбрать для себя выгоднейший путь, по которому найдет наиболее благоприятных и наименее противных ветров, избежит туманов и бурь, одним словом, быстрее и безопаснее, нежели по другим направлениям, достигнет своей цели. Сколько пользы приносят эти карты, уже доказано опытом; так, например, корабли, следующие их указаниям, сокращают себе плавание от Соединенных Штатов до экватора во многих случаях на целые
две недели. Еще значительнейшую пользу принесут приготовляемые к изданию карты южной половины Атлантического океана и Тихого океана. Не менее важны изданные лейтенантом Мори карты пассатных ветров, также морских течений и температуры воды на поверхности океана. Из соединения фактов, указываемых всеми этими картами, составлены лейтенантом Мори общие «Путевые карты» для кораблей, переплывающих Атлантический океан. Более частное назначение имеют его «Китоловные карты», указывающие, в какие месяцы года и в каких местах океана наиболее встречаются киты различных пород. Непосредственная цель всех этих трудов — польза мореплавания; но с тем вместе они приводят к многочисленным выводам, имеющим большую цену и для науки.
В первой половине девятого нумера помещен перевод статьи самого лейтенанта Мори о лучшем средстве предотвратить столкновения между кораблями на пути между Европою и Америкою; он предлагает избрать отдельные пути для пароходов, идущих из Европы и из Америки, — тогда они будут вне опасности встречаться между собою; а парусные суда, которые будут ходить в полосе, лежащей между дорогами пароходов, будут безопасны от встречи с ними.
Как бы введением к изложению трудов лейтенанта Мори служит статья «Новейшие успехи гидрографии» (№ 6-й), излагающая преимущественно теорию течений и приливов.
Кроме того, в гидрографическом отделе помещены следующие статьи: Описание восточного берега Кореи (№ 1); Карта полуострова Кореи (№ 4); Замечания о северном Китайском море (№ 5): Порт Сан-пио-Квинто на острове Камигуине (№ 2); пояснительная записка к карте низовьев Сыр-Дарьи (№ 2); Очерк берегов Каспийского моря, г. Ивашинцова (№ 3); Гидрографические труды Ф. Ф. Беллингсгаузена на Черном море г. Соколова (№ 6); Исследование шторма, бывшего на Черном море 14 ноября 1854 г. (№ 8), г. Ивашинцова. Некоторые из этих статей, особенно описания Кореи, низовьев Сыр-Дарьи, северной части Китайского моря, Каспийского моря и приложенные к ним карты, имеют несомненную важность для науки. Из описания «Библиотеки Гидрографического Департамента» (№ 4) мы узнаем, что это богатое собрание заключает в себе ныне до 11 189 сочинений, в 40 000 томах, и в том числе много сочинений, замечательных по своей редкости.
Четвертый отдел «Морского Сборника» — учено-литературный, заключает в себе статьи, наиболее занимательные для большинства читателей, и мы будем говорить о них с большими подробностями, нежели о статьях гидрографического отдела, чисто специальных. В девяти нумерах «Морского Сборника», нами рассматриваемых, находим по этому отделу очень много и очень разнообразных сочинений. Из биографических рассказов о деятельности замечательных сановников нашего флота мы назовем: «Воспоминание о жизни и службе адмирала А. П. Ави-нова» (№ 1); «Вице-адмирал М. И. Ратманов» (№ 3); «Адмирал А. И. фон-Круз» (№ jS); «Бригадир М. Л. Леонтьев» (№ 8); «Адмирал Нахимов» (№ 8); наконец, очень подробную и интересную биографию адмирала Д. Н. Сенявина, составленную г. Арцымовичем (№№ 4 и 8). Начало этой биографии особенно интересно потому, что в нее внесены целые страницы из записок самого Сенявина о своей жизни. Приводим два или три небольшие отрывка из этих записок.
«Батюшка сам отвез меня в (Морской) корпус, прямо к майору Г — ву; сии скоро ознакомились и скоро подгуляли. Тогда (около 1773 г.) было время такое, без хмельного ничего не делалос*. Распрощавшись меж собой, батюшка сел в сани, я поцеловал его руку; он перекрестил меня и сказав: «Прости, Митюха! спущен корабль на воду, отдан богу на руки — пошел!» — и вмиг с глаз скрылся».
Мальчик начал шалить и лениться, так что три года просидел в одном классе; но приехал в Кронштадт его дядя и принял меры к исправлению 14-летнего племянника; взяв его к себе, объяснил ему вред лености, а —
«В заключение крикнул людей с розгами, положил меня на скамейку и высек препорядочно, прямо как родной; право, и теперь то помню, вечная ему память и вечная за то благодарность. После, обласкав меня попрежнему, подарил конфектами и сам проводил меня в корпус, решительно подтвердив на прощанье, чтоб я выбрал себе любое: либо учиться, либо каждую неделю будут мне такие же секанции. Возвратясь в корпус, я призадумался; уже и резвость на ум нейдет, пришел в класс, выучил скоро мои уроки; и дело пошло изрядно».
Но вот юноша произведен в офицеры и определен на эскадру, крейсирующую у португальских берегов. Она зимует в Лиссабоне, и молодой офицер принят в хорошем обществе — здесь ожидает его первая любовь:
«В этих собраниях были всякий раз две сестры англичанки, по фамилии П. Меньшая называлась Нанси; ей было около 15-ти лет. Мы друг другу очень нравились. Я всегда просил ее тачцовать; она ни с кем почти не таи-цовала, кроме как со мной. К столу итти — як ней подхожу или она ко мне подбежит, и всегда вместе. Она выучила по-русски несколько приветливых слов и говорила со мной; я на другой раз, выучив по-английски, отвечал ей прилично; и мы так свыклись, что последний раз на прощаньи очень и очень скучали, чуть ли не поплакали».
Через несколько времени Сенявин был уже адъютантом при адмирале Макензи, которому помогал в работах при построении первых укреплений и зданий в Севастополе. Приводим из его записок отрывок о посещении новооснованного порта и флота императрицею Екатериною II.
«При вступлении на катер государыня, милостиво приветствуя людей, изволила сказать: «здравствуйте, друзья мои! Как далекб я ехала, чтоб только видеть вас!» Тут матрос Жаров (который после был лучший шкипер во флоте) ответствовал ей: «От евдакой матушки царицы чего не может
статься!» (как хотите, так и разбирайте ответ матроса, едва знающего читать да писать). Государыня, оборотись к графу Войновичу, сказала по-французски с большим, как казалось, удовольствием: «Какие ораторы твои
матросы!» Гребцы были подобраны, как говорится, молодец к молодцу: росту были не менее каждый десяти вершков, прекрасные лицом и собою, иа правой стороне все были блондины, а на левой — все брюнеты. Одежда их была: ранжевые атласные широкие брюки, шелковые чулки, в башмаках, тонкие полотняные рубашки, галстух тафтяный того же цвета, пышно завязан; а когда люди гребли, тогда узел галстуха с концами закинут был на спину; фуфайка ранжевая, тонкого сукна, выложена разными узорами черного шнура (цвета ранжевый и черный означают герб императорский); шляпа круглая с широким галуном с кистями и султаном страусовых перьев. Катер блестел от позолоты и лаку. Прочие капитанские катера выкрашены также наилучшими красками под лак. Гребцы были одеты в тонкие синего сукна фуфайки; брюки шелковые полосатые; розовый платок или галстух и-шляпы с позументами. Люди на реях поставлены были в летнем платье: фуфайки и широкие брюки белые, шелковый галстух, круглые шляпы и в башмаках; кушаки были, по кораблям, разных цветов, наподобие лент георгиевских, владимирских. За единообразием в то время не гнались, было бы только пристойно, и хорошо. Лишь только катер с государыней отвалил от берега и показался штандарт, в то самое время с судов всего флота и крепостей салютовано с каждого по 101 выстрелу. Потом государыня прибыла противу средины флота, салютовано в другой раз. Наконец, по прибытии императрицы к пристани, по снятии штандарта, салютовано в третий раз по стольку же выстрелов. День ясный, клонился к вечеру; теплота воздуха охлаждалась легким ветром с моря и все это вместе приветствовало шествие государыни наивеликолепиым образом. По прибытии ее величества во дворец, генералитет, штаб и обер-офицеры были представлены и все удостоены руки ее величества. Я находился в это время на корабле и был занят некоторыми распоряжениями и потому представлен часа с два спустя, особо. Когда я целовал руку государыни, тогда князь Григорий Александрович сказал несколько слов в пользу мою; ее величество изволила подать мне другую руку и сказала: «Вот ему в другой раз и другая рука за хорошую его службу». Я не могу выразить тогдашний мой восторг, а скажу только, все последующие в жизни моей награждения никак уже сравняться с ними не могли».
Во время осады Очакова Сенявин был отправлен к Синопу, чтоб этою дивсрсиею отвлечь турецкий флот на южную часть Черного моря; потом, в ту же вторую турецкую войну, с успехом действовал против турок в Архипелаге. Но громкую славу приобрели ему смелые подвиги у итальянских берегов в войну с французами 1805 года. В рассказе г. Арцымовича сообщены о них некоторые новые подробности, заимствованные из официальных донесений, хранящихся в архиве морского министерства.
Кроме биографий, в «Морском Сборнике» помещено много статей, относящихся к истории нашего флота. Из них значительнейшие: «Плен в Англии корвета Спешный и транспорта Виль-гельмина» г. Шульца (№ 1); «Обзор действий на море в течение настоящей войны» г. Шестакова (№ 2); «Очерк плавания транспорта Неман» г. Шульца (№ 3); «История русских призов» кн. Дм. Эр. (№ 6, 7, 8 и 9); «Артиллерийское дело при устье Наровы, 6-го июня 1855 года» г. Лаврова (№ 9); «Несколько сведений об основании Кронштадта» г. Стренцеля (№ 8);
— Храм богоявления, существовавший в Кронштадте» (№ 8); «Об
учреждении и изменениях в устройстве адмиралтейств-коллегии» гр. Д. Толстого (№ 6); «Охтенские адмиралтейские селения» г. Мансурова (№ 2). Из этих статей особенно интересна история адмиралтейств-коллегии.
По регламенту, изданному в 1722 году, члены этой коллегии выбирались «из старых или увечных флаг-офицеров, которые мало удобны уже к службе воинской». Наполовину это были иностранцы, не знавшие русского языка, — обстоятельство, вынуждавшее у них иногда очень оригинальные признания. Так, например, вице-президент коллегии, вице-адмирал Крюйс, дал обер-секретарю Тормасову следующее формальное предписание: «Все письма, которые в доклад благородному Коллегию надлежат, ' смотреть самому (т. е. Тормасову), дабы все управлять, как его царского величества указ повелевает; понеже я (т. е. Крюйс) российскому языку недоволен, а и чрез письменный перевод мне пользы не будет, для того, что я приказному поведению незаобы-чаен; того ради вам все дела наперед прочитать и о том тебе самому докладывать, а мимо тебя другим ниже с какими делами к нам не подходить; а которые указы, приговоры и выписки противны его царского величества указу явятся, и в том тебе меня хранить; и… ежели какие дела хотя в малом чем явятся противны его царского величества указам, регламентам и регулам, а я в неведении оные в несмотрении твоем закреплю, то взыщется на вас. И сей указ записать в книгу». Несмотря на преобразование коллегии в 1732 году, прежний порядок дел, по которому, за старостью членов коллегии, всем управляли низшие чиновники, продолжал существовать до Екатерины II, как видим из списка членов, составленного для императора Петра III по запросу: «кто из них в службе быть способен, и кто зачем неспособен?» Ответы были такого рода: о президенте коллегии, князе Голицыне: «За старостию лет и болезнями, более трех лет в коллежское присутствие не приезжает, и по своему чину должности отправлять уже не в состоянии»; об адмирале Мишукове: «Ныне собранию Коллегии объявил, что за старостию на море служить не может; а в адмиралтейском регламенте напечатано: в Коллегии члены обыкновенно выбираются из старых или увечных, которые мало удобны уже к службе воинской, по силе которого и следовало б ему присутствовать в Коллегии; но за глубокою старостию и дряхлостию и ту-должность отправлять признавается не в силах» и т. д. При Екатерине состав адмиралтейской коллегии был упрощен; со времени же учреждения морского министерства (1803) она сделалась только совещательным собранием при министре.
По теории кораблестроения и мореходства помещено в ученолитературном отделе «Морского Сборника» более десяти статей, из которых назовем: «Проект комплекта гребных судов для
80-пушечного корабля» контр-адмирала фон-Шанца (№ 7); по части истории и теории военного искусства: «Об ударных трубках 59Э
для разрывных артиллерийских снарядов» г. Константинова (.№ 2) и «Последовательные усовершенствования ручного огнестрельного оружия», его же (№ 7). Из последней заимствуем подробности, относящиеся к штуцерам.
При гладкоствольном оружии (т. е. без нарезок в стволе) необходим значительный зазор (т. е. пустое пространство между пулею и стенками ствола); по причине зазора, пуля подвергается не центральному давлению пороховых газов: часть газов, которая прорывается между поверхностью пули и внутреннею поверхностью канала ствола, производит вращательное движение пули, неправильность которого усиливается толчками пули о стены канала ствола, и после вылета ее из ствола увеличивается сопротивлением воздуха от неправильной формы пули, в которой центр тяжести не совпадает с центром фигуры. Таким образом, пуля на полете перевертывается и меняет свое направление самым неправильным образом. Для предотвращения этих неправильностей, ослабляющих силу выстрела и делающих невозможным верный прицел, единственное средство — сообщить пуле правильное винтообразное движение по оси, которая совпадает с линиею полета ее. С этою целью еще в конце XV века венский оружейник Гаспар Цоллер стал нарезывать в стволе винтовые дорожки, которые сообщают пуле винтообразное кружение и доставляют следующие выгоды: ими отстраняется всякая неправильность вращения пули на полете, и пуля, правильно вертясь вокруг оси своего полета, становится как бы совершенно правильно выточенною, так что на полете центр ее тяжести совпадает с центром ее фигуры, вокруг которого она вертится; кроме того, по отсутствию зазора, сила пороха не тратится, и пуля летит сильнее и дальше. Но заряжание такого оружия (винтовок) требовало стольких хлопот и времени, что оно доселе употреблялось только для охоты и стрельбы в цель; в битвах, где нужно заряжать легко и поспешно, винтовки могли только затруднять солдата. Но пуля, придуманная французским капитаном Минье, устранила это неудобство: ею ружье с внутренними нарезками заряжается так же легко и удобно, как простое ружье простою пулею. Она, как известно, имеет конический вид, и на толстом (заднем) конце ее сделано углубление, в которое вставляется чашечка из листового железа. Сила выстрела вгоняет эту чашечку внутрь углубления, и довольно тонкие стенки пули, образующие это углубление, расширяются от напора чашечки, так что самым плотным образом вдавливаются в нарезки ствола и прилегают к его стенкам, между тем как до этого расширения пуля могла двигаться по стволу свободно, и, следовательно, зарядить ею ружье было совершенно легко. Это простое, но важное изобретение дало возможность вооружить войска нарезным оружием, имеющим все достоинства охотничьих винтовок, но могущим посылать один выстрел за другим так же быстро, как прежние простые ружья.
Нам остается теперь, упомянув о прекрасном описании Пулковской обсерватории г. Савича (№ 8), перейти к рассказам о путешествиях, принадлежащим к числу лучших статей «Морского Сборника». Оригинальные статьи этого содержания, помещенные в книжках нынешнего года, почти все относятся к плаванию экспедиции, которую снаряжало русское правительство с целью убедить японцев открыть свои порты европейской торговле. Введением к ряду этих интересных отрывков служит прекрасная статья Зибольда «Действия России и Нидерландов к открытию Японии для торговли всех народов» (№ 3); карта Японии, приложенная к этой статье, очень любопытна потому, что есть снимок с карты, составленной и гравированной японскими учеными. В следующих нумерах «Сборника» помещены три статьи г. Гончарова: «Заметки на пути от Маниллы до берегов Сибири» (№ 3); «Из Якутска» (№ 6) и «Русские в Японии» (№ 9). Хвалить эти статьи, написанные с всегдашним талантом автора «Обыкновенной истории», мы считаем совершенно излишним, точно так же как и замечать, что литературные достоинства их возвышаются малоизвестностью тех стран, которые описывает г. Гончаров. Корея, о которой преимущественно говорится в первом отрывке из записок русского путешественника, была посещаема европейцами едва ли не реже, нежели даже самая Япония; а Якутск, о котором рассказывает г. Гончаров в другой статье, известен, кажется, гораздо менее Нагасаки. Мы позволяем себе привесть здесь один отрывок из прекрасных записок г. Гончарова, — рассказ о визите к нагасакскому губернатору для торжественной передачи депеш.
«Что это? откуда я? где был, что видел и слышал? Прожил ли один час из Тысячи одной ночи, просидел ли в волшебном балете, или так мелькнул перед нами один из тех калейдоскопических узоров, которые мелькнут раз в воображении, поразят своею яркостью, невозможностью и пропадут без следа?
Вы, конечно, бывали во всевозможных балетах, видали много картин в восточном вкусе и потом забывали, как минутную мечту, как вздорный сои, прервавший строгую думу, оторвавший вас от настоящей жизни? Ну, а если б вдруг вам сказали, что этот балет, эта мечта, узор, сон — не балет, не мечта, не узор и не сон, а чистейшая действительность? — «Где-нибудь на островах, у Излера?» возразите вы. Да, на островах, конечно, но не у Излера, а у Овосавы Бунгоно Ками Сама, нагасакского губернатора. Мы сейчас от него. Не подумайте, чтоб там поразила нас какая-нибудь нелепая пестрота, от которой глазам больно, груды ярких тканей, драгоценных камней, ковров, арабески, все, что называют восточною роскошью, — нет, этого ничего не было. Напротив, все просто, скромно, даже бедно, но все странно, ново; что шаг, то небывалое для нас.
Еще 5, 6 и 7 сентября ежедневно ездили к нам гокейнсы договариваться о церемониале нашего посещения. Вы там, в Европе, хлопочете в эту минуту о том, быть или не быть, а ѵы иедые дни бились над вопросами-сидеть или не сидеть, стоять или не стоять, потом как и на чем сидеть и т. п. Японцы предложили сидеіь по-своему, на полу, на пятках. Станьте на код» ни и потом сядьте на пятки — вот это и значит сидеть по-японски. Попробуйте, ѵвидите, как ловко; пяти минут не просидите, — а японцы сидят по несколько часов. Мы объявили, что не умеем так сидеть, а вот не хочет ли губернатор сидеть по-нашему, на креслах. Но японцы тоже не умеют сидеть по-нашему, а кажется, чего проще? — с непривычки у них затекают ноги. Припомните, как угощали друг друга Журавль и Лисица — это буквально одно и то же. На другой день, рано утром, явились японцы, середи дня опять японцы и к вечеру они же. То и дело приезжает их длинная, широкая лодка, с шелковым хвостом на носу, с разрубленной кормой. Это младшие толки едут сказать, что сейчас будут старшие толки, а те возвещают уже о прибытии гокейнсов. Зачем еще? «Да все о церемониале», — «Опять?» — Мнение губернатора привезли — «Ну?» — «Губернатор просит, нельзя ли на полу-то вам посидеть?..» начал со смехом и ужимками Кичибе.
Он, воротясь из Едо, куда был послан, кажется, чтоб присутствовать при переговорах с американцами, заменил Льоду и Садагору, как старший. — «Ах, ты боже мойі ведь сказали, что не сядем, не умеем, и платья у нас не так сшиты, и тяжело нам сидеть на пятках…» — «Да вы сядьте хоть не на пятки, а протяните ноги куда-нибудь в сторону…» — «Не оставить ли их на фрегате?» ворчали у нас и, наконец, рассердились. Мы объявили, что привезем свои кресла и стулья и сядем на них, а губернатор пусть сидит, на чем и как хочет. — Кичибе, Льода и Садагора, все поникли головой, но потом согласились. Все это говорили они нам в капитанской каюте. Адмирал объявил им утром свой ответ, и, узнав, что они вечером приехали опять с пустяками, с объяснениями о том, как сидеть, уже их не принял, а поручил разговаривать с ними нам. «Да вот еще, просили они: губернатор желал бы угостить вас, так просит принять завтрак». — «С удовольствием», приказал сказать адмирал. — «После разговора о делах, продолжал Кичибе, губернатор пойдет к себе отдохнуть, и вы тоже пойдете отдохнуть в другую комнату, прибавил он, вертясь на стуле и судорожно смеясь, да и… позавтракаете». — «Одни? спросили его: вы никак с ума сошли? У нас в Европе этого не делается». — «По-японски это весьма употребительно, сказали они, мы так всегда»… Но, кажется, лгали: они хотели подражать адмиралу, который велел приготовить в первое свидание завтрак для гокейнсов и поручил нам угощать их, а сам не присутствовал. — Боже мой, сколько просьб, молений! Кичибе вертелся, суетился, судорожно хохотал: у него по вискам лились потоки испарины. Льода кланялся, улыбался, как только мог хуже. Суровый Садагора, и тот осклабился. Но мы были непреклонны. Все толки опечалились. Со вздохом перешли они потом к другим вопросам, например, к тому, в чьих шлюпках мы поедем, и опять начали усердно предлагать свои, говоря, что они этим хотят выразить нам уважение. Но мы уклонились и сказали, что у нас много своих. Опять упрашиванья с их стороны, отказ с нашей; у них вытянулись лица. Все это такие мелочи, о которых странно бы было спорить, если б они не вели за собой довольно важных последствий. Уступка их настояниям в пустяках могла дать им повод требовать уступок и в серьезных вопросах и, пожалуй, к некоторой заносчивости в сношениях с нами».
«У нас стали думать, чем бы оказать им внимание, чтоб смягчить отказы, и придумали сшить легкие полотняные или коленкоровые башмаки, чтобы надеть их сверх сапог, входя в японские комнаты. Это — восточный обычай скидать обувь, и японцам, конечно, должно понравиться, что мы не хотим топтать их пола, на котором они едят, пьют и лежат. Пошла суматоха. Надо было в сутки сшить, разумеется, иа живую нитку, башмаки. Всех заняли, кто только умел держать в руках иглу. Судя по тому, как плохо были сшиты мои башмаки, я подозреваю, что их шил сам Фадеев, хотя он и обещал дать шить паруснику. Некоторые из нас подумывали было ехать в калошах, чтоб было что снять при входе в комнату, но для однообразия последовали общему примеру. Впрочем, я, пожалуй, иепрочь бы и сапоги сиять, даже сесть на пол, лишь бы присутствовать при церемонии. Вечером, видим, опять едут японцы. — Который это раз! «Зачем?» — «Да все о церемониале». — «Что еще?» — «Губернатор просит, нельзя ли вам угоститься без него: так выходит хорошо по-японски», говорит Кичибе. «А по-русски не выходит», отвечают ему. Начались поклоны и упрашиванья. «Ну, хорошо, скажите им, при-
казал объявить адмирал, узнав, зачем они приехали: — что, пожалуй, они могут подать чай, так как это их обычай, но чтоб о завтраке и помину не было». Японцы обрадовались и тому, особенно Кичибе: видно, ему приказано от губернатора непременно устроить, чтоб мы приняли завтрак: губернатору, конечно, предписано от Горочью, а этому от Сиогуна. — «Еще губернатор, начал Кичибе, просит насчет шлюпок: нельзя ли вам ехать на нашей…» — «Нельзя», коротко и сухо отвечено ему. Стали потом договариваться о свите, о числе людей, о карауле, о носилках, которых требовали для всех офицеров непременно, и обо всем надо было спорить почти до слез. О музыке они не сделали, против ожидания, никакого возражения: вероятно, всем, в том числе и губернатору, хотелось послушать ее. Уехали. На другой день, 8-го числа, явились опять, попробовали, по обыкновению, настоять на угощении завтраком, также на том, чтоб ехать на их шлюпках, но напрасно. Им очень хотелось настоять на этом, конечно, затем, чтоб показать народу, что мы не едем сами, а нас везут, словом, что чужие в Японии воли не имеют. Потом переводчики попросили изложить по-голландски все пункты церемониала и отдать бумагу им, для доставления губернатору. Им сказано, что бумага к вечеру будет готова и чтоб они приехали за ней, но они объявили, что лучше подождут. Я ушел обедать, а они все ждали, потом лег спать, опять пришел, а они не уезжали, и так прождали до ночи. Им дали на юте обедать и П. обедал с ними. Нужды нет, что у них не едят мяса, а они ели у нас пирожки с говядиной, и суп с курицей. Велели принести с лодок и свой обед, между прочим рыбу, жареную, прессованную и разрезанную правильными кусочками. К. Н. П. говорит, что это хорошо. Не знаю, правда ли: он, в деле гастрономии, такой снисходительный. Они уехали, сказав, что свидание назначено завтра, 9-го числа, что рентмейстер, первый после губернатора чиновник в городе, и два губернаторских секретаря приедут известить нас, что губернатор готов принять. Мы назначили ему 10 часов утра. Тут они пустились в договоры, как примем, где посадим чиновников. — «На креслах, на диване, на полу: пусть сядут где хотят, направо, налево, пусть влезут хоть на стол», сказано им. — Нельзя ли нарисовать, как они будут сидеть?» сказал Кичибе. Ну, сделайте милость: скажите, что делать с таким народом? А надо говорить о деле: дай бог терпение! Вот что значит запереться от всех: незаметно в детство впадешь. Настало вожделенное утро. — Мы целый месяц здесь: знаем подробно японских свиней,
оленей, даже раков, не говоря о самих японцах, а о Японии еще ничего сказать нс могли.
Но я забыл, что нас ждет Овосава Бунгоно Ками Сама, нагасакский губернатор. Мы остановились на крыльце, а караул и музыканты на дворе. В сенях, или первой комнате, устланной белыми цыновками, мы увидели и наших переводчиков. Впереди всех был Кичибе. Уж он маялся от нетерпения, ему, повндимому, давно хотелось очнуться от своей неподвижности, посуетиться, подвигаться, пошуметь и побегать. Только что мы на крыльцо, он вскочил, начал кланяться, скалил зубы и усердно показывал рукой на амфиладу комнат, приглашая идти. Тут началась церемония надеванья коленкоровых башмаков. Мы натаскивали, натаскивали с Фадеевым, едва натащили. Я не узнал Фадеева: весь в красном, в ливрее, в стоячем воротнике, а лицо на сторону — неподражаем. Он числился при адмиральской каюте с откомандированием, для прислуги, ко мне.
Мы пошли по комнатам: с одной стороны заклеенная, вместо стекол, бумагой рама доходила до полу, с другой — подвижные бумажные разрисованные, и весьма недурно, или сделанные из позолоченной и посеребренной бумаги, ширмы, так что не узнаешь, одна ли это огромная зала или несколько комнат. В глубине комнат сидели, в несколько рядов, тесной кучей, на пятках, человеческие фигуры, в богатых платьях, с комическою важностью. Ни бровь, ии глаз не шевелились. Не слышно и не видно было, дышат ли, мигают ли эти фигуры, живые ли они, наконец? и сколько их! Вот целые ряды в большой комнате, вот две только массивные фигуры седых стариков, в маленьком проходе, далее опять длинные шеренги. Тут и молодые и старые, с густыми и жиденькими косичками, похожими на крысий хвост. Какие лица, какие выражения на них! Ни одна фигура не смотрит на нас, не следит с жадным любопытством за нами, а ведь этого ничего не было у них 40 лет и почти никто из них не видал других людей, кроме подобных себе. Между тем, все они уставили глаза в стену или в пол, и, кажется, побились об заклад о том, кто сделает гримасу глупее. Все, более или менее, успели в этом, многие, конечно, неумышленно. Общий вид картины был невыразим. Я был, как нельзя более, доволен этим странным, фантастическим зрелищем. Тишина была идеальная. Раздавались только наши шаги. «Башмаки, башмаки!» слышу вдруг чей-то шопот. Гляжу — на мне сапоги. А где башмаки? «Еще за три комнаты оставил», говорят мне. Я увлекся и не заметил. Я назад: в самом деле, башмаки лежат на полу. Сидевшие в этой комнате фигуры продолжали сидеть так же смирно и без нас, как прн нас; они и не взглянули на меня. Догоняю товарищей, но отсталых не я один: то тот, то другой наклонится и подбирает башмаки. Наконец, входим в залу, светлее н больше других, с голыми стенами нли ширмами, только справа в стене стоял в нише золоченый большой лук. Знак ли это губернаторского сана нли так, украшение — я добиться не мог. Зала, как и все прочие комнаты, устлана была до того мягкими цыновками, что идешь как по тюфяку. Здесь эффект сидящих на полу фигур был еще ярче. Я насчитал их тридцать. В одно время с нами показался в залу и Овосава Бунгоно Ками Сама, высокий, худощавый мужчина, лет пятидесяти, с важным, строгим и довольно умным выражением в лице. Овосава — это нмя, Бунгоно — нечто вроде фамилии, которая, кажется, дается, как и в некоторых европейских государствах, от владений, поместьев или земель, по крайней мере, так у высшего сословия. Частица но повторяется в большей части фамилий и есть, кажется, не что иное, как грамматическая форма. Ками — почетное название, вроде нашего и кавалер; Сама — господин, титул, прибавляемый сзади имен всех чиновных лиц.
Мы взаимно раскланялись. Кланяясь, я случайно взглянул на ноги — проклятых башмаков нет как нет. Они лежат подле сапог. Опираясь на руку Б. К., которую он протянул мне из сострадания, я с трудом напялил их на ноги. «Нехорошо!» прошептал чуть слышно Б. и засмеялся, слышным только мне да ему, смехом, похожим на гашель. Я, вместо ответа, показал ему на его ноги; они были без башмаков. «Нехорошо», прошептал я в свою очередь. А между тем губернатор, после первых приветствий, просил передать ему письмо и, указывая на стоявший на маленьком столике, маленький же лакированный ящик, предложил положить письмо туда. Тут бы следовало, кажется, говорить о деле, но губернатор просил прежде отдохнуть, бог ведает от каких подвигов, и потом уже возобновить разговор, а сам скрылся. Первая часть свидания прошла, по уговору, стоя. В огдыхальне, как мы прозвали комнату, в которую нас повели и чрез которую мы проходили, не было никого, сидящие фигуры убрались вон. Там стояло привезенное с нами кресло и четыре стула. Мы тотчас же и расположились на них. А кому недостало, те присутствовали тут же стоя. Нечего и говорить, что пришел в отды-хальню без башмаков: они остались в приемной зале, куда я должен был сходить за ннмн. Наконец, я положил их в шляпу и дело так и осталось. За нами вслед, шумной толпой, явились знакомые лица, переводчики, они ринулись на пол и в три ряда уселись, по-своему. Мы завели с ними разговор. «У вас стекол нет вовсе ч рамах?» спросил К. Н. П. «Нет». Молчание. «У вас все дома в один этаж или бывают в два этажа?» спрашивал П. «Бывает в два», отвечал Кичибе и поглядел на Льоду. «И в три», сказал тот и поглядел на Садагора. «Бывает тоже и в пять», сказал Садагора. Мы засмеялись. «Часто у вас бывают землетрясения?» спросил П. «Да, бывают», отвечал Садагора, глядя на Льоду. «Как часто, в 10 или в 20 лет?» «Да и в.10, и в 20 лет бывает», сказал Льода, поглядывая на Кичибе и на Садагору. «Горы разделяются и дома падают», прибавил Садагора. И в этом тоне продолжался разговор.
Вдруг из дверей явились, один за другим, двенадцать слуг по числу гостей, каждый нес обеими руками чашку с чаем, но без блюдечка. Подойдя к гостю, слуга ловко падал иа колени, кланялся и ставил чашку на пол, за неимением столов и никакой мебели в комнатах, вставал, кланялся- и уходил. Ужасно неловко было тянуться со стула к полу в нашем платье. Я — протягивал то одну, то другую руку, и насилу достал. Чай отличный, как желтый китайский. Он густ, крепок и ароматен, только без сахару. Опять появились слуги: каждый нес прибор, лакированную деревянную подставку, с трубкой, табаком, маленькой глиняной жаровней, с горячими углями и пепельницей, и тем же порядком ставили перед нами. С этим еще было труднее возиться. Японцам хорошо, сидя на полу и в просторном платье, проделывать все эти штуки, набивать трубку, закуривать углем, вытряхивать пепел, а нам каково Со стула? Я опять вспомнил угощение Лисицы и Журавля. Хотя табак японский был нам уже известен, но мы сочли долгом выкурить по трубке, если Только можно назвать трубкой эти наперстки, в которые не поместится щепоть нюхательного, не то что курительного табаку. Кажется, я выше сказал, что японский табак чрезвычайно мягок и крошится длинными волокнами. Он так мелок, что в пачке с первого взгляда похож на кучу какой-то темнокрасной пыли. Трудно было нагнуться со стула к жаровне, стоявшей на полу; я хотел взять уголь рукой, но роль Сцеволы оказалась не по мне и я уронил уголь на цыновку; надо было проворно поднять его, чтоб не испортить цыновки, и положить в жарорню, потом дуть на пальцы. Я проклял журавлиное угощение.
Кичибе суетился: то побежит в приемную залу, то на крыльцо, то опять к нам. Между прочим, он пришел спросить, можно ли позвать музыкантов отдохнуть. «Хорошо, можно», отвечали ему и в то же время послали офицера предупредить музыкантов, чтобы они больше одной рюмки вина не пили.
Только что мы перестали курить, явились опять слуги, каждый с деревянным, гладко отесанным и очень красивым, хотя и простым ящиком. Поставили перед нами по ящику: кто постарше, тем на ножках, прочим — без ножек. Открываем — конфекты. Большой кусок чего-то вроде торта, потом густое, как тесто желе, сложенное в виде сердечка. Далее рыбка, из дрянного сахара, крашенная и намазанная каким-то маслом. Наконец, мелкие сухие конфекты: обсахаренные плоды и между прочим морковь. Не правда ли, отчаянная смелость в деле кондитерского искусства? А ничего, не дурно: если, на основании известной у нас в народе поговорки, можно «съесть и обсахаренную подошву», то морковь, конечно, и подавно! Да, взаперти многого не выдумаешь, или, пожалуй, чего не выдумаешь, начиная от вареной в сахаре моркови до пороху включительно!
Наконец, не знаю, в который раз, вбежавший Кичибе объявил, что если мы отдохнули, то губернатор ожидает нас, т. е. если устали, хотел он, верно, сказать. В самом деле устали от праздности. Это у них называется дело делать. Мы пошли опять в приемную залу и начался разговор. Прежде всего сели на принесенные в залу кресла, а губернатор на маленькое возвышение на четверть аршина от пола. Кичибе и Льода оба лежали подле наших стульев, касаясь лбом пола. Было жарко, крупные капли пота струились по лицу Кичибе. Он выслушивал слова губернатора, бросая на него с полу почтительный и, как выстрел, пронзительный взгляд, потом приподнимал голову, переводил нам и опять ложился лбом на пол. Льода лежал все время так и только исподлобья бросал такие же пронзительные взгляды, то на губернатора, то на нас. Старший был Кичибе, а Льода присутствовал только для проверки перевода, и, наконец, для того, что в одиночку они ничего не делают. Кругом, ровным бордюром вдоль стен, ендели на пятках все чиновники и свита губернатора. Воцарилось глубочайшее молчание. Губернатор вынул из лакированного ящика бумагу и начал читать чуть слышным голосом, но внятно. Только он кончил, один старик лениво встал из ряда сидевших по правую руку, подошел к губернатору, стал, нли, лучше, пал на колена, с поклоном принял бумагу, пошел к Кичибе, опять пал на колена, без поклона подал бумагу ему и сел на свое место. После этого вдруг раздался крикливый, жесткий, как карканье вороны, голос Кичибе. Смеяться ои не смел, ио втягивал воздух в себя; гримасам и всхлипываниям не было конца«
В бумаге заключалось согласие Горочью принять письмо. Только было, на вопрос адмирала, я разинул рот отвечать, как губернатор взял другую бумагу, таким же порядком прочел ее, тот же старик, секретарь, взял и передал ее, с теми же церемониями Кичибе. В этой второй бумаге сказано было, что «скорого ответа иа письмо быть не может». Оно покажется не логически, не прочитавши письма, сказать, что скорого ответа не может быть. Так, но, имея дело с японцами, надо отчасти на время отречься от европейской логики и помнить, что ведь это крайний восток.
Пока читали бумаги, я всматривался в лица губернатора и его придворных, занимаясь сортировкою физиономий — на смышленые, живые, вовсе глупые, или только затупелые, от недостатка умственного движения. Было также несколько загадочных, скрытных и лукавых лиц. У многих в глазах прятался огонь, хотя они и смотрели, по обыкновению, сонно и вяло. Любопытно было наблюдать эти спящие страсти, непробужденные и нетронутые желания, вместо которых выглядывало детское притворство или крайняя неловкость. У них, кажется, в обычае казаться при старшем как можно глупее и оттого тут было много лиц глупых из почтения. Если губернатор и казался умнее всех прочих, так это, может быть, и потому, что он был старше всех. А в Едо, верно, и он кажется глуп. Одно лицо забавнее другого. Вон и все наши приятели: Баба Городзаймон, например. Его узнать нельзя; он, из почтения, даже похудел немного. Чиновники сидели, едва смея дохнуть, и так ровно, как будто во фронте. Напрасно я хочу поздороваться с кем-нибудь глазами. Ни Самбро, ни Ойе-Саброскн, ни переводчики не показывают вида, что замечают нас. Впрочем, в их уважении к старшим я не заметил страха или подобострастия. Это делается у них как-то проще, искреннее, с теплотой, почти, можно сказать, с любовью, и оттого это не неприятно видеть. Что касается до лежанья иа полу, до неподвижности и комической важности, какую сохраняют они в торжественных случаях, то, вероятно, это если не комедия, то балет в восточном вкусе, во всяком случае — спектакль, представленный для нас. Должно быть, и японцы в другое время не сидят, точно одурелые, или как фигуры воскового кабинета, не делают таких глупых лиц н не валяются по полу, а обходятся между собою проще и искреннее, как и мы не таскаем же между собой везде караул н музыку. Так думалось мне, и мало ли что мне думалось!
Еще мне понравилось в этом собрании шелковых халатов, юбок и льняі ных мантилий отсутствие ярких и рез-снх красок. Ни одного цельного цвета, красного, желтого, зеленого — все смесь, нежные, смягченные оттенки того, другого или третьего. Не верьте картинкам, на которых японцы представлены какими-то попугаями. И простой народ здесь не похож костюмами на ту толпу мужчин, женщин и детей, которую я видел на одной плантации в Сингапуре. Там я поражен был смесью ярких платьев на малайцах н индейцах и счел их за какое-то собрание птиц в кабинете натуральной истории. Здесь в толпе низшего класса, в большинстве, во-первых, бросается в глаза нагота, как я сказал, а потом преобладает какой-нибудь один цвет, но не из ярких, большею частью синий. В платьях же других высших классов допущены все смешанные цвета, но с большою строгостью и вкусом в выборе их. Пробегая глазами только по платьям и не добираясь до этих бритых голов, тупых взглядов и выдавшихся верхних челюстей, я забывал, где сижу; вместо крайнего востока — как будто на крайнем западе; цвета, как у европейских женщин. Я заметил не более пяти штофных, и то не ярких юбок, у стариков. У прочих, у кого гладкая, серая или дикого цвета юбка, у других темносинего, цвета Adelaide, vert de gns, vert de porame, словом, все наши новейшие модные цвета, couleurs fantaisie, были тут.
Губернатор был в халате и юбке одного цвета, pensée, с темными тоненькими колосками. Мантилья его покроем отличалась от других. У всех прочих спина и рукава гладкие, последние у кисти руки широки, все вместе похоже на мантильи наших дам; у него рукава с боков разрезаны и от них идут какие-то надставки, вроде маленьких крыльев. Это, как я узнал после, полу, парадный костюм, соответствующий нашим виц-мундирам. Скажите, думал ли я, думали ли вы, что мне придется писать о японских модах?
С какой холодной важностью и строгостью в лице, с каким достоинством говорил губернатор, глядя полусурово, но с любопытством, на нас, на новые для него лица, манеры, прически, на шитые золотом и серебром мундиры, на наше открытое н свободное между собой обращение. Мы скрадывали невольные улыбки, глядя, как он старался поддержать свое, истинно японское достоинство. Но это длилось недолго. Вдруг, когда он стал объяснять, почему скоро нельзя получить ответа из Едо, приводя, между прочими причинами, расстояние, адмирал сделал ему самый простой и естественный вопрос, «а если мы сами пойдем в Едо морем, на своих судах, дело значительно ускорится? Мы, при хорошем ветре, можем быть там в какую-нибудь неделю. Как ои думает?» Какая вдруг перемена с губернатором! что с ним сделалось? куда делся торжественный, сухой и важный тон и гордая мина? Его японское превосходительство смутился. Он вдруг снизошел с высоты своего величия, как-то иначе стал сидеть, смотреть. Потом склонил немного голову на левую сторону, и с умильной улыбкой, мягким, вкрадчивым голосом говорил тихо и долго. «Хн, хн, хн!» слышалось только из Кичибе, который, как груда какая-нибудь, образующая фигурой опрокинутую вверх дном шлюпку, лежал, судорожно подергиваясь от этого, всем существом его произносимого хи. Губернатор говори», что «японскому глазу больно видеть чужие суда в других портах Японии, кроме Нагасаки, что ответа мы тем не ускорим, когда пойдем сами», и т. п. Потом начались учтивости. С обеих сторон уверяли, что очень рады познакомиться. Мы не лгали: нам в самом деле любопытно было видеть губернатора, тем более, что мы месяц не сходили с фрегата и, во всяком случае, видели в этом развлечение. Но за г. Овосаву можно было поручиться, «то в нем в эту минуту сидел сам отец лжи, дьявол, к которому он нас, конечно, и посылал мысленно. Говорят, не в пору гость хуже татарина; в этом смысле русские были для него действительно хуже татар. Овосаве оставалось всего каких-нибудь два месяца до отъезда, когда мы приехали. Событие это, т. е. наш приезд, так важно для Японии, что правительство сочло необходимым присутствие обоих губернаторов в Нагасаки. Не правда ли, что Овосава Бунгоно имел причину сетовать на наше посещение?
После размена учтивостей, губернатор встал и хотел было уходить, но адмирал предложил еще некоторые вопросы. Губернатор просил отложить нх до другого времени, опасаясь, конечно, всяких вопросов, на которые, без разрешения из Едо, не знал бы чтб отвечать. Он раскланялся и скрылся. Мы пошли назад. За нами кинулась толпа чиновников и переводчиков. Тут был и Баба Городзаймон. «Здравствуй, Баба!» сказал я, уж не помню, на каком языке. Он приветливо кивнул головой. Тут мы видели его чуть ли не в последний раз. Его в тот же день услали с нашим письмом в Едо. Он был счастлив: он тоже отслужил годичный срок и готовился уехать с губернатором к семейству, в объятия супруги, а может быть и супруг: у них многоженство не запрещено.
Проходя через отдыхальню, мы были остановлены переводчиками. Они заступили нам дорогу и просили — покушать. В комнате стоял большой, прекрасно сервированный стол, уставленный блюдами, бутылками всех форм, т. е. мадерой, бордо, и чего-чего там не было! Все на европейский лад: вероятно, стол, посуда и вина, а может быть и кушанья — взяты были у голландцев Адмирал приказал повторить свое неизбежное условие, т. е. чтобы губернатор участвовал в завтраке. Кичибе кланялся, разводил руками, давился судорожным смехом и все двигался к столу, усердно приглашая и нас. Другие не отставали от него, улыбались, приседали — все напрасно. Мы покосились на завтрак, но твердо прошли мимо, не слушая переводчиков. Едва мы вывели на крыльцо, музыка заиграла, караул отдал честь полномочному, и мы, в прежнем порядке, двинулись к пристани».
Заметим еще статью г. Фесуна: «Каллао и Лима» (№ 7) — интересную уж по одному тому обстоятельству, чтб со времен капитана Головнина, посетившего Перу в 1818 году, в этой стране еще не был ни один русский военный корабль, до фрегата «Авроры», в числе офицеров которого находился автор рассказа, представляющего некоторые любопытные подробности о состоянии Перу и столицы этого государства.
Из множества разнообразных статей, помещенных в «Смеси», укажем постоянные свежие и очень дельные известия о флотах важнейших морских держав, особенно Англии и Франции, о всех новейших улучшениях в кораблестроении, также выписки из статей иностранных газет о различных военных действиях союзных флотов в настоящую войну.
В библиографии помещены рецензии новейших русских и иностранных сочинений по морской части; из них заслуживает особенного внимания подробный разбор сочинения английского генерала Дунсаса «О морской артиллерии».
Оканчивая наш отчет о первых девяти книжках «Морского Сборника» за текущий год, повторим, что, по общему суждению всех своих читателей, этот журнал в настоящее время столько же превосходит все остальные наши специальные периодические издания по своему достоинству, как и по объему. А внимательное рассмотрение его массивных книжек убеждает в том, что редакция, стараясь исполнить высокую волю его императорского высочества, великого князя Константина Николаевича, деятельно и успешно заботится о всевозможном усовершенствовании «Сборника», успевшего уже занять почетное место в русской ученой литературе.
18 5 5 БИБЛИОГРАФИЯ <ИЗ № 3 «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК»)
Осада и взятие Византии турками. Историческое исследование М. Стасюлевича. Санктпетербу рг.
1854. В 8 д. л. 112 стр.
Имя г. Стасюлевича, мало знакомое публике, довольно хорошо известно специалистам, потому что он успел издать несколько исследований и напечатать в одном из наших журналов несколько рецензий, которые все отличались одинаковыми качествами '. Нам очень приятно было увидеть, что в новом его исследовании эти качества достигли еще большего развития, так что сделались достойными внимания не только людей, посвятивших себя историческим трудам, но и всех вообще читателей.
Первая и интереснейшая из особенностей, поражающих в новом произведении г. Стасюлевича, — оригинальность воззрений. Поводом к составлению исследования об осаде и взятии Византии турками была для него мысль, будто бы «Византия доселе остается загадкою во всемирной истории». До сих пор никто этого не предполагал. Все знали, что об истории Византийской империи выходит менее сочинений, нежели, например, об истории древней Греции или древнего Рима; но- причиною этого было то, что история Византии, представляющая гораздо менее затруднительных вопросов, нежели история какого бы то ни было другого государства, гораздо менее нуждается в глубокомысленных исследованиях. Другою причиною надобно считать то, что во всемирной истории Византия не имеет той важности, как Рим или Афины. Наконец, есть и третья причина, прямо противоположная тому, что предполагает г. Стасюлевич: очень немного найдется отделов всемирной истории, по которым существовали бы такие классические сочинения, как для истории Византийской империи. Одним словом, византийская история гораздо менее затруднительна и гораздо лучше объяснена, нежели другие отделы древней или средневековой истории: удивительно ли после того, что нынче ученые исследователи охотнее обращают свои силы на объяснение египетской, персидской, афинской или римской истории, нежели византийской? Но и Византия не забыта: ежегодно выходят прекрасные труды по этой части. Каждый, следящий за историческою литературою, знает их.
Г. Стасюлевич, однакож, хочет считать Византию «загадкою в истории», находит полезным выводить относительно самых понятных событий византийской истории «совершенно новые результаты», уверяя, что до появления его сочинения все было понимаемо «превратно». Итак, г. Стасюлевич хочет быть Шампольйо-ном, Нибуром византийской истории? Роль очень завидная, но для выполнения ее нужно много условий, из которых первое — основательное изучение предмета, без чего нельзя избежать промахов. Мы считаем нужным взглянуть на эту сторону труда его прежде, нежели займемся рассмотрением «совершенно новых результатов», до которых дошел исследователь византийской истории. Взглянем на пособия, при которых воздвигается новое здание: это уж даст нам возможность предугадывать его прочность.
Положим, что все нынешние понятия о Византии «превратны»; но сам г. Стасюлевич, вероятно, согласится, что в определении византийских мер и весов никакой «превратности» быть не может: как ни судите о какой-нибудь стране, все-таки надобно будет сказать, что русская верста равна 500 саженям, французский километр немного менее русской версты, и т. д.; тут нет места «превратностям».
Как велика была окружность стен Константинополя во время осады? Сам г. Стасюлевич приводит в примечании цифры, сообщаемые византийскими историками, — 111 стадий или 18 миль. Стадия имела около 80 сажен; на нашу версту приходилось 6 стадий; миля византийская равнялась нашей версте; итак, 18 миль— то же, что 18 верст: 111 стадий равны 18 верстам без 80 сажен. Но г. Стасюлевич на той же самой странице (73-й), где выставлено это примечание, говорит, что окружность стен Византии равнялась 50–60 верстам, ссылаясь в подтверждение на цифры примечания, говорящие об 18 верстах. Эту ошибку можно объяснить так: вероятно, г. Стасюлевичу попалось во французском переводе какое-нибудь английское сочинение, говорящее, что окружность Византии была 12–15 миль, то есть английских; он справился о величине мили, и ему попалась французская миля, равняющаяся 4 верстам. Таким образом английские мили, превратившись во французские, увеличили для г. Стасюлевича объем Византии в три раза. Положим, что можно не знать величину византийской, не помнить величину английской мили; но как же не знать величину греческой стадии? Она объясняется в учебнике г. Смарагдова… В вознаграждение за увеличение объема, умень-шилось число жителей Византии; все историки (в том числе и Карамзин, говоря о взятии Византии в V томе своей «Истории») согласны, что в Константинополе, при его падении, было, по крайней мере, 100 тысяч жителей, а по всей вероятности, гораздо более. Г. Стасюлевич утверждает, что «народонаселение Византии могло превышать не более (то есть не могло превышать?) как 20 тысяч» (стр. 24). Этого числа не мог он найти нигде и вывел его собственными соображениями. Он мог бы вспомнить при этом, что странно давать городу, имеющему объем 50–60 верст, по его мнению, то есть объем Лондона, народонаселение уездного города. Мог бы также он вспомнить, что (на стр. 66) сам говорит: «нынешний Константинополь, по своим пределам, мало отличается от прежней Византии»; а по свидетельству «Месяцослова» на 1855 год, в Константинополе считается более 800 000 жителей. Не вспомнив о том, что по взятии Константинополя турки захватили себе в рабство более 60 000 его жителей (а большая часть жителей осталась свободными; десятки тысяч были убиты, тысячи должны были умереть во время осады) — не вспомнив об этом, он не противоречит себе, потому что этого факта (противоречащего понятию о кротости Мухаммеда II) нет в его книжке.
Как велико было число защитников осажденного города? «Византия была защищаема 5 000 гарнизона», утверждает постоянно г. Стасюлевич; но в одном месте, по обмолвке, он говорит: «гарнизон осажденного города состоял менее нежели из 7 000 человек» (стр. 73); между тем, число это положительно известно, и последнее показание близко к истине. Возвратимся, однако, к мерам и весам. У Мухаммеда II была огромная пушка, из которой, по свидетельству греческих историков, стреляли каменными ядрами в 1 100 фунтов (27Ѵг пудов) весу и выстрелы которой были слышны за 100 стадий (17 верст). Г. Стасюлевич полагает, что эти цифры равны 36 пудам и 50 верстам (стр. 14). Как 100 стадий обратились в 50 верст, легко понять; опять во французском переводе английского сочинения г. Стасюлевич нашел 12 миль (английских) и, превратив их во французские, получил 50 верст. Еще два примера. Мухаммед II построил мост или плотину в 50 локтей ширины, во 100 локтей длины. Г. Стасюлевич превращает локти в футы (стр.,83). При восшествии на престол Мухаммед II клялся платить Византии 300 000 аспр дани; тогда аспра равнялась 5 коп. серебром, и, следовательно, дань равнялась 15 000 Р. серебром, но г. Стасюлевич думает, что величина дани равнялась 3 325 р. серебром (стр. 56, примечание), смешивая аспру XV века с аспрою XVII или XVIII века. Наконец, последний пример: были ль у турок фрегаты в XV веке? Каждому известно, что о судах, подобных величиною не только нынешнему фрегату, но и корвету, не имели тогда понятия; тогда были только галеры — очень маленькие суда, сравнительно с нынешними. Но г. Стасюлевич находит у Мухаммеда II целыми десятками не только фрегаты, но и линейные корабли (быть может, даже винтовые пароходы, во 120 пушек?). Вот его слова: «турецкая эскадра, состоявшая из 30 линейных кораблей… Другая эскадра состояла из 18 линейных кораблей и 48 фрегатов» (стр. 69). И г. Стасюлевичу не кажется странно, что этот флот, имевший 48 линейных кораблей, 48 фрегатов и «более 300 других судов», был побежден четырьмя или пятью генуэзскими галерами? Дело в том, что местные линейные корабли и фрегаты были в сущности небольшие галеры, а остальные суда — просто лодки. Ведь сам г. Стасюлевич рассказывает, что эти линейные корабли и фрегаты были перетащены через перешеек, шириною в 8 или 10 верст: из этого мог бы он судить о их величине, если ему не случилось вспомнить значения греческих слов «триира» и «диира».
Можно после этого предположить, до какой степени точно изложение фактов у г. Стасюлевича, если он так аккуратен даже в цифрах, не требующих никакого соображения. Но мы думаем, что уж довольно привели примеров степени знакомства автора с византийскими древностями, и что об основательности капитальных преобразований, которые он вводит в византийскую историю, можно судить по удаче, с какою исправляет он «превратные» понятия даже о столь, повидимому, непреложных вещах, как м^ры, весы и вообще математические данные. Если геометрия и корабельная архитектура подвергаются преобразованиям, то какая судьба ждет хронологию и вообще исторические факты, столь слабые сравнительно с математическими фактами?
Какое понятие имеете вы, читатель, о характере Мухаммеда II? Не правда ли, вы всегда думали, что он был мусульманин? Вы ошибаетесь; оставьте это «превратное понятие». Г. Стасюлевич отчасти намекает, что Мухаммед II был втайне христианин; вот его подлинные слова: «Магомет II был сын христианской рабыни; его мачеха, сербская принцесса (как? у турок бывают даже мачехи?), была также ревностною христианкою. Эти два обстоятельства не остались без влияния на его религиозные убеждения», и т. д. (стр. 53): после этого вы не удивитесь, что, по мнению г. Стасюлевича, Мухаммед II был кроток, миролюбив, правдолюбив, враг всяких завоеваний и всякой хитрости. Странно только то, что на каждой странице у г. Стасюлевича вырываются фразы, противоречащие такому описанию. О том, что все факты, излагаемые в его книге, противоречат его понятию о Мухаммеде II, мы не говорим; что нам за дело до фактов? Мы ищем только художественной последовательности в поэтической стороне «Осады и взятия Византии турками». Заметим, однако, что, доверяя каждому слову византийского историка Францы, г. Стасюлевич мог бы пожалеть об этом бедном отце, сын которого был зарезан Мухаммедом II по причинам, вовсе не делающим чести «прекрасному воспитанию» Мухаммеда II: ведь Франца рассказывает этот случай довольно ясно. Вспомнив этот поступок Мухаммеда II, г. Стасюлевич поверил бы и рассказу о причине гнева этого доброго завоевателя на Луку Лотару, который не согласился пожертвовать своим сыном. Мы не хотим выставлять Мухаммеда извергом; но он был истинный турок XV века; вспыльчив, славолюбив, коварен и не щадил никого и ничего для удовлетворения своим страстям, из которых первая была страсть к завоеваниям.
Но г. Стасюлевич делает неожиданное открытие: Мухаммед II был миролюбив: он не любил завоеваний; он со слезами на глазах, с горестью в душе решился на завоевание Константинополя, будучи вынужден прискорбною необходимостью к такому противному его правилам делу, как война. Во взятии Византии виноват не он. Кто же? — латинцы: они довели нежного Мухаммеда II до печальной крайности обнажить меч для собственного спасения. Он только защищался, а не нападал… И вы думали до сих пор, что Мухаммед И, осаждая Константинополь, хотел разрушить последний остаток завоеванного греческого царства, что он отнял Византию у греков? Это самое «превратное» понятие! Мухаммед, осаждая Византию, воевал с «латинцами» (которые, впрочем, были его союзниками и помогали ему в это время), а не с греками; он отнимал Византию не у Константина Палеолога, а у «латин-цев». Вообще, не Мухаммед И, а «латинцы» хотели завоевать Византию. В этом состоят «совершенно новые результаты», излагаемые г. Стасюлевичем. Вот небольшой отрывок, которому подобные найдутся на каждой странице его книжки:
«При ясном взгляде Магомета II на вещи нельзя было не понять, чтѳ дело идет вовсе не о независимости Византии, что вопрос состоит не в том, быть или не быть Византии независимою? Его опытность и примеры прошедшего убедили, что козням латинцев не будет конца, что они вечно будут хлопотать о независимости Византии, пока не овладеют ею сами. Магомет II сознавал, что латинцы ищут господства на Востоке, и решился предупредить их» (стр. 61).
Вообще, дело происходило следующим образом: турки жили в мире с греками; но явились в Византию латинцы — и Мухаммед II отнял у них Константинополь. Союз Константина Палеолога с латинцами был причиною разрыва искренней дружбы, связывавшей Византийскую империю с Мухаммедом II. Г. Стасюлевич следует в порядке изложения своим соображениям, не связываясь хронологическою последовательностью событий. Мы восстановим хронологию, и после этого нам не нужно будет разбирать, справедлив или нет «совершенно новый результат», до которого дошел г. Стасюлевич.
1450 года, 12 марта вступает на византийский престол Константин Палеолог, «обязанный (по выражению г. Стасюлевича) своим престолом ненависти к латинцам», ненавидевший «латинцев» и искренно желавший мира с турками. Греки так ненавидят «латинцев», что на каждой странице у г. Стасюлевича говорят: «мы лучше хотим жить под турецким игом, нежелц в союзе с латинцами». Пока жив султан Мурат, по справедливому отзыву г. Стасюлевича, «честный и справедливый» — мир Византии с турками прочен. Ненавидимых латинцев нет и следа в Византии.
1451 года, 9 февраля вступает на престол Мухаммед II — по словам Галиль-паши, дававшего искренние советы греческим послам, «завоеватель,'презирающий все договоры, пренебрегающий всеми затруднениями» (слова, которые г. Стасюлевич с большою выгодою для своего «результата» выпускает из речи Галиль-паши). Сначала он занят возмущением в Малой Азии, но тотчас, по усмирении бунта, прекращает платеж условной дани византийцам и прогоняет византийских сборщиков податей из Стримон-ской области, объявляя, что не намерен обижать Византию.
1452 года, в марте он строит на европейской стороне Босфора, близ самого Константинополя, на участке земли, принадлежащем предместью Галате, сильную крепость, не обращая внимания на мольбы Константина Палеолога, который напрасно посылает ему подарки. Византия в отчаянии. В августе крепость готова.
1452, сентябрь. Мухаммед готовится к осаде Византии.
1452, ноябрь. «Латинцы» являются в Византию (сам г. Стасюлевич говорит, что в ноябре, не ранее; через восемь или девять месяцев после построения крепости, которая должна была служить Мухаммеду точкою опоры, при осаде; см. стр. 35), 12 декабря заключен союз с «латинцами». Греки негодуют на этот союз; сам Константин решается на него с величайшим прискорбием, только потому, что необходимо иметь хотя откуда-нибудь помощь против страшного врага (все это говорит и г. Стасюлевич на стр. 35 и след.).
1453 год. Приготовления к осаде кончены. Войско Мухаммеда под стенами Византии.
Кажется, ход дела ясен. Тотчас по укрощении мятежников Мухаммед II начинает неприязненные действия против Византии; через полгода с лишком после начала неприязненных действий Византия заключает союз с «латинцами». Но г. Стасюлевич сначала рассказывает о союзе с «латинцами» (стр. 34–44), а потом о неприязненных действиях Мухаммеда II (стр. 57 и след.); таким образом, по его изложению, действительно кажется, будто бы сначала был заключен союз с латинцами, потом начались неприязненные действия турок. Если подобным образом рассказать сначала взятие русскими Парижа и потом бородинскую битву, то, конечно, можно вывесть результат, что наполеонов поход на Москву был следствием взятия русскими Парижа.
Мы не считаем нужным доказывать, что, не обращая внимания на хронологическую последовательность событий и правдоподобие «совершенно новых результатов», до которых доводит произвол, г. Стасюлевич также мало обращает внимания и на критическую оценку тех известий, которые кажутся ему ведущими к желаемому
результату. Он произвольно берет из византийских летописей все, что ему нравится, произвольно отбрасывает все факты и объяснения, противоречащие его заранее составленному взгляду. Поступая подобным образом, можно доказывать все, что угодно; можно доказывать, что Александр Македонский пошел против персов не потому, что хотел разрушить Персидское царство (напротив, он желал всякого счастия Дарию), а только потому, что был вынужден к тому опасением распространения индийского могущества на Востоке; дело шло вовсе не о независимости Персе-поля, а только о том, кому владеть Персеполем: Пору или Александру, индийцам или македонянам. Понимая своим ясным умом такое положение вопроса, Александр решился предупредить Пора и переправился через Граник. Точно так же можно доказывать, что римляне взяли Карфаген не потому, что хотели овладеть им, а только для того, чтобы предупредить египтян, которые также (будто бы) хотели завладеть Карфагеном. Все эти «совершенно новые результаты» будут иметь прочность совершенно одинаковую с выводами, которых достигает г. Стасюлевич 2.
Крым с Севастополем, Балаклавою в другими его городами. Санктпетербу рг, 1855. В 16 д. л.
191 стр.
Книжка, составленная недурно. К ней приложены очень чисто вырезанные на дереве виды Севастополя и Балаклавы и карта Севастополя с окрестностями, показывающая расположение русских и неприятельских войск, вырезанная довольно плохо.
Цветок иа могилу певца в стане русских воинов. Сочинение А. Иевлева. С.-Петербург. 1854. В 16-ю д. л. 51 стр.
Не много людей, так щедро наделенных прекрасными дарованиями, как г. Иевлев. Он сам говорит:
«Умом и чувством и душою Меня создатель наделил Как своей милостью святою И, благ податель, одарил По всемогущей своей воле Уменьем мыслить, рассуждать.
Уменьем думой забавляться.
Любви и чувству предаваться И сладко плакать и мечтать».
Сверх того, г. Иевлев получил и прекрасное воспитание:
«Отец и мать меня учили Быть добродетельным, прямым.
Чтоб в жизни все меня любили И обходились, как с родным», н проч.
Описать себя подобным образом — значит, по мнению г. Иевлева, ^сочинить цветок на могилу певца в станс русских воинов».
<ИЗ № 1 «СОВРЕМЕННИКА»>
Мелочи из запаса моей памяти. М. Дмитриепа
Москва. 1854
Записки г. М. Дмитриева, в которых сохранено так много интересных и даже довольно много важных воспоминаний, обращали на себя вполне заслуженное внимание журналов, когда помещались отрывками в «Москвитянине». Все отдали должную справедливость их занимательности, живости; все хвалили и благодарили почтенного автора за то, что он поделился с публикою своими воспоминаниями о Карамзине, И. И. Дмитриеве, других писателях карамзинской эпохи, которых коротко знал, и прежних литераторах, рассказы о которых слышал от своего дяди. С другой стороны, были замечены г. Дмитриеву и недостатки, которыми он без всякой надобности обременил свои записки, — враждебные выходки против Н. А. Полевого (вероятно, за то, что когда-то Полевой написал разбор сочинений И. И. Дмитриева, в котором было высказано основательное суждение о степени поэтической гениальности этого замечательного сподвижника Карамзина) и неприязненное расположение к современной литературе за то, что ныне пишут не таким слогом, какой нравится почтенному автору в сочинениях Иванчина-Писарева, Грамматина, Измайлова и других. В одном из журналов подробно были указаны и мелочные погрешности в числах годов/й заглавиях книг, встречающиеся иногда у г. М. Дмитриева и неизбежные в заметках, писанных на память. Не считая нужным повторять здесь эти замечания, сделанные еще так недавно «Современником» и другими журналами, мы хотим сказать несколько слов о мыслях, которые вызываются взглядом на воспоминания г. М. Дмитриева, как вполне законченную книжку, в которой автор передал все, что мог передать «из запаса своей памяти».
Все люди, занимающиеся историею русской литературы, жалуются на чрезвычайную скудость биографических известий о наших старых писателях. Все, что нам известно о жизни Ломоносова или Державина, составит не более как очень тощую брошюрку. О Фонвизине князь Вяземский издал довольно большой том; недавно вышла отдельная книжка или даже книга о Сумарокове; но из этого не должно заключать, чтобы нам было известно много о жизни этих писателей: большая половина названных нами монографий занята выписками из сочинений Фонвизина и Сумарокова ', разбором их литературной деятельности, общими рассуждениями о современной им эпохе; собственно биографических
подробностей вовсе немного. Потому историки нашей литературы осуждают своих предшественников, чрезвычайно немногочисленных, за то, что они «так мало заботились о сохранении для потомства живой и полной характеристики замечательных деятелей^ нашей литературы». Это правда, наши старики не записали почти ничего о современных им литераторах. Но, быть может, они в этом случае были не совсем неправы — ведь говорят же немецкие философы, что каждый исторический факт_.илі££і^с5а£_основание,
очень удовлетворительное: вероятно, и молчание современников
о Тредиаковском, Сумарокове и Хераскове имеет св«<и очень основательный, причины. В таком предположении утверждает нас и книжка гС М. Дмитриева. На заглавном ее листе напечатан огромный список литераторов, о которых в ней говорится: тут выставлено не менее сорока четырех имен, и между тем, вся книга заключает в себе не более 174 страниц. А большую часть из этих сорока четырех литераторов г. М. Дмитриев знал лично, со многими был в тесной дружбе. Как все воспоминания об этих людях составили только десять печатных листов? Отчего это?
Достаточно взглянуть на содержание воспоминаний г. М. Дмитриева, чтобы убедиться, что о многих «более было писать нечего». Что, например, припоминает г. М. Дмитриев о Хераскове? То, что он главным достоинством стихов почитал гладкость, и что был с ним вот какого рода случай:
«Однажды Василий Львовнч Пушкин (дядя А. С. Пушкина), бывший тогда еще молодым автором, привез к Хераскову свои новые стихи. — Какие? спросил Херасков. — «Рассуждение о жизни, смерти и любви», отвечал автор. Херасков приготовился слушать со всем вниманием и с большою важностью. Вдруг начинает Пушкин:
Чем я начну теперь? Я вижу, что баран Нейдет тут ни к чему, где рифма барабан!
Вы лучше дайте мне зальцвасеру стакан,
Для подкрепленья силі Вранье не алкоран, и т. д.
Херасков чрезвычайно насупился и не мог понять, что это такое? — Это были буриме, стихи на заданные рифмы. Важный хозяин дома и важный поэт был недоволен этим сюрпризом, а Пушкин очень оробел. Дядя мой сказывал, что это было очень смешно».
Неудавшаяся шутка В. Л. Пушкина могла подать повод к очень забавной сцене в биографиях и-мемуарах — охотно тому верим; но если характеристические черты поэтов должны были ограничиваться подобными анекдотами, то очень легко понять, что никому не приходило охоты тратить на них время и бумагу.
Не г. Дмитриева также вина, если он гораздо подробнее, нежели о других писателях, говорит о графе Хвостове и наивном
В. Л. Пушкине, над которыми все подшучивали, — историк рассказывает о том, что занимало людей известной эпохи, и что же делать, если в эпоху, описываемую г. М. Дмитриевым, литераторы чрезвычайно занимались более или менее остроумными на-
смешками над бедным гр. Хвостовым и простодушным В. Л. Пушкиным. Прочтем следующее место:
«Вот как принимали в члены Арзамасского Общества Василья Львовича Пушкина. Пушкина ввели в одну из передних комнат, положили на диван и навалили на него шубы всех прочих членов. Это значило, что иово-принимаемый должен вытерпеть, как первое испытание, шубное прение, то есть преть под этими шубами. Второе испытание состояло в том, что, лежа под ними, он должен был выслушать чтение целой французской трагедии какого-то француза, петербургского автора, которую и читал сам автор. Потом, с завязанными глазами, привели его в комнату, которая была перед кабинетом. Кабинет, где были собраны члены, был ярко освещен, а эта комната оставалась темною и отделялась от него яркою огненною занавескою. Здесь развязали ему глаза, и ему представилось чучело, огромное, безобразное, устроенное на вешалке для платья, покрытое простынею. Пушкину объяснили, что это чудовище — дурной вкус; подали ему лук и стрелы и велели поразить чудовище. Пушкин (надобно вспомнить его фигуру: толстый, с подзобком, задыхающийся и подагрик) натянул лук и упал, пустив стрелу, потому что за простыней был скрыт мальчик, который выстрелил в него из пистолета холостым зарядом и повалил чучело. Потом ввели Пушкина за занавеску и дали ему в руки эмблему Арзамаса, мерзлого арзамасского гуся, которого он должен был держать в руках во все время, пока ему говорили длинную приветственную речь. Речь эту говорил, кажется, Жуковский. Все это происходило в 1816 или 1817 году»2.
«Так забавлялись в то время люди, которые были уже не дети, но все люди известные, — прибавляет г. М. Дмитриев. — Никто не считал в то время предосудительным шутить и быть веселым; тогда не считали нужным педантическую важность, убивающую природную веселость!» Все это прекрасно и интересно, но зачем г. М. Дмитриев, рассказывая подобные анекдоты, прибавляет, что в то время более уважали литературу, нежели ныне, что даже Гоголь не пользуется ныне такою известностью, какою прежде пользовался кн. Шаликов, потому что «тогда смотрели на словесность, как на самое благородное занятие, а нынче смотрят, как на гаерство пустых людей»? Граф Хвостов главное лицо в воспоминаниях г. Дмитриева, очень верно отражающих тогдашнюю литературную жизнь; наш автор не менее десяти раз возвращается к гр. Хвостову; начнет говорить о каком-нибудь литераторе, напишет несколько строк — и видит, что без гр. Хвостова никак нельзя обойтись, потому что литератор, которого хочет изобразить почтенный автор «Мелочей», более всего любил говорить о гр. Хвостове, всего лучше острил над гр. Хвостовым! Потому без воспоминаний о гр. Хвостове нет воспоминаний о русской литературе до Пушкина. Говоришь ли об Арзамасском Обществе — нельзя не сказать, что «в речах, произносимых членами, много упоминался известный гр. Хвостов» — следуют анекдоты о нем. Говоришь ли о журнале «Друг просвещения» — опять нельзя не упомянуть о том, как гр. Хвостов сел в карету вместе с слушателем, бежавшим от чтения его стихов. Говоришь ли о Дмитриеве — опять надобно сказать, как правдиво и вместе деликатно высказывал он гр. Хвостову свое мнение о его произведениях: «ваша ода ни в чем не уступает старшим сестрам своим!» Говоришь ли о Мерзлякове— необходимо упомянуть, что он поссорился с Дмитриевым, приняв на свой счет эпиграмму:
Подзобок на груди, и подогнув колена Наш Бавий говорит, любуясь сам собой:
Отныне будет всем поэтам модным смена:
Все классики уже переводимы мнойі и т. д.
и объяснить, что «хотя этот портрет был похож на Мерзлякова, который тогда переводил греческих классиков, но эпиграмма написана была на гр. Хвостова, который переводил французских классиков». Одним словом, без Хвостова не существует ничто в старинной литературе.
В самом деле, литература того времени была более забавою, чем делом. Несколько человек, одаренных талантом, писали потому, что чувствовали призвание писать; но этих людей, если не ошибаемся, нельзя насчитать много в течение ста лет, прошедших от Кантемира до Пушкина. И даже из этих немногих не все понимали, что литературная деятельность — высокое призвание служить на пользу общую. Что остается затем? Сумароков и другие труженики, не имевшие даже никакого таланта, но имевшие самолюбие и желавшие приобресть знаменитость стихами, как другие приобретали знаменитость роскошными обедами, светскостью, причудами. Но, повторяем, литература ни для кого, кроме немногих, не была целью жизни. Это было сказано очень давно 3 и часто повторялось до тех пор, пока «не разорвалась (по выражению г. М. Дмитриева) цепь преданий» между прежними и нынешними критиками, пока не было отыскано в старой русской литературе и самостоятельности, и занимательности, и всех тех качеств, которыми она никогда и не думала хвалиться. От писателей перейдем к публике. Смотрела ли в старину публика на литературу как на дело серьезное, имеющее существенную важность? Была ли хотя просто привычка к чтению? Гораздо менее, нежели теперь. Этим сказано уж очень многое для людей, которые в самом деле чувствуют, что литература сделалась существенною потребностью их жизни. Всех русских писателей, начиная с Кантемира и Ломоносова до Пушкина и Гоголя включительно, не разошлось у нас столько экземпляров, сколько Шиллера или Вальтер-Скотта между их соотечественниками. Не слишком гиперболически выразились бы мы, сказав, что каждая русская книга есть библиографическая редкость; библиоманы перепечатывают старинные книги, сделавшиеся очень редкими, в числе десяти или двадцати пяти экземпляров. Все русские издания имеют этот характер. Русская литература могла бы носить имя, которое Жуковский избрал заглавием одному из собраний своих стихотворений: «Для немногих» 4. Что же было пятьдесят, семьдесят лет тому назад? Русская публика состояла из нескольких сот чело-
век. Имела ли какое-нибудь влияние старая русская литература на общество? В ответ приведем слова кн. Вяземского (из pro сочинения о Фонвизине): «Напрасно старался я, — говорит он, — отыскать какие-нибудь следы влияния комедий Фонвизина на общество: этого влияния решительно не существовало». Мы выбрали Фонвизина как самый резкий пример. Ощутительно влияние литературы на общество началось только с «Московского Телеграфа» — каковы бы ни были недостатки этого журнала, нещадно поражаемые г. М. Дмитриевым, должно признаться, что он знакомил своих читателей с современными понятиями в науке и литературе. До того времени, если на публику нашу (повторяем, тогда чрезвычайно малочисленную) имели какое-нибудь влияние книги, то не оригинальные, а переводные. История переводной литературы, к сожалению, представляющая в настоящее время очень много затруднений по необработанности материалов, была бы едва ли не интереснее истории оригинальной литературы старого времени.
Одним словом, русская литература не занимала серьезно публики, очень малочисленной; узкость кружка писателей в свою очередь была чрезвычайна; удивительно ли после того, что она оставила о себе мало известий? В летописи вносится только то, чем интересуется общество. Говоря это, мы не думаем утверждать, что исследования о старинной литературе, которыми занялись теперь с большею ревностью, нежели когда-нибудь, недостойны величайшего внимания. Каково бы ни было наше понятие о настоящем положении русской литературы, нет сомнения в том, что она стала предметом, интересующим очень многих, получила некоторую важность для общества, стала занимать некоторое место в истории нации. А как скоро известное явление становится достойно внимания истории, логическая необходимость требует, чтоб исследованы были все предыдущие степени его развития, от самых первых его зачатков. Сами по себе периоды эти, быть может, и не заслуживали бы особенного внимания, но значительность последующего развития заставляет исследовать его зародыши. Так детство замечательного человека становится предметом нашего любопытства, хотя само по себе не представляет ничего замечательного.
Как бы то ни было, история русской оригинальной литературы до Жуковского и Пушкина должна занимать, вместе с характеристикою развития переводной литературы, чрезвычайно важное место в истории русского просвещения вообще, в истории общественных нравов и понятий. Нельзя отказать многим писателям XVIII века в почетном месте — в общей анекдотической истории русского общества, потому что в числе их были люди очень замечательные по благородству и энергии характера. Память некоторых наших писателей прошлого века всегда будет нам так же священна, как память других деятелей на пользу просвещения
и других благ национальной жизни 5. Во всяком случае, исследования о старых наших писателях не могут не иметь большой важности, не могут не приносить очень большой пользы, хотя бы даже результатом их были вовсе не те выводы, каких надеются достичь многие изыскатели, хотя бы обстоятельное исследование всех этих 9 934 сочинений и изданий, означенных в каталоге Смирдина G, и привело нас к тем же мыслям, какие возбуждаются чтением «Мелочей» г. М. Дмитриева. Вопрос возбужден, следовательно, требует полного и основательного разъяснения, и чем ревностнее будут над ним трудиться, тем более выиграет истина, хотя и нельзя думать, чтоб исследования открыли какие-нибудь сокровища, неизвестные историкам русской литературы, говорившим, что все, бывшее до Пушкина, было только приготовлением к литературе в настоящем смысле слова, что существенное значение оригинальной литературной деятельности нашей до двадцатых годов текущего столетия состояло в приготовлении читателей, в образовании некоторой массы публики, с некоторою любовью к чтений), с некоторым эстетическим чувством 7. Так или нет, вопрос об этом теперь сильно затронут, и чем скорее и об-стоятельнеё разрешится он, тем лучше. Потому, повторяем, нельзя не благодарить людей, которые, подобно г. М. Дмитриеву, делятся с нами материалами для его разрешения.
Московская самоварнида. Сочинение Петра Мед… а.
Москва. 1854
Русская литература в 1854 году представила много поразительных явлений. Читателями нашими, вероятно, еще не забыты «Любовь Поэта», «Каритан», «Диагор» и множество других произведений подобного качества '. «Московская самоварница» по времени появления в свет последняя в ряду этих произведений 1854 года, столь скудного розами и другими благоуханными цветами и столь обильного дикорастущими репейниками, но она далеко не последняя в ряду их по своим достоинствам. «Московскую самовариицу» прочитают с удовольствием люди, которые до сих пор принуждены были довольствоваться знаменитым некогда і романом «Разгулье купеческих сынков в Марьиной роще, или, наши гуляют!» А. А. Орлова. Увы, какие грустные мысли рождаются при этом воспоминании! Кто, кроме немногих избранных, помнит теперь имя А. А. Орлова, которого считал достойным бессмертия сам Пушкин? 2 А со времени смерти плодовитого романиста протекло не более десяти лет! Увы, скажем, подражая знаменитому восклицанию Гамлета, еще не засохли чернила на дивном пере А. А. Орлова, а мы уж забываем его! И кто позаботился сохранить для нас биографические известия об этом столь замечательном писателе? Никто, никто! Вот как мы дорожим памятью знаменитого некогда сатирического писателя. Да, ни
похвалы Пушкина, ни неоспоримое родство и таланта, и заглавий с одним известным сочинителем нравственно-сатирических романов — ничто, ничто не могло спасти А. А. Орлова от забвения.
Река времен в своем теченьи
Уносит все дела людей… 3
как сказал Державин. Почему эта мысль не остановила г. Петра Мед — ва? Неужели он думал, что «Московская самоварннца» прославит его имя, когда гениальное «Разгулье купеческих сынков в Марьиной роще» не доставило бессмертия своему автору? Мы не напрасно сравниваем эти два произведения: основная идея в них одна и та же — изображение подмосковных гуляний; даже место действия одно — Марьина роща; и когда мы расскажем содержание «Московской самоварницы», читатели увидят, что г. Петр Мед — ъ не назвал своего романа «Разгулье в Марьиной роще» только потому, что это заглавие было уже употреблено прежде А. А. Орловым.
У автора был разочарованный приятель Алексей, думавший от сплина застрелиться и уехать за границу. Но автор сказал ему, что в жизни есть много очаровательного, между прочим Настя, невинная красавица, промышляющая продажею чая и прочего в Марьиной роще гуляющим купеческим сынкам. Алексей тотчас почувствовал влечение к жизни, Марьиной роще и Настеньке, прелестной самоварнице. Приятели отправились искать любви и счастья. Пробираясь по роще, они слышат, как повсюду гуляющие мастеровые уговаривают друг друга итти пить чай к Настеньке, которую попросту называют «Настька» (стр. 21 и другие). Но едва только произносится имя «Настя» или «Настька», как мимо разговаривающих проходит мрачный человек с острою бородкою и ядовитым взглядом и бросает на разговаривающих такой взор, от которого леденеет кровь гуляк. Этого таинственного незнакомца зовут Кузмич. Алексей влюбляется в Настю, хочет на ней жениться, отец ему не позволяет; Кузмич его преследует, и таинственною силою определяет На'стю в служанки к немцу-аптекарю, где честь ее подвергается разным испытаниям. Наконец, Алексей так живо и убедительно доказывает отцу невинность и красоту Насти, что старик дает свое согласие; тогда и Кузмич из демона-гонителя обращается в благодетеля Насти. Настя — дочь его друга, завещавшего Кузмичу хранить ее невинность; для сохранения душевной чистоты своей воспитанницы, Кузмич отдает ее на воспитание Феоне, которая промышляет продажею чая и других вещей пьяным гулякам. Одним словом, Настя невинна, Алексей счастлив, все объясняется и кончается счастливейшим образом. В образец наивности и красоты картин, рисуемых пером г. Петра Мед — а, выпишем строки, в которых изображается первое появление Кузмича. Автор и Алек-
сей, его приятель, идут по Марьиной роще, рассуждая о том, что московские цыгане артисты.
В это время раздались несвязные слова и резкие восклицания; оии заставили нас прекратить разговор н обернуться. В стороне от дороги под деревом сидел молодой человек, без верхней одежды и галстуха, с расстегнутым воротом и, местами, запачканный грязью; он находился в таком состоянии, в котором человек очень близок к животным.
— Эк, нарезался, ПопойкинІ сказал маленький человек с бородкой (это и есть Куэмич), проходя мимо нас и кивая на жалкого бедняка.
Бедняк вдруг вскочил на ноги, подперся в бока обеими руками и, покачиваясь, закричал хриплым голосом, узнав меня (то есть автора):
— А! СвейскийІ Постой, братец, я подойду! да куда же ты торопишься? А, знаю: к Настьке! Чай пить!.. Чорт с ней!.. Я все пропил! (стр. 21).
Избавляем читателей от продолжения. Если б можно было давать советы писателю с таким дарованием, как г. Петр Мед — ъ, мы посоветовали б ему прекратить знакомство с г. Попойкиным: такие дружества не доводят до добра.
Магазин землеведения и путешествии. Географический
сборник, издаваемый Николаем Фроловым. Том III.
Москва, 1854
В прошедшем году издание второго тома «Магазина» дало нам случай поместить обширную критическую статью («Современник» 1854, май и июнь), в которой показывалось развитие основных идей географии и определялось высокое место, какое занимает эта наука в кругу человеческих знаний. Не повторяя здесь высказанное так недавно в нашем журнале, мы хотим, прежде нежели перейдем к обзору статей, помещенных в третьем томе «Магазина», сказать несколько слов о их общем характере.
На физическую географию, на этнографию, даже на статистику до недавнего времени географы обращали очень мало внимания; над всем преобладала так называемая «политическая география», очень хорошо памятная каждому из нас по тем учебникам, скучные страницы которых затверживал он с таким трудом и с такою быстротою позабывал. Дело тогда обходилось очень просто, хотя, нельзя не Признаться, очень сухо, таким образом: границы Франции; перечисление 86 или 87 ее департаментов, с именами главных городов; о каждом городе ровно по две строки, как бы ни был важен, как бы ни был он ничтожен: Лион, Марсель и Гавр, Ванн, Бове и Тарб описывались одинаковым количеством слов, почти одними и теми же словами; о том, что за народ французы, какие у них нравы, какие понятия и обычаи, говорилось менее, нежели о том, что такое Privas, главный город Ардеш-ского департамента, или Aurillac, главный город Кантальского департамента. Англия и Ирландия считались одним и тем же, хотя между этими странами и жителями их нет ни малейшего сходства; королевство Саксонское и прусская провинция Саксония не имели между собою ничего общего, хотя на самом деле эти земли различаются только краскою на ландкартах. Итальянцев даже не существовало для географии, говорившей только, что королевство Сардинское разделяется на десять округов, а великое герцогство Тосканское на пять. О Рейне известно было географии только то, что он служит границею между Баденом и Фран-циею, потом между реннскою Пруссиею и герцогством Нассаус-ским; об Альпах — что там есть гора Монблан, имеющая столько-то футов вышины. Одним словом, физической географии отделялось в старину в толстом географическом трактате пять страниц, статистике — пять строк, этнографии — ни одной строки.
^ Из этих пренебрегаемых старинною географиею важнейших составных частей ее первая успела убедить всех в огромном своем значении физическая география. Теперь каждый порядочный учебник (мы указываем именно на учебники, потому что, как известно, этот разряд книг противится всем улучшениям с таким упорством, каким могут похвалиться еще разве только французские трагедии в стихах), теперь каждый порядочный учебник обращает надлежащее внимание на физическую часть землеописания; даже у нас являются атласы с картами распределения гор, климатов, почвы, растений, животных и т. д. Статьями по этой отрасли землеведения и по неразрывно связанной с нею математической географии по преимуществу наполнен и III том «Магазина» г. Фролова, как составляли они исключительное содержание второго тома. Мы вовсе не хотим считать эту специальность недостатком прекрасного издания г. Фролова; но мы должны поставить ее на вид и заметить, что ею далеко не исчерпываются интереснейшие для нашего времени стороны землеведения* напротив, если даже оставить в стороне более или менее случайные и внешние разделения, которыми занимается так называемая политическая география, то остаются две другие важнейшие стороны землеведения — этнография и статистические отношения различных земель и областей. Не будем говорить о значении статистического элемента в географии, потому что важность статистики, как отдельной науки, ныне достаточно признается всеми, хотя в географии статистическая часть далеко еще не достигла надлежащего развития. Но скажем несколько слов о важности этнографии в системе общего образования, куда проникать она должна через посредство географии.
Не считаем нужным распространяться о важности знакомства с обычаями народов, которые могут быть названы представителями той или другой цивилизации, — само собою разумеется, что качества каждого особенного направления цивилизации и возникших вследствие его общественных отношений должны быть ближайшим образом проверяемы изучением нравов и обычаев народа, сложившихся или видоизменившихся под влиянием этих отношений; нравы народа, образ его жизни, житейских понятий
и привычек, с одной стороны, с другой —1 статистические данные представляют лучшее мерило для оценки достоинств и недостатков разных направлений цивилизации. Необходимость иметь определенное понятие об этом вопросе, одном из основных в общей системе понятий, не нуждается в доказательствах. Но вместе с народами, стоящими на высокой ступени развития, землеведение говорит о диких и полудиких племенах, о народах с мало выработавшимися или оцепеневшими формами жизни, — оставляя все другие области, изучение которых представляет гораздо большую, но с тем вместе и гораздо очевиднейшую важность, обратим внимание на значение ближайшего знакомства с нравами, понятиями и учреждениями народов, стоящих на низших ступенях умственного и общественного развития.
Как ни возвышенно зрелище небесных тел, как ни восхитительны величественные или очаровательные картины природы, человек важнее, интереснее всего для человека. Потому, как ни высок интерес, возбуждаемый астрономиею, как ни привлекательны естественные науки, — важнейшею, коренною наукою остается и останется навсегда наука о человеке. Чтобы пуститься в дешевую ученость общих мест, которые хороши тем, что бес-„спорны, напомним о надписи дельфийского храма: «Познай себя». Позднее была высказана''греческим философом великая мысль, всю истину которой постигли только в последнее время, — со времен Канта, и особенно в последние десятилетия: «человек мерило всего» '. Конечно, ближайшим предметом наших мыслей должен быть человек, — развитый цивилизациею, его нравственные и общественные учреждения, понятия, потребности. Но эти учреждения и поня'ІИя Жили так долго, образовались и изменялись под столькими различными условиями, что часто бывает трудно решить, в чем состоит их первоначальная сущность и в чем — позднейшие изменения; не зная этого, часто бывает затруднительно решить, что именно в известном обычае или учреждении мы должны считать необходимым для нас, какие стороны его служат выражением действительной потребности, какие отжили свое время и при изменившихся условиях продолжают существовать только по закону косности, господствующему и в общественных отношениях, как в мире физическом. Итак, очень часто бывает необходимо проследить историю предмета с первобытных его зачатков, чтобы решить, действительно ли он сохранил свой истинный смысл, действительно ли удовлетворяет он в том виде, какой имеет теперь, настоящим отношениям. Все это было бы можно показать на очень живых примерах; но мы приведем только один, конечно, имеющий в народной жизни только второстепенную важность, но представляющий, между прочим, ту выгоду, что не требует длинных пояснений. Общая тема большей части романов, повестей, стихотворений в наше время, как и прежде, — так называемая романическая любовь. Ясно, что в современной жизни не играет она
такой важной роли, как в литературе, которая должна' изображать жизнь. Отчего ж это различие между изображением и подлинником? Составляет ли сущность поэзии эта обыкновенная тема ее произведении^ так что без влюбленных героя и героини на самом деле трудно обойтись роману? Многие так думают и осуждают роман на вечную односторонность. Но взглянем на зародыши, из которых развилась новая литература, и дело представится в другом виде. Важнейшие из первообразов новой поэзии — народная поэзия и песни трубадуров; начало нашей беллетристики находим в рыцарских романах и сборниках, подобных Декамерону Боккаччио. Для народных песен и трубадуров любовь действительно была единственною поэтическою темою.
Точно таково же было положение дела в обществе, которому принадлежали рыцарские романы: «Дама сердца», выходя замуж, становилась домохозяйкою, не более; муж гораздо больше думал об охоте, турнирах и мелких междоусобицах, нежели о жене. Само собою разумеется, что поэзия, находя в этом обществе влюбленность единственным гуманным и живым элементом, сделала ее главною темою; этим она была верна своему назначению служить отражением жизни. Точно то же надобно сказать о рыцарских романах. Наконец, книга Боккаччио и другие подобные сборники составлялись исключительно из анекдотов и рассказов, которые служат для препровождения времени в веселой компании; темою таких разговоров постоянно бывают любовные интриги. Все это показывает, что главная тема произведений, послуживших основанием для последующей литературы, давалась общественными отношениями того времени; что народные песни, рыцарские романы и сборники анекдотов брали почти исключительным содержанием влюбленность потому, что общество на той степени развития не представляло других отношений между мужчиною и женщиною. Нет сомнения, что ответ этот, представляемый историею, в значительной степени облегчает решение споров о том, в сущности ли произведений литературы лежит то, что они повсюду вставляют любовь и влюбленность, или эта исключительность порождена исключительными условиями общественной жизни и мы должны ожидать, что она исчезнет вместе с ними.
Мы не хотим преувеличивать важности исторического способа решать вопросы, как то делают многие. Главным мерилом решения вопросов жизни должны служить настоятельные жизненные потребности современного положения дел. Но в том нет сомнения, что при затруднительных или просто спорных случаях исторические соображения многим людям помогают утвердиться в уверенности о необходимости и основательности решения, требуемого настоящим. В примере, который мы указали, эти соображения остаются на твердой исторической почве средних веков и греческого мира, не увлекая нас в темные области первоначаль-нейшей истории племен. Это потому, что мы взяли явление.
самые зародыши которого являются уж только при довольно значительном развитии цивилизации. Не то бывает при историческом исследовании почти всех важнейших понятий и учреждений — почти все принадлежности общественной жизни возникли при самом ее начале, в те отдаленнейшие периоды, которые не внесены в летописи, от которых не осталось почти никаких памятников, кроме общих и темных намеков, уцелевших в языке. Потому-то в последнее время, когда убеждения большинства стали шатки и с тем вместе сомнения его так робки, обратила на себя такое внимание историческая филология, старающаяся отгадать характер древнейших периодов исторического развития и объяснить первоначальный вид и коренное значение понятий и учреждений, в измененном виде продолжающих господствовать доныне. Для людей с твердым характером, с доверием к собственному суждению, в этих разъяснениях нет необходимости; но для людей колеблющихся, нерешительных — они очень важны. Некоторым читателям может показаться, что мы отдалились от нашего вопроса о значении этнографии — нет, мы теперь в самом его средоточии. Все, что с неимоверными усилиями соображения успевает добыть историческая филология для объяснения первобытной жизни, сообщает нам этнография в живых, простых, ясных рассказах; потому что, как мы имели случай недавно говорить, наши древнейшие предки начали с состояния, совершенно подобного нынешнему состоянию австралийских и других дикарей, стоящих на низшей степени развития, потом постепенно проходили те состояния несколько более развитой нравственной и общественной жизни, какую видим у различных негритянских племен, у североамериканских краснокожих, у бедуинов и других азиатских племен и народов; каждое племя, стоящее на одной из степеней развития между самым грубым дикарством и цивилизациею, служит представителем одного из тех фазисов исторической жизни, которые были проходимы европейскими народами в древнейшие времена. Потому этнография дает нам все те исторические сведения, в которых мы нуждаемся. Как, восходя от подошвы горы к ее вершине, мы в один день видим физическую жизнь, принадлежащую всем временам года: у подошвы. — желтеющие нивы осени и лета, выше — яркую зелень весны, еще выше — первое таяние снегов и, наконец, царство зимы, — так, переносясь в пустыни Америки, в степи Азии и Африки, мы переносимся в жизнь тысячелетия, предшествовавшего периоду греческой цивилизации; обозревая острова Великого Океана, проникаем еще далее в глубь веков. Степень развития и внешние условия жизни, с нею соединенные, почти безусловно владычествуют над характером общества, его обычаями, понятиями и учреждениями; самое различие в характере различных рас человеческого племени оказывает влияние почти совершенно ничтожное сравнительно с могущественным действием этих условий; потому-то для каждой степени развития на низших, для каждого направления цивилизации на высших ступенях исторической жизии человечества существует бдин тип; каковы нравы и учреждения одного пастушеского племени, таковы есть и были нравы и учреждения всех племен, когда они стоят на той же ступени развития; каковы ныне обычаи австралийцев, таковы же были обычаи всех племен, когда они были в том же периоде младенчества. Итак, посредством исторических разысканий о первобытных временах жизни наших предков мы открываем те самые факты, какие видим в жизни различных диких и полудиких племен; этнография говорит совершенно то же, что историческая филология. Но есть и огромное различие между этими очень важными в наше время науками. Историческая филология отгадывает, строит гипотезы, основанные на скудных и часто бледных фактах, потому дает картины не полные, не довольно подробные и живые, иногда не совсем точные. Совершенно не таково положение этнографии: она видит и передает факты народной жизни во всей их жизненной полноте и точности; этнограф видит своими глазами то, что при помощи исследований языка можно только предчувствовать. И верность и полнота на стороне этнографии. Потому-то она должна быть главнейшею путеводительницею при восстановлении древнейших периодов развития народов, ставших ныне так высоко, но прошедших через те же самые периоды жизни, в которых доныне остаются различные племена, живущие звериною ловлею, собиранием плодов или пастушеством.
И действительно, в прежнее время мыслители, занимавшиеся исследованиями о первоначальном характере и значении различных учреждений и понятий, постоянно прибегали к помощи известий, представляемых этнографиею. У писателей, знаменитейших проницательностью и обширностью своих соображений по этим вопросам, беспрестанно мы встречаем ссылки на путешественников. Только со времени появления исторической филологии был забыт на время этот богатый и верный источник положительных сведений. Вместо Кука и Бугенвиля начали цитировать исключительно ГриммаТ Но в творениях замечательнейших мыслителей последни5~т0дов мы уже видим возвращение к покинутой на время этнографии. Они ценят по достоинству драгоценные материалы, представляемые филологиею, но находят гораздо больше и гораздо положительнейших известий в описаниях дикарского и младенче-ствующего быта у племен, которые остались на этих древнейших ступенях развития до нашего времени. Большинство ученых, конечно, скоро последует примеру, который указывается корифеями науки 2. Мы позволили себе сказать несколько слов об этом предмете потому, что он имеет у нас некоторый интерес новизны; кроме того, нам хотелось выставить на вид одну из важнейших сторон землеведения, снова начинающую обращать на себя внимание философии.
Третий том «Магазина землеведения и путешествий» заключает в себе только две небольшие этнографические статьи: «Езиды» г. Березина и «Воспоминания о восточной Сибири» г. Корнилова. Они без сомнения будут прочитаны с большим интересом, хотя их почтенные авторы передали нам только краткие очерки виденных ими земель и народов. Остальные статьи имеют предметом математическую и физическую географию земного шара; г. Д. М. Перевощиков поместил в «Магазине» прекрасные «Замечания о математической географии», «Геодезические и топографические работы в России», дополнения к этим двум статьям и «Обозрение русских календарей»; кроме того, он «составил по Араго» статью «О термометрическом состоянии земли», и мы предполагаем, что по его же выбору переведена из Араго статья о календаре. Г. Щуровскому принадлежат три статьи: «Ледники», «Русские каменно-угольные бассейны» и биография Леопольда фон-Буха. Наконец, переведена в «Магазине» обширная статья «Географическое распространение верблюда», из Риттера. Читатели видят, что почти весь третий том сборника г. Фролова составлен из оригинальных статей, и, конечно, согласятся с нами, что надобно благодарить почтенного издателя за такое усовершенствование его издания. Переходим к обозрению отдельных статей.
Имя г. Д. М. Перевощикова пользуется у нас громкою известностью, вполне заслуженною, и если бы кто-нибудь из многочисленных почитателей почтенного русского математика составил полное и основательное обозрение ученой его деятельности, то, нет сомнения, он этим исполнил бы желание всякого, интересующегося успехами наук в России. В настоящей статье было бы неуместно входить в рассмотрение чисто ученой стороны деятельности г. Д. М. Перевощикова; но мы едва ли ошибемся, сказав, что в последние тридцать лет никто не содействовал столько, как он, распространению астрономических и физических сведений в русской публике: Д. М. Перевощиков постоянно был первым, не-утомимейшим и полезнейшим из людей, посвятивших свою ученую деятельность этому прекрасному стремлению. Количество написанных им с этою целью статей очень велико; и по числу и по внутреннему достоинству они в русской литературе занимают первое место в ряду всех подобных произведений. Четыре статьи, помещенные им в третьем томе «Магазина», прекрасны; они составляют его украшение и придают ему прочное ученое значение. «Замечания о математической географии» писаны с педагогическою мыслью и должны, по мысли автора, служить для преподавателей географии пособием при объяснении математической части ее, затруднительной для многих. Нет надобности прибавлять, что автор, известный своим дарованием популярно излагать научные вопросы, вполне достигает своей цели; рекомендуем его «Замечания» вниманию учителей географии — ничего лучшего не было
еще писано для них на русском языке. «Обозрение русских календарей» — драгоценный материал для истории месяцеслова, ежегодно издаваемого императорскою Академиею Наук, и календарей, прежде него изданных в России. Г. Перевощиков внимательно просматривает календари с 1710 года до настоящего времени и отмечает в них все интересное и характеристичное. Все интересующиеся историею русской литературы будут благодарны ученому автору за этот обзор, составленный с такою основательностью. Переходя к статье «Геодезические и топографические работы в России», выразим прежде всего сожаление о том, что объем нашего краткого обозрения не позволяет войти в подробности, необходимые для объяснения важности тригонометрических съемок и астрономических определений долготы, потому не позволяет нам и изложить содержания полного и ясного обозрения этих трудов, представленного ученым автором. Сначала говорит он о предложениях Ломоносова, потом — о топографических съемках и триангуляциях, определениях долготы Пулковской и Московской обсерваторий, большом измерении меридиана от Фугленеса в Норвегии (70°40′) до Измаила на Дунае (45° 20') и проч. Составленное по Араго г. Перевощиковым рассуждение «О термометрическом состоянии земли» очень интересно; и как важнейшие заключения его могут быть изложены без обширных объяснений, то приведем их здесь.
^ Известна гипотеза, что северная часть Сибири, где находятся остовы животных, сродных с теми, какие ныне встречаются только в тропических землях, пользовалась некогда климатом, какой ныне сохранили только тропические страны; по другой, столь же известной, гипотезе предполагается, что некогда вся наша планета была в расплавленном или даже газообразном состоянии; на основании этих соображений можно было бы предполагать, что температура земного шара, понижавшаяся в доисторические времена, продолжает понижаться и ныне, и что если не мы, то наши потомки подвергаются опасности увидеть всю поверхность^ земного шара замерзшею и умереть ог холода. Такое мнени^у часто повторялось людьми, поверхностно знакомыми с наукокь Араго, основываясь на строгих вычислениях и положительных на- і блюдениях, показывает неосновательность подобного предположе- ' ния. Прежде всего приводит он обыкновенное доказательство, что/ если бы температура земного шара, взятого как одно целое, уменьшалась, то уменьшался бы и его поперечник, — по известному закону, что все тела, охлаждаясь, уменьшаются в объеме; а если бы поперечник земного шара уменьшился, то сократилось бы и время суточного обращения земли на своей оси, — по общему правилу, что чем менее становится поперечник вертящегося шара, тем скорее он начинает обращаться при одинаковости вращающей его силы. Вычисления показывают, что если б земля охладела только на один градус, то время суточного обращения сокра-
тилось бы _сдщцком на__полторы секунды. Но мы имеем очень точное измерение времени обращения луны около земли, сделанное еще до рождества христова греческими астрономами. Оно продолжает быть совершенно точным и для нашего. времени. А если б время суток сократилось, то период обращения луны стал бы, по сравнению с сутками, продолжительнее; сличая греческое измерение этого периода с нашим относительно их одинаковости, мы не можем ошибиться и в одной сотой части секунды; а как охлаждение на один градус произвело бы разницу в полторы секунды, то ясно, что земля, в продолжение слишком двух тысяч лет, протекших между нашим и греческим измерением лунного месяца, не охладилась и на одну стопятидесятую часть градуса. Кроме этого известного положительного доказательства, Араго представляет множество других, отрицательных, основанных на том, что ни одно из обстоятельств и отношений, имеющих заметное влияние на температуру земной поверхности, не изменяется, а те условия, которые подвержены изменению, не имеют почти никакого влияния на температуру земли. Одинаковость температуры в древнейшие времена с настоящим ее состоянием доказывает он также историческими свидетельствами о том, какого рода растения могли производить в древности и производят ныне известные страны и места — из этого сравнения оказывается, что где не изменился климат от осушения болот и вырубки лесов (что до некоторой степени возвышает температуру страны), там продолжает он производить те же самые растения, как и в глубокой древности, следовательно, не сделался ни теплее, ни холоднее. Все эти доказательства и соображения изложены, как всегда у Араго, очень популярно и вместе глубокомысленно и приобретают новый интерес для науки от множества задач, важность решения которых он показывает, указывая с тем вместе, какие нужно произвести наблюдения для того, чтоб решить их основательным образом.
Теми же достоинствами отличается и статья Араго о календаре, дополненная примечаниями Д. М. Перевощнкова. Но мы не знаем, почему из Риттера выбрана для перевода огромная статья «Географическое распространение верблюда в Старом Свете»; не может быть и спору в том, что написана она с огромною ученостью; но предмет ее слишком специален, и едва ли можно было уделять в сборнике землеведения 140 страниц исследованию о первоначальной родине и постепенном переселении одного животного. Нам кажется, что лучше было бы избрать исследование, представляющее более общего интереса, — у Риттера нет недо-, статка в таких трактатах. То же самое должны мы сказать о статье г. Щуровского «Ледники». Если бы автор изложил теорию Агасси и других относительно значения ледников в изменении поверхности земного шара, это имело бы общий интерес; но он ограничивается простым описанием состава и вида ледников —
это не может иметь для русских читателей такой занимательности, которая уполномочивала бы помещать обширную статью. Гораздо более интереса в жизнеописании великого геолога Леопольда фон-Буха, потому что здесь г. Щуровский подробно объясняет значение его трудов в науке, излагает его теорию и важнейшие открытия. Если мы заметим, что автор напрасно сделал сухими многие страницы своей статьи, исчисляя все мелкие сочинения фон-Буха, тс^заметим единственно с тою целью, чтобы обратить на это внимание самого автора. Не должно забывать, что подобные статьи пишутся для большинства публики, а не для специалистов, которым уж очень хорошо известна и жизнь Леопольда фон-Буха и полный список его сочинений, который приложен к концу статьи г. Щуровским, не удовольствовавшимся тем, что несколько десятков этих сочинений уж поименовано в самой статье. Но вполне интересно будет для читателей обозрение «Русских каменноугольных бассейнов», составленное г Щуровским по специальным исследованиям. Перескажем в нескольких словах главные выводы о каменноугольном богатстве России.
В Европейской России найдены до сих пор четыре главных бассейна каменного угля. Северный бассейн, прилегающий узким концом своим к Белому морю, расширяется в южной своей половине и обнимает Тверскую, Тульскую, Рязанскую, Калужскую и соседственные части прилежащих губерний. Но это обширное пространство каменный уголь занимает не одним непрерывным пластом, а отдельными, разрозненными месторождениями, что очень неблагоприятно для разработки. Кроме того, самый уголь низкого качества. Западный бассейн из Силезии переходит в Царство Польское и занимает небольшую часть его юго-западного края. Уголь здесь лежит толстым, непрерывным пластом, и добывание его представляет некоторые выгоды. В последнее время добывают его до десяти миллионов пудов. Восточный бассейн идет узкою полосою вдоль Уральского хребта; уголь годен для отопления и железнозаводских работ, потому, вероятно, будет приносить большую пользу; но до сих пор этот бассейн мало исследован и разработка его едва начата. Наконец, важнейший, сколько доселе известно, бассейн южный или Донецкий (прилегающий к реке Северному Донцу) занимает большую часть земли Войска Донского и часть губерний Екатеринославской и Харьковской; площадь его более пятисот квадратных миль. Качество угля превосходно; между тем весь бассейн, слишком вдвое превосходящий обширностью все великобританские каменноугольные бассейны, вместе взятые, доставляет ныне едва одну семисотую часть того количества угля, какое добывается в Великобритании. Причиною такой малозначительности производства надобно считать, с одной стороны, то, что добывание производится без помощи паровых машин, которые одни могут дать работам надлежащую силу, с другой, недостаток дешевых путей сообщения с
теми местами, которые нуждаются в горючем материале, и вследствие всего этого — невозможность поставлять донецкий антрацит і по сходной цене. С отвращением этих препятствий и с пониже-I нием цены его разработкам предстоит, вероятно, блестящая бу-J дущность.
Этим заключаем наш обзор третьего тома «Магазина землеведения и путешествий». Его состав разнообразен; большая часть статей написаны прекрасно и очень интересны по своему содержанию. Если мы говорили о важности статистического и этнографического элемента в географии, то нашей целью было только выставить на вид эти новые элементы, в нее проникающие, а вовсе не смешное недовольство тем, что «Магазин» г. Фролова по преимуществу занимается одною из нескольких сторон обширной науки землеведения, физическою, и, по связи с ней, математическою географиею — сторона эта также чрезвычайно важна, также чрезвычайно интересна; «Магазин», обращая на нее преимущественное внимание, представляет статьи прекрасные, и никто не вправе, вместо предлагаемого хорошего, требовать еще чего-нибудь другого; иначе пришлось бы упрекать исторический сборник за то, что в нем нет астрономических статей, археологический сборник — за то, что в нем нет юридических статей. Предмет большей части статей, помещенных в рассмотренном нами томе «Магазина землеведения», важен и интересен, статьи хороши, некоторые превосходны — и нам остается только радоваться выходу в свет нового и прекрасно составленного тома издания г. Фролова.
Счастливое семейство, или полезное чтение для детей
Сочинение Л. Ярцовой. Часть первая. Спб. 1854
Заглавие довольно странное. Что значит счастливое семейство, или полезное чтение? К чему это или?..
Но дело вот в чем:
А. С. Шишков, в бытность свою президентом Российской Академии, заметив с прискорбием недостаток детских книг в России, возложил на г-жу Ярцову обязанность написать в нравственном смысле и в русском духе какую-нибудь повесть для детского чтения. Г-жа Ярцова исполнила это лестное поручение и написала детскую книжку под названием: Счастливое семейство, которую А. С. Шишков переименовал в Полезное чтение для детей.
Это полезное чтение издано было впервые в 1835 году на счет бывшей Российской Академии; кроме того, за него получила сочинительница от этой Академии медаль, а от Академии Наук — Демидовскую Премию за хорошее изложение и понятное толкование некоторых ученых предметов, простым языком, без употребления технических слов.
Выпуская ныне в свет второе издание своего сочинения, г-жа Ярцова хотела соединить свое собственное заглавие с заглавием.
данным ее книге А. С. Шишковым. Вот каким образом объясняется это странное или.
Сочинение г-жи Ярцовой, увенчанное двойным академическим венком, говорит само за себя. Несколько устарелая форма и немного тяжеловатый язык этого сочинения не мешают ему занимать, однако, почетное место среди детских сочинений, которые доставлять весьма не легко, заметим мимоходом.
<ИЗ № 2 «СОВРЕМЕННИКА»)
Исторяческая записка, речи, стихи и отчет императорского Московского университета, читанные в торжественном собрании 12 января 1855 года, по случаю его столетнего юбилея. Москва. 1855
Торжество столетнего юбилея Московского университета было совершено достойным славных воспоминаний университета образом. Читатели, конечно, уже знают подробности этого торжества, которому подобных еще не бывало в честь русской науки. Государь император благоволил почтить старейший из русских университетов милостивою высочайшею грамотою. Все высшие ученые учреждения империи прислали депутации или адресы, поздравляя Московский университет с его празднеством. Бывшие воспитанники университета, в числе которых так много людей, почтенных заслугами на государственном или ученом поприще, собрались из разных областей империи своим участием и воспоминаниями оживить вековое торжество учреждения, которому обязаны своим образованием.
Помещая в «Современных заметках» описание юбилея, мы здесь сообщим обозрение речей, которые были произнесены в торжественном собрании празднества.
Первою из этих речей была «Историческая записка о действиях университетского начальства и об ученых трудах членов университета по случаю настоящего торжества», читанная г. ректором университета, А. А. Альфонским.
8 марта 1851 года государь император благоволил утвердить программу приготовлений университета к юбилею; для исполнения этой программы был учрежден при университете комитет под председательством г. ректора из профессоров: Морошкина, Щу-ровского, Шевырева, Зернова, Анке, Грановского, Соловьева, Бодянского, Буслаева и адъюнкта Беляева.
По высочайше утвержденной программе выбита академиком Лялиным медаль в память юбилея. На одной стороне ее, по мысли комитета, изображена императрица Елисавета Петровна, основательница университета, и представляющие государыне проект университета Шувалов и Ломоносов. На этой стороне поставлено: «12 января 1755 г.»-день основания университета.
На другой стороне медали, по высочайшему повелению, изображен государственный герб и начертано: «12 января 1855 г.».
Изготовлены членами университета следующие книги:
1. История императорского Московского университета за все истекшее столетие, г. Шевыревым. Государь император благоволил принять посвящение этого труда его августейшему имени.
2. Биографический словарь профессоров и преподавателей университета за все истекшее столетие, в двух томах, содержащий 238 биографий, составленных разными лицами, принадлежащими к университету '.
3. Материалы для истории письмен восточных, греческих, рим- V. ских и славянских, заключающие в себе статьи гг. Петрова, Клина, Меншикова и Буслаева. Этот сборник издается «в память приблизительного стечения» тысячелетия кирилловской азбуки и столетия Московского университета.
4. Начата изданием Биографическая летопись всех известных питомцев Московского университета за все столетие, с приложением всеобщего их списка. Составлено членами университета и другими учеными.
5. Профессоры и преподаватели издали собрание учено-литературных статей под заглавием: «В воспоминание 12 января 1855 года». Здесь помещены статьи гг. Баршева, Брашмана, Спасского, Орнатского, Глебова, Лешкова, Вернадского, Давыдова, Кудрявцева, Буслаева, Беляева, Швейцера, Любимова и Страхова.
6 и 7. Г. Бодянский приготовил к изданию исследования: о времени происхождения славянских письмен и житие св. первоучителей Кирилла и Мефодия.
После записки г. ректора, г. профессор Шевырев прочитал «Обозрение столетнего существования императорского Московского университета». Причинами счастливого возрастания университета во все первое столетие его жизни г. Шевырев находит: благоволение божие, милостивое покровительство государей и любовь русского народа к просвещению; припоминает милости, оказанные русскими монархами Московскому университету, исчисляет начальников университета; потом рассматривает «четыре дела», которые исполнял университет во все время своего существования: насаждение науки в России, ведение ее в уровень с современным движением, применение науки к жизни и потребностям России, воспитание отечеству сынов полезных, верных слуг государю и отечеству, и при этом исчисляет знаменитейших профессоров и воспитанников университета. Труды профессоров мы скоро исчислим, рассматривая их биографии, изданные университетом; из воспитанников назовем здесь: Фонвизина, Богдановича, Новикова, Кострова, Карамзина, Жуковского, Нарсж-ного, Гнедича, Мерзлякова, Калайдовича, Грибоедова.
За речью г. Шевырева следует: «Благодарное воспоминание о Иване Ивановиче Шувалове», речь г. Соловьева. Наш известный
историк начинает, сообразно значению торжества, указанием важности живой связи с прошедшим для деятельности в настоящем, и объясняет коренное значение Московского университета, потребность, которою был он вызван к существованию:
Всякое учреждение есть следствие какой-нибудь потребности, которая почувствовалась известным образом в известное время. Понятно, что учреждение тем полезнее, тем почтеннее, чем более удовлетворяет потребности, вызывавшей его основание, чем живее между его членами предание о цели учреждения, чем сознательнее переходит это предание из века в век, из поколения в поколение. Это предание, присущее членам учреждения при их соединенной деятельности, составляет дух учреждения. Учреждение живет полною жизнью, процветает, когда этот дух силен, когда дает себя чувствовать и в совокупных действиях членов учреждения и в поведении каждого из них, где бы он ни находился: тогда многие другие учреждения заимствуют от него жизнь, дух и сильны бывают этою жизнью, этим духом. Когда же предание забывается, дух слабеет, — учреждение клонится к упадку; тогда люди, ревностные к славе учреждения, стараются воскресить предание, возвратить его к первоначальной чистоте Обыкновенно основателями учреждения бывают люди, которые яснее других сознают известную потребность общества, которые образом мыслей и всею деятельностию своею осуществляют ту цель, к которой должно стремиться учреждение; деятельность основателей поэтому становится живым преданием, образцом, которого члены учреждения никогда не должны герять из виду.
В чем же состоит предание, дух того учреждения, столетие которого мы собрались теперь торжествовать, и кто был человек, в нравственном образе которого осуществляется это предание, чей нравственный образ мы должны благоговейно перенести из одного века в другой?
Для разрешения вопроса, какая потребность вызвала Московский университет, говорит г. Соловьев, надобно перенестись к тому времени, которое основало его. В конце XVI века русское царство было громадно, но в нем чувствовался недостаток уменья приносить частные выгоды в жертву благу общему, сознавалась потребность распространения между гражданами познания обязанностей гражданских. Смуты, которыми окончился XVI век, обнаружили и эти недостатки и силу русского народа победить их.
Так наступил XVII век, век, богатый славными событиями, великими торжествами, но еще более замечательный тем, что откликается историку непрестанным воплем о необходимости нравственного очищения, совершенствования, о мерах, которые должны быть употреблены для этого. Священный, утешительный вопль! Он не похо2К на тот болезненный вопль, который издают государства пред минутою своего разрушения, когда немногие лучшие люди, указывая на болезни государственного организма, отчаиваются в возможности их излечения и предсказывают близкую гибель государства. Не таков вопль, слышный иа Руси в XVII веке — это вопль юного, крепкого общества, которое сознает свои недостатки, громко объявляет о них, деятельно ища в то же время средств для их исправления. У нас в XVII веке не некоторые только, частные лица вопиют против нравственных недостатков общества, но само правительство беспощадно, в сильных выражениях указывает на нравственные болезни, требуя излечения их, употребляя к тому средства…
При усиленной борьбе с многочисленными препятствиями внешними и внутренними, встреченными Россиею при достижении государственных целей, в ХѴіІ веке было сознано, что необходимое средство для торжества над этими препятствиями есть призвание на помощь науки, мудрости гражданской, распространяющей свет, при помощи которого члены общества видят, что они, где они, что обязаны делать для отечества; ибо только тот может быть верным сыном отечества, кто знает свое отечество, его потребности и в состоянии употребить способности свои для удовлетворения той или другой из этих потребностей.
Петр Великий совершил приготовление государства к принятию науки, век Екатерины II водворил ее. Но люди, действовавшие при Екатерине, образовались при Елисавете.
Из царствования Елисаветы лучшие люди Екатерининского времени вынесли убеждение в необходимости просвещенного воспитания, сознание о высшей, нравственной цели науки; в это царствование у престола императрицы явился человек, при образовании которого «наука и искусство подали руки, чтоб сделать его отечеству полезным, между людьми любезным и всегда желательным», — и по мысли этого-то человека в царствование Елисаветы возникло учреждение, долженствовавшее удовлетворять потребности времени, а именно — дать науке возможность достигать своей высшей, нравственной цели, дать ей значение мудрости гражданской. Этот человек был И. И. Шувалов, это учреждение был Московский университет.
Каков же был Шувалов? Как на нем отразились благие действия науки?.. У престола благодетельствовавшей ему монархини стоял он с высоким характером посредника, миротворца; с тем же характером миротворца являлся он и для семейств частных, и для семьи к нему близкой, семьи ученых и литераторов. «Он счастливым себя почитал в тот день, когда имел случай удалить несчастие н поспешествовать счастию других».
Таковы должны быть и дети его по нравственному родству, дети Московского университета, заключает свою прекрасную речь г. Соловьев.
Затем был пропет хор, написанный г. Шевыревым и положенный на музыку г. Верстовским, и прочитан отчет о состоянии Московского университета за 1854 гражданский год.
Надолго останется в памяти всех образованных русских прекрасное торжество Московского университета, ознаменованное ми-достью монарха и оживленное всеобщим сочувствием.
Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя В. Д. Яковлева. Спб. 7855
«Скажи, мой свет, не правда ли, что во Франции живут французы?» спрашивает в «Бригадире» Советница у Иванушки. — Vous.avez raison, Madame, отвечает Иванушка. И вот уже восемьдесят лет все хохочут над вопросом чересчур наивным и ответом, которого не стоило давать. Но из тысячи людей, говорящих об Италии, едва ли одному приходит в голову спросить; «какой народ живет в Италии?», а если кто и спросит, не скоро дождется ответа на свой вопрос, кажется, очень незамысловатый. Жаль итальянцев: почти никому не приходит в голову, что они живут в Италии.
Неужели ж это племя, еще так недавно стоявшее на первом месте между всеми образованными народами, не заслуживает теперь никакого внимания? Или оно в самом деле измельчало, изнежилось, испортилось до того, что не стоит и говорить о нем? «Да», говорят люди, знающие Италию только по картинкам с видами Неаполя и Везувия; «да», говорит большая часть тех, которые видели Неаполь и Везувий собственными глазами.
Не позволительно ли будет усумниться в таком положительном ответе? Не говорим об искусствах, в которых до сих пор итальянцы признаются едва ли не первым народом; но и для науки итальянцы в последние сто лет сделали довольно, несмотря на жалкое состояние общественного образования. Нет сомнения, что с XVII века наука в Италии постоянно падала; но и теперь еще она стоит на высоте, которая невозможна у народа, отжившего свой век. И если Гоголь говорил, что итальянцы — народ, натура которого свежа и сильна, которому еще предстоит великая будущность ', то позволительно думать, что он не совсем ошибается.
Да и вообще как-то странно слышать о каком-нибудь народе, что он отжил свой век, исчерпал все свои жизненные начала, что ему остается только спать дряхлым сном в ожидании скорой смерти. Греки всеми были когда-то признаны за умерших; а теперь, как видим, воскресают.
Но если б, наконец, итальянцы были и на самом деле расслабленным, лишившимся всякой энергии народом, то разве не поучительно, разве не интересно зрелище такого народа?
— Но разве нам не описывают беспрестанно итальянцев? Жалобы на то, что, говоря об Италии, забывают итальянцев, совершенно несправедливы.
Да, описывают; так часто и такими стереотипными чертами, что фигуры их знакомы каждому грамотному человеку, начиная с двенадцати лет, и не забудутся, хотя прожить на свете двести лет. Итальянка с огненными черными глазами, с роскошною черною косою; лаццарони, полунагой и вечно греющий бронзовую спину на жгучем солнце Неаполя; веттурино, не отличающийся, впрочем, ничем, кроме своего названия, от всякого другого человека — эти фигуры знакомы всякому из нас. А итальянские нравы? разве они также не знакомы каждому, как свои пять пальцев? Бешеный карнавал, огненная любовь, — о них знает даже тот, кто не знает, в северном или южном полушарии лежит Италия.
Но можно сомневаться в том, достаточны ли эти драгоценные сведения, исчерпывают ли они нравы и быт итальянцев. Вероятно, тот еще не глубоко изучил французов, кто знает только, что француз — остряк и ветреник, что в Париже можно шумно веселиться и что французские портные — хорошие портные. Вероятно, если какой-нибудь путешественник сообщил бы нам только эти верные и драгоценные наблюдения, то самый нетребовательный читатель сказал бы, что этот путешественник ровно ничего не сказал и, вероятно, ничего не видал во Франции.
Но путешественнику по Италии можно ограничить свои замечания черною косою итальянки, бронзовою спиною лаццарони и бешенством карнавала. Помилуйте, разве люди интересны в этой стране? Сколько там прекрасных картин, сколько там удивительных статуй, какой там восхитительный климат! Вот что влечет путешественника в отечество Рафаэля, под сень благоухающих миртов и лавров.
Прекрасно и приятно наслаждаться всеми этими сокровищами искусства и прелестями природы; не так прекрасно описывать их и читать их описания по очень многим простым причинам. Из них первая: миллион раз все это было описано; а так как лавры и мирты остались на прежних местах н в прежнем виде, да и в картинах Рафаэля не прибавилось ни одной новой фигуры, у Венеры Каллипиги ни одного нового волоска, то описывать их вновь — значит повторять старое. Кроме того, не многие люди владеют завидным даром интересно говорить о погоде, и еще менее людей, понимающих и хорошо описывающих картины и статуи. Можно приискать и третью причину: лавры и мирты растут в Испании лучше, нежели в Италии; следовательно, особенно удивительного в Чшх нет; картинами Рафаэля каждый может любоваться, не выезжая из своего отечества.
Но что делать! такова участь некоторых стран, что каждый едет туда не жить с людьми, не изучать народ, а наслаждаться какими-нибудь наскучившими всем, кроме него, предметами, которые, не выходя из своего кабинета, можно узнать как нельзя лучше. Так, например, кто едет в Швейцарию, все время своего пребывания употребляет на то, чтобы смотреть на Монблан и /Женевское озеро, и, к величайшему удовольствию, наконец, убеждается опытом, что Монблан — высокая гора, а Женевское озеро — хорошее озеро. То, что швейцарцы гораздо интереснее своих гор и озер, замечают не многие; не многие замечают даже, что в Швейцарии живут люди; проводники по rojpaM и альпийские охотники там есть, каких же еще других людей угодно вам, читатель? Других еще не найдено.
Но ведь, наконец, и в африканских степях люди, путешествующие с исключительно географическою целью, находят людей; ведь и на Шпицбергене находят если не людей, то хоть что-нибудь живое, хоть белых медведей и моржей.
В Италии ничего подобного не оказывается. Там есть несколько разбитых колонн, полинявших картин и много жара, в глазах и в солнце. Остальное не стоит внимания.
Не все, впрочем, идут этим избитым путем. Гоголь, а вслед за ним двое или трое других русских писателей уверяют, будто бы видели итальянцев, и описывают их так живо и правдоподобно, что это беспримерное открытие становится несколько вероятным.
Г. Яковлев пишет прекрасным, увлекательным языком; это придает особую прелесть его книге. Он так горячо сочувствует прекрасной итальянской природе, так тонко и верно передает ее, так подробно обозревает и с таким искусством описывает опустевшие мраморные палаццо, древние развалины, старые картины, античные и новые статуи, что от книги его нельзя оторваться. Эти описания разнообразятся анекдотами о знаменитых художниках, иногда небольшими дорожными приключениями, иногда даже небольшими, но очень милыми сценами из народной жизни… Вообще, книга г. Яковлева отличается необыкновенным и внутренним и внешним изяществом. Такого прекрасного издания мы давно не встречали у нас.
Знахари. Исторический роман в двух частях В. Н. Савинова. Спб. 1855
Критики с высокоразвитым эстетическим вкусом, с тонкими художественными требованиями прочтут роман г. Савинова до конца; и чем долее они будут читать, тем сильнее будет пробуждаться в них эстетический гнев. И, по прочтении последней строки, сурово и грозно возьмутся они за карающее перо, докажут по пунктам, что «Знахарям» не было знакомо ни одно эстетическое требование, и беспощадно осудят исторический роман в двух частях.
Мы не можем последовать их примеру, потому что прочитали одну только первую часть, не касаясь второй — чтение первой убедило нас в бесполезности продолжать труд — следовательно, наш эстетический гнев не мог возвыситься до безусловного осуждения. Скажем даже более: пока мы читали перзую часть, мы ощущали некоторую неприязнь к роману; но дочитав ее и положив роман в сторону, мы почувствовали живейшее благорасположение духа и пишем под влиянием этого расположения. Нас, быть может, назовут за это пристрастными; но мы повинуемся голосу сердца, и кто нас может обвинять за то? Неужели надобно писать не то, что чувствуешь? А мы теперь твердо убеждены, что должны быть признательны г. Савинову, должны хвалить его роман. Бестрепетно исполняем эту обязанность, внушаемую голосом сердца.
Будем признательны г. Савинову за то, что он не принадлежит к числу «известных наших беллетристов», или «даровитых наших рассказчиков», или «лучших наших писателей». Ах, как облегчает рецензента это обстоятельство, повидимому, не имеющее влияния на сущность дела. Г. Савинов написал плохой роман, и всякий прямо может сказать, что г. Савинов написал плохой роман. И никто никого не осудит за такое суждение. Но что делать рецензенту, если какой-нибудь «даровитый рассказчик» или «известный беллетрист» напишет плохой роман? (Случай, не столь редкий, как желательно было бы предполагать.) Неужели можно тогда сказать, что «роман известного беллетриста и даровитого рассказчика плох»? Никак, ни под каким видом! «Рецензент не уважает талантов; рецензент хочет пощеголять резкостью своих мнений; рецензент не имеет вкуса; рецензент близорук и смотрит в очки; рецензенту недостает способности понимать вещи». Впрочем, эти упреки еще ничего нс значат. Гораздо неприятнее то обстоятельство, что с плохим романом «даровитого рассказчика» нельзя поступить так, как с «Знахарями» — надобно дочитывать его до конца. Судить о трудности подобного упражнения в терпении может только тот, кто подвергал себя ему; а кто не подвергал, тому дадим понятие о деле, сказав, что гораздо вкуснее кушать пресный суп, нежели по обязанности читать пресные страницы. Но этим не кончается приятность, доставляемая «известностью автора», — его плохое произведение будет почти всюду расхвалено — новый источник занимательного чтения. И тут еще не конец делу — нет, только начало: «известный писатель», став после этих похвал еще «известнее» и «даровитее», дает своему перу еще более бесконтрольный размах — и каждый плохой роман приносит обильный плод последующих, усовершенствованных произведений в том же роде. Ах, как признательна должна быть литература «не даровитым рассказчикам», «не известным беллетристам» за то, что они не «даровитые» и не «известные»!
Нельзя также не похвалить г. Савинова за то, что «Знахари» не психологический роман. Оценить вполне всю великость такой заслуги могут только те немногие несчастливцы, которым суждено дочитывать до конца психологические романы. Она увидела его на бале; он сказал ей: «я желал бы любить, но не верю любви»; она сказала ему: «мне жаль вас» — этого достаточно для составления трех глав в психологическом романе: как подробно, тонко н верно будут анализированы в этих длинных главах все оттенки, все переливы чувств! Но кто в состоянии изобразить оттенки и переливы тоскливой скуки, которую производят они в читателе? Никто, ни даже сам автор психологического романа.
У г. Савинова нет описаний природы, которые бы занимали более двух миньятюрных страничек, — это также достоинство немаловажное. Роман начинается тем, что герой едет по дороге, — разве г. Савинов не мог написать, например, следующего:
«Полдень, палящий отвесными лучами, заставляет все живое укрываться под тенью. Это час всеобщего отдохновения в русской природе. Не пылит дорога, в лесу ни листок не шелохнется. Прохожие садятся под густые ветви или спят на траве, которая сохраняет свою зелень только под защитою тенистых деревьев. Все умолкает; все дремлет; одни кузнечики шумят» и т. д.
Не подумайте, что этот отрывок — сочинение какого-нибудь «неизвестного беллетриста»: — нет, мы выписали строки, вами
прочитанные из недавно вышедшей книги, которая, вероятно, всеми будет похвалена за «прекрасный» слог.
Ничего подобного не делает г. Савинов — он пишет плохой роман без притязаний на различные высшие достоинства слога, психологии, юмора и т. д. — разве это не есть своего рода заслуга?
Крым с Севастополем, Балаклавою и другими его городами. Спб. 1855
Книжка, составленная недурно; к ней приложены две гравюры, прекрасно вырезанные на дереве — одна, представляющая вид Севастополя, другая — вид Балаклавы и план Севастополя с окрестностями, показывающий расположение русских и неприятельских войск и состояние осадных работ. Нет сомнения, что книжка эта будет иметь большой успех в публике. Приводим здесь из нее описание Севастополя, Инкерманской долины и Балаклавы:
По присоединении Крыма к России императрица Екатерина II, желая иметь порт на Черном море, повелела осмотреть на южном берегу Крыма порт, под названием Ахтиарская бухта, и если он окажется хорошим, занять его, перевесть туда часть Азовского и Днепровского флота и назвать его Черноморским. Порт этот найден был превосходным, и 7-го мая 1783 года эскадра, состоявшая под командою вице-адмирала Клокачева, первая введена была в него для стоянки и сдана контр-адмиралу Меккенз», положившему основание Севастополю.
Севастополь лежит иа крутом холме, возвышающемся между двух бухт морского залива; построен амфитеатром, а потому улицы его, хотя правильно расположенные, представляют большое неудобство, идя беспрестанно с одной крутизны на другую. Лучшая из них параллельна с портом и заключает в себе: собор, адмиралтейство и многие прекрасные дома; несколько хорошеньких садиков довершают ее украшение, но, к сожалению, они всегда занесены пылью, потому что подвержены влиянию сильных ветров, постоянно господствующих летом на всем этом берегу. В городе считается до 41 155 жителей и находится арсенал, два адмиралтейства, отлично устроенный госпиталь и огромные казармы для помещения гарнизона. Небольшой общественый сад очень красив и служит прекрасным местом для гулянья. Есть театр, уездное и приходское училища н также военные училища для матросских детей. В городе поставлен памятник Казарскому.
Вход в Севастопольский рейд — 600 сажен шириною, и обороняется четырьмя сильными батареями, вооруженными более 400 орудий большого калибра. Рейд этот в северной части мельче, чем в южной, но вообще в редких местах глубина его менее 4-х сажен; притом отсутствие же мелей, ровный иловатый грунт и совершенное закрытие от ветра много способствуют кораблям в их стоянке в этом порте. В самом рейде, имеющем около 8 верст в длину, на южной его стороне, находятся четыре бухты: артиллерийская (для купеческих судов), корабельная, южная и киленбалочная; из них самая большая есть южная, а самая глубокая — корабельная, в которой трехдечные корабли могут приближаться к самому берегу. К югу от бухт южной и килен-балочной идут глубокие овраги, называемые вообще «балками». К северу от рейда, кроме батарей, находится еще крепость, имеющая вид осьмиуголь-ника с четырьмя бастионами, из которых два южных прикрыты каждый люнетом долговременной постройки.
Для снабжения судов пресною водой служит Черная речка; вода ее про-педена в особое здание, где оиа очищается, идет потом к морскому берегу и
по первой надобности наполняет корабельные цистерны. Севастополь, как военный порт, имеет для России первостепенную важность.
Севастополь, по географической широте своей, есть один из самых южных городов Российской империи. Он окружен, с северной стороны, горами в 225 футов вышины; с восточной и южной — горами же в 308 футов вышины и бухтами; с западной — морем. Средняя температура города, в продолжение 12-тн лет + 9,9. Наибольшая теплота простиралась от 247 г до 28 градусов, а наибольший холод от 6 до 15 градусов. Из сложности 27-ми летних наблюдений оказывается, что средняя температура в градусах 80-ти дольного термометра в Севастополе, для каждого месяца, есть следующая:
январе. + и феврале 4- 1,5 марте. . + 4,0 апреле. h 8,1 ѵае. — 12,2 июне. *. J-16,0 июле. — г 17,5 августе. г 17,6 сентябре . -» 14,4 октябре. 10,4 ноябре. . - 6,7 декабре. т 2,7Весною бывают, большею частию, южные ветры и ясные дни; иногда находят с моря туманы и продолжаются до 8-ми и редко до 10-ти часов утра. Летом бывают, почти всегда, днем — западные ветры, с моря, и ночью — восточные, с гор, что способствует много выходу судов и эскадры в море и входу их на рейд. Осенью — та же погода, и тогда наступает лучшее время года. Зимою — частые дождн; при северо-восточных же ветрах термометр бывает ниже точли замерзания и часто со снегом, который, с переменою ветра, исчезает. Вообще, воздух в Севастополе, за исключением некоторых окрестностей его, здоровый, и господствующих болезней не существует. Периодические ветры, способствующие флоту выходить из порта во все дни года, и достоинство рейда и гавани, которые никогда не замерзают, и где совершенно безопасно и близко к берегу могут стоять корабли, делают его одним из лучших портов в свете.
К востоку от Севастополя, севернее Черной речки, лежит Инкерманская долина, по имени которой назван и мост, здесь находящийся. На этом месте стоял город Херсонес, или Корсунь, в котором велнкий князь Владимир I, з 988 году, принял св. крещение. От города, некогда богатого и цветущего, остались только развалившиеся стены, башни и несколько малых пещер, высеченных в отвесной скале, замыкающей долину. Кругом находятся болота, производящие не совсем здоровые испарения. Южнее Севастополя, на песчаной косе, весьма мало возвышающейся над морем, устроен маяк. На этом же месте стоял древний Херсонес, основанный греками за 600 лет до р. х. и бывший главным городом греческих колоний в Тавриде. От маяка вплоть до Севастополя видны следы стен, расположенных правильными рядами и четвероугольниками. Размещение их и малое углубление стен в землю породили много споров между антиквариями, из которых одни утверждают, что это остатки от стен греческих жилищ, другие же, напротив, говорят, что это границы между садами и огородами древнего Херсонеса.
Балаклава, заштатный город, находится в 2 152 в. от С.-Петербурга, в 1 476 в. от Москвы, в 84 в. от Симферополя, в 12-ти в. от Севастополя, и лежит при заливе Черного моря, окруженном горами. Гавань ее имеет 1'/г версты в длину, Ѵг версты в ширину и соединяется с морем посредством узкого пролива в 25 сажен шириною; глубина ее очень велика даже у берега, но узкий вход делает доступ в гавань чрезвычайно опасным во время сильного противного ветра. Бухта, на всем протяжении, окаймлена высокими
горами, на которых, с восточной стороны, находились в древности Генуэзские укрепления. Город и крепость их были в совершенной безопасности от нападения, потому что край горы, обращенный к морю, и до сих представляет обрыв совершенно вертикальный, а с другой стороны на нее ведет только узкая тропинка. В настоящее время крепость эта вся в развалинах и только одни наружные стены н несколько башен еще возвышаются, готовые, впрочем, каждую минуту рухнуть.
Балаклава имеет 1 067 человек жителей и походит более на порядочную деревню, чем на торговый город: в ней одна только главная улица, довольно узкая и не имеющая никаких замечательных зданий. Здесь штаб-квартнра Греческого баталиона.
Балаклава заселена Архипелагскими греками, участвовавшими во второй Турецкой войне и в Чесменской витве. Город тесный — образчик азиатских построек! Взор устремляется на растянувшуюся скалистую гору, омываемую с одной стороны заливом, а с другой — Черным морем, и на гору с остатками от Генуэзских укреплений. Из залива, называвшегося у эллинов Символон, а ныне именуемого Балаклавским, как упомянуто выше, идет вход в море, чрез каменные узкие ворота, устроенные природою из скалистых утесов.
В 1796 году гавань Балаклавы была совершенно закрыта; но так как она служила прежде многим судам убежищем во время бури, то ее снова открыли и учредили в ней таможенную заставу. Отсутствие обширной и совершенно удобной гавани, недостаток хорошей воды и близость Феодосии, Евпатории и Керчи не допускают развития в Балаклаве значительной торговли.
Русское посольство в Польше в 1673–1677 годах. Несколько лет из истории отношений древней России к европейским державам. Соч. А. Попова
С.-Петербург. 1854
Сочинение г. Попова не свободно от многих недостатков. Из них первый — автор не сохраняет различия между тем, что прямо относится к его предмету, и тем, что только соприкасается с сущностью его исследования. Собственно, г. Попов хочет объяснить дипломатические отношения России к Польше в 1673–1677 годах; но переговоры между этими державами шли о взаимной помощи в турецкой войне — и г. Попов рассказывает общеизвестные со-' бытия этой войны так же подробно, как и самые переговоры; переговоры эти шли также по поводу малороссийских дел — и г. Попов подробнейшим образом рассказывает (опять общеизвестные) события малороссийской истории; мало того: с Польшею были в сношениях западные государства — иг. Попов подробно рассказывает их историю. Как, например, начинается история русского посольства в Польше? — Следующим образом;
В 1672 году, 7-го апреля, в пасмурный и дождливый день по улицам Парижа разъезжали в торжественной одежде глашатые с трубачами, объявляя на всех перекрестках и площадях, что король французский, недовольный в отношении к нему поведением соединенных Голландских Штатов, начинает с ними войну на суше и на море. «Объявление» не поразило новостию парижан; они давно знали о намерениях короля и т. д.
Такой метод напоминает статьи одного, из наших историков русской литературы, который по случаю сочинений Жуковского
перевел почти всего Гервинуса, а говоря о Карамзине, выписал 17 страниц Лессинговой драмы «Эмилия Галотти» *. Нельзя упрекнуть г. Попова, чтоб он из-за известий о состоянии погоды в Париже 7 апреля 1672 года — опускал подробности дипломатических переговоров России с Польшею; но эти подробности, интересные и важные, потоплены в рассказах о посторонних событиях, не имевших никакого права занимать две трети его книги. Читатель теряется в этом хаосе.
Еще существеннее другой недостаток — г. Попов считает русского посла в Польше в 1673–1677 годах, Тяпкина, необыкновенно глубокомысленным государственным человеком и везде выставляет основательность и мудрость его — между тем, события нисколько не оправдывают такого мнения. То же самое надобно сказать и о многих других действователях той эпохи. Г. Попов не рассматривает критически соображений или, лучше сказать, привычек, на которых основывался ход переговоров, не имеет самостоятельного взгляда на существенное положение дел. Он пишет не историю, а апологию.
Потому его сочинение не такой труд, который окончательно объяснял бы историю отношений России к Польше в последние годы царствования Алексея Михайловича, а только сборник материалов, нуждающихся в критической переработке.
Но как сборник материалов, оно имеет большое достоинство. Г. Попов пользовался неизданным «статейным списком» и «отпусками», т. е. подлинными дипломатическими депешами Тяпкина, русского посла в Польше в 1673–1677 годах, и представил из них драгоценные выписки, выбранные, сколько можем судить, внимательно и удачно.
Камчатка и ее обитатели. Спб. 1855
Книжка эта, очень тоненькая, заслуживает благосклонного внимания читателей, потому что написана красноречиво, хотя и не совсем грамотно. Например, приводя стихи Грибоедова:
В Камчатку сослан был,
Вернулся Алеутом
автор объясняет их так: «этими словами поэт вполне обрисовал современные понятия, в которых заключалось, даже примешивалось, что-то заколдованное, превращающее».
История Рима от основания города до рождества христова. М. Богоявленского. Спб. 1855
Трудно объяснить себе, по каким соображениям и с какою целью написал эту маленькую книжку г. Богоявленский. Учебником она быть не может, потому что во всех учебных заведениях римская история преподается как часть древней истории вообще. Спекуляцией) также нельзя назвать его книжку, потому что предмет ее нимало неудобен для привлечения малограмотных читателей животрепещущим интересом заглавия. Претендовать на какое-нибудь ученое значение книжечка эта не может. Потому надобно признаться, что ее появление — загадка, не обещающая никакой пользы автору. Если он не занимается римскою исто-риею, почему он выбрал именно ее предметом сочинения своего, почему не написал истории Турции, Англии или другой страны, возбуждающей интерес в настоящую минуту? А если б он занимался римскою историею, он должен был бы написать книгу, КО' торая отличалась бы какими-нибудь достоинствами.
Обозрение трактатов о морском торговом нейтралитете.
Составил Л. Д.1 Спб. 1854
Брошюра эта — отдельный оттиск статьи, помещенной в «Морском Сборнике». Рассматривая разные конвенции морских держав в XVII и XVIII веках, особенно декларации и манифесты Екатерины II о «вооруженном нейтралитете», автор доказывает, что все державы, кроме Англии, допускали всегда нейтральную торговлю с державами, находящимися в войне между собою, и что, следовательно, Англия, не признающая этого правила, действует вопреки оснований общенародного права. Изложение свое г. Л. Д. подтверждает также общими соображениями, выводимыми из самого понятия о войне, и примерами, заимствованными из истории средних веков.
Путевые записки русского художника. И. Захарова
Вторая часть. Спб. 1855
Разбирая первую часть «Путевых записок» г. Захарова, «Современник» и другие журналы отдали справедливость простоте рассказа и занимательности многих страниц этих воспоминаний, замечая в то же время, что язык «Путевых записок» очень нуждается в исправлении '. Вторая часть написана языком не совершенно еще удовлетворительным, но уже гораздо более правильным, и потому может быть прочитана гораздо легче, нежели первая. Небольшая книжка, изданная теперь г. Захаровым, рассказывает — очень подробно — один только анекдот, правда, анекдот занимательный и даже романический, так что походит более на беллетристическое произведение, нежели на записки путешественника. Любимая одалиска султана Махмуда II, Биби-Са-гида, поехав однажды покупать себе наряды, влюбилась в молодого купца, грека Констаки. Долго влюбленные видались в лавке Констаки; наконец Биби-Сагида заметила, что гаремные соперницы подозревают ее любовь. Оставалось одно средство спасения — бегство. Констаки нанял греческое судно и увез Биби-Сагиду в Грецию. На пути открылось, что Биби-Сагида племянница капитана Леонида, гречанка Мария, похищенная пиратами и проданная на константинопольском рынке. Рассказ г. Захарова можно, как мы заметили, упрекнуть в растянутости, но простота его вознаграждает до некоторой степени этот недостаток. Приключения Констаки, Биби-Сагиды и Леонида так походят на роман, что анекдот, переданный г. Захарову евнухом Сарай-бурнус-ского гарема, можно было бы считать прикрашенным, если б сам г. Захаров не видел потом в Триесте героиню этого события. Ее жизнь текла тогда (в 1850 году) самым прозаическим образом — бывшая любимица Махмуда содержала гостиницу. Блестящие глаза еще говорили о прежней красоте этой женщины.
Описание замечательнейших лабораторий Германии и Бельгии. Составлено Петром Кочубеем. С XVII чертежами лабораторий и химических аппаратов в большой лист
Произведя переворот в науке, Либих произвел переворот и в, преподавании химии. До него химия была наукою по преимуществу теоретическою. Оттого и химические опыты производились в небольшом размере и занимался ими только профессор. Либих ввел преподавание практическое, допустил и начал поощрять студентов к самостоятельному занятию химическими операциями; с тем вместе и опыты, получив агрономическую и технологическую цель, стали производиться в большем размере. Все это имело следствием необходимость возвысить важность и увеличить размер химических лабораторий. Прежде они устроивались где попало й как попало; теперь требуют они обширных помещений, со всеми удобствами для многочисленных аппаратов и для производства разнообразнейших опытов.
До сих пор на русском языке не было еще сочинения, в котором бы описывалось новое устройство лабораторий. Это побудило г. П. Кочубея, которому было поручено летом 1853 года осмотреть замечательнейшие лаборатории Германии и Бельгии, издать их описание и чертежи. Лучшею из современных лабораторий считается Либихова (в Мюнхене); ее прежде всего и описывает г. Кочубей; потом сообщает описания лабораторий люттих-ской, дрезденской, берлинских и, наконец, лаборатории в Карлсруэ. Чертежи, приложенные к описаниям, исполнены прекрасно, равно как и самые описания. Вообще, на издании этом лежит печать добросовестного, с знанием дела исполненного, труда и вкуса.
Осада в взятие Византии турками. Сочинение М. Стасюлевича. Спб. 18541
Первою обязанностью историка считалась некогда критическая поверка рассказов, сообщаемых невежественными или склонными к реторике летописцами. Все невероятное в то время предписывалось откидывать из истории или стараться объяснить правдоподобным образом. Сколько превосходных анекдотов было тогда объявлено недостоверными или просто выдуманными! Взглянем хоть на греческую историю. Вся жизнь Ликурга была названа выдумкою, две первые мессенские войны, обильные самыми интересными приключениями, — объявлены недостоверными; Кадм и Данай, Кекропс и Пелопс признаны баснословными лицами; невозможно перечесть всех поэтических воспоминаний, которые были тогда провозглашены принадлежащими миру вымыслов, а не фактов. Каковы бы ни были частные ошибки людей, следовавших этому направлению, вообще надобно сказать, что они говорили сообразно с здравым рассудком.
Здравый рассудок! Ему ли, распорядителю мелких, прозаических житейских дел, быть законодателем в поэтической области истории? Как суха, бледна, безжизненна остается она, обнаженная холодным соображением от блестящей обстановки, которая сообщена ей преданиями! Нет, мы будем принимать жизнь во всей ее поэтической полноте. Мы восстановим низверженное суровыми скептиками! — Собственно говоря, скептики вовсе не были суровы, они были только осмотрительны; да и не скептиками были они, а просто рассудительными людьми. Но все равно, посмотрим, как действовали их противники.
Действовали они очень просто: все исторические рассказы, которые им нравились, по поэтическому ли своему характеру или по особенным каким-нибудь обстоятельствам, они провозглашали достоверными. Они готовы были доказывать историческую достоверность всех приключений Амадиса Галльского, готовы были считать достоверными все подвиги Добрыни Никитича и Ерус-лана Лазаревича. Эти рыцари-защитники всего, что не выдерживало никакой критики, были довольно странны. Но они увлекались по крайней мере поэтическою стороною басен. Если невозможно было с ними соглашаться, то надобно было признать в них чувство и искреннюю привязанность. Это историки-поэты.
Но другие люди отвергают критику, не хотят обращать внимания на правдоподобие рассказов только потому, что увлекаются соперничеством с Александром Дюма — им нужны антитезы, неожиданные встречи, измены, таинственные интриги и вся обстановка дюжинных романов. Они смотрят па историю, как на поприще для поражения читателей красотами слога, странными завязками и сюрпризами неожиданных развязок. Это историки-риторы.
Почему же не писать историю в том духе, как Дюма написал
Монтекристо и Трех Мушкетеров? Надобно только чувствовать и признаваться, что в таком случае дело идет о выказывании романического своего таланта, а вовсе не об открытии разных исторических истин. Дюма, сколько известно, не претендует на историческую достоверность своих интриг и развязок; он только спрашивает: каково придумано? не правда ли, хитро? Не правда ли, никому этого не могло притти в голову?
Нет, историки-риторы не довольствуются таким скромным взглядом на сущность своих изобретений: они считают каждую натяжку исторических фактов, какую удалось им сделать в угоду своему желанию отличиться неожиданностью своих заключений, — каждую такую натяжку они считают глубокомысленным соображением, великим открытием, бросающим совершенно новый и необыкновенно яркий свет на ход исторических событий.
Этому обольщению особенно часто предаются молодые ученые. Потому с искренним удовольствием заметили мы, что г. Стасюлевич совершенно свободен от романического взгляда на историю. Он смотрит на внутренний смысл фактов проницательно и положительно, находит сокровенные пружины того важного исторического события, которое объясняет в своей брошюре. Тем не менее мы позволяем себе усомниться в безусловной справедливости его взглядов на ход событий. Он становится на точку зрения, совершенно чуждую обыкновенным историческим понятиям, — утешительный факт, свидетельствующий о самостоятельности его таланта. Но, конечно, он не ожидает и сам, чтобы все, привыкшие видеть объясняемые им события совершенно в другом свете, с первого же раза отказались от мнений, которые так издавна были приняты историками, и, повидимому, так просто и удовлетворительно объясняли ход дела. Мы готовы признать, что взгляд г. Стасюлевича гораздо глубокомысленнее обыкновенного взгляда, напомянуть о котором мы считаем нужным; потому и легко нам сознаться, что основания, на которых построены заключения г. Стасюлевича, часто остаются для нас несколько темными. Если сопоставление фактов и обыкновенных понятий с «совершенно новыми результатами», до которых, по собственному справедливому замечанию, дошел г. Стасюлевич, хотя несколько будет способствовать отстранению этой темноты, мы почтем себя достигшими нашей цели.
Что побудило Мухаммеда II предпринять осаду Константинополя с решительным намерением взять его? Это существеннейший вопрос для г. Стасюлевича, и он разрешает его так:
«Магомет II… видел… что дело идет вовсе не о независимости Византии; что эта независимость есть одно громкое слово. Магомет II увидел, что вопрос состоит не в том, быть или не быть Византии независимою; другое занимало латинцев: кто должен владеть Константинополем? они или турки? а при таком вопросе Магомет II хотел решить его в свою пользу. Его опытность и пример прошедшего убедили, что при миролюбивой и строгой честности его отца, Мурата II, козиям латинцев не будет конца, что они вечно будут хло-
потать о независимости Византии, пока не овладеют ею сами и в личине защитников греческой независимости останутся претендентами на овладение Византии. Магомет II сознал, что латинцы ищут господства на востоке, и, следовательно, стремятся с ним к одной и той же цели и потому решился предупредить их. Вот оттого-то Магомету и не спалось с тех пор по целым ночам и он только и думал о том, каким бы образом достигнуть своей цели».
Итак, Мухаммед II вовсе не был врагом Византийской империи; он напал на Византию только для того, чтоб изгнать из нее латинцев. Не опасайся он, что латинцы овладеют Византиею, он и не подумал бы завоевать ее.
Но сам г. Стасюлевич говорит, что греки ненавидели латинцев; что вступали с ними в союз, всегда ненавистный для греков и мгновенный, только потому, что должны были искать каких бы то ни было союзников, хотя б и ненавистных, для защиты Константинополя от турок, и как скоро была хоть малейшая надежда на спокойствие со стороны турок, греки разрывали союз с латин-цами и давали полный простор своей ненависти к ним. Не ясное ли дело, что г. Стасюлевич, в приведенном выше объяснении, причину (вражду Магомета) ставит следствием, а следствие (минутный и насильственный союз с латинцами) причиною? Все факты в его собственной книге противоречат его объяснению. Он сам говорит, что греки не питали ненависти к туркам, а смертельно ненавидели латинцев; если б Мухаммед II хотел уничтожить латинское влияние в Византии, он достиг бы этого (как много раз и случалось прежде), дав хотя минуту спокойствия Византии.
И неужели можно думать, что Мухаммед II не желал завоевать Византию, а был принужден к тому? Это необыкновенно странно. Турки только и жили завоеваниями, расширение границ было единственною мыслью их. И не проще ли всего думать, что, постепенно отнимая одну область за другою у православных (греков и сербов) на Балканском полуострове, турки думали просто о завоевании этих областей, о грабеже, дани и владычестве, а не о том, приятно или неприятно это будет латинцам. Кажется, очень натурально думать, как и доказывают все без исключения факты турецкой истории XV–XVI столетий, что турки, делая завоевания, искали именно добычи и завоеваний. Неужели стремление завоевать последний город, оставшийся у греков, не было естественным следствием завоевания всех греческих областей? И мог ли честолюбивый Мухаммед II быть покоен, пока не завоевана им столица завоеванного царства?
Против латинян или против греков вел Мухаммед II осаду Константинополя, кажется, очень ясно видно из того, что он осаждал греческую часть города, а с латинским предместьем его, Галатою, и не думал начинать вражды. Г. Стасюлевич сам прекрасно это говорит: «ближайшие соседи осажденных греков, Галатские генуэзцы поступили коварно: они объявили себя нейтральными, а во время осады даже помогали тайно туркам».
Далее следует вопрос: отчего осада Византии была так продол-
641
41 Н. Г. Чернышевский, т. II
жительна? Это совершенно объясняется тем, что Византия была крепость довольно сильная и в неприступном почти местоположении, а турки не умели осаждать крепостей не только тогда, но и ныне. А тогда они, кроме того, не умели даже и стрелять из пушек — все это говорится у самого г. Стасюлевича на каждой странице. Можно ли скоро взять крепость, не умея стрелять из пушек? Кажется, это объяснение совершенно достаточно. Но г. Стасюлевич им недоволен. Причиною медленного хода осады он полагает то, что верховный визирь, Галиль-паша, с ведома султана помогал грекам и противился султану во всем, будто бы равный равному. Галиль-паша мог считать осаду Византии предприятием ошибочным, мог благоприятствовать грекам, но противиться султану! — за это он был бы казнен и по нынешним европейским законам, не только по турецким обычаям, был бы казнен самым хладнокровным полководцем, не только неукротимым Мухаммедом II. Напрасно г. Стасюлевич без всякой критики принимает за положительный факт каждое реторическое выражение, находимое у греческих писателей. Он, впрочем, постоянно высказывает слишком некритическую доверчивость каждому их слову. Так, выписывая из греческого летописца длинные разговоры султана с тем или другим визирем, он постоянно предполагает, что разговор этот записан с дипломатическою точностью, будто бы летописец сам присутствовал в палатке султана, — возможна ли такая доверчивость? Кто имеет понятие о византийских историках, знает, что они сами сочиняли разговоры, иногда по темным слухам о их содержании, иногда просто на основании слуха, что был разговор неизвестно о чем, иногда, наконец, просто по собственному соображению. Таков был их способ изложения. С ним знаком всякий, кто раскрывал не только какого-нибудь византийца, но хотя нашего Нестора.
Точно так же г. Стасюлевич с совершенною доверчивостью принимает все слухи и толки, носившиеся между легковерными греками и записанные хотя в одном из его источников. Некоторая критика здесь была бы уместна. Конечно, она лишила бы рассказ г. Стасюлевича многих драматических страниц и романических подробностей; а г. Стасюлевич прекрасно их передает; потому почти не жалеем о недостатке этой иссушающей критики. Мы готовы предоставить ее людям, не владеющим даром рассказа, не проникнутым пылкостью одушевления. Скажем, однако, что если для истории осажденных главнейшим источником должны служить византийцы, то для истории осаждающего войска не бесполезно было бы пользоваться также известиями турецких летописцев, сообщенными у разных новейших историков. Быть может, также не бесполезно было бы обратить более внимания не только на изложение фактов (это делает г. Стасюлевич), но и на соображения новейших историков — тогда противоположные им мнения г. Стасюлевича, быть может, получили бы более широты.
Несмотря, однако, на все высказанные нами замечания, мы должны назвать брошюру г. Стасюлевича сочинением замечательным и прекрасным во многих отношениях. Его прекрасный рассказ приятно разнообразится многими превосходными эпизодами, из которых выбираем следующий, очень характеристический. Подробно описывая занимательное и важное для завоевания Константинополя путешествие Франтцы в Иберию (Грузию), г. Стасюлевич говорит, что Франтца «часто вступал в разговоры» с туземцами:
Особенно замечательна одна беседа его с столетним старцем Ефраимом, уроженцем какого-то Иберийского города (название его осталось неразобранным в манускрипте). Ефраим был взят в плен еще отроком и продан варварами во внутренние области Персии. Господин Ефраима занимался торговлею с Индиею и брал его часто с собою по торговым делам. В одно из таких путешествий пленник убежал и, долго скитаясь по различным пустыням, прибыл на какой-то остров, где жили Макробии, т. е. долговечные; так они назывались потому, что каждый из них жил на менее 150 лет. Такой долговечности содействовал климат страны, в которой круглый год не сходили с деревьев плоды: одни цвели, другие наливались, а третьи уже созревали. Там росли индейские орехи, находился магнитный камень и там же брал начало Нил. В июле и августе в этой стране наставало более холодное время, потому, объясняет Ефраим, что солнце обращалось тогда к нашему северному полушарию; здесь и заключается причина, продолжал рассказчик, почему в эти два месяца Нил выступает из своих берегов До прихода в эту страну Ефраим должен был переправиться через какую-то реку, весьма опасную по своим Амфибиям, которые на туземном языке называются «зубастые тиранны» (odontotyrannoi) и которые могут пожрать целого слона. Много было и других там ужасных зверей: попадались змеи в 70 футов длины, ночницы величиною с ворона и мухи — с воробья. Слонов было там так много, как у нас быков или овец, и они паслись стадами. Прожив несколько лет у Макробиев и изучив их язык, Ефраим пожелал возвратиться домой. Туземцы указали ему дорогу к одному приморскому местечку, где приставали корабли, идущие из Индии с ароматами. Ефранм нашел в гавани испанский корабль, на котором он и прибыл в Португалию; оттуда странник переехал в Англию и потом через Германию возвратился на родину в Иберию, нашу Грузию. Это путешествие Ефраима кругом тогдашнего света и его странствование по внутренней Африке от истоков Нила к берегам Атлантического океана, только что открытым португальцами, принадлежало бы к одним из замечательнейших памятников средних веков, если бы Франтца, увлеченный собственным делом, не поскупился на его описание (стр. 29–30).
Действительно, этот отрывок в брошюре г. Стасюлевича очень замечателен. Многие другие не уступают ему; повторяем, «Осада и взятие Византии турками» книжка очень занимательная и ученая
<ИЗ № 3 «СОВРЕМЕННИКА»> Стихотворения А. Н. Майкова. Спб. 1854 год.
Бывало, уловить из жизни миг случайный И в стих его облечь — блаженство для меняі Меня гармонии тогда пленяли тайны И сам своих стихов заслушивался я.
Я ими тешился, их мерно повторяя Украдкой, как скупец, который по ночам Червонцы по столу горстьми пересыпая.
Как бы неведомым внимает голосам.
Теперь не служит стих мне праздною забавой.
Он рвется из души, как отклик боевой На зов торжественный отечественной славы.
В этих немногих строках находится полное объяснение того направления, которое в последнее время приняла муза г. Майкова, вдохновение которого в прежние времена преимущественно обращалось к древнему миру, или, подобно большинству русских прозаиков, трудилось над решением сложной задачи о современном человеке (как, например, в «Двух Судьбах») '. Так, «теперь стих уже не служит поэту праздною забавой», по его собственному выражению, с которым, впрочем, мы не совсем согласны, ибо никогда не согласимся признать «праздною забавой» несколько превосходных стихотворений, которыми поэт обязан прежним предметам своего вдохновения. Но таковы поэты; они часто любят крайности. Чрезмерное самоуничижение и пылкое сознание своего значения быстро сменяются в их душе; г. Майков, отнимая всякую цену у своих прежних произведений, так характеризует свои последние стихотворения:
Мой стих есть тоже меч,
Я чувствую, что в нем есть сила, как в молитве;
В нем блещет идеал России молодой.
Он в поэтическом восторге говорит, что у него одно непоколебимое убеждение:
Оно в той вере величавой,
Что Русь живет в моей груди;
Что есть за мной уж много славы
И больше будет впереди (стр. 40).
Публика, конечно, будет беспристрастнее и, отдавая должную справедливость новым произведениям г. Майкова, не будет называть прежних «праздною забавою».
Новое направление, одушевляющее лиру г. Майкова, отголосок того чувства, которым ныне проникнуто сердце всякого русского патриота; оно вызвано справедливым убеждением нашего поэта, что
Неполны воинские лавры
Без звона неподкупных лир
Что наше время требует своего Державина:
Что слышу? что сердца волнует?
Что веселится царский дом?.. '
Опять Россия торжествует!
Опять гремит Кагульский громі
Опять времен Екатерины,
Я слышу, встали исполины…
Но мой восторг не полонI нет!
Наш век велик, могуч и славен;
Но где ж, Россия, твой Державин?
О где певец твоих побед?
И где кимвал его, литавры,
Которых гром внимал весь мир?..
Неполны воинские лавры Без звона неподкупных лир!
Кто днесь стихом монументальным Провозвестит потомкам дальным,
Что мы все те же, как тогда…
В самом деле, какой русский не желал бы ныне стать поэтом, чтобы откликнуться на громкий вызов великих событий современности? Кто не хотел бы возвысить свой голос против врагов отечества, ‘
К ним стать лицом, поднять забрало И грянуть речью громовой?
Г. Майков сознал, что на нем, как на поэте, равного которому в настоящее время едва ли имеет Россия, прямым образом лежит обязанность сделаться органом общего чувства. Он смело приступил к исполнению этой обязанности и после нескольких стихотворений, рассеянных в журналах, дарит нам небольшую книжку с заглавием «1854», к событиям которого относится ее содержание. Это заглавие заставляет предполагать, что подобные книжки будут повторяться ежегодно. «Современник», всегда считавший своим долгом передавать на своих страницах явления, вызванные современностью, особенно когда самое имя, подписанное под произведением, ответствует за его содержание и достоинство, уже познакомил русскую публику с новым направлением г. Майкова; так, в изданной теперь книжке читатели найдут «Арлекина», помещенного в январском нумере нашего журнала, — Но большая часть стихотворений, в ней напечатанных, являются публике в первый раз. В числе их есть два стихотворения, свидетельствующие и самою формою о том, как верно понимает г. Майков требования своего нового направления. Для выражения истинно народных чувств необходим народный язык, и мы считаем долгом указать стихотворения «Отставной солдат Перфильев» и «Пастух», написанные в совершенно новом для г. Майкова роде, но, по нашему мнению, столь же счастливые в этом роде, как «Клер-монтский Собор» в своей классической обработке. Вот небольшой отрывок из «Пастуха»:
Ох дорога ль моя, ты, дороженька!
Как пришло тебе твое времечко,
Не дорогой ты, стала улицей.
Разлетелися галки, вороны,
По березничку в стороне сидят:
Серый заинька в кустик спрятался, Приложил ушки, сам дрожит, как лист; Господа ль катят, шестерик валит,—
В стороне и те дожидаются;
Тройка ль бойкая несет купчика,
Пьян ямщик стоит, гонит что есть сил, — Да и ты, купец, поворачивай:
Ровно птицы снуют все фельдъегеря. Только утро-свет замерещится,
Уж скрипуч обоз без конца ползет,
Все добро везут, кладь казенную.
Вслед полки идут, — едет конница,
Кони фыркают, сабли звякают,
Усачи сидят, подбоченились, Говорят-шумят добры-молодцы.
Пастуха корят рохлей-увальнем,
Дураку кричат: «на кобылу сядь,
Сядь на пегую, да лицом к хвосту.
Мы с собой возьмем, прямо в вахмистры!» А потом идет артиллерия;
Пушки медные, все сердитые,
Фуры Крашены с сизым порохом;
Офицер идет хоть молоденький,
Только быстрый взгляд, носик вздернутый Пастуха опять дразнят молодцы,
Дурака корят рохлей-увальнем И с собой зовут позабавиться:
«Эй, деревня, слышь! зубки беличьи! Погрызи поди в сласть и до сыта —
У нас фуры вон все с орешками,
Все с орешками, все с чугунными».
Им пехота вслед; вперед музыка,
С запевалами, с пляской, с гиканьем; Ружья — что твой лес! каски медные, Полы загнуты, сапоги в пыли;
Идут — стонет дол! Чуешь — сила валит. Проучила меня зевать конница,
Проучила глазеть артиллерия:
Уж пехоте я в пояс кланялся,
С головы скчдал шапку старую,
Заслужил пастух слово доброе.
Брал я удали, заговаривал.
Провожал солдат семь и восемь верст; Разузнал от них, на чем свет стоит, Сколько в свете есть городов и сел,
И которые христианские,
И которые басурманские;
Как задумали злые нехристи,
Полонить пришли землю Русскую, Наругаться пришли над иконами.
Обижать пришли царя белого;
Да легко сказать, надо с бою взять,
А иа то пошло — так не выдадим:
С нами бог и царь, дело правое.
Ох дорога ль моя, ты, дороженька!
Ты не долго была битой улицей.
И прошло твое красно времечко,
Поосела пыль, поэатихла молвь.
Тишина легла безответная.
Прносмелился заяц, выглянул На дороженьку, стал осинку драть;
Галки, вороны почали скакать,
И один пастух одинешенек,
При дороженьке сиротинушка…
Эти прекрасные опыты в чисто-народном духе показывают нам, что талант г. Майкова столь же гибок, как и силен. Но в какой мере соответствует этот талант тому роду, который поэт избрал в последнее время, положительный ответ на этот вопрос произносить теперь, когда новая деятельность поэта только что начинается, полагаем, было бы рано. Теперь одно можно сказать с полным убеждением, — что если стих г. Майкова прибавил хотя единую искру одушевления к той массе патриотического энтузиазма, которым преисполнены русские сердца, то поэт, изменив направление согласно требованиям современности, поступил прекрасно и благородно — даже и в таком случае, если б эта перемена послужила в ущерб его таланту. Но о художественной стороне новых стихотворений г. Майкова мы предоставляем себе впоследствии поговорить подробнее.
В книжке г. Майкова находится девять стихотворений, — из которых некоторые довольно значительны по объему.
Вот названия всех 9 стихотворений: «Бывало уловить из жизни миг случайный», «Памяти Державина», «Клермонтский Собор», «Послание в лагерь», «Отставной солдат Перфильев», «Пастух», «Молитва», «Москве», «Арлекин».
Нет сомнения, что любители поэзии поспешат приобресть эту книжку, имеющую в настоящее время двойной интерес, как произведение даровитого поэта и как задушевное выражение общего чувства патриотизма.
Российская родословная книга, издаваемая князем Петром Долгоруковым. Части 1-я и 2-я. Спб. 1855.
Огромный труд, начало которого теперь явилось, заслуживает полной признательности со стороны всех, занимающихся русскою историею. Генеалогия, столь важная для истории, едва ли-бѵдет представлять затруднения русской истории XVI–XIX века, когда прекрасное предприятие князя Долгорукова, почти совершенно оконченное в рукописи, будет окончено изданием. О громадности его можно судить из того, что оно будет содержать полные родословные росписи трех тысяч знатнейших дворянских фамилий, из которых очень многие заключают более пятисот членов. Но важность этой книги равняется трудности ее составления.
Первоначально кн. Долгоруков намеревался поместить в «родословную книгу» все без исключения дворянские фамилии, суще-
ствующие или существовавшие в России; но, говорит он, подобный труд превышал бы силы одного человека; потому он решился ограничить его пределы и включить в состав своего издания только следующие главы: 1) российские князья; 2). графы;
3) бароны; 4) фамилии, имеющие титулы иностранных князей, графов и баронов; 5) происшедшие от великого князя Рюрика; 6) внесенные в бархатную книгу; 7) существовавшие в России до 1600 г.; 8) фамилии, существовавшие в Лифляндии и пр. в эпоху Ливонского ордена; 9) существовавшие в Польше до 1600 г.; 10) фамилии иностранного происхождения, существовавшие в отечестве до 1600 г.; 11) фамилии, члены которых в XVII веке были боярами, окольничими и думными дьяками или дворянами; 12) малороссийские, которых члены были старшинами до 1764 г.; 13) члены которых служили со времени Петра Великого в первых двух классах; 14) известнейшие из угасших фамилий. Две изданные ныне части обнимают три первые главы. Конечно, мы можем представить только общие выводы или как бы оглавление важного для истории труда князя Долгорукова.
Княжеских фамилий, происшедших от рода великого князя Рюрика, существует ныне 39, именно: 1) от потомства князей Черниговских: князья Одоевские, Кольцовы-Масальские, Горчаковы, Елецкие, Звенигородские-Спячие, Барятинские, Оболенские, Долгоруковы, Щербатовы, Святополки-Четвертинские, Святополки-Мирские (всего 11); 2) от потомства князей Галицких; князья Друцкие, Бабичевы, Путятины, Друцкие-Соколин-ские, Друцкие-Любецкие; 3) от старшей ветви князей Смоленских: князья Вяземские; 4) от потомства князей Ярославских: князья Щетинины, Засекины, Сонцовы, Сонцовы-Засекины, Шаховские, Морткины, Шехонские, Львовы, Прозоровские, Дуловы (всего 10); 5) от младшей ветви князей Смоленских: князья Кропоткины, Козловские; 6) от потомства князей Ростовских: князья Щепины-Ростовские, Касаткины-Ростовские, Лобановы-Ростовские; 7) от потомства князей Белозерских: князья Белосельские, Вадбольские, Шелешпанские, Ухтомские; 8) от потомства князей Суздальских: князья Шуйские; 9) от потомств князей Огародубских: князья Гагарины, Хилковы.
От Гедимина происходит восемь княжеских фамилий; семь фамилий иноземного происхождения (грузинского и ногайского) внесены в число князей при составлении общего гербовника; пятнадцать фамилий возведены в княжеское достоинство высочайшими указами с 1709 по 1853 год; таким образом, князь Долгоруков насчитывает 69 российско-княжеских фамилий.
Кроме княжеских, от Рюрика происходят еще 21 дворянские фамилии, именно: Лузины, Огинские, Сатины, Татищевы, Заболоцкие, Дмитриевы-Мамоновы, Внуковы, Монастыревы, Судаковы, Аладьины, Цыплетевы, Мусоргские, Еропкины, Травины,
Ржевские, Толбузины, Березины, Осинины, Ляпуновы, Ильины, Ивины. Поэтому всех фамилий, происходящих от Рюрика, князь Долгоруков считает 60.
Фамилий, возведенных (до 1850 г.) в графское достоинство Российской империи, князь Долгоруков считает 60.
Фамилий, возведенных в баронское достоинство Российской империи, 10.
Фамилий иноземного происхождения, признанных в княжеском достоинстве, 28 и грузинских фамилий, признанных в том же достоинстве указом 6 декабря 1850 г. — 58, всего 86.
Фамилий, имеющих титул графов иноземных держав, 90.
Фамилий, имеющих титул баронов Великого княжества Финляндского или иноземных держав, 76.
Русских дворянских, внесенных в бархатную книгу или существовавших до 1600 года, 817. Древних фамилий иноземного происхождения — 1 048.
О времени происхождения славянских письмен. Сочинение О. Бодянского. Москва. 1855 года.
Огромная монография г. Бодянского, составляющая толстый том в большую осьмушку, принадлежит к числу сочинений, изданных по случаю празднования столетнего юбилея Московского университета. Не думая, чтобы вопрос, занимающий ученого автора, мог быть решен согласно или несогласно с его мнением так положительно, как делает это автор, мы только изложим кратко основание гипотезы, принимаемой и опровергаемой г. Бодянским.
Кирилл и Мефодий прибыли в Моравию, куда князь Ростислав вызвал их из Константинополя, проповедывать христианство на славянском языке в 863 г. и принесли с собою священные книги, уже переведенные на славянский язык. Итак, если предположим, что перевод был сделан именно для мораван и азбука изобретена именно для написания этого перевода, то надобно думать, что она изобретена незадолго до отправления Кирилла из Царьграда в Моравию, и, оставляя Кириллу несколько месяцев на перевод книг, вероятным годом изобретения надобно будет предположить 862 или даже конец 861-го. А некоторые свидетельства говорят, что азбука действительно изобретена по поводу призвания в Моравию. Но другие свидетельства прямо указывают годом ее изобретения — 855. Если принимать это показание (считая неточными подробности, будто бы Кирилл, посылаемый к мораванам, спрашивал греческого императора: есть ли у них азбука? а император отвечал: нет, отец мой и дед исследовали, есть ли у них азбука, и нашли, что нет), то легко объяснить, почему азбука была изобретена за шесть или семь лет до призвания в Моравию. Кирилл и прежде занимался проповедью евангелия язычникам на северных границах империи, о чем подробно рассказывают его жизнеописания; а в числе этих иноплеменников были, конечно, и славяне; итак, можно предположить, что Кирилл изобрел азбуку и перевел нужнейшие богослужебные книги для этих прежних слушателей, а не для мораван, которые (продолжается это соображение) и прислали за проповедниками в Константинополь, вероятно, потому, что слышали, что эти проповедники совершают службу на славянском языке. Этого мнения держался Шафарик. И если бы мы захотели доказывать неосновательность противного, то могли бы привести много возражений против его вероятности. Но большой вес этому прежде отвергавшемуся мнению (о изобретении азбуки для мораван, т. е. в 861–862 г.) придает то, что в последнее время Шафарик признал его вероятнейшим, отвергнув свое прежнее мнение о изобретении азбуки в 855 г. (т. е. для прежней проповеди Кирилла у других славян, а не по поводу призвания в Моравию, когда у него была уж готова азбука и перевод необходимых книг). Но углубляться в этот вопрос едва ли не значит только запутывать, а не прояснять его. Очевидно во всяком случае, что свидетельства разноречат, и что решение — примем ли мы 855 или 861—2 год, будет иметь только вероятность, а не положительную достоверность. Именно в таком смысле и высказывает свое новейшее мнение Шафарик: «Основание старославянской письменности положено Кириллом в Царьграде, вероятно, в конце 861 или в начале 862 г.».
Впрочем, разница шести или семи лет, кажется нам, вовсе не так важна, чтобы считать предпочтение того или другого решения, 861–862 или 855 год — вопросом первостепенного значения в истории славянской письменности. В том и другом случае остаются равно несомненными важнейшие стороны дела: азбука изобретена Кириллом, основание переводу положено в Константинополе. Гораздо важнее, нежели вопрос о годе, решение того: какому из славянских племен принадлежал язык, на который переведены Кириллом священные книги? Здесь опять множество разноречащих мнений. Одни говорят: перевод был сделан для мораван, следовательно, на моравское наречие; принимая это мнение, можно, если угодно, прибавлять: это наречие надобно отличать от нынешнего моравского, изменившегося под влиянием чешского; и наконец, идя еще Далее: и это неизмененное чешским влиянием моравское было одинаково с словацким; но правдоподобнее сказать, что оно погибло после вторжения венгров, опустошивших большую часть того моравского царства, в котором проповедывал Кирилл и которое простиралось на юг и восток далеко за цределы нынешней Моравской области. Другие говорят: Кирилл переводил на то наречие, которым говорил, а не на моравское, которого eine не знал. Какое же наречие было хорошо знакомо Кириллу? Опять ответы различны: 1) Болгарское, ио-тому что некоторые предполагают, что Кирилл и Мефодий до проповеди у мораван крестили болгарских славян; 2) цли на то наречие, которое Кирилл, проповедывавший в Херсонесе, нашел там, то есть наречие русских славян; 3) или наречие, которым говорили славяне, жившие около Фессалоники и в самой Фессало-нике, где родились и воспитывались Кирилл и Мефодий. Это последнее мнение всех правдоподобнее; но оно опять ведет к различным предположениям о том, каким же наречием говорили фессалоникские славяне. Иные думают, что из нынешних наречий ближе всего к нему хорутанское, которое, по их мнению, одно из южных наречий (болгарское, сербское, хорватское и хорутанское) осталось не смешанным, между тем как все другие подвергались влиянию сильных славянских племен, пришедших с севера к первобытным южным славянам; по мнению некоторых русских исследователей, ближе Есего к кирилловскому наречию — русское, потому что славяне, поселившиеся за Дунаем, были соплеменники русских славян, — те и другие одинаково называются Антами. Наконец, последнее предположение, самое правдоподобное, состоит в том, что фессалоникское или кирилловское наречие было самостоятельное, столь же разнившееся во время Кирилла от хо-рутанского, русского или болгарского, сколько эти наречия разнились между собою. Не исчисляем еще многих других предположений.
Кажется, что этот вопрос о языке перевода несравненно важнее едва заметной для хронологии разницы в шести годах, 855–861. Чрезвычайное разногласие решений его показывает, что ни одно из них еще не имеет за себя решительных доказательств. А между тем, положительные доказательства могут быть найдены, внимательное углубление в вопрос не останется бесплодным, не приведет к неопределенному «вероятно», как это должно сказать о хронологическом вопросе; здесь у нас есть положительные, непоколебимые данные: язык самого перевода и нынешние славянские наречия. Их критическое сличение с восстановленным по древнейшим спискам кирилловским текстом даст несомненный вывод. Итак, вопрос о языке, будучи гораздо важнее спора за незначительную разницу в цифрах, должен привлекать преимущественное внимание исследователей и тем, что удоборазрешим, не так, как спор о годе изобретения. Правда и то, что для спора о цифрах нужно только взять несколько уж всем известных выписок из десятка книг и потом пускаться в гипотезы; а вопрос о языке требует утомительных, долгих изысканий. Но, разве мало трудов и изысканий употреблено г. Бодянским на его монографию?
Впрочем, не только вопрос о цифре года, но даже и несравненно значительнейший вопрос о том, какому племени принадлежал язык кирилловского перевода, относится к числу задач более интересных по своей трудности, нежели существенно важных для истории церковнославянской литературы. Издание памятников, вот теперь самая настоятельнейшая потребность ее; рядом с изданием должно итти исследование содержания; то и другое легко, потому что, благодаря трудам, почтенных наших славянистов, и особенно А. X. Востокова, фонетика и грамматика церковнославянского языка уже довольно разработаны, чтобы не задерживать дальнейшего развития изысканий; словарь также давно уже приготовлен А. X. Востоковым, и имя автора достаточно убеждает каждого в неоцененности этого давно ожидаемого труда, просьба об издании которого — неотступная просьба всех славянистов к общему учителю всех их.
Заговорившись о разных гипотезах и степени важности их мы забыли сказать, что г. Бодянский считает несомненным годом изобретения славянской азбуки 862 год и чрезвычайно сильно изобличает неосновательность всех своих противников. Нам кажется, что к людям, всякая распря с которыми стала теперь невозможною по давности их кончины, например, к Добровскому, Копитару, можно быть гораздо снисходительнее, если б даже и любить делать рыцарские вызовы современным ученым, не разделяющим столь твердой уверенности.
Русская геральдика. Сочинение А. Лакиера. Спб. 1855.
Две части.
Издавая свое сочинение, г. Лакиер назначает ему двоякую цель: служить практическим руководством для составления гербов тем лицам, которые вновь приобретают дворянство, или, принадлежа к старинному дворянству, еще не имеют гербов; это цель второстепенная; главное же значение, придаваемое г. Лакие-ром русской геральдике, основания которой он полагает своим добросовестным трудом, состоит в том, что г. Лакиер считает геральдику важною вспомогательной наукою для истории. Если бы г. Лакиер имел в виду одну первую цель, нам оставалось бы только сказать, что она очень удовлетворительно достигается его книгою. Значение употребительнейших эмблем, принятых в русские гербы, значение различных полей и частей герба излагается автором с достаточною полнотою и ясностью. Но едва ли бы г. Лакиер употребил столько времени и трудов на составление своей книги, если б не думал, что она может иметь большую важность в ученом отношении. Этого, должны мы, к сожалению, сказать, «Русская геральдика» не может иметь по самой сущности предмета. Особенного значения для науки не имеют подобные книги и для'Истории тех народов, у которых гербы были старинным учреждением; тем менее нуждается в пособии геральдики история русского общества, познакомившегося с гербами не ранее Петра Великого.
Степень важности многих вспомогательных наук зависит чисто от случайных обстоятельств. Так, например, чем беднер письменные памятники, оставшиеся от какого-нибудь народа или какой-нибудь эпохи, тем драгоценнее становятся материалы, доставляемые нумизматикою. Никто не вздумает писать римскую историю по римским монетам и медалям. Но для истории Карфагена, имеющей очень много пробелов в письменных известиях, дошедших до нас, монеты, отрываемые в развалинах карфагенских, имеют некоторую важность. Еще драгоценнее бактриянские монеты, при совершенном недостатке других данных, помогающие нам уловить хотя несколько сухих имен для истории этого безвестного царства. Точно так же, если б, например, у бактриян или пар-фов были в употреблении гербы, и если б до нас дошло несколько их, важность их была бы неоцененна. Но, к несчастию геральдики, гербы употребляться начали только во времена феодализма и рыцарства, с XI или XII века; а история средних веков, к нашему счастию, очень хорошо известна по бесчисленным летописям, актам, запискам, литературным произведениям и другим письменным памятникам, и гербы не могут сказать нам о ней почти ничего заслуживающего внимания. Генеалогия каждого знатного французского или немецкого рода и заслуги его предков подробно и отчетливо занесены в летописи и акты — какую же пользу для себя извлечет история, рассматривая герб этого рода, сообщающий неопределенные намеки на один или два факта из числа тысячи фактов об этом роде, превосходно занесенных в письменные памятники? Неужели надобно рассматривать гербы неаполитанских или испанских Бурбонов, чтобы узнать их происхождение от французских Бурбонов? Такова драгоценность и всех материалов, доставляемых западною геральдикою истории Западной Европы. Потому геральдика французская, английская, немецкая лишена всякого значения для науки и служит просто предметом любопытства для немногих любителей. Из ученых исследователей никто не считает ныне в Западной Европе нужным заниматься геральдикою.
Еще менее важности может иметь она в русской истории. Если б дошли до нас гербы Аскольда и Дира, мы были б очень рады возможности узнать, были ли между собою родственники Аскольд и Дир или нет. Но даже Олегов щит, сохранившись на вратах Византии, не сказал бы ничего интересного: подвиги Олега мы знаем довольно подробно из Нестора, знаем и то, что он был родственник Рюрика. А гербы не были известны не только при Аскольде и Олеге, но даже и во времена Алексея Михайловича русские люди не имели о них понятия, что прекрасно говорит Ко-тошихин, слова которого приводит и г. Лакиер. Неужели же мы узнаем что-нибудь интересное из гербов Александра Даниловича Меньшикова или барона Шафирова? Неужели рассмотрение герба Суворова-Рымникского познакомит нас с фактом, что он взял Измаил и разбил французов при Нови? Или нужно сличить герб Пушкина с гербом «Арапа Петра Великого», чтобы узнать, что наш поэт по женской линии происходил от Ганнибала?
Другое дело — подробное рассмотрение печатей и сфрагистика. Печати употреблялись с незапамятных времен и русскими, как и всеми другими народами. Правда, что на Руси употреблялись они такие, какие кому вздумается, а не по строгим правилам, как это было в некоторых других землях. Котошихин говорит опять, что даже в его время русские, когда им случалась надобность иметь печать, избирали каждый какую ему вздумается. Но все-таки исследование печатей XIV–XV веков, может быть, доставило бы несколько указаний для русской дипломатики, хотя, при беспорядочности употребления одних печатей, при общеизвестности значения других (напр., городовых печатей), нельзя и на этой скудной ниве набрать много колосьев. Потому русские историки, не получая большого пособия от сфрагистики, обращали, однако, на нее некоторое внимание. И чем более страниц уделил бы этой науке г. Лакиер в своей книге, тем более было бы в ней страниц, имеющих значение для истории.
Но на геральдику не считал нужным обращать внимание ни один из исследователей русской истории; и г. Лакиер, занявшись ею очень основательно, представил в своей книге неопровержимое свидетельство, что русская история ничего не теряла от небрежения, с каким оставляли в стороне этот предмет другие изыскатели. Внимательное рассмотрение не доставило ему ни одного факта, ни одного намека, сколько-нибудь интересного для исторических соображений.
Быть может, г. Лакиера поддерживала в его утомительной работе мысль, что он докажет древность русского дворянства и опровергнет мнение, найденное им в каких-то французских книжках, будто бы у нас нет древних родов. Но это мнение не стоило опровержения. Ни один иностранец, имеющий хотя малейшее понятие о России, не сомневается, что у нас есть довольно много княжеских и дворянских родов, происходящих от Рюрика, и таким образом имеющих тысячелетнюю древность. А к этому результату сводят все возражения г. Лакиера. Потому надобно думать, что он или не совсем точно понял мнение, которое опровергает, или, если встречал его действительно выраженным в том смысле, который занимает его, то написал свое исследование в опровержение ничтожного мнения. Писать книгу в объяснение того, что в России есть роды чрезвычайно древние, значит то же, что писать книгу в объяснение того, что русские говорят не по-татарски, — живут не в кибитках, а в городах и селах, едят хлеб, а не сырую рыбу, и т. д. Кто же сомневался в этом? Роды, происходящие от Ярослава, известны каждому из всякой книжки о русской истории, нового об этом нельзя сказать ничего, если не считать особенно важными следующих генеалогических доказательств о
существовании потомков Кия, Щека, Гостомысла и даже Мосоха (основавшего, как известно, Москву):
Принадлежат ли эти качества (древность и владение поземельною собственностью) нашему дворянству? Мы не будем вдаваться в подробности о быте наших предков в доисторические времена; заметим только, что и в то время были у славян старшины, вожди, роды которых не могли исчезнуть с прибытием к нам трех братьев Норманнов… История не сохранила известий, какие именно дворянские роды происходят от этого корня; тем не менее начало этих родов теряется в незапамятной древности (стр. 307 и 310).
Цветок на могилу певца в стане русских воинов.
Сочинение А. Иевлева. С.-Петербург. 1854.
Умом и чувством и душою Меня создатель наделил,
Как своей милостью святою,
И, благ податель, одарил По всемогущей своей воле Взамен богатой, красной доли Уменьем мыслить, рассуждать,
Уменьем думой забавляться,
Любви и чувству предаваться И сладко плакать и мечтать.
Этот список дарований автора приводит к трем замечаниям: 1) Нельзя не радоваться, что г. Иевлев наделен и одарен так щедро; 2) к числу его дарований по собственному его перечню не принадлежит дар писать порядочные стихи; 3) он подносит «цветок» не столько памяти «Певца в стане русских воинов», сколько собственным дарованиям.
Экономические очерки Александра Аплечеева. О монете.
Спб. 1854.
Брошюра г. Аплечеева заключает в себе не менее 30 страничек. Прочитав их, вы не узнаете, что такое монета, если не знали прежде; а если знали, то чтение брошюры не уменьшит вашего знания. Следовательно, сочинение г. Аплечеева очень удовлетворительно достигает своей цели доставить удовольствие автору, не принося вреда читателям, которых, впрочем, и не будет иметь.
Новые повести. Рассказы для детей. Москва. 1854’.
Книжка эта сама по себе не интересна. «Новые повести» едва ли не хуже всех старых и рассказаны самым неправильным языком. Но — какие странные события могут иногда возникать от самых незначительных причин! — книжка эта послужила поводом к следующему случаю.
Одна почтенная тетушка, имевшая пятерых племянников и племянниц, — если угодно, я даже могу их назвать по именам: старшего племянника звали Петруша, ему было тринадцать лет;
двух младших братьев звали Боринькою и Ваничкою; сестриц их — старшую Анетою, младшую Полиною — эта почтенная тетушка купила «Новые повести» и начала читать их с детьми. Много было прекрасных нравоучений в книжке; но всего более обратило на себя внимание тетушки правило, высказанное в конце одной из повестей: «Не должно быть неблагодарным; ибо неблагодарность есть порок». — Слышите, mes enfants, прибавила тетушка: нехорошо быть неблагодарным; это очень нехорошо.
— А что ж это называется: неблагодарный? спросил Ва-ничка.
— Неблагодарным называют, мой Друг, того человека, которому сделали какую-нибудь услугу, а он сам потом не хочет сделать такой же услуги своему благодетелю.
— А благодарные люди как же делают? спросила Полина.
— Они делают так: положим, я тебе доставила удовольствие; и ты мне старайся сделать удовольствие; тогда и будешь благодарна. Ты видишь, что я стараюсь вам доставить удовольствие; и ты делай так же.
— Ма tante, ведь вы доставляете нам удовольствие, когда читаете нам эту книжку? спросил опять Ваничка.
— Конечно, мой дружок.
Этот разговор происходил после обеда. Вечером приехали гости; сели играть в карты, дети остались одни в своей комнате.
— Messieurs et mesdames, знаете ли, что я вам скажу, — закричал Петруша, вскочив со стула: — тетушка говорила, что надобно платить услугою за услугу. Так ли?
— Разумеется, так; нечего и спрашивать, отвечали ему все в один голос.
— Я вздумал, что мы неблагодарные.
— Отчего ж это? спросила Анета.
— Как отчего? Ты уж большая (Анете было 11 лет); тебе пора понимать; ты не такая маленькая, как Полина.
— Я прежде была маленькая, а теперь я все понимаю, обидевшись возразила осьмилетняя Полина.
— Слушай же, если понимаешь. Большие пишут нам, детям, повести для нашего удовольствия; стало быть, и мы должны писать для больших повести. А если не пишем, значит мы неблагодарные.
Петруша был одарен замечательною силою ума, как вы, читатель, видите из этого. Уличенные в неблагодарности, слушатели его готовились уж заплакать — но он, не останавливаясь, продолжал свои умозаключения:
— Messieurs et mesdames, давайте же писать повести.
— Давайте писать, давайте писать, подтвердили хором убежденные логичностью его выводов messieurs и mesdames. Побежали в классную комнату, вынули свои тетрадки и принялись писать. Через полтора часа, когда добрая тетушка пришла напомнить де-гям, что пора ложиться спать, птенцы бросились обнимать ее, крича: «мы благодарные! мы благодарные!» и поднимали как можно выше, стараясь приблизить к ее глазам свои тетрадки. Сначала тетушка не могла понять ничего; но скоро Петруша, отличавшийся, как уж известно, даром слова, объяснил ей, в чем дело, и, восторгнувшись душою, тетушка повела писателей и писательниц в гостиную, рассказала всем присутствующим свою радость и просила послушать повести ее питомцев. Иные гости поморщились; другие высказали непритворное внимание — они, по своему добродушию, и не подозревали, что повесть — не детская игрушка.
Чтение началось по-очереди, с произведения младшей писательницы, Полины. Повесть Полины называлась
Пять лет.
Надежда Владимировна Вронская, когда была еще Nadine Иванишева, возбуждала общий восторг своею красотою. У ней были сотни поклонников; она отличала между ними блестящего барона Гаугвица. Он являлся повсюду, где ни была она. Он был ее тенью. Они знали, что любят друг друга. Однажды — этот вечер был восхитителен: ярко освещенная зала Большого театра была наполнена избраннейшим обществом Петербурга. Надина в упоении внимала дивным звукам Россини. Она была чудно хороша в ту минуту. С восторгом смотрел Гаугвиц на ее одушевленное лицо, и безвозвратное слово любви трепетало на его губах. — «Барон, Приклонская справедливо ревнует вас к этой девочке», шепнула ему на ухо кузина Надины, и барон вздрогнул. Он боялся насмешек Приклонской, его как молния поразила мысль: «Неужели Приклонская, эта неприступная, непобедимая красавица, может ревновать меня?» Мужчины любят суетно; их любовь — тщеславие, по крайней мере, любовь таких мужчин, как барон. Мысль о том, что Приклонская интересуется им, не давала ему покоя. На другой день на бале у графини Z *** барон был, хотя там не было Надины: он знал, что встретит там При-клонскую. (Пропускаем несколько глав из повести Полины; конец, как читатели догадываются, следующий: Надина уже Надежда Владимировна Бронская; она три года замужем; она говорит барону:) «Теперь я могу сказать, что я вас любила, потому что теперь я уверена в себе. Я не жалею о прошлом, я люблю своего мужа, который, и т. д. Прощайте же; помните или забудьте меня, для меня все равно. Но для вас лучше забыть меня, потому что я искренно жалею вас. Ах, зачем не любят нас тогда, когда мы так готовы любить!»
— Какой прекрасный слог! Какие нежные, тонкие штрихи! Как верно понят, как художественно воспроизведен характер Надины! Последняя сцена безукоризненно художественна! — Таков был общий голос гостей. Некоторые прибавляли, однако, что в повести мало непосредственности; что рефлексия вредит таланту, и что даровитая Полина должна более заботиться о непосредственности, и, — если можно так выразиться, — девственной свежести образов; что иначе рефлексия сгубит ее талант. Одна дама даже находила в повести Полины тенденцию, затаенную мысль, и была этим очень недовольна. Другая соглашалась с нею, что в повести есть мысль, но была в восторге от этой мысли. Многие мужчины уверяли, что характер барона неверен природе или исключителен; потому что мужчина способен так же самоотверженно любить, как и женщина; утрировку характера барона многие из них объясняли личною антипатиею Полины к мужчинам; другие возражали: нет, это просто следствие того, что автор — женщина; есть мужские характеры, которых не может понять женщина; но видеть в повести Полины филиппику против мужчин — верх нелепости; талант Полины отличается объективностью; в ее произведениях нет и следа субъективных симпатий и антипатий; лучшее доказательство того — прекрасная, благородная роль, какую дает она мужу своей Надины. Несмотря на эти разноречия, все были согласны, что у Полины много рефлексии, еще согласнее были в том, что она одарена замечательным талантом. Я, также присутствовавший на этот раз в числе гостей, не мог не сказать, что «Пять лет» — прекрасная повесть. Следовательно, это дело решенное, и вам, читатель, не принесет пользы никакое упорство. Лучше согласитесь с нами.
За восьмилетнею Полиною начал читать девятилетний Ва-ничка «рассказ»:
Старый воробей.
Сюжет его, если рштите, был несколько похож на сюжет «Пяти лет».
Свирцов, un homme blasé, не обращает внимания на Catherine Буллинскую, но когда робкая и небогатая девушка стала Катериною Васильевною Невзорцевой, блестящею и смелою дамою, он почел ее достойною дать занятие его утомленному, скучающему воображению. Она, ловко доведя его до формального объяснения, расхохоталась ему в глаза «самым непринужденным, веселым, звонким, ребяческим хохотом, и Свирцову показалось, что перед ним стоит не m-me Невзорцева, а Catherine Буллннская, и стыдно стало ему, и горько припомнилось ему в ту минуту его натянутое невнимание, его изученная холодность» и т. д. «Останемся же друзьями, мой милый, добрый m-r Свирцов», продолжая хохотать, сказала ему m-me Невзорцева и протянула ему руку: «вы совсем не так злы, как мне казалось когда-то».
Все нашли, что характер Свирцова нарисован мастерскою рукою; некоторые даже прибавили: «вот истинный герой нашего времени, разоблаченный от фальшивой лермонтовской драпировки». Нашлись даже господа, которые решили, что по развитию мысли — в художественном отношении они не сравнивают, обращая внимание преимущественно на мысль, которая душа повести, — что по развитию мысли Ваничка стоит выше Лермонтова; они хотели было прибавить, что это не доказывает еще превосходства Ваничкина таланта над талантом Лермонтова, а только то, что наше время далеко ушло вперед от лермонтовской эпохи; но этих слов уж почти нельзя было расслушать: едва послышалось выражение «мысль есть душа произведения», как двадцать голосов закричали: «а художественность? Она главное. Вы забываете художественность; мысль без художественности ничего не значит. Художественностью произведения дается ему мысль» й т. д.; в азарте даже не заметили защитники художественности, что та мысль, о которой дерзнули заикнуться их противники, чрезвычайно пустовата, так что обращать внимание на ее присутствие или ее отсутствие решительно не стоит. Защита художественности не могла умолкнуть в течение десяти минут, и потому повесть Ванички осталась не обсужденною; только вообще было высказано, что у Ванички несколько утомленный взгляд на жизнь и что он, конечно, много испытал, или, по выражению одного из гостей, «его талант возмужал в испытаниях жизни». Теперь была очередь Бориньки, и он прочитал;
Черная Долина (La Vallée Noire).
Oh! q 'e j’aime cette vie calme et douce.
Ceorge Sand.
У пастуха Ивана есть падчерица Марья. Она однажды вечером, стирая белье на живописной речке (см. «Jeanne», роман Жоржа Занда), слышит подле себя вздох — это Федор, который служит батраком на соседнем пчельнике; Федор подходит к ней и, почесывая в затылке, исподлобья смотрит на нее.
— Чаво ня видал, глаза-те уставил? не без наивного кокетства спрашивает Марья, слегка краснея.
— Эх, Машутка, больно тея полюбил-то! Уж во-как оно легко, ажно вот как колом стоит в сердце-то!
— Неправды? Не пустое ли башь, Федька?
— Эх, кабы в душу-то мне заглянула! Вот бы все начистоту
увидала, без прилыгу! Да чаво тее сказать? Во, бывало, сижу на пчельнике-ти, пчелок слушаю, как жужжат-то: больно хорошо
таково, гармонии бы не слушал (см. Maitres Sonneurs, par George Sand). Таперича и к пчелам охота отпала, а ведь пчелка наша кормилица! Все сижу да плачу; во оно каково, мне-то; а ты башь, обманываю!
— А коли любишь, что сватов не засылать? говорит насмешливо Марья.
— Али не знашь? Бедность одолела; во, постой полтинник зашибу, сватьбу справим, и т. д.
Дело кончается тем, что Федот, хозяин пчельника, узиав причину тоски своего батрака, дает ему вперед три целковых жалованья, на которые справляется богатая свадьба. Федор благодарит Федота:
— Уж так возблагодетельствовал меня, пуще отца родимого.
— Это что, ничаво; все люди должны суть пособлять дружка дружке, чтобы, знашь, рука руку мыла, как стары люди говори-вали, отвечает Федот, расчувствовавшись — у меня на душе таково сладимо: вот, значит, чувство есть; потому: человек есть: добро дело сделал, с меня и довольно.
По окончании Боринькиной повести был довольно жаркий спор о том, может ли простонародный быт дать содержание для художественного произведения. Некоторые говорили: не может; им возражали: может, и представляли, как неопровержимый пример, только что прочитанную повесть; но, прибавляли почти все защитники, только высокая художественность, до которой возвышается Боринька, только она и маскирует внутреннюю бедность содержания; иные, впрочем, не допускали «таких узких понятий» и предполагали, что для двух-трех повестей простонародная жизнь может дать содержание, несмотря на свое однообразие и даже пустоту. Один голос, напротив того, утверждал, что только простонародный быт и может дать истинное содержание для русского таланта, потому что только в Оренбургском крае сохранились русские элементы в неподдельном виде. Но все были согласны в высоком художественном достоинстве Боринькиной повести и до чрезвычайности восхищались удивительно глубокому знакомству Бориньки с простонародной жизнью и дивному его искусству владеть народным языком. Последнее не подлежало спору, потому что многие фразы его героев были не поняты слушателями, и Боринька должен был объяснять, что «ня, башь, тея, без прилыгу», значит: «не, баешь или говоришь, тебя, без всякой лжи». Находили один только недостаток: Боринька позабыл украсить свою повесть многими в высшей степени характеристичными народными словами: «молышь, касатка и махонький». Зато, говорили, с какой верностью воспроизвел он характеры и быт! Федор, почесывающий в затылке, объясняясь в любви, — несравненный тип; еще вернее подмечена черта наивного кокетства в Марье, говорящей: «а коли любишь, чаво же сватов не засылать», и с скромно-насмешливым кокетством спрашивающей: «чаво ня видал, глаза-те уставил». Высокая самобытность таланта Бориньки, его неподдельная народность были признаны неоспоримыми.
Теперь была очередь читать одиннадцатилетней Анете; но скромная девочка стыдилась, чувствуя, что ее повесть слаба сравнительно с прочитанными, а быть может и поняв, что дети
вообще едва ли могут писать повести. Петруша, досадуя на замедление, нетерпеливо желая похвастаться своим произведением, закричал: «если не хочешь читать, ша soeur, и не читай; не заставляйте ее, позвольте читать мне». Слушатели согласились, и Петруша начал:
Мой знакомец.
Иван Андреевич Загибин, которого Петруша саркастически называл своим знакомцем, намекая на многочисленность людей подобного рода, был тщеславен, любил прилгнуть, любил порою поиграть в карты, порою поволочиться или покутить. Эти пороки выставлялись Петрушею в самом ярком свете, и вся повесть была пропитана самою едкою ирониею. Вокруг Загибина группировались его приятели — франт, любивший выказывать свое уменье говорить по-французски, другой молодой человек, щеголявший своею любовью к итальянской опере и тонким знанием музыки, но смешивавший Донизетти с Беллини; третий молодой человек, любивший блеснуть своею начитанностью, высшими взглядами и остроумием. Петруша неумолимо разил и эти важные пороки. Другие лица были менее заметны, но столь же едко осмеяны, например, Иван Федосеевич, хваставшийся своими знатными друзьями.
Повесть Петруши нашла восторженных поклонников, хваливших автора за то, что он «нелицеприятно разоблачает недостатки общества»; нашлись, однако, многие, порицавшие Петрушу за эту беспощадность и говорившие, что сатира должна быть осторожна и что не на все должно смотреть с такой мрачной стороны, что жизнь представляет много отрадных явлений и что направление Петруши слишком едко. Впрочем, о повести Петруши говорили не так много, как о предыдущих. Согласны были все только в том, что юмор Петруши глубок и бичует самые мрачные явления современности, потому имеет необыкновенно важное значение. Согласились также, что не должно слишком распространяться об этом и что лучше обратиться к другим предметам разговора, которые, без сомнения, будут доставлены кротким, примирительным миросозерцанием Анеты; потому все снова стали упрашивать ее, чтобы она прочитала свою повесть. Анета продолжала отказываться; но тетушка сказала строгим тоном: Lisez, Annette; и Анета начала читать:
Фединька и Петинька.
Фединька не любил учиться, а Петинька любил учиться; Фединька говорил: я сам все знаю, а Петинька говорил: ежели я не стану учиться, то ничего не буду знать. Когда они выросли большие, Фединька ничего не знал, а Петинька стал умным человеком.
Все нашли, что повесть Анеты слишком суха и тривиальна и что едва ли даже не переведена она с немецкого или какого-нибудь другого языка; потому не стали о ней говорить и разошлись в приятной уверенности, что слышали четыре замечательные произведения и что были свидетелями возникновения четырех литературных направлений. Кроме того, все гости были уверены, что вечер был проведен очень поучительно, и что если, с одной стороны, было прочитано четыре прекрасные и глубокие произведения, то, с другой стороны, было высказано очень много дельных замечаний и очень важных мыслей. Две или три из этих мыслей были даже сказаны мною; потому я остаюсь в приятном убеждении, что вечер был приятен, занимателен и вообще прошел не бесполезно.
Но один из гостей, не участвовавший в наших рассуждениях, идя со мною по дороге, сказал, будто бы мы сами себя обманываем; будто бы прекрасные повести, нами слышанные, были совершенно ничтожны и будто бы о них не стоило говорить. — Почему же они ничтожны? — спросил я его, обидевшись. Но он, по какому-то странному капризу, заговорил о погоде, не отвечая на вопрос, что мне показалось вовсе неучтиво.
<ИЗ № 4 «СОВРЕМЕННИКА» >
Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского Московского университета за истекающее столетие, по день столетнего юбилея, января 12-го 1855 года, составленный трудами профессоров и преподавателей. Москва, 1855. Два тома.
История императорского Московского университета, написанная к столетнему его юбилею ординарным профессором С. Шевыревым. 1755–1855. Мосг^а. 1855.
Эти труды, изданные по случаю столетнего юбилея Московского университета, не только всегда останутся в числе главнейших материалов для истории самого университета, но, при чрезвычайной важности этого учреждения в общей истории русской образованности, должны сделаться справочными книгами для всех вообще занимающихся историею просвещения и литературы в России. Давно уж не выходило книг, столь драгоценных в этом отношении. «Биографический словарь воспитанников Московского университета», приготовляемый теперь к изданию, будет необходимым и, быть может, важнейшим в ряду капитальных изданий, которыми дарит нас достопамятный юбилей.
Если б от нас требовался полный разбор общей системы этих трудов, оценка и пересмотр всех подробностей, ими сообщаемых, мы должны были бы отложить извещение о них до появления в
свет «Биографического словаря воспитанников», который должен раскрыть важнейшую сторону значения Московского университета— его влияние на развитие русского образованного общества, умственной, государственной, ученой и литературной жизни в России. Без того наши понятия о деятельности первого из русских университетов будут неполны. Но знакомство с исто-риею университета уже значительно расширяется изданными теперь тремя томами материалов; и потому, отлагая пока мысль о полноте и всесторонности нашего отчета, мы не можем теперь умалчивать о важных трудах, которыми по справедливости уже должны интересоваться.
Принимая на себя обязанность написать историю Московского университета, можно было понимать свою задачу двумя различными способами, различие между которыми мы означим терминами, быть может, устаревшими, но точно выражающими характер того и другого способа — можно было стремиться к тому, чтобы составить прагматическую историю университета, или к тому, чтобы быть его летописцем. В первом случае надлежало, по существенному различию ступеней развития университета, разграничить его столетнюю жизнь на периоды; показать характер, внутреннюю жизнь и внешнее значение университета в первые годы его возникновения; потом постепенное расширение и возвышение этого учреждения. В таком случае самый текст истории вмещал бы в себе только существенно важные факты, связанные по их внутреннему сцеплению и изложенные со всею возможною полнотою. Но как материалы, из которых должны были извлекаться эти картины, большей частью еще не изданы или недоступны читателям по редкости старинных изданий, в которых погребены от большинства не только публики, но и ученых исследователей, то все важнейшее из этих материалов было бы, сообразно требованиям науки, напечатано в бесчисленных приложениях, из которых иные имели бы довольно большой объем. Так, например, поступил Карамзин и тем сообщил своему труду, с одной стороны, высокое литературное достоинство, с другой стороны, не заменимое ничем достоинство архива. Конечно, избрав такую форму, автор возлагает на себя работу очень многосложную и тяжелую; кроме того, драгоценные приложения значительно увеличивают объем книги; и мы, вероятно, назначаем слишком тесные границы изданию истории Московского университета, полагая, что объем книги г. Шевырева стал бы вдвое или втрое более, если б он решился следовать такому плану и извлечь для приложений все, что скрывается важного хотя в одних рукописных материалах, которыми он пользовался (как-то: 1) пятнадцать
томов актов Конференции за 1755–1770 годы; 2) переписка первых иностранных профессоров с Миллером; 3) семнадцать или более томов речей, произнесенных первыми профессорами;
4) бумаги М. Н. Муравьева; не говорим уж об извлечениях из
редких печатных изданий, иногда существующих в одном только экземпляре). Если б автор решился печатать эти приложения, он обременил бы свою историю, быть может, еще двумя, быть может, и более, томами. Конечно, это основательное опасение, а также отчасти и краткость времени, остававшегося для составления истории, побудило почтенного автора избрать летописную форму. Он подразделяет столетнее существование университета на одиннадцать периодов по времени кураторства или попечительства различных сановников, заведывавших университетом; кроме того, иные главы дробятся на хронологические отделы, еще более мелкие, часто заключающие не более двух нли трех лет; в каждой главе или подразделении главы идет множество рубрик, по которым расположены факты, касающиеся того или другого учреждения, существовавшего при университете, той или другой стороны университетской жизни; так что вообще внешнее подразделение фактов и известий преобладает над их внутреннею последовательностью. Конечно, таким планом много был облегчен труд составления книги, и мы предполагаем, что ему обязан почтенный автор возможностью изложить историю университета в том объеме, какой она теперь имеет у него.
Мы считали нужным упомянуть об этом отчасти и для того, чтобы ошибки и односторонности нашего последующего краткого обзора, вероятно, довольно многочисленные, не были приписаны читателями самому почтенному составителю «Истории Московского университета». Постоянно занимаясь изложением более или менее важных, по его мнению, фактов в той разрозненности, которая составляет необходимую принадлежность летописной формы, автор остерегается прагматизма, вероятно, считая его преждевременным, и мы могли только отгадывать отношения различных эпох жизни университета; при отгадывании почти неизбежны ошибки, и если они должны быть поставлены кому-нибудь в вину, то, конечно, нам, а не почтенному автору, нигде не высказывающему своих соображений о внутреннем развитии университета. Мы по необходимости должны отваживаться на это, вынуждаемые самою краткостью нашего очерка, которая требует выбора наиболее важных фактов и теснейшего их группирования, и, наконец, делает необходимостью набрасывать общие характеристики '.
До 1778 года можно назвать Московский университет еще только возникающим; все свидетельствует о том, что в это время существеннейшее значение его было — представлять зародыш, к которому могло бы привиться будущее расширение внутренних сил н внешней деятельности. Число профессоров было еще очень невелико; в 1761 году весь медицинский факультет состоял из одного профессора Керштенса, который читал то химию, то минералогию; весь юридический факультет также из одного профессора Дилтея, который читал то естественное, то римское право;
только в 1764 году являются товарищи тому и другому, и с этого времени юридический и медицинский факультеты имеют по два профессора. Первое начало действительному преподаванию анатомии было положено, вероятно, только в 1766 году. С 1765 года медицинский факультет имеет уже четырех профессоров, а с 1767 года имеет также четырех и юридический. Около 1770 чтение лекций во всех трех факультетах организовалось уже довольно правильно; но количество и успехи слушателей с трудом могли назваться удовлетворительными; так, в 1767 году на всем юридическом факультете было только четыре слушателя; акты 1770 года говорят, что до 300 студентов (с основания университета?) вышли, не окончив курса, и только двое юристов вполне его окончили. Беспрестанно профессоры жалуются на недостаток слушателей. Вообще, анекдоты, которые рассказывает Фонвизин в своих «Признаниях», едва ли преувеличены 2. Мы не имеем причин предполагать, чтобы это положение дел значительно изменилось и в последующие восемь лет, до 1778 года. Были, правда, некоторые слабые проявления ученой и литературной деятельности между студентами; иные из них переводили книжки, печатавшиеся в университетской типографии; были и со стороны профессоров некоторые попытки основывать литературные издания, учреждать литературные или ученые общества; но все это заслуживает внимания не столько по своему достоинству или успеху, сколько по тому, что служило приготовлением к будущему. Учение в гимназиях, основанных при университете, шло, вероятно, несколько успешнее хотя в том отношении, что гимназии имели большее число воспитанников.
С 1779 года университет получает дальнейшее развитие, благодаря заботливости своего куратора, М. М. Хераскова, о котором должно с признательностью вспоминать если не за его поэтические произведения, то за его услуги Московскому университету. Он отдает типографию на арендное содержание Новикову — и Московский университет становится центром новой русской литературы. Это, нам кажется, важнейшее дело Хераскова и важнейшее событие в истории университета до самых 1825–1835 годов. Нет надобности распространяться о влиянии Новикова и его дру. зей на развитие умственной деятельности молодого поколения. Теперь известно, что все литературное движение так называемой карамзинской эпохи также возникло из этого факта, которому, впрочем, служило только слабым продолжением, несмотря на весь свой блеск. Оживлению умственной деятельности в студентах соответствует и появление таких профессоров, как Чеботарев, Мат-теи, Шварц, Гейм, Шнейдер, Баузе, Антоцский, Брянцев и другие. Важно также основание пансиона при университете, который становится действительно университетом, а не только зародышем его. Но, если мы не ошибаемся, в начале этого периода, простирающегося до 1803 года, деятельность обществ, примыкающих к университету, особенно к его типографии, сообщает существеннейшую важность его истории; в последнее десятилетие ученое преподавание, быть может, и совершенствуется, но уже не может одно вознаграждать за ослабевшую литературную жизнь. Дви-губский, Сохацкий и другие служат уже переходом к следующей эпохе.
С 1803 года ученые силы Московского университета возвышаются появлением множества новых профессоров, из которых достаточно назвать Мерзлякова, Гильтебранта, Гофмана, Шлецера, Буле, Цветаева, Каченовского, Тимковского, Болдырева, Сандунова, Снегирева. Но если заметно возвышение ученого достоинства преподавания, то мы еще не знаем, чем существенно отличается Московский университет 1810–1820 годов от университета 1790–1800 года. Мы готовы скорее отнести все это время к одному периоду с прежними годами.
Наконец, около 1820 г., с появлением Павлова, начинается приготовление нынешнего Московского университета, одного из достойнейших двигателей не только ученого образования в тесном кружке нескольких десятков прилежных студентов, но и вообще образованности во всей массе русской публики. Долго Павлов не имеет себе сподвижников, электризующих своим живым словом до энтузиазма. Но в 1813 году является Н. И. Надеждин; вслед за ним выступают люди, из которых мы назовем одного Крюкова, потому что учено-литературная деятельность других, еще продолжающаяся, не нуждается в напоминаниях. До 1835 года они составляли исключение, теперь они или их ученики занимают почти все кафедры. Наравне с значением Московского университета для общего движения просвещения в России возвышается и его деятельность в истинно-ученом раэработывании науки. Ряд этих ученых, которые были бы украшением всякого университета, начинается Д. М. Перевощиковым. За ним следуют: Павлов и Н. И. Надеждин, о другом значении которых мы уже говорили, М. П. Погодин, Дядьковскич. С. П. Шевырев, Ф. И. Иноземцев, Н. И. Крылов, Т. Н. Грановский, Рулье, А. И. Овер, О. М. Бодянский, Ф. И. Буслаев, К. Д. Кавелин, Я. А. Линовский, С. М. Соловьев, П. М. Леонтьев, К. Г. Швейцер, П. Я. Петров и другие достойные их сотоварищи.
Прежде нежели мы оставим «Исіорию Московского университета» и обратимся к «Биографическому словарю» его профессоров, мы должны, по спискам, находимым у г. Шевырева, привесть имена некоторых воспитанников Московского университета, деятельность которых служит вернейшим мерилом того влияния, какое имел он до сих пор на умственную жизнь России. Московскому университету и его пансиону обязаны своим воспитанием: Фонвизин, Богданович. И. П. Тургенев, Плавильщиков, Костров, Подшивалов, Матвей Деснинкий (митрополит Михаил), Стефан Глаголевский (митрополит Серафим), Озеров, кв. Шаховской.
Магницкий, Воейков. Мерзляков, Нарежный, Жуковский, А. Тургенев, Свиньин, Д. Языков (историк), А. С. Норов. П. Строев, Калайдович, Тютчев, кн. Одоевский, Ознобишин, Пирогов, Ве-нелнн, Пассек, Станкевич, Полежаев.
Большая часть составителей «Биографического словаря» руководились, повидимому, теми же правилами, которым следовал г. Шевырев. Большая часть биографий очень кратки, довольствуются сжатым обозрением официальной деятельности описываемого лица, формулярным его списком, исчислением изданных им сочинений и перечислением того, по каким предметам читаны были им лекции в Московском университете. Иногда прилагаются и программы лекций. Довольно часто прибавляются к этому характеристики; но обыкновенно также очень краткие и только в самых общих похвальных выражениях. Эти биографии чрезвычайно соответствуют характеру «Истории Московского университета», в которой также почти исключительно преобладает официальный тон, и полнее всех других событий университетской жизни рассказываются торжественные акты, речи, на них произнесенные, и административные распоряжения. Такие биографии, конечно, имеют большое и неотъемлемое достоинство: они служат источником несомненных справок для всякого, специально занимающегося предметом.
Но кроме них встречается несколько жизнеописаний, несколько подробных, и находятся иногда даже такие, которые очень близко знакомят с истинным значением деятельности или с личностью описываемоего ученого. Мы постараемся исчислить замечательнейшие из них и сообщить читателям несколько интересных отрывков.
Из написанных г. Леонтьевым заметим биографии: Крюкова и Тимковского.
Г. Соловьевым: Каченовского и Чеботарева.
Г. Тихонравовым: Баузе, Буле и Шварца.
Г. Шевыревым: Антоновского-Прокоповича, Барсова, Мерзлякова, Поповского и Шадена.
Г. Страховым: Мудрова и Страхова.
Заметим также биографию Павлова, составленную гг. Щу-ровским, Рулье и Калиновским.
Наконец, очень интересны биографии или, вернее, автобиографии многих из наших современников. Мы уверены, например, что все поблагодарят за любопытные воспоминания о своей молодости гг. Погодина, Максимовича и Морошкина.
Интереснее всех других биографий в чтении две биографии, принадлежащие г. Страхову: Мудрова, знаменитого врача, и Страхова, дяди автора. Он так просто и хорошо. передает любопытные рассказы этих людей, близко ему известных, так просто и живо изображает их личность, что надобно жалеть, почему у нас оедко пишутся подобные воспоминания вместо ничтожных не-крологоз, ничего не говорящих. Мы уверены, что читатели буду; благодарны нам за то, что мы постараемся познакомить их с одним из этих прекрасных очерков, и останутся недовольны только тем, что мы, по необходимости, сократили рассказ почтенного биографа.
Мудрое, Матвей Яковлевич, доктор медицины, ординарный профессор, действительный статский советник, родился в Вологде, 1772 года, 23 числа марта. Родитель его, священник Иаков Иоаннович Мудров, был, по тогдашнему времени, муж просвещенный, хорошо изучивший яэщки древние — латинский, греческий н еврейский; он очень уважал врачебную науку, любил читать творения Гиппократа и Цельса; осмеливался давать врачебные советы бедным людям, на исцеление простыми средствами, и был в тесной приязни со всеми тамошними врачами. Как добрый пастырь душ и сердец, он был всегда готов отдать последнюю сорочку, последнюю корку хлеба голодной, бедной нужде. Бывало, возвращаясь от дел служения домой, никак не умел он отказывать просящим милостыни, а таких на Вологде всегда великое множество. Раздавши все нз своего кармана, он приводил к себе домой тех, которым не мог сделать подаяния, и разделял с ними весьма неприхотливую трапезу свою. С таким добродетельным образом жизни он претерпевал крайние недостатки, так что в праздничные великие дни сплошь да рядом в семействе его не находилось и одной горсти пшеничной муки на пирожок либо лепешку, а в темное зимнее время почтеннейшая супруга его, Надежда Ивановна, должна была заниматься домашними делами и рукоделиями при свете лучины. Матвей Яковлевич свое первое образование начал под руководством родителя. При великих нуждах и бедности, без средств приобретать учебные книги, семинарское учение для молодого Мудрова было весьма трудно; ибо надобно было печатные книги списывать на тетради, да бумаги-то, необходимой на то, было нелегко промышлять. Вот как он воспоминал про свое детство: «Когда я был еще мальчишкой, — почасту на улице нгрывал с детьми городского переплетчика, сдружился с ними, хажнвал к ним в дом и с любопытством, бывало, сматривал на переплетную работу, даже и сам несколько перенял из этого мастерства. Поступивши в семинарию, начал я порядком переплетать тетради, сперва себе, после н товарищам, и до того наторел в этом деле, что иногда помогал самому переплетчику. За такие послуги мне плачивали товарищи, одни бумагою писчею, а другие и переплетчик давали мне малую толику деньжонок, которые в те поры были мне очень дороги: я прикапливал их на крайние свои надобности, особливо же на сальные свечи. Вот, бывало, зажгу свечу, сяду писать вечером, а матушка и подсядет ко мне с работою; я-то, бывало, и скуплюся светом, и застеняю ей, а она, голубушка, сперва покричит на меня, потом примется упрашивать, и обещает мне испечь при хлебах ржаную лепешку с толченым конопляным семенем, н вот у нас и лады с нею; сидим, бывало, молча и делаем каждый свое». — У тамошнего штаб-лекаря О. И. Кирдана подрастали два сынка, Илья. н Аполлон, и моло-' дой Мудрой был приглашен учить их началам русского и латинского языков, а что, кроме платы, по рублю в месяц, он получал иногда и подарки, кой-какое поношенное платье с плечей самого Кирдана. В 1794 году Матвей Яковлевич Мудров собрался в Московский университет. — «Будь прилежен к добрым делам, служи государыне верою и правдою, и господь бог не оставит призреть на тебя многощедфтным оком, так и будешь человек», — так сказал ему родитель, благословляя небольшим медным крестом, да подарил еще старую чайную фаянсовую чашку с отшибленною ручкою: «это на случай испить воды из ручья дорогою», и, наградив двадцатью пятью копейками медных денег, примолвил так: «Вот, друг мой, все, что могу тебе уделить.
Ступай, учись, служи, сохраняй во всем порядок quoniam ordo est cardo omnium rerum; помки бедность н бедных, так не позабудешь нас, отца с матерью, и утешишь как в сей, так и в будущей жизни». — Так напутствовал отец сына, который, простившись в последний раз с родителями и закинув
іа плечи кошель с поклажей, пошел к Москве пещ. Дорогою забрел проститься К знакомому своему Кирдану, которому при этом последнем свидании с добрым учителем детей своих вспала на ум благая мысль отослать их под надзором благонравного и надежного Мудрова в Москву для образования в гимназии университета. Вэдумано и сделано: в тот же день мальчиков собрали в дорогу, впрягли пару лошадей в повозку. Мудрову подарены: шелковая пара платья, шелковые чулки, козловые башмаки с серебряными пряжками, суконный сюртук, такая же шинель, треугольная пуховая шляпа и шелковый французский, черный, с большим байтом, кошелек для пучка; дано также рекомендательное письмо к профессору университета Фраицу Францо-зичу Керестури, старинному с Кирданом приятелю, и к вечеру все отправились в путь-дорогу. — «Я считал себя тогда великим богачей, говорил Мудров, и явился к Францу Францовичу щеголем». — Добрый Керестури всех троих путешественников привез с собою в университет, представил их директору Павлу Ивановичу Фонвизину, и в тот же день все трое сидели на скамьл з классах гимназии, спали ночь в казеннокоштных камерах. По тогдашнему порядку, никто не мог поступать прямо в университет, но всякий наперед должен побыть в гимназии оного, дабы выказать свои способности и благонравное поведение, и Мудров был принят в ректорский, т. е. самый верхний класс древних языков. В 1796 году, как способный и благонравный студент, переведен из гимназического ректорского класса в университет. Тогда он предался изучению врачебных наук с такой горячностью и прилежанием, что небе отказывал даже в самых невинных развлечениях. Вот что по смерти Мудрова сказывал товарищ его молодости, покойный же профессор Лев Алексеевич Цветаев: «Я перешел в университет в одно время с Мудровым и довольно дружески сблизился с иим; и вот как-то раз, по окончании лекций, я вздумал было пригласить его к себе в дом, к родителю моему, отобедать, но Мудров отвечал мне на это так: «извините, я пришел сюда учиться, а не веселиться: побывав у вас, я должен бывать и у других приятелей, их же много, то много же придется даром тратить и золотого времени». Окончив курс теоретических наук в университете, Мудров должен был, по тогдашним учреждениям, окончить курс практических занятий в Московской военной госпитали, и это исполнил он с таким же усердием н прилежанием. Он был всегда набожен, и никогда не пропускал божественной службы в церкви университета, почти всегда тут справлял чтение, например, шестопсалмия, часов, лпостола, н читывал отменно хорошо. Заступивший место Фонвизина, новый директор Иван Петрович Тургенев, великий охотник сам петь и читать в церкви, и супруга его Прасковья Семеновна, весьма богомольная барыня, полюбила Мудрова как за чтение, так и за его благонравие, соединявшееся с благообразием наружным: ибо Мудров был хорош, даже красив собою, хорошего стройного роста, волосы имел черные, от природы кудрявые, глаза большие, черные, лицо чистое, белое, с нежным румянцем, взгляд откровенный, благородный. На первой и на страстной неделях великого поста, когда семейство директора говело, постная молитвенная служба справлялась в их покоях, и Мудрова приглашали к чтению; в это время он подружился со старшим сыном директора Андреем Ивановичем, и в целом семействе был очень обласкай. В 1797 году отчаянно занемогла оспою однннадцатилетняя дочь профессора Харитона Андреевича Чеботарева, Софья Харитоновна: доктор, приятель и товарищ Чеботареву, профессор университета Федор Герасимович Политковский, признал за необходимое препоручить больную в неотлучный надзор кому-либо из студентов медицинского факультета, и в этом случае выбор его пал на студента Мудрова; болезнь протекла благополучно, почти без приметных следов; обрадованный отец обнял студента и сказал ему: «Ты хлопотал о девочке больной, как лучший друг наш, как родной брат ей, так будь же ей, теперь твоим же попечениями исцеленной, женихом, а мне родным сыном». — Мудров не отказался от предложения. Турге-ічев и Чеботарев познакомили его со многими важными лицами, каковы, например, были известный любитель и соревнователь русского просвещения Николай Иванович Новиков и многие другие. Новые знакомства открыли
ему вход в лучшие московские дома и образованнейший круг, и здесь для него было, так сказать, практическое училище светского обращения и благоприличий. В 1798 году Мудров от Конференции университета удостоен награды золотою медалью за лучшее решение задачи, предложенной студентам. В 1800 году воспоследовало высочайшее соизволение на отпуск лучших студентов за границу, для усовершенствования в науках, и Мудров в звании кандидата медицины был избран в это путешествие для образования по части хирургии.
В июне 1808 года Мудров возвратился из путешествия в Москву прямо в семейство заслуженного профессора Чеботарева и первым долгом поставил себе явиться к начальникам своим, учителям и лучшим знакомым. Тогда же началась и в университете профессорская деятельность Мудрова. В клинике М, дров ни мало не оскорблялся, когда медик, помощник его, отменял назначенные им предписания кому-либо из больных, но всегда притом говаривал своим слувіателям: «На то мне и помощник надобен, чтобы подмечал то, чего я не доглядел, и поправлял бы мои ошибки; errare humanum estэ, и на старуху бывает проруха». Когда же кто из слушателей сообщал при постели больного свое мнение, профессор ласково принимал в соображение к своим объяснениям, и ежели замечание студента ему казалось уместным, то хвалил, приговаривая; «хорошо, душа, очень хорошо, и я и все мы тебе спасибо скажем, что надоумил». Мудров, расставаясь с молодыми врачами, при отпуске их на службу, преподавал им самые искренние афористически-краткие поучения: «Ступай, душа, будь скромен, не объедайся мясищем, не пей винища и пивища, не блуди, бегай от картишек, будь покорен начальству, люби свое дело, свою- науку, люби службу государеву, и будешь счастлив и почтен: «Galenes dat opes Justinianus honores» 4.
Покойный высоко чтил память родителей своих и жениных, и весьма дорожил вещами, после них ему доставшимися: чайная старая чашка, принятая им-из рук отца при последних росстанях, всегда была священна для него; каждое утро и вечер, помолясь богу, он целовал ее вместо руки родительской, с этою драгоценностию Мудров странствовал по чужим краям и как-то дорогою расшиб ее; великая печаль овладела им тогда; он старательно собрал ее все разбитые верешечки, все крупинки, и сохранил до приезда в Париж; там один из бронзовых дел мастеров утешил его, собрал в свои места все верешки и склеил их; под возобновленную таким образом чашку подделал красивый четырехножник и накрыл бронзовою крышкою; все это вместе представляло очень красивый маленький памятник, который у почтительного сына всегда занимал первое почетнейшее место между всеми другими вещами в доме26. Такое весьма похвальное чувство благоговейного почтения детей к памяти покойных родителей, столько, по милосердию творца небесного, сродное, столько обыкновенное русскому народу, показалось французам весьма удивительною, диковинною редкостию; из рассказов бронзовщика о его работе для Мудрова составился анекдот, который не только рассказывали по целому Парижу, но даже пропечатали в журналах. Года за два с чем-нибудь до разорения Москвы доктор Мудров вышел из дома больного на подъезд, бывший на улице, и хотел садиться в карету; какая-то женщина, бедненько одетая, с большою толстою книгою в руках, перешла ему дорогу. — «Не продаешь ли, голубка”, эту книгу?» спросил он у женщины. — «Продаю-с». — «Покажи-ка, а что цена?» — «Дссять-с рублев-с». Мудров
посмотрел на заглавный лист и увидел, что это рукописный перевод латинского Калепинова Лексикона на русский язык. — «На тебе, голубушка, деньги», сказал он женщине, подав ей в руку 15 рублей, и сел с покупкою в карету; но как же он изумился, когда, рассматривая дорогою книгу, увидел приписку: «переведено с Латинского на Словенорусский язык трудами и начисто переписано рукою недостойного во иереях Иакова Иоанновича Муд-рова». Эта женщина, удивленная щедростию покупателя, успела спросить у лакея, кто этот господин. «Доктор Мудров», сказал ей человек и вскочил за карету, которая поскакала к другим больным. Стоило бедной женщине лишь у первого прохожего спросить, где живет доктор Мудров, и тот прямо ей мог ответить: «Ступай в университет». Так и случилось: она пришла, узнала, что доктор еще не воротился, дождалась его на дворе у крыльца и прямо упала ему в иоги. «Ах, батюшка, Матвей Яковлевич, вскричала она, ведь я, несчастная, тебе не совсем чужая, я золовка твоей покойной сестрицы». — «Бог тебя послал ко мне, дорогая, родная моя», — сказал Мудров, поцеловал и обнял ее, и, взяв под руку, привел в покои, представил почтеннейшим своим тестю и теще, препоручил жене позаботиться поспешнее о всем для родственницы своей, которую оставил у себя, присоветовал ей выучиться повивальному искусству, в чем она и успела, — ив его доме, в семействе, жила, как близкая родственница, до самой кончины ее, лет через пять последовавшей от внутреннего рака. Труд любезнейшего родителя — книгу в кожаном ветхом переплете — Мудров завернул в дорогой шелковый большой платок и хранил пуще своих глаз. Во дни кручины и горести ои вынимал эту драгоценность свою, раскрывал, целовал, пересматривал, дивился уму, учености, трудолюбию отца своего; печали исчезали, радость и удовольствие заступали их место в добродетельном сердце почтительнейшего сына. — В 1819 году эта подлинно дорогая книга была, по совету и под непосредственным надсмотром профессора П. Л. Страхова, переплетена в алый сафьяновый переплет с золотым обрезом, а незадолго пред кончиною своею Мудров помышлял было снять с этого лексикона верный список для печатания; к сожалению, это ие исполнилось. Во время пребывания своего в Нижием-Новгороде, зимою 1812 года, Матвей Яковлевич случайно увидел двух сирот, дочерей своего учителя, профессора Фомы Ивановича Барсук-Мои-сеева; тут же взял их к себе в семью и озаботился о пристойном их воспитании; также принял к себе и воспитал сирот, сына и дочь своего товарища по студенчеству, профессора Ивана Федоровича Венсовича и всех их любил как своих родных детей. Столько был он жалостлив и сострадателен ко всем и ко всему, что в доме своем не терпел ни малейшей жестокости; никто не смел в глазах его ударить собаку, даже забеглую, чужую; напротив того, всегда их называл гостьями и приказывал накормить всех, сколько бы их ни забежало на двор, и ничуть не обижать; даже не смел никто в доме поставить мышам ловушку или подложить отраву; если это иногда и делалось по приказу госпожи, то с величайшею осторожностью, чтобы он не проведал про то. «И они творение рук божиих, поместьев не имеют, жалованья не получают, надо же им питаться; нас не объедят; будем сыты все, не изводи их такими жестокими средствами», — так он говаривал, однакоже терпел в доме и даже ласкал кошек, рассуждая, что «природа сама указала им ловить мышей и питаться ими, и мы не должны вмешиваться в ее распоряжения». — Ему никогда не подавали на стол кушанья из домашних птиц и других животных, которых он видел у себя на дворе живых; один вид таких снедей возбуждал в нем тоску, даже до тошноты. Был во всем умерен, неприхотлив, мог довольствоваться малым, даже любил простое кушанье и вообще во всем простоту; в его доме приемные комнаты были обиты простыми липовыми досками; в его кабинете, в котором он трудился и отдыхал, деревянные с конопаткою стены были ничем ие закрыты, ни обоями, ни штукатуркою; вместо фортки было особое волоковое окошко; все это было ему по сердцу, потому что хотя несколько напоминало прежний быт его детства и молодости, простую избушку родительскую. Его завтрак был чашка чаю либо какой-нибудь душистой травки, чаще же лист черной смородины, и пятаковая просвира, которым у него не было переводу; бедные больные ими оплачивали за его пособия и посещения. Затем другой завтрак где-нибудь у знакомых или дома обед не нарядный, но пристойный, потому лишь, что сам он был хозяин-хлебосол, любил, когда у него обедывали посторонние люди, и скучал, когда видел за столом одно лишь свое семейство.
Не правда ли, привлекательный характер? А сколько интересных личностей нашлось бы между сотнею знаменитых профессоров Московского университета, о которых и теперь еще в кругу людей, бывших к ним близкими, можно слышать такие интересные рассказы, но от которых к нам доходят только сухие заглавия торжественных речей. Не правда ли также, что всем хотелось бы узнать, что можно, о жизни наших современников, которых литературная или ученая деятельность так хорошо нам знакома? Двое или трое из числа известных профессоров Московского университета удовлетворяют этому справедливому желанию, сообщая нам несколько своих воспоминаний в «Словаре». Мы знаем, что иные готовы будут сказать, что писать автобиографию — дело щекотливое. Но когда же вам встретится что-нибудь интересное, в чем нельзя было бы открыть щекотливой стороны? Во всем бывают крайности; и наша обыкновенная молчаливость на бумаге о современниках, которые так интересуют нас в разговоре, едва ли не доходит до крайности. Почему, например, г. Погодин, г. Морошкин, г. Максимович не имеют права записать для нас некоторые из своих воспоминаний? Неужели все должно сохраняться до потомков и ничего не должно делаться для современников, которые, говоря: «мы интересуемся сочинениями такого-то», очень естественно могут прибавить: «мы несколько интересуемся также и личностью его». Не долѵкно при этом опасаться самохвальства; оно находит тысячу прекрасных средств высказываться и без помощи биографий или автобиографий. Нам даже кажется, что чем прямее, открытее должен говорить о себе человек, тем скромнее будет он говорить. Полунамеки, arrière-pensées, темнота, вот истинное поприще для самохвальства. Потому мы искренно благодарим тех современных нам профессоров Московского университета, которые нашли, что могут поделиться с публикою некоторыми из своих воспоминаний, за то, что они позволили напечатать о себе нечто более сухого списка официальных отношений. Кто, например, может осудить г. Погодина за то, что он позволил напечатать в своей биографии следующий отрывок, конечно, в высокой степени интересный для каждого из читателей. Г. Погодин поступает в университет. Самым знаменитым из тогдашних профессоров был Мерзляков. «Всякое его слово, от души сказанное, западало в душу». Студенты слушали его, как оракула. Но Мерзляков, как известно, был приверженцем классицизма, а молодежь увлекалась уж балладами Жуковского. Однажды, говорит г. Погодин, Мерзляков, оканчивая лекцию, сказал:
«Вышла, господа, новая поэма молодого нынешнего поэта, лорда Байрона, Шильйонский узник, переведенная по-русски Жуковским. Мы займемся ее разбором в следующий раз». Весь университет взволновался, и, считая минуты, ожидал этого следующего раза. Лишь только кончилась лекция, предшествовавшая Мерзлякову в 5 часов, и вышел профессор из аудитории, как студенты со всех сторон бросились туда, точно на приступ, спеша запять места. Медики, математики (о словесниках и говорить нечего), юристы, кандидаты, жившие в университете, все яіились в аудиторию, которая наполнилась в минуту народом, сверху донизу, по окошкам, даже под верхними лавками амфитеатра. Мерзляков должен был продираться сквозь толпу. Какое молчание воцарилось, когда он сел, наконец, на кафедру! Все дрожали, сердце лилось, слух был напряжен, и он начал:
Взгляните на меня — я сед,
Но не от старости и лет;
Не страх внезапный в ночь одну До срока дал мне седину.
Я сгорблен, лоб наморщен мой;
Но не труды, не хлад, не зной —
Тюрьма разрушила меня!
«Что это за лицо рассказывает о своем положении? Каких слушателей у него должны мы себе представить? Почему предполагает он их участие? Что за странность рассказывать без всякого вступления и предупреждения? Что за выражение: тюрьма разрушила? Как она разрушила, если он еще может говорить? Разрушить можно здание, но человек разрушен быть не может. Вот эти модные поэты! Не спрашивайте у них логики! Они пренебрегают языком!» и т. д. Молодое поколение слушало его разбор с почтением и соглашалось с верностью многих его замечаний, но все-таки было в восторге от байроновой поэмы…
Кто не поблагодарит за этот отрывок? А многие факты, сообщаемые в биографии относительно истории развития самого г. Погодина и его трудов, еще гораздо важнее. Но мы боимся, * что уж утомили читателей выписками; боимся, что и статья наша превзошла пределы рецензии; потому заключим ее уверением, что среди официальных списков два толстые тома «Биографического словаря» представляют много других страниц чрезвычайно интересных и еще более страниц, очень важных для истории русской литературы. Желаем скорейшего выхода и еще большего объема «Словарю воспитанников императорского Московского университета».
О правах иностранцев в России до вступления Иоанна П Васильевича на престол великого княжества Московского
Сочинение И. Андреевского. Спб. 1854.
Г. Андреевский старательно собрал главнейшие факты и постановления, могущие доставить материалы для решения вопроса о гражданском положении иноземцев, селившихся на Руси до половины XV века. С этой стороны труд его заслуживает полного одобрения. Но материалы, им собранные, далеко не наполняют всех рубрик, какие он вздумал сделать в своем рассуждении. Например, з первом отделе автор хочет показать, какими правами
пользовались вообще иноземцы, без различия по происхождению и занятиям, и находит нужным говорить в отдельности о восьми правах. Прекрасно; какие факты находит он на свои восемь вопросов? Вот какие: имели ль иноземцы право свободного въезда и выезда? Собственно говоря, «источники совершенно молчат об этом». Имели ль они (когда бы^ѵи не грекороссийского исповедания) право свободного отправления богослужения? опять, собственно говоря, «мы не можем указать» положительных доказательств, чтоб им это позволялось законом; так точно должно «собственно говоря» отвечать и на большую часть вопросов. Но г. Андреевский всегда прибавляет положительный ответ, и всегда в одном смысле: имели, имели все права, какие только при новейшем развитии гуманности и терпимости даются иноземцам.
Брошюра г. Андреевского не имеет особенного ученого значения; она свидетельствует только об одном: что автор человек трудолюбивый. Потому мы ограничились бы похвалою этому достоинству и не сочли бы нужным упоминать ни о чем больше, если б труд г. Андреевского был одиноким по своему направлению. Но в последнее время у многих ученых или по крайней мере пишущих об ученых предметах развилась странная привычка переносить на старину все те понятия, какие только прилагаются к настоящему времени. Укажем еще один из многих примеров этого направления. В настоящее время знание иностранных языков довольно распространено в России, хотя вовсе не в такой степени, как у многих других народов. Всем известно, что в старину это было не так. По-немецки, по-французски, по-английски начали мы учиться только со времен Петра Великого. До начала XVIII века не может быть и речи о том, до какой степени суще-ж гтвовало знание этих языков между русскими. Между тем, как всем известно, до XVIII века в других странах Европы знание иноземных языков было уже очень распространено. Всякий, слышавший о Шекспире, знает, что в его эпоху знакомство с итальянским языком (не говорим уже о французском) было очень распространено в Англии; всякий, слышавший о Корнеле и Мольере, знает, что в их время знакомство с испанским языком было очень распространено во Франции, а прежде французы очень любили итальянский язык. Кажется, об этом нечего и распространяться. Между тем, в чем же хотят нас уверить? Вот в чем: «говоря вообще, русские (до Петра Великого) были довольно знакомы с языками иностранными»; этого мало, прибавляют даже, что «русские, по всей вероятности, были знакомы с иностранными языками более, нежели другие европейцы». Это вывод из длинной статьи, занимающей около ста страниц, наполненной всевозможными цитатами. Но где ж факты? Фактов нет никаких. На чем же основан вывод? На доброй воле автора. И чего ни коснутся люди, одаренные подобным желанием отыскивать то, о чем не имели и понятия в старину, ответ всегда один. Мы не удивимся,
если появятся сочинения, доказывающие, что в XVII веке русские пожилые люди говорили о железных дорогах и читали газеты, молодые люди носили палевые перчатки и восхищались Шекспиром, девицы играли на фортепьяно и выписывали себе модные шляпки из Архангельска, который в то время совершенно заменял нынешний Петербург. Что тут невероятного, если до Петра Великого русские были образованнее всех остальных народов? Одно только остается непонятным в таком случае: что сделал для блага России Петр Великий?
Да, история России с Петра Великого до настоящего времени становится совершенно непонятною, если XV век ничем не отличался от XIX, если, например, развитие законодательства и степень образованности при Василии Темном и Рюрике совершенно совпадает с тем, что мы видим в России половины XIX века. Неужели можно иметь так мало чувства исторической истины, чтобы доходить до выводов, подобных тем, какие мы указали? И, что всего прискорбнее, этому странному самообольщению поддаются иногда молодые ученые. Чего может ожидать русская наука от людей, которые в молодости, в этом возрасте благородного увлечения страстною любовью к истине, так мало ценят истину?
Но мы упомянули о трудах, написанных молодыми учеными, и должны сделать оговорку, чтобы не вздумали придавать нашим словам смысл, которого они не имеют. Это уж случилось, и следующим образом; читатели «Современника», вероятно, уже забыли о статейках, помещенных в нашем журнале несколько месяцев тому назад по поводу «Исторического обозрения царствования Алексея Михайловича» г. Медовикова и «Архива историкоюридических сведений» г. Калачова '. Мы предполагаем, что читатели забыли об этих небольших статейках, потому что они заключали в себе только немногие замечания, не представлявшие ничего особенного. Но «Отечественным Запискам» вздумалось обратить на них внимание, чрезвычайно лестное для нас, и поместить в книжке за прошедший месяц «Несколько слов (занимающих более двадцати страниц) о мнениях «Современника» касательно новейших трудов по русской истории» 2. Всякому очень приятно бывает удостоиться чести подробного разбора, удостовериться, что собратья по литературе замечают его мнения и считают их заслуживающими большого внимания. Потому благодарим лично за себя нашего противника, который употребил столько трудов, чтобы привлечь внимание читателей к нашим мнениям. Но он несколько ошибается в смысле статей, которыми так занят; потому повторим наши мысли со всевозможною заботою о ясности.
В одной из наших статеек мы говорили, что напрасно г. Соловьев подвергает микроскопическому разбору «Историю» Карамзина с целью выказать недостатки этого колоссального труда, потому что они теперь ясны для всех; в другой мы говорили, что напрасно г. Буслаев считает г. Снегирева таким противником, ошибки которого нуждаются в подробных доказательствах, потому что каждому известно, что текст «Пословиц» г. Снегирева изобилует неточностями 3. Кажется, смысл этого ясен. Мы хотели сказать, что излишне с самодовольствием распространяться о том, что не нуждается в доказательствах. Но наш почтенный критик думает, будто бы мы считаем труд г. Снегирева верхом совершенства в ученом отношении. Дело вовсе не в том, напротив, во мнениях своих относительно трудов, недостатки которых выказываются гг. Буслаевым и Соловьевым, мы идем гораздо далее, нежели эти ученые; мы говорим, что подвергать их подробной критике — дело бесполезное, потому что это будет бесплодною тратою времени.
До последнего времени между людьми, занимавшимися русскою историею и изучением русской народности, было очень мало ученых в истинном смысле слова. Эти отрасли знания возделывались у нас дилетантами, которые не могли удовлетворять не только требованиям нынешней, но и современной нм науки. Это известно каждому, кто коротко знаком с прежними трудами по пашей истории и собиранию памятников народности, но эта мысль, разделяемая всеми современными учеными, хотя высказываемая довольно редко, как видно, неизвестна автору статьи в «Отечественных Записках». Он, очевидно, предполагает, будто бы Карамзин может быть подвергаем такой же критике, как Шлё-' цер, Эверс или, чтобы упоминать о живых, г. Неволин, каждое слово которых имеет глубокое ученое значение; будто бы издания г. Снегирева могут быть подвергаемы такому разбору, как издания Гримма. Каждому специалисту известно, что это вовсе не нужно. Ясно ли теперь наше мнение? Если еще нет, то, к сожалению, мы должны отказаться от возможности выразиться еще прямее. Но пойдем далее; сообразив наши последующие слова с предыдущими, читатели увидят наше мнение еще точнее.
Каждый ученый, вступая в длинную полемику, должен выбрать себе противников, достойных серьезной ученой критики. Если бы г. Соловьев написал целые томы для обнаружения ошибок, встречаемых у Шлёцера, Эверса, г. Неволина, он занимался бы предметом, заслуживающим ученого внимания. Если бы г. Буслаев строго выставлял на вид малейшие ошибки, встречаемые в сборниках песен или пословиц, пользующихся славою истинно ученых изданий, он делал бы нечто нужное для науки. Но распространяться о каждой ошибочной букве в издании, которое, по общему признанию, не имеет ученого достоинства, — это труд совершенно излишний. Неужели, кто захочет трудиться для науки, может с самодовольствием тратить время на сражения с Хилковым, Щербатовым, Кайсаровым, Чулковым и проч.? Точно
так же понапрасну отвлекаются с поля науки ученые, нами названные, борьбою, которую мы не одобряем. '
Но потеря времени и труда самый маловажный вред этой ненужной борьбы. Гораздо прискорбнее то, что она может иметь вредное влияние на самую известность людей, предающихся ей. Тем, какого противника мы выбираем себе, измеряются наши собственные силы. Разбирать по ниточке Хилкова или Кайсарова значит быть самому немногим выше их, значит заставлять думать о себе, как о человеке, отставшем от движения науки. Мы, ценя достоинства трудов г. Буслаева, не можем так думать о нем. Но многие могут основать свое мнение о нем на мнении о тех, с которыми он так охотно вступает в ратоборство. На турнирах славные рыцари были очень разборчивы в выборе противников, которых удостоивали чести пасть от своего копья.
Ясно ли теперь, какое понятие мы хотели бы сохранить о новейших ученых сравнительно с людьми, которые и в старину считались не учеными, а только трудолюбивыми? Мы жалеем о том, когда новые ученые считают за нужное вступать в состязание, не рассмотрев различия между тою степенью развития науки, на которой должны стоять они сами, и учеными силами своих противников. Неужели необходимо высказывать нашу мысль еще яснее? Если угодно, мы готовы, насколько это возможно.
За исключением очень немногих трудов, все доселе изданные сочинения по русской истории, изучению русской народности п т. д. имеют только одно достоинство — зато очень важное, достоинство сборников материалов. Мнения, высказанные этими трудолюбивыми собирателями, не имеют особенного ученого значения. Мы даже очень немногие из этих сборников можем считать достойными строгой критики и относительно того, в каком виде изданы в них материалы. Что говорил Карамзин в предисловии к своей истории об предшествовавших ему изданиях по русской истории, остается до некоторой степени справедливым и относительно изданий, сделанных впоследствии. Очень немного есть сборников, представляющих материалы в удовлетворительном виде. Итак, что нам остается делать? Одно из двух — или сказать, что надобно быть признательным за то, что сделано, хотя и неудовлетворительно, благодарить наших предшественников и за немногое, неполное, неточное; или прямо сказать: до сих пор почти ничего не сделано для науки. В первом случае мы можем требовать снисходительности и к собственным трудам; во втором — должны отказать и своим собственным трудам, изданным доселе, в важном значении для науки.
Но говорить: до меня не было сделано ничего, а я сделал уже чрезвычайно много, еще не имеет права никто из новейших уче-ііых. Они собирают материалы лучше, нежели их предшественники; но до сих пор издали их еще очень мало. Мы не думаем, чтобы до сих пор кем бы то ни было, Карамзиным или его пред-
шественниками, или его последователями, русская история была обработана в таком виде, который совершенно соответствовал оы строгим трёбованиям науки. За всеми этими трудами остается одно неоспоримое достоинство — они более или менее полные сборники материалов для будущей обработки. И бесполезно прибавлять, что ни один из ученых, писавших о русской истории после Карамзина, не представил в своем сочинении столько новых материалов* как он. Следовательно, соразмерно тому уважению, какое каждый из новых историков имеет к этой заслуге Карамзина, должны оцениваться им и его собственные труды. Что же касается до истории как науки, обработка ее принадлежит еще будущему. Всякий приговор, произнесенный в этом отношении о прежних трудах, прилагается и к новым, какие нам доселе известны. И потому, кто хочет считать свои труды важными не только для издания материалов, но и для обработки истории как науки, должен как можно менее говорить о неудовлетворительности прежних трудов. Что касается собственно нашего мнения, нам казалось бы наиболее сообразным с истиною не говорить об этом вовсе. Nullius nulla sunt praedicata, по правилам старинной философии, или, выражаясь по-русски: нельзя говорить о достоинствах или недостатках того, чего нет.
Но для истории русской литературы уже сделано многое — кем, когда, неуместно было бы рассуждать здесь. Довольно того, что не людьми, которые ныне трудолюбиво занимаются разработкою фактов. И потому мы считали нужным сказать, что эти люди, достойные всякого уважения за свое трудолюбие, должны были бы не забывать и некоторых предшественников. F.cah мы еще не знаем, где подробно и справедливо объяснен ход всей русской истории, то прочные основания понятиям об истории русской литературы уже положены, и мы опять считаем долгом напомнить, что, трудясь по истории русской литературы, не должно забывать о понятиях, уже довольно давно высказанных н очень верных 4.
Разве все это неизвестно каждому читателю? И что особенно нового в наших словах? И что в них мудреного? Но у нас многие привыкли все преувеличивать. Потому считают каждую ошибку, найденную, например, в сборнике г. Снегирева, важным открытием, между тем как давно уж всем известно, что их гам тысячи; открыв, что г. Снегирев пропустил сотню пословиц, опять считают это важным открытием, между тем как всякому известно, что сборник г. Снегирева не заключает и третьей части всех русских пословиц; каждое слово, часто вовсе излишнее, кажется важным приобретением для науки. Одним словом, у нас очень многие находятся в чрезвычайном самообольщении, и каждый отзыв, умеренный р своих похвалах, кажется для них несправедливым. Это очень естественно. Число людей, которые занимаются у нас серьезною разработкой науки, так еще невелико, что почти все они принадлежат к одному кружку, все члены которого тесно свя-паны между собою понятиями и самою жизнью; потому и при опенке трудов каждого из этих ученых почти постоянно слышатся только голоса людей, совершенно разделяющих понятия автора о всем, даже о значении каждого нового труда его. Нашим ученым редко приходится читать о себе самостоятельные суждения; потому естественно, что эти суждения не могут не вызывать горьких нареканий, не совсем, быть может, справедливых. Нам кажется, однако, что самостоятельное мнение имеет свою важность, и потому лучше высказать его, нежели молчать, опасаясь возбудить неудовольствие; мы думаем, что истинно замечательные ученые труды нуждаются в беспристрастной оценке, а не в безотчетных панегириках, и слышать вечно одни и те же похвалы, лишенные научного значения, утомительно для таких людей, которые истинно дорожат своею ученою известностью. Она прочна бывает только тогда, когда оценена беспристрастно. Возвратимся же к направлению тех молодых ученых, о которых мы говорили в начале статьи.
Разве не должно заметить этим людям, из которых один вздумал утверждать, будто бы в XI–XV веках наше законодательство было на той самой точке развития, какой достигло в XIX веке; другой, будто бы в XV–XVII веках знание иностранных языков было между русскими более распространено, нежели между всеми другими народами, — разве не должно заметить им, что подобный взгляд на историю совершенно несправедлив и ведет к прискорбной запутанности в понятиях, отнимающей всякую возможность здраво судить о самых простых вещах? Что мы сказали б, если б нашли ѵ Щербатова или Татищева мысль, будто бы древняя Русь или Московское царство до Петра Великого ничем не отличались от современной им Российской империи? Какими насмешками были б осыпаны эти старики! Но даже у них, несмотря на то, что они не были людьми учеными в строгом смысле слова, мы не найдем подобных несообразностей. А со времен Татищева и Щербатова Россия, как мы все говорим, далеко двинулась вперед. И между тем, люди, которые должны быть учеными людьми, решаются утверждать подобные вещи теперь! И все остальные подтверждают их мнение своим молчанием, а некоторые даже похвалами основательности их исследований, как будто возможна основательность при недостатке самых первых условий, какие требуются наукою от ее деятелей, при отсутствии уважения к истине. Пусть подают свой голос в защиту истины люди, которые считают себя представителями науки. А если они не хотят делать этого, то другие люди исполнят эту обязанность, как умеют и как могут. Ведь необходимо же в литературе и науке говорить, по мере сил и возможности, то, что следует говорить. Или в этом нет надобности, а нужны только безграничные панегирики? В таком случае надобно прямо сказать: «я не хочу, чтобы мое сочинение подверглось критике». Есть люди, которые стараются достичь этого; но труды, принадлежащие этим людям, не имеют ничего общего с теми вполне достойными уважения трудами, самостоятельный отзыв о которых напечатал «Современник» в разборе «Архива» и в рецензии о книге г. Медовикова: авторы этих трудов, имеющих неотъемлемые достоинства, не могут опасаться самостоятельной критики.
Грамматические заметки. В. Классовского. С.-Петербурі.
1855’. '
Математические науки, достигшие высокой степени совершенства, во многом должны служить образцом состояния, к которому надлежит стремиться и остальным наукам. Как стройно, как несомненно, как необходимо развивается в них каждое последующее предложение из предыдущего! Как точно определено содержание, как ясно сознается существенная задача каждой науки! Никто не спорит, к арифметике или геометрии, к дифференциальному исчислению или тригонометрии относится та или другая формула, та или другая теорема; никто не сомневается, что арифметика должна учить умножению и делению, а не землемерию или вычислению эллиптических функций, что геометрия должна учить измерению площадей и тел, а не вычислению вероятностей или предсказыванию солнечных затмений. Математик может справедливо гордиться своею наукою и ставить ее в пример всем другим.
Не то в науках, касающихся человека и объясняющих явления его жизни. Пределы их, даже существенные задачи их так слитно сплетены, что трудно избежать темноты или ошибочности в понятиях о значении, содержании, методе каждой из них. Возьмем, например, историю литературы. Тотчас же является недоумение о том, как обширны должны быть границы ее. Она должна показать развитие умственной жизни народа. Итак, не правда ли, если она ограничится беллетристикою, поэзиею, историею, красноречием, она будет неполна, потому что только совокупностью всех отраслей умственной деятельности определяется развитие умственной жизни. Итак, история литературы должна говорить и о специальных науках — о математике, юриспруденции, медицине и т. д. Возможно ли одному человеку написать дельную книгу с таким широким объемом содержания? — решительно нет; но пусть будет написана такая книга; может ли понять ее один человек, если она будет отделываться от специальных наук не пустыми общими фразами? Могу ли я понять состояние математики у древних, могу ли я понять заслуги Лаланда, Пауса, Пуассона, Коши, не зная высших частей математики? Могу ли я оценить открытия и ошибки Бруссе, Ганемана, Присница, не зная очень основательно медицины? Нужно найти всезнающих гениев, иначе не для кого и писать историю литературы в полном ее объеме. Сам Гумбольдт не все знает и не может читать серьезных трактатов о всех существующих в мире науках. Следственно, поневоле надобно в истории литературы ограничиваться изложением только общедоступных отраслей науки, имеющих ближайшую связь с умственною жизнью целого общества. Но какие науки имеют «ближайшую связь», какие только «отдаленную»? опять сомнения и недоумения. То же самое, что об истории литературы, надобно сказать и об истории вообще, о филологии, философии и т. д. Повсюду трудности, повсюду возможность ошибок и недоумений.
Мы вовсе не хотим сказать, что ошибки неизбежны, недоумения неразрешимы. Наше время — время великих открытий, твердых убеждений в науке, и кто предается ныне скептицизму, свидетельствует этим лишь о слабости своего характера или отсталости от науки, или недостаточном знакомстве с наукою. Но мы хотим только сказать, что ясные случаи могут помогать решению неясных, что все науки находятся между собою в тесной связи и что прочные приобретения одной науки должны не оставаться бесплодны для других. Надеемся, что это истина, не подлежащая спору, точно так же как и то, что математические науки достигли несравненно высшего развития, нежели остальные.
К числу важных и прочных приобретений, каких уже достигла математика, принадлежит очень ясное различие, какое положено между частями ее, которые должны (потому что могут) быть известны всякому образованному человеку, и другими частями знакомиться с которыми должен только человек, посвящающий себя специальному занятию математикою, потому что для неспециалиста они были бы непонятны. Никто не думает утверждать, чтобы в уездных училищах было возможно преподавать конические сечения, или в гимназиях — вариационное исчисление. Эгн части науки с пользою могут быть изучаемы только взрослыми юношами, специально посвящающими свою жизнь математическим наукам. Но даже и те части математики, которые должны входить в круг обпіего образования, излагаются тут совеппіенно не в том виде, какой имеют в строгой, специальной науке. Мальчику, который учится арифметике, не считают нужным или возможным внушать, что арифметические действия — только частные случаи высших алгебраических законов, и что сложение или умножение, собственно говоря, есть только особенное приложение какой-нибудь формулы интегрального исчисления, даже не говорят ему, что двенадцатиричная система гораздо лѵчше десятичном, которая совершенно произвольна, не считают нужным объяснять ему, что семьдесят пять пишется 75 по такому закону: ап'-^-Ьп0, где п=десяти, а ес» и б п был равен двенадцати, то семьдесят пять написалось бы не 75, а 63, между тем как при двойничной ''тг'темс, где В' формуле ап'-\-Ьпп, п~2, то же число семьдесят пять на-
пишется 1 003 021, и что, собственно, все равно, как ни писать, лишь соблюдать формулу ап^-^-Ьп'-^-сп0. И всякий согласится, что хорошо делают, не муча мальчика, еще не знающего нумерации, над этими мудростями, хотя на них и основывается нумерация, как знает всякий изучивший высшие части алгебры. Если бы начали семилетнему мальчику толковать эти совершенно необходимые для специалиста вещи, бедняжка мог бы соити с ума, и наверное плохо пошло бы у него арифметическое дело.
Не должно ли прилагать и к другим наукам этот закон различия между частями и понятиями, доступными и нужными только специалисту, и между другими частями, необходимыми в системе общего образования? Кажется, что это необходимо. Пример математики нам доказывает, что общее и специальное образование различаются друг от друга не только объемом, но и характером изложения. Для специалиста 375 основаны на формуле <m2-f--\-Ьп'-\-спп; специалист скажет даже, что в строго научном смысле 375 непонятны без формулы an2-\-bn'-\-cn°; но формулу эту знают только сотни из миллионов, умеющих писать цифры и достаточно знающих арифметику.
Точно то же и в истории. Специалист скажет, что, не прочитав зендавесты в подлиннике, нельзя понять персидское царство, не умея читать гиероглифов, нельзя знать Египта. Но вообразим, что, увлекшись этими понятиями, справедливыми в строгом ученом смысле, мы заставим всякого, кому нужно знать, что Камбиз покорил Египет и убил быка Аписа, предварительно изучать зендский язык и гиероглифы. Что выйдет из этого? Кто не читал в подлиннике Гомера, тот не знает Греции, скажет специалист, и будет прав; но что выйдет, если мы начнем всякого, кому нужно знать об Ахиллесе и Троянской войне, учить читать в подлиннике Гомера и углубляться в тонкости ионического диалекта? Возможно ли это? и нужно ли это?
Теперь легко решить и филологические вопросы. Кто не умеет ставить на месте букву гь и знаков препинания, тот невежда. Выучиться правильно употреблять букву ѣ можно, только узнав различие частей речи, падежей и глагольных форм: правильно употреблять знаки препинания можно, только узнав состав предложения. Этому учит грамматика. Итак, без грамматики никому нельзя обойтись. Трудно ли выучиться ей так, чтоб уметь разбирать части речи, падежи, времена, подлежащее и сказуемое, слова дополнительные и определительные? О, если дело только в этом, не тупоумного мальчика можно выучить грамматике в две недели.
— А в чем же дело? Что же еще нужно знать?
— Как что? Разве вы забыли, что формы русских падежей объясняются только историческою грамматикою, состав предложения, смысл падежей, глагольных форм, частей речи только философскою грамматикою. Итак, нужно знать их.
— Прекрасно; но кому знать? каждому, кто обязан быть не невеждою, или только специалисту? —
Вопрос, как мы говорили, решить очень легко. Нам нужно знать, что в дательном имен, имеющих в именительном а, пишется буква Ѣ Можно сказать просто, как говаривалось в старых грамматиках: «дательный ставится на вопрос: кому? дать брату, сестрѣ; сестрѣ дательный падеж». Это каждый поймет в одну минуту. Чтобы таким способом правильно разбирать падежи, нужно только запомнить их имена, и дело будет кончено. Но неужели можно ограничиться такими скудными и, в строгом ученом смысле, неосновательными сведениями? Нет, нужно основательное знание. Оно дается только сравнительно-историческою фило-логиею при помощи философской грамматики. Посмотрим, что скажет нам новый и основательный способ изучения.
Но прежде нужно сделать воззвание: читатель! если вы не искусились в безднах филологическо-философской грамматики, читайте следующие строки с вниманием, перечитайте их несколько раз — понятия, нами излагаемые, в сущности правильны, основательны, изложены логически; следозательно, должны быть понятны. Но если вы их поймете, то скажите: прояснилось или запуталось от наших мудростей ваше знание о дательном падеже и о том, что в дательном ставится буква Ѣ, когда именительный имеет а. Читайте же со вниманием.
Предмет, выражаемый дополнением, не подвергаясь страдательно действию извне и не вызывая сопротивляемостью своею действия со стороны подлежащего, прямо противопоставляется подлежащему в виде чего-то самостоятельного, по собственной воле действующего. Он принимает форму дательного падежа и есть собственно падеж лица, а не вещи. Итак, дать брату — дательный падеж.
Но во фразе: он ему брат, ему не дательный падеж, а собственно родительный, только выражаемый формою дательного; или даже и не родительный, а прилагательное притяжательное, выражаемое падежем существительного. Напротив, в фразе: он отнял у брата, у брата не есть родительный с предлогом у, а дательный беспредложный, выражаемый формою родительного с предлогом у. Это очевидно из следующего сличения:
Он Иванов брат значит то же, что он брат Ивану; итак, Ивану здесь стоит вместо Иванов, потому и не есть дательный падеж, а прилагательное имя. Он согласуется с существительным— итак, Ивану есть в этой фразе имя прилагательное, мужеского рода именительного падежа.
Точно так же: дал или отказал брату и отнял у брата отношение понятий совершенно одинаковое, потому у брата здесь дательный падеж.
Скажите, легко ли вам теперь узнавать дательные падежи? А мы привели только два пояснительных случая (брат Ивану;
Ивану прилагат. имен. пад. и отнял у брата — у брата дательный без предлога); а для полноты и основательности нужны сотни подобных примеров; скажите же, удобно ли и верно ли достигается этим способом отличение дательного падежа от других падежей?
Не правда ли, привыкнуть узнавать таким образом столь же легко, как дойти до уменья разрешать уравнения пятой степени с подкоренными величинами?
!
а5Ѵ b
Отыскать его по этой форме не легко, но полезно в качестве умственной гимнастики. Теперь мы знаем, что такое дательный, этим обязаны мы философской грамматике; теперь взглянем, при помощи сравнительно-исторической филологии, на букву //.которую надобно ставить в дательном падеже имен.
№ собственно не Ѣ, а аі. Это аі знак не только дательного, но и. родительного падежа, как видно из латинского aqual =- воды и вод, но иногда н> = не аі, а і, как видим из сличения славянского. Именит, земля, родит, земля, дат. земли. Здесь, очевидно, новый язык заменил истинным дательным падежей родительный, а нынешний дательный земл Ѣсовершенно неправилен, явился неорганическим образом из смешения склонений. Итак, надобно писать земл/ь, хотя это совершенно неправильно, потому что следовало бы писать в дательном земли, а в родительном земля, так: иду из земля моея; иду к земли моей.
Не правда, этими исследованиями подкрепляется правило о том, что в дательном должно писать зем\Ѣ,как пишем рек/// во///?
Таковы-то все специальные исследования и специальные приемы. Они пригодны и необходимы только специалисту, а на человека, не предназначившего себя быть специалистом, производят такое иге действие, как чтение медицинской книги на человека, не изучавшего в течение многих лет медицину со нхеми ее вспомогательными науками. У того и другого являются, самые странные и тяжелые мысли. А играть роль филолога человеку не употребившему несколько лет жизни на изучение филологии, то же самое, что играть роль медика, не зная медицины: следствия будут очень вредные для пациентов. Специальностью нельзя играть. Специальность не маскарадное домино, в которое каждый может наряжаться по произволу.
Но, однакоже, возможно ли распространение филологического образования на массу общества? Быть может, филологическое образование может войти в состав общего образования, как
некогда входил латинский язык, как ныне входят новейшие языки? '
Решить это очень легко. Человек, предназначаемый получить филологическое образование, должен предварительно познакомиться: 1) с славянскими наречиями, именно: старославянским, сербским, хорутанским, чешским, лужицким, польским; 2) с языками; немецким (в его древней форме, так называемом готском языке), латинским, греческим.
Менее этого нельзя знать, а, собственно говоря, должно знать еще несколько других языков и наречий. '
Кроме того, он должен основательно изучить древности (мифологии, общественного быта, нравов) немецкие, кельтские, римские, греческие, не говбря уже о славянских.
Без этих приготовительных знаний филологическое образование так же невозможно, как знание дифференциального исчисления без знания алгебры.
Но мы говорили только об одной стороне нового метода, филологической; а он имеет и другую сторону — философию языка, оракулом которой является Беккер. Для решения того, какая степень умственного развития требуется от человека, желающего сделаться учеником Беккера, довольно сказать, что учение Беккера о языке есть приложение к фактам языка философской системы Гегеля, которую понимать начинают только взрослые люди, да и то получившие прочное философское образование. Мы имеем основания предполагать, что многим из мнимых последователей Беккера эти слова покажутся удивительною новостью. В таком случае советуем им ближе познакомиться с системою, о которой мы говорим. Поняв ее, они увидят, что до того времени не понимали Беккера, учение которого остается пустою и бесполезною формою для людей, не знакомых с Гегелем. Этого достаточно, чтобы показать, до какой степени беккерова система может войти в круг общего образования. Теперь надобно было бы сказать о степени ее основательности. Но людям, знающим современное положение философии, не нужно объяснять, что система Гегеля не удовлетворяет современным понятиям, и что вместе с ее распадением и беккерова система потеряла право считаться непреложною.
Наконец, оставляя в стороне вопрос о возможности, взглянем на пользу или цель этого стремления. Для чего нужно вводить философско-филологическое направление в первоначальное изучение грамматики? Для того, чтобы под формою грамматики учить детей филологии? Но филология такой же специальный предмет, как изучение восточных языков, и если не для чего желать, чтобы все мы выучились говорить по-арабски или по-персидски, то столь же напрасно желать дать всему обществу филологическое образование.
Или филолого-философские тонкости будут благотворною
гимнастикою для ума? Но гимнастика должна быть соразмерна силам упражняемого в ней. Нельзя заставлять малютку бегать в латах Орланда или Амадиса Гэльского: он падет в них, будет лежать неподвижно. И разве в системе общего образования мало предметов, считаемых превосходною гимнастикою для ума? Таковы *все предметы, доступные детскому уму и не лишенные внутреннего смысла.
Но, заговорившись о методе, мы еще не коснулись книжки, изданной г. Классовским. Мы должны сказать, что эта книга прекрасна. Автор несомненно доказывает свои глубокие филологические познания изложением, которое отличается глубиною и ясностью, и также многочисленными цитатами. Назовем хотя немногих из огромного числа авторов, которых сочинения он приводит: Гумбольдт, г. Буслаев, Кюнер, г. Лавровский, г. Костырь, г. Борисов, г. Перевлесский, Кур-де-Жебелен, Беккер, Фатер, Потт, г. Шафранов, Tanne, Миклошич. Кроме того, г. Классов-ский очень часто цитует самые источники: латинских и греческих писателей, наши летописи и старинные грамоты и проч. Таким богатым запасом эрудиции могут гордиться немногие из наших филологов, и неудивительно, что г. Классовский не только прекрасно излагает результаты, уже приобретенные наукою, но и движет науку вперед, предлагая вниманию специалистов новое определение видов глагола.
Очерк истории императорского Гатчинского сиротского института. Составлен П. Гурьевым, инспектором классов при том же заведении. Спб. 1854.
Очерк этот чрезвычайно заметно проводит резкую черту между состоянием учебной части института до 1848 и с 1848 года.
Объясняется это приложенным к нему списком под буквою В.: «список инспекторам классов Гатчинского института»… 4, надв. сов. Гугель, с 1830 по 1841 год, 5, надв. сов. Станкевич, с 1841 г. по 1848. 6, колл. сов. Гурьев, с 1848 по настоящее время».
К этому прибавить можно только, что Гугель был одарен истинно замечательными педагогическими способностями, как известно всем, н что если можно говорить о его недостатках, то лучше всего предоставить другим говорить о собственных наших достоинствах.
<ИЗ № 5 «СОВРЕМЕННИКА»)
Отчет императорской Публичной библиотеки за 1854 год
Спбург, 1855.
Просвещенная и неутомимая заботливость нынешнего начальства императорской Публичной библиотеки, с одной стороны, об увеличении драгоценного умственного капитала, в ней хранящегося, и о приведении в известность этих богатств, с другой сто-
роны, о доставлении публике всевозможных удобств пользоваться ими, принося огромную пользу и библиотеке и публике, сообщает важность и ежегодным отчетам библиотеки, из которых в каждом заключается много известий о приобретениях этого важнейшего архива науки в России и новых мерах к усовершенствованию его устройства. Перечисляем главнейшие из фактов, представляемых отчетом библиотеки за истекший год.
Важность такого учреждения, как императорская Публичная библиотека, делает необходимым собрание материалов для его истории. Потому в прошедшем году соединены в одну коллекцию все сочинения, изданные библиотекою или касающиеся ее истории. Две другие коллекции составлены: 1) из книг гражданской печати при Петре Великом и 2) газет, выходивших в его царствование. Первая коллекция состоит из 111 нумеров, в числе которых находится «Геометріа славенскі вемлемеріе іэдадеся ново-тіпографским тісненіем», конченная печатанием «Въ лето міроэда-ніа 7216. От рожества же бога слова 1708. Індікта первого, мѣсяца Марта» — первая, как теперь открывается, книга гражданской печати, потому что «Пріклады как. о пішутся комплементы разные на немецкомъ языкѣ», считавшиеся доселе первою гражданскою книгою, кончены печатанием только «месяца Апрілліа» того же года. Газеты царствования Петра Великого есть в библиотеке за все годы, но совершенно полны экземпляры их, по особенному счастию, именно только за самые редкие годы их издания: 1703–1706. По 1710 год они печатались церковным шрифтом; первый из находящихся в библиотеке нумеров гражданской печати — 8 февраля 1710 года. Первые годы газет (до 1711 года) печатаны в Москве; первый, сколько известно, нумер, вышедший в Петербурге, — 11 мая 1711 года. Рядом с петровскими газетами и книгами выставлена карта той же эпохи: «Размѣрная карта часті в начале Балтіского моря начинающаяся от Броклома, даже до Стрелны, иді> же Ост Ѳинскіи и от Парны даже до Шлотбурга». — Это лучшая из тогдашних карт.
Кроме того, по окончательном разборе книг и рукописей поступившего в библиотеку Древлехранилища г. Погодина, все они отличены надписями на переплетах. Наконец, с 1854 заведена, по высочайшей коле, особенная книга для записывания приношений библиотеке.
В числе приобретений библиотеки, кроме изданий, присланных правительственными местами, заграничными учеными учреждениями и поступивших по правилу ценсурного устава, особенно важны пожертвования частных лиц; возрастающая цифра их свидетельствует о том, что сочувствие к Публичной библиотеке продолжает усиливаться в обществе. В 1853 было пожертвовано 115 лицами 2 230 томов, а в 1854 году 138 лицами — 5 059 томов. Особенно значительны были в прошедшем году приношения гг. Аделунга (1 495 томов), Греча, Малышевича, Бунге, Добро-
вича, Погодина, Прянишникова, Беккера, Деми, Геннади, Булича, Поленова, кн. Одоевского. В числе пожертвованных книг очень многие принадлежат к числу драгоценнейших библиографических редкостей.
Покупки книг на иностранных языках были также многочисленны; наиболее обогатились ими в прошедшем году отделение, посвященное изучению России, и отделение математикоестественное. Из числа чрезвычайно редких купленных книг заметим «Краткую Историю Московии», Brief History of Moscovia, Мильтона (Лондон, 1б28 года). Кроме того, библиотека занималась составлением самой полнейшей коллекции всего, печатаемого в Европе и в Америке относительно нынешней войны.
Из рукописей, поступивших в библиотеку, важнейшие: 1) великолепное евангелие на греческом языке, XII века (пожертвовано г. Титовым). 2) Минея праздничная (на славянском языке) XIV века (пожертвована г. Палаузовым). 3) Описание в лицах бракосочетания царя Михаила Федоровича с Евдокиею Лукьяновною Стрешневою, современная рукопись, очень любопытная по своим рисункам. 4) Мемуары шведского генерала графа Спрснгспортена, имеющие важность для истории шведских войн.
5) Собственноручный дневник (на франц. языке) Л. И. Голенищева-Кутузова за годы 1806–1820, 1823–1828 и 1831–1843, всего 34 книжки, которые некогда будут очень любопытным материалом для истории нашего времени. Общая цифра приобретений библиотеки в 1854 году была: печатных книг 13 816 томов (из того числа 5 509 пожертвованы и 5 420 куплены); географических карт 93, гравюр 525, музыкальных пьес 422, рукописей и автографов 162 и проч.
Многотрудное и громадное дело составления каталогов библиотеки продолжается с быстротою, какая — только возможна при подобной работе, необходимо требующей годов; всего в течение четырех предшествовавших лет, со времени утверждения правил, составлены каталоги 253 000 томов. По многим важным частям каталоги уже окончены, и между прочим, каталоги: 1) Альдии-ских изданий, коллекция которых очень богата редкзетями; 2) два каталога дублетов, назначенных в продажу; 3) коллекции замечательных переплетов (эти три каталога составлены библиотекарем г. Мипцлафом); 4) алфавитные каталоги иноязычных сочинений о России, коллекция которых в библиотеке чрезвычайно богата.
В прошедшем году библиотека издала новое тиснение «Ведомостей» 1703 года, о котором «Современник» уже говорил подробно (1855, № III, Библиография); это издание было подарком Московскому университету в день его юбилея.
Число посетителей библиотеки в 1854 году было 20 645 (в 1853—17 897) — В чтение истребовано книг: па русском
языке — 24 137, на иностранных языках— 10 338 томов; все-
го 34 475 (в 1853 г. — 32 345) — такое приращение свидетельствует, по замечанию отчета, о том, что занятия в библиотеке с каждым годом становятся обширнее и библиотека приносит более пользы, главною причиною чего, прибавим мы, надобно считать удобства, которые находят для своих занятий по£етители библиотеки.
О древне-русских училищах. Рассуждение Н. Лавровского.
Харьков. 1854.
Не скроем от читателя, что мы взялись за эту книгу с великими опасениями. Мы ожидали, что, по примеру других более или менее ученых изыскателей, трактовавших в последнее время о просвещении в древней Руси, автор будет доказывать, что при Владимире Мономахе или Иоанне Калите существовали на Руси учебные учреждения, подобные нынешним гимназиям, лицеям, университетам; что у нас процветало в XI–XIII веках изучение французского и немецкого языков, не говоря уже о латинском и греческом; что у нас ученым образом преподавалось тогда римское право, как в Болонье, медицина, как в Салерно, даже, по всей вероятности, органическая химия по системе Либиха и электромагнетизм, по понятиям Фареде и Араго '. К счастию, ничего подобного автор не утверждает. Здравый смысл спас его от поразительных открытий, которыми столько раз удивляли нас в последнее время. Но, к несчастию, автор не мог найти решительно никаких определенных известий о предмете, который должен был составить содержание его книги. Потому его книга осталась совершенно без всякого содержания. В ней говорится об училищах, но говорится о них — ровно ничего, потому что ровно ничего нельзя сказать о них. Впрочем, ни нашей радости, ни нашего сожаления не должно понимать в безусловном смысле. Мы радуемся скромности выводов только потому, что ожидали найти гораздо больше и гораздо больших преувеличений, а не потому, чтоб автор был совершенно чист от желания преувеличить. Не должно также думать, чтоб источники не доставили автору ни одного указания об училищах, — он не преминул привесть известное место из летописи, что Ярослав в Новгороде «собра от старост и поповых детей 300 учити книгам» — итак, мы жалеем не о том, что автору не попалось решительно ни одного факта, а только о том, что этот единственный факт его книги был уже более 300 000 раз приведен в других книгах и потому лишился своей свежести и завлекательности. Нам кажется, что о предмете, столь богатом, можно было написать разве три строки: «Ярослав, по словам летописи, собрал и т. д.; нет сомнения, что и после на Руси были люди, умевшие читать и писать; потому несомненно, что на Руси учили читать и писать; а более об этом ничего неизвестно». Но автор нашел средство написать около двухсот стра-
689
44 Н. Г. Чернышевский, т. II
ннц. Интересно будет читателям узнать, каким образом. Вот каким. Все, что ему вздумается, он выписывает из летописей и других памятников русской литературы, и во всем открывает признаки великого факта, что некоторые люди на Руси знали грамоте, открывает, произвольно толкуя все места в желаемом смысле. Главнейшее средство для этого дает глагол «учити», который значил не только учить, но также поучать, назидать. Все места, свидетельствующие, что пастыри церкви назидали свою паству в благочестии и благонравии, перетолковывает он в том смысле, что они заводили училища и были наставниками в качестве школьных учителей, а не в том качестве, как повсюду и всегда каждый священник назывался наставником своей паствы. Между тем во всех случаях очевидно, что говорится не о школьном учении детей, а о благочестивом назидании взрослых. Но остается несколько мест, говорящих действительно об учении грамоте, и надобно видеть, как пользуется ими автор. Так, например, в «Степенных книгах» говорится, что митрополит Михаил советовал «давать каждому ученику урок по его силам» — ясно, что эти слова показывают (если только они действительно принадлежат Михаилу, а не составляют позднейшую вставку), что дело идет не о правильных школах, где много учеников и невозможно проходить с каждым особенный курс, а о том домашнем обучении, когда учитель занимается с двумя или тремя учениками, из которых каждому задает особые уроки. Но г. Лавровский, основываясь на этих словах, готов предполагать, что ученики делились на отделы по успехам, что в наших старинных школах было разделение по классам, между тем как даже неизвестно, существовали ли школы или дело ограничивалось только домашним обучением, что и гораздо вероятнее. Мало того, он даже утверждает, будто бы у нас были школы, в которых содержались воспитанники; он даже полагает, что у нас учили в школах грамматике! На чем все это основано? Решительно ни на чем. Так вздумалось предположить автору. Подобным-то способом пишутся большие ученые трактаты о предметах, о которых нельзя сказать двух слов.
О литературных партиях в Риме в век Августа. Сочине ние Н. Благовещенского.
Г. Благовещенский с большим тактом избирает всегда предметами своих сочинений очень интересные и с тем вместе малоизвестные у нас вопросы из истории римской литературы. Этим удачным выбором отличаются его рассуждения о римских ателланах ', о римских пантомимах, о начале римской комедии, о судьбах римской трагедии. Нельзя не прибавить, что изложение у него бывает так же интересно, как и самый предмет; потому его сочинения с ученым достоинством соединяют и чисто литературное.
Новое его рассуждение имеет самый живой интерес, излагая исти-рию явлений, совершенно подобные которым мы замечаем и в нашей литературе, и в ясном примере представляя, каково значение и каков будет конец тем литературным прениям, которые часто занимают наших современников и которые почти в таком же виде (только о других именах) происходили и в Риме. «Изучение классической древности, — говорит он, — интересно, между прочим, в том отношении, что она представляет нам собою мир отживший, замкнутый, в котором мы можем проследить каждое событие, каждое явление от начала его до конца. Мы усматриваем не только самое явление, но и результаты, к которым оно привело, чего не видим при изучении эпох, более близких к нам по времени, потому что будущее их нам неизвестно. Потому нередко правильное понимание истории древнего мира дает нам до некоторой степени возможность верно судить если не о всех, то, по крайней мере, о некоторых аналогических явлениях в современной нам жизни. В этом замкнутом мире мы находим, между прочим, решение и таких общечеловеческих вопросов, которые всегда и везде составляли предмет жарких споров, а потому в настоящее время невольно обращают на себя внимание людей образованных и мыслящих. Говоря это, я имею здесь исключительно в виду вопросы литературные и эстетические. В литературе каждого народа, в пору его деятельной жизни и развития, одно направление сменяется другим, или даже одновременно существует несколько направлений, и каждое из них находит своих приверженцев и представителей, не согласных между собою во взгляде на искусство. При известной степени зрелости и развития общества наступает перемена вкуса и, вместе с тем, эстетического взгляда на искусство, и в литературе начинается борьба между старым и новым направлением. Подобное явление не раз встречаем мы и в римской литературе». С точки зрения, на которую становится г. Благовещенский, история древнего мира приобретает самый живой интерес для нашего времени. Изложив факты, рассказываемые г. Благовещенским, мы почти не должны будем указывать параллельность их с явлениями, среди которых стоим мы сами, — так велико и очевидно сходство.
Движение римской поэзии состояло в постепенном ее подчинении греческому влиянию, имевшему следствием обработку языка и художественной формы. Это новое направление считало в век Августа своими представителями Виргилия и Горация. Приверженцы старины не щадили ни того, ни другого нововводителя. Все произведения Виргилия были осыпаны ожесточенною бранью; так, Октавий Авит написал целое сочинение в доказательство того, что Виргилий присвоивает себе чужие стихи; на его «Буколики» была написана пародия («Антибуколики»); на «Энеиду» также была составлена сатира или пародия («Бич Энеиды», Aeneidomastix). Пародии некоторых стихов его дошли до нас. Многие выражения, употребленные Виргилием, называли варварскими, мужицкими. Таким же упрекам подвергался и Гораций. Не были щадимы и писатели, которым обязана усовершенствованием латинская проза. Так, Цицерона упрекали за нововведения в языке и даже называли его аллоброгом, говоря, что он пишет не по-латыни, а на варварском языке. Грамматисты и реторы, занимавшиеся преподаванием стилистики, не считали новых писателей заслуживающими изучения, а классическими авторами признавали одних старинных писателей, в которых восхищались именно тем, что было их величайшим недостатком. Ветхие, вышедшие из употребления слова и обороты превозносились похвалами. Это «литературное староверство», по удачному выражению г. Благовещенского, не признававшее великими писателями Цицерона, Виргилия, Горация, предпочитавшее им Ливия Андроника, Энния, Луцилия, существовало в Риме очень долго. Персий, живший с лишком столетне спустя после Виргилия и Горация, говорит, что еще в его время были л-юди, восхищавшиеся «надутым» произведением старинного поэта Ат-тия и «Антиопою, у которой слезное сердце облокотилось на горести» (выражение, взятое из старинного поэта, которым восхищаются эти отсталые люди и над которым смеется Персий). Конечно, оскорбляемые поэты и приверженцы их принуждены были не щадить обидчиков; у Горация много едких выходок против его хулителей; Виргилий навеки заклеймил своих литературных врагов, Бавия и Мевия, знаменитым стихом:
Q іі Bavium non odit, amet tua carmina, Maevi.
«Кому сносен Бавий, пусть тот восхищается твоими стихами, Мевий». Мало того: новые писатели, принужденные нападками, должны были доказывать, что старинные поэты, подражать которым хотели их заставить, не выдерживают эстетической критики; Гораций должен был, в оправдание нововведениям, обнаруживать грубые недостатки Луцилия, Пакувия и других писателей, чрезмерно прославляемых приверженцами старины. Одним словом, дело происходило совершенно так же, как происходит теперь перед нашими глазами.
Но важность не в' том, как едки и остроумны были взаимные упреки, — важность в том, которая сторона признана за справедливую беспристрастным потомством, на чьей стороне был перевес нравственных и художественных сил. Виргилий и Гораций стояли за нововведения. А кто были их противники? «Бавий» и «Мевий» сделались синонимами слов: «дурной писатель и дурной человек». Мало того: имена их дошли до нас только благодаря тому, что они упомянуты у Виргилия, которого старались терзать своими гнилыми зубами. То же будет с Бавиями и Мевиями всех времен. Утешительно, по крайней мере, это, если неутешительна самая борьба с такими жалкими противниками.
Повесть о Цареграде. Чтение И. Срезневского.
К любимому чтению наших предков принадлежала, между прочим, «Повесть о создании и взятии Царьграда». Это доказывается многочисленностью списков, в которых она дошла до нас.
Уж по одному этому она заслуживала бы полного внимания, как важный памятник литературный, если б и не имела важности для истории взятия Византии турками. Но сличение с важнейшими из греческих и западных описаний этого события показывает, что в нашей «Повести» есть много подробностей, не записанных ни в одном из других рассказов, и с тем вместе обнаруживает, что эта «Повесть», хотя и потерпевшая от позднейших вставок в известных ныне списках, должна быть почитаема рассказом, вовсе не лишенным исторической достоверности. Тем более становится она драгоценна. Г. Срезневский принял на себя труд пересказать ее содержание новым языком, сохраняя, однакоже, все характеристические выражения и почти все подробности подлинника. К этому переводу, составленному по сравнении многих списков, приложил он прекрасные объяснительные примечания, составленные с большою внимательностью и проницательностью. Такой комментарий должен, по словам г. Срезневского, служить как бы введением к изданию самого текста, исправленного по лучшим спискам. Если издание будет соответствовать изложению содержания и примечаниям, то оно будет одним из лучших в числе изданий памятников нашей литературы.
I Политическое равновесие н Англия. Сочинение И. В. I I Вернадского. Москва. 1855. 1
В одной из наших газет 1 г. Вернадский поместил ряд статей, в которых доказывалось, что вс^ толки англичан о тем, что они — защитники прдитического равновесия, несправедливы, потому что Англия постоянно стремилась и стремится к преобладанию над остальными державами, не отступая ни пред какими средствами для достижения этой цели. Это патриотическое мнение подтверждалось обзором английских владений в различных частях земного шара. Статьи, написанные с большим знанием дела, обратили на себя заслуженное внимание публики, и г. Вернадский решился издать их отдельною книжкою. Предполагая, что большая часть наших читателей уже знакома с трудом г. Вернадского, мы не будем излагать его содержания, вполне соответствующего тому чувству, каким должен быть проникнут каждый русский в настоящее время.
Высший курс русской грамматики, составленный Владимиром Стоюниным. Спб. 1855.
В прошедшем месяце мы говорили об учебном курсе русской грамматики, написанном с необыкновенно высокими философскими взглядами и чрезвычайно филологическою эрудициею. 1 еперь перед нами лежит другой учебник русской грамматики, также написанный в духе сравнительной филологии. Мы далеки от того, чтобы сравнивать по достоинству эти две книги. Недостатки руководства, написанного г. Стоюниным, можем мы откровенно указать впоследствии, но должны сказать, что, во всяком случае, г. Стоюнин занимался обработкою своего сочинения очень добросовестно, добросовестно старался о приобретении познаний в том предмете, который излагается в его книге, — преимущества очень важные и уничтожающие всякую мысль о сравнении. Кроме того, должны мы прибавить, что г. Стоюнин пишет скромно, не обнаруживает притязаний на великие преобразования в науке, не тщеславится цитатами из всех книжек, которые попадаются ему под руку, не хочет разыгрывать роли велцчайшего из филологов и философов, одним словом, чужд всякого шарлатанства. Мы не думаем сравнивать по достоинству две книги, о которых говорим. Но, во всяком случае, частое появление грамматик, написанных с целью ввести филологическое направление в преподавание русской грамматики, доказывает, что этот метод, обольстительный по своей новости у нас, начинает входить в моду. Потому нельзя оставить без внимания это модное направление. Мы уже говорили о том, что филология, наука, требующая слишком многих приготовительных познаний, не может быть предметом общего образования, как не могут входить в круг общего образования многие другие отрасли науки. Посмотрим же теперь на дело с другой точки зрения. Нужно ли, полезно ли стремиться к тому, чтобы ввести филологическое образование в круг общего преподавания?
Изучать родной язык необходимо, это не подлежит спору. Но с какой целью и в каком направлении должен каждый из нас изучать его? Конечно, для того, чтоб уметь употреблять его для выражения своих мыслей. Разговорное употребление изучается практически. Каждый умеет на своем языке говорить о всем, что только знает. Письменное употребление представляет некоторые трудности по запутанности нашего правописания. Итак, необходимо выучиться писать без орфографических ошибок. Этого легко достигнуть, и тогда мы будем вполне владеть своим языком, насколько то позволяют наши способности и степень нашего умственного развития. Никому из русских великих писателей не понадобилось филологическое образование, чтобы писать так прекрасно, как они писали. Не совершенно ли достаточно будет знать нам о нашем языке настолько, насколько знали о нем
Жуковский, Пушкин, Грибоедов? Разве Пушкин неправильно употреблял прошедшее время глаголов? А ведь он не знал, соответствует или» не соответствует оно греческому аористу, не знал, каким санскритским суффиксам соответствует наше — лъ, которым характеризуется прошедшее время, не знал, что в слове «люблю» первая гласная есть старославянское йотированное оу, а вторая — старославянский юсъ, произносившийся с носовым отголоском. К чему нам знать, от какого корня происходят слова «рука» и «нога»? Разве не умеем мы и без того правильно употреблять эти слова? Но этого знания мало, говорят приверженцы модного филологического воспитания. Их понятия сделались так стереотипны, что каждым повторяются совершенно в одних и тех же выражениях. Возьмем же из предисловия к книге г. Стоюнина доказательства, что необходимо каждому юноше 13–15 лет изучать язык глубже, нежели изучал его Пушкин.
«Для человека вполне образованного мало только уметь пользоваться практическими правилами языка; нужно разуметь законы своего родного языка, видеть его историческое развитие и то место, какое он занимает между другими языками, понять тесную связь между языком и мыслью, понять, как под влиянием мысли образуется язык. Только при таком знании можно совершенно понять, что язык есть зеркало народа, что в нем отразилась вся духовная народная жизнь. Разумное знание языка раскрывает перед нами дух народа в его языке».
Эти мысли повторяются так часто и с такою безотчетною уверенностью, как будто они — аксиомы вроде 2X2 = 4. Но увы, как неосновательны эти мнимые аксиомы и следствия, из них выводимые!
«Мало уметь практически пользоваться языком, нужно уразуметь его законы». — Но вы забываете, что язык — ни более ни менее, как орудие для выражения мыслей, а орудием нужно только уметь пользоваться, а «разуметь законы, по которым оно образовано», дело специалиста, а не каждого человека, употребляющего это орудие. Желудок варит пищу, глаз видит предметы, хотя бы мы вовсе не знали, по какому физиологическому процессу это происходит. Точно так же моя мысль выражается словами: «времени не должно тратить на бесполезные знания», хотя бы я и не «разумел», по каким законам образовались эти слова и эта фраза. Зачем же нужно мне обременять голову тысячами ненужных подробностей о том, от каких корней, посредством каких приставок образовались слова «бесполезно» и «не нужно»?
Филологу это знать необходимо, как математику необходимо знать свои формулы, мак египтологу необходимо знать гиеро-глифы. Но неспециалисту эти знания вовсе не нужны.
«Но изучая язык народа, мы изучаем дух народа». — Не гораздо ли легче, определеннее, полнее изучается дух народа изучением его истории, его литературы, его нравов? зачем итти к
цели длинным, скучным, неверным путем, когда можно гораздо вернее достичь ее другими путями, более удобными и более благотворными для умственной деятельности?
«Но язык есть зеркало народной мысли»;—не все зеркала отражают предмет в его полном размере и истинном виде. В литературе, в истории жизнь народа отражается верно и полно; в языке — неточно, неполно и часто неверно. Мы знаем, что противоречим в этом случае общепринятому мнению, потому приведем несколько примеров. В арабском языке глагол не имеет времен, неужели же арабы не понимают различия между прошедшим, настоящим и будущим? В английском языке нет различия между родами имен существительных — неужели ж англичане не понимают различия между поваром и кухаркою? а между тем то и другое понятие выражается по-английски одним и тем же словом. Дело в том. что мысль не вполне выражается словом, — надобно подразумевать то, что не досказывается. Иначе люди научались бы из книг, а не из жизни и опыта. Конечно, развитие языка идет вслед за развитием народной жизни, но мы не «разумеем», какая нужда изучать отражение предмета в зеркале, когда он сам очень хорошо виден из литературы и истории. Ужели, в самом деле, дел Петра Великого нельзя узнать из Голикова «Деяний Петра Великого» и непременно нужно для этого исследовать, какие слова ввел Петр Великий в русский язык? И скажите, каким образом из филологического изучения русского языка вы узнаете, что Пушкин ввел в русскую литературу новые идеи? Для этого нужно знать историю русской литературы, а не филологически разбирать русский словарь или русскую этимологию.
Филология наука очень важная, — но для того, кто хочет ею специально заниматься; человеку, который не намерен сделаться филологом, санскритский язык не принесет ни малейшей пользы. Еще менее пользы приобретет он, научившись различать большой юс от малого. Странно даже доказывать такие простые истины. Но как же не защищать их, когда модное направление стремится к тому, чтобы вместо сведений о человеке и природе набивать голову юноши теориями придыханий, приставок, корнями и суффиксами.
Годы, посвящаемые человеком ученью, драгоценные годы. Жаль тратить их на мученье ребенка или юноши над бесполезными для него тонкостями, которых не может он и постичь вполне.
Не будучи согласны с г. Стоюниным в необходимости или полезности руководств, подобных составленному им «Высшему курсу русской грамматики», мы должны, однакоже, отдать автору ту справедливость, что он старался «уразуметь» филологию. Но его книга была бы свободнее от ошибок, если б он был осмотрительнее в выборе авторитетов. Трудами гг. Буслаева, Востокова, Давыдова, Срезневского можно пользоваться безопасно, они не введут в важные ошибки. Но драгоценные труды г. Павского могут принести пользу только опытному специалисту;'до некоторой степени надобно сказать это и о труде г. Каткова 2; других своих руководителей напрасно не оставил г. Стоюнин, потому что у них более ошибочного, нежели верного. Сравнения с персидским языком, принадлежащие самому г. Стоюнину, часто бывают очень удачны и придают некоторую самостоятельность его труду. Но — если выразить наше мнение откровенно, то мы посоветовали бы г. Стоюнину или совершенно посвятить себя филологии, или совершенно оставить ее. Как и во всякой специальности, в филологии не должно существовать дилетантизма.
История православного русского монашества до основания Лавры св. троицы преподобным Сергием. Соч. Петра Казанского. Москва. 1855.
Мы не можем сказать, чтобы люди, занимающиеся историею русской церкви, нашли для себя много нового в книге г. Казанского. Но она составлена внимательно, и автор показывает на многих страницах близкое знакомство с своим предметом. Два или три указания на рукописи Московской академической библиотеки и исследование о времени основания Печерской лавры не лишены научного значения. Но главное достоинство книги состоит не в ученых изысканиях, на которые автор не расточителен, а в благочестивом духе, которым он глубоко проникнут.
Таврида с Крымским полуостровом в географическом, историческом и статистическом отношениях с самых древнейших времен. Спб. 1855.
Не пугайтесь широковещательного заглавия: тетрадка, ям
украшенная, состоит всего из двух печатных листков разгонистого набора. Очевидно, что тетрадка — второстепенная вещь, а сущность книжки заключается в ее заглавии, которое очень обольстительно будет блистать в пышных объявлениях.
Полифеизм древних греков. Обзор языческих верований и обрядов древних іреков, с кратким очерком истории римлян. Составил Ю. Баз. Спб. 1855.
Автор, преподаватель древних языков, часто чувствовал недостаток книжки, которая служила бы ученикам для справок относительно собственных имен и терминов, касающихся классической мифологии, и составил — по хорошим источникам и очень хорошо, прибавим мы от себя — свою книжку для пополнения этого недостатка. Рекомендуем его краткое руководство преподавателям латинского и греческого языков..
О договоре Новагорода с немецкими городами и Готландом, заключенном в 1270 году. Сочинение Ивана Андреевского. С.-Петербург. 1855.
Немногие страницы этой брошюрки, написанные самим автором, скомпилированы из сочинений, написанных до него о сношениях Новгорода с Ганзою и Готландом; большая половина книжки занята текстом договоров, перепечатанных из сочинения Сарториуса о Ганзе, и переводами этого текста с старинного нижненемецкого языка на новый немецкий и русский. Главным достоинством сочинения было бы то, если бы переводы были верны. Но автор, не зная старинного нижненемецкого наречия, поручил другому перевесть договоры на новый немецкий; другой этот также не всегда понимал текст и сделал довольно много ошибок; с этого ошибочного немецкого перевода сделал г. Андреевский русский перевод, в котором повторились ошибки немецкого. Нам кажется, что автор или должен был употребить два-три дня, чтобы привыкнуть разбирать язык подлинника (что не представляет почти никакого труда знающему по-немецки), или избрать для своего сочинения предмет более знакомый.
Краткая русская история для простолюдинов. Составил дядя Афанасий7. С.-П-бург. 1855.
Эта миньятюрная книжечка, доступная по своей цене людям того сословия, для которого предназначена, написана языком простым и понятным. В доказательство нашего отзыва выписываем ее начало.
«Слава богу, ребята, теперь уже много между вами позавелось грамотеев: кто читает бойко церковные и гражданские книги, а кто, пожалуй, коли придется, напишет не хуже иного писаря. Все это ладно. А скажите-тко мне: приходилось ли вам слыхать, откуда взялось и как началось славное царство русское, и какие у нас были сперва государи? Небось не каждый известен об этом. Умные люди давно уже записали все это и знают как «отче наш»; господские дети, почитай, едва выдут из пеленок, а уже расскажут тебе по пальцам, что и когда делалось на белом свете: стало быть, и нам надо знать про свою старину, про свои бывальщины, которые по-книжному называются историей. «Что знаешь, за плечами не носишь» — говорит пословица; а что же поваднее знать каждому доброму человеку, как не дела своих предков. Пожалуй, все вы знаете, что рассказывал отец или дед, — а дальше стон! Примером зайдет речь о татарах… когда они были? кто их победил? — Вот-те и стыдно станет, потому что не знаешь, какой дать ответ. Аль чего лучше? — спросят: когда, мол, предки наши приняли христианскую веру? И того не знаешь. Еще стыднее».
Это убеждение в том, как стыдно не знать своей истории, написано очень недурно.
<ИЗ № б «СОВРЕМЕННИКА» >
Азовское сидение. Историческое сказание в лицах, в пяти актах и девяти картинах. Н. Кукольника. Спб. 1855.
Немногие счастливцы, которым судьба позволила прочесть предпоследнее произведение г. Кукольника, «Маркитантку», где под предлогом воспоминаний о войне с Карлом XII и Полтавской битве столь наивно и трогательно изображена прелесть милой Тани, на сцене доказывающей своему жениху, что она невинна, и героизм ее матери, лопатою побивающей Карла или Левен-гаупта, — эти немногие могут полагать,"что угадают вперед достоинства новой пьесы известного нашего драматурга и романиста. Но, думая так, они ошибутся. Первое важное преимущество «Азовского сидения» над прозаическою «Маркитанткою» состоит в том, что это «историческое сказание в картинах» писано стихами, каких еще никогда не бывало на русском языке. Вот пример. Донцы Кумшатный и Шершило беседуют с запорожцем Зарембою, который говорит, что ему пора отдохнуть от войны и жениться; Кумшатный отвечает:
Пора-то давно пора, только не туда попалі Ты нам не станичник; ты даже не наш Козак. Какая козачка за тебя выйдет?
Разве из ясырок некрещеных жену поймешь;
А козачка, что называется козачка… дудки!
Правда, прибавляет луганский козак Терешка Лещина, поэт, говорящий ломаным малорусским языком, — не пойдет козачка за запорожца; запорожцы злодеи, они разорили нашу Лугань;
Була сторонка людная, а теперь лысая.
От злодеив запорожьских повтикали.
Бодай вам добра не було, племя ведмежье!
Только мини и осталось от солодкого краю,
Що бандура, та сердьце. Нема у мене ни роду, нн хаты,
Не чужой я и на чужой сторонци — бо у меня бандура.
Тая бандура на всих языках знае,
У мене голос, чистый голос, слезами вымыт,
У мене память — не забуди Лугани!
Не забудут добрый люди песень Терсшки,
Зачуют и у дьявольской Сечи голос Лещины.
Я буду мстить запорожцам и грозною, вдохновенною песнью, и саблею, прибавляет Терешка: они, злодеи, зарезали мою жену. Запорожец сердится за эти поэтические выдумки на своих однокашников, и вместо того, чтобы заметить Терешке, что он, очевидно, по невежеству смешивает запорожцев, защитников и героев Украйны, лучших сынов Малороссии, с татарами, ее притеснителями, начинает бранить донцов и их подвиги, чего запорожцы никогда не делывали, и называет Азов, взятием которого хвалятся доины, «дурацким городом».
Кумшатный
(встав и стукнув кулаком по столу)
Дурацкий! Азов дурацкий! Гаврюха, слышишь?
Да как стоит ваша запорожская трущоба,
Так никому из вас такого превеликого дела И во сне не удалось видеть! Ах ты, темя баранье!
А еще на козачке вздумал жениться! дудки!
Как вам на Днепре от латынщиков жутко пришлось,
Так вы куда махнули? Потянули к басурманам на службу!
На поганых хлебах задумали Добывать зипуна молодецкого!
Ох вы, козаки оплаканные,
Где вам быть добрыми, зипунникам.
Как мы, всевеликое войско Донское?
Нет надобности прибавлять, что Кумшатный, подобно Терешке, по невежеству взводит на запорожцев небылицы. Жаль, что автор не объяснил этого в примечании, — тогда мы могли бы отличить мнение господина Кукольника о запорожцах от того, что говорят о них Кумшатный и Терешка в его пьесе. На самом деле донцы никогда так не думали о запорожцах, как принуждены автором отзываться о них мнимые донцы. Но не в этом дело: главные запорожцы, дивную храбрость и высокое благородство которых признавали даже враги их, татары и турки, и потомки которых, черноморцы, своими подвигами показывают, «каких отцов они дети», какие предания завещаны им отцами, — славное войско запорожское не нуждается в защите от выдумок Терешки, не умеющего даже говорить правильным великорусским или малорусским языком и потому признаваемого нами за самозванца — он не великорусе, не малорусе, не козак, он должен быть выходец из чужих земель, но дело не в содержании речей, а в том, какими стихами изложены эти речи. Повторим их еще:
Кумшатный
Пора-то давно пора, только не туда по.
Ты нам не станичник, ты даже не наш
Козак! Какая козачка за тебя пойдет,
Буле сторонка людная, а теперь лысая.
От злодеев запорожцев повтикали,
и т. д.
Поэт-Терешка, вероятно, воображает, что это народный русский или малорусский размер. Если наша догадка, что Терешка — выходец из чужих земель, только старающийся прикидываться русским, — справедлива, то Терешке простительно ошибаться. Но странно, что автор, который представляется нам в качестве истого русского, написал такими странными клочками фраз все свое «историческое сказание».
Тема, данная первою сценою, развивается всею пьесою, которая имеет единственною целью — доказать, что запорожцы были.
хвастуны, трусы, бесчестные волокиты, предатели, подводившие татар на пагубу своих единоверцев, донцов, которых автор справедливо изображает героями; за последнее нельзя не похвалить его, потому что донцы, братья запорожцев, действительно всегда были воинами в высшей степени отважными и благородными, точно так же, как и запорожцы.
Вся первая картина, занимающая не менее 30 страниц, состоит из длинных разговоров на двойную тему пьесы, — разговоров, ни к чему не ведущих и потому скучных. Вторая картина — козацкий майдан, или сходка. Из Азова прибежал вестник, Степан Порошин, и рассказывает, что донцы, там засевшие, осаждены бесчисленным войском Гуссейна-Паши или Гусь-Паши (этот «Гусь-Паша», повторяемый беспрестанно, должен придавать пьесе комизм). Если донцы не поспешат на выручку, товарищи пропадут. Козаки решают всем поголовно ехать в Азов, выбрав своим предводителем Порошина. Картина третья очень длинно — не менее, как на 45 страницах — изображает сборы донцов в поход. Букет картины заключается в последних стихах ее; козаки уехали, на сцене остаются козачки, между прочим Ульяна, замужняя женщина, которая грустит, отпустив мужа в опасный поход и приятельница ее Даша, объявленная невестою Порошина.
Даша.
Вот и не видно!.. Что приуныли? Полно вслед смотреть!
Сгладим лучше путь-дороженьку нашим молодцам!
Выпьем до чиста чару полную
Про их здоровье молодецкое! — Любо!
Все
(кроме Ульяны, взяв чарки).
Любо!
Даша
(подавая чарку, строго).
Уля, любо!
У л ь я н а
(взяв чарку, с отчаянием).
Любо! любо!
По кускам сердечко разрывается!
Все пьют. Занавес падает.
Картина четвертая переносит нас в Азов. Сцена представляет полуразрушенные укрепления города. Осажденных Козаков осталось в живых уже мало. Они отдыхают в ожидании приступа. Козачки, заменяя усталых мужей, исправляют укрепления и готовят боевые припасы. Тут является новое лицо, обязанное, вместе с Гусь-Пашою, смешить публику: козак из немцев, говорящий ломаным языком. Речей очень много, как и в предыдущих картинах; действия очень мало. Наконец, являются Порошин и другие козаки, поехавшие на выручку. За сценою шум приступа. Потом являются люди, рассказывающие зрителям, что приступ отбит, но турки готовятся к новому приступу. Приносят смертельно раненного Терсшку, который умирает, не успев пропеть ни одной из обещанных песен. Для пьесы это лицо совершенно лишнее; оно выведено автором только для того, чтобы позорить запорожцев и чтобы восхищать зрителей восторженными выходками о бандуре и могуществе своего голоса.
Действие пятой картины опять в станице. Козачки, долго не получая известий о мужьях, отправившихся в Азов, от скуки ездят на охоту, стрелять дудаков, и притом стрелять не из ружей, а из луков. Это совершенно новое понятие о козацкой охоте в половине XVII века. Является запорожец, переодетый и с накладною бородою; он, пошедши с донцами в Азов, на дороге струсил и, вернувшись в станицу под чужим именем, хвастает своими геройскими подвигами в Азове и рассказывает, что все коэаки там перебиты или померли с голоду. Старухи ему верят, но богатырша Даша, которая умеет «до чиста выпивать чару полную», не так доверчива — она срывает с запорожца фальшивую бороду, заставляет его признаться в трусости и злом умысле — у волокиты запорожца было на уме силою увезти Ульяну, — в наказание за то бабы сбрасывают его с берега в реку. Вслед за тем является рыбалка (т. е. рыбачка?) и объявляет, что в Азове действительно голод. Даша убеждает козачек садиться на коней и спешить на помощь мужьям.
Шестая картина — курган по дороге к Азову. За курганом сидит запорожец с татарами; он подвел их, чтобы перехватить козачек. Но козачки разгоняют татар, убивают изменника запорожца и продолжают свой путь.
В седьмой и осьмой картинах мы видим бедствия осажден-1 ных; они умирают с голоду. Являются козачки с дудаками, которых по дороге настреляли из луков, и подкрепляют этою неожиданною пищею силы своих мужей. Тогда турки, у которых в стане началась чума, снимают осаду (картина девятая), козаки обогащаются их пожитками. Порошин женится на Даше, а немец-козак на другой девушке, Дуне, которая любила бандуриста — Терешку.
Действия в пьесе очень мало, разговоры неимоверно растянуты; ни одно лицо не говорит натуральным языком, все выражаются странною смесью надутого книжного языка с простонародным.
О жизни и ученых трудах Френа. Соч. П. Савельева.
С портретом Френа. Спб. 1855.
Услуги, оказанные покойным академиком изучению мухамме-данского востока, уже оценены по достоинству в науке, и, без сомнения, каждому читателю будет приятно ближе познакомиться с биографиею этого известного ориенталиста.
Френ родился в 1782 г. в Ростоке (в Мгкленбург-Швсрине) и был учеником знаменитого ориенталиста и нумизмата Тихсена, направление которого определило и характер ученой деятельности нашего академика. Рекомендация Тихсена доставила ему место профессора восточных языков при Казанском университете (в 1804 г.). По смерти Тихсена Френу предложили быть его преемником в Ростокском университете, и он в 1817 г. поехал, побуждаемый желанием видеть родину. На пути туда он остановился и Петербурге рассмотреть восточный музей Академии Наук; его просили заняться разбором ученых богатств этого хранилища, — он согласился, выпросив отсрочку из Ростокского университета, и, увлекшись этим начатым с горячею ревностью колоссальным трудом, остался, наконец, в Петербурге навсегда, в звании академика и директора Азиатского Академического Музея. Он скончался 16 августа 1853 г., на семидесятом году от роду.
В Казани Френ занимался преимущественно разбором мухам-меданских монет, особенно монет ханов Золотой Орды и Волжских Булгар, и успел приготовить к изданию «Описание монет ханов Джучиева улуса, или Золотой Орды» — сочинение, необыкновенно важное для истории Кипчакской орды. В Казани же начат им другой труд, еще более обширный, — составление полного критического словаря арабского языка. Богатство слов и выражений в этом языке так велико, что, несмотря на все превосходные труды арабских и европейских лексикографов, далеко не все слова этого языка и его многочисленных наречий внесены в словари. В течение целых сорока лет, до конца своей жизни, Френ вписывал в свой словарь все пропущенные его предшественниками слова и выражения, которые встречались ему при чтении. После этого можно верить г. Савельеву, что словарь Френа, остающийся еще в рукописи, чрезвычайно важен для арабской лексикографии.
Но деятельность Френа стала еще плодотворнее для науки, когда он поселился в Петербурге и посвятил все свои силы разбору монет и рукописей чрезвычайно богатого Академического восточного музея. Френ привел это громадное хранилище в систематический порядок, глубоко изучил его и издал полные каталоги или рецензии его монет, на основании которых восстановлены им тысячи фактов истории мухаммеданских государств. В музее нашел он и знаменитый «Географический словарь» Якута, столь драгоценный для русской истории по извлечениям из Ибн-Фоцлана, издание которых пролило неожиданный свет на историю полуславянского Приволжья в X веке. Чтобы понять важность трудов Френа по мухаммеданской нумизматике, довольно сказать, что им было рассмотрено до трех миллионов восточных монет!
Нельзя не упомянуть и о том, что Френ оказывал всевозмож-мое содействие русским молодым ориенталистам в их трудах. Едва ли есть ориенталист в России, который бы не был чем-нибудь ему обязан, говорит г. Савельев.
Заииски Русского Географического Общества. Книжка X.
Спб. 1855.
По достоинству своего содержания, десятая книжка «Записок» Географического Общества одна из замечательнейших в этом издании, столь важном для русской географии, статистики и этнографии. Обе статьи, ее составляющие, — «Очерки торговли России с Средней Азией» г. Небольсина и «Список мест в северо-западной части Средней Азии, положение которых определено астрономически», составленный гг. Ханыковым и Толстым (и являющийся, как приложение к составленной г. Ханыковым карте этих мест), — принадлежат к числу капитальных трудов, или, справедливее сказать, должны быть названы, каждая по своему предмету, лучшими сочинениями.
Г. Небольсин, оказавший много услуг статистике своими трудами касательно внешней торговли России, особенно наших торговых сношений с Среднею Азиею, написал теперь очень обширный и полный трактат о торговле России с Бухарой, Хивою и Ко-каном. При составлении этого обзора он, кроме богатого запаса своих собственных заметок, пользовался многими рукописными материалами (особенно записками г. Генса) и представил исследование, драгоценное по множеству новых и точных подробностей. Чтобы составить ясное понятие о степени важности наших торговых сношений с Средней Азией, прежде всего приведем итоги «Общей ведомости» этой торговли за последнее десятилетие (1840–1850 гг.) в круглых числах.
Отпуск
Звонкая монета………….. 1 530 000 руб.
Медь, железо, чугун и разные изіелия из
Из этих цифр получаем средний годовой отпуск (по сложности последнего десятилетия) — 676 000 р., годойой привоз
897 000; вся сумма среднего годичного оборота торговли с Среднею Азиею — 1 573 000 р. сер.
Незначительность этой цифры поразительна, и часто обвиняют непредприимчивость русского купечества в том, что его торговля с Бухарою, Хивою и пр. не приобрела более широких размеров. Г. Небольсин принадлежит к числу людей, которые чрезвычайно заняты будущностью и возможным развитием наших сношений с Среднею Азиею; потому его нельзя подозревать в пристрастии, когда он доказывает, что в настоящее время торговля эта остается маловажна по необходимости, в которой вовсе не виноваты русские купцы. Бухарцы и соседи их, говорит он, народ бедный, а нищий не может быть ни покупщиком, ни продавцом на большие суммы. Немногие зажиточные люди, которые находятся между ними, боятся обнаруживать свое богатство — они должны рритворяться нищими, иначе будут ограблены своим эмиром или ханом. Они не могут пускаться в значительные торговые операции, не смеют даже покупать себе хорошего платья, хорошей мебели — они живут, как бедняки. Потому русские товары не нашли бы себе покупщиков, если бы привозились в большом количестве. Обвинять наших купцов за то, что они возят в Бухару и пр. изделия только самых низших сортов, — также несправедливо, по мнению г. Небольсина: по своей бедности и безвкусию среднеазиатцы могут покупать только самые дешевые товары; не купцы наши хотят продавать им плохой товар, а сами бухарцы и хивинцы заставляют их ограничивать свой привоз грошовыми вещами. Таков же и вывоз из Средней Азии: три четверти его суммы составляют бумажные ткани и пряжа, имеющие одно только достоинство — дешевизну, и потому годные для простолюдинов Оренбургского края, куда не привозится из фабричных губерний дешевых русских тканей, появление которых в Оренбурге значительно сократило бы нашу торговлю с Хивой и Бухарой. Сношение с этими странами остаются незначительны также по недостатку гражданского благоустройства там — зажиточный русский купец, привыкший дома пользоваться почетом, не захочет сам ехать в такую землю, где может на каждом шагу подвергаться грубостям и придиркам; потому русская торговля ведется преимущественно через мелких приказчиков, которые не имеют ни средств, ни охоты слишком заботиться о расширении круга ее. Прибавим, наконец, медленность и дороговизну караванного провоза, и мы будем иметь достаточное объяснение причин, по которым наша торговля с Среднею Азиею ограничивается несколькими сотнями тысяч рублей. За общим введением следует у г. Небольсина подробное описание способов и маршрутов караванной торговли России с Бухарою, Хивою и Коканом, очень богатое точными подробностями; потом он говорит о торговых свя-эях среднеазиатских владений между собою и путях, которыми следуют караваны из одного владения в другое; подробно объясняет качество и назначение каждой привозной и отпускной статьи товаров и заключает свой трактат общею ведомостью о движении среднеазиатской торговли за 1840–1850 годы. Извлечение из этой ведомости мы уже представили и теперь сообщим краткий обзор других отделений его интересного сочинения.
Верблюды для бухарских караванов нанимаются от киргизов. Средний вьюк верблюда— 18 пудов; на дромадера (одногорбого верблюда) можно класть до 24 пудов. Собственно, неизбежна была бы перевозка товаров на верблюдах только через пески Кы-зыл-кум, между Бухарою и Сыр-Дарьею; до этих песков от Бухары можно было бы доставлять товары на арбах, что иногда и делается; от Сыр-Дарьи до нашей Линии также возможен колесный путь. Возможно было бы также учредить из Бухары водяную доставку по Аму-Дарье (отстоящей от города Бухары только на один переход) до Аральского моря: судоходность АмуДарьи на этом пространстве доказана опытом. Но привычка и простота караванной перевозки доселе одерживают верх. В киргизской степи ныне водворено спокойствие, и караваны там не подвергаются более опасностям от хищников. Один из опытных торговцев говорил г. Небольсину, что, вероятно, скоро караваны будут ходить на арбах, запряженных волами, и верблюды переведутся в степи. И действительно, перевозка на волах от Линии до Сыр-Дарьи уже начинает входить в обыкновение. До Бухары из Оренбурга или Троицка считается около 1 700 верст; средняя цена провоза — 10 р. сер. с верблюда, т. е. по 55 коп. сер., полагая вьюк в 18 пудов. Прежде платилось гораздо более — от 20 до 25 р. за верблюда; ныне цена упала, от обеднения ли киргизов, от спокойствия ли, водворенного в степи, или от правильности, введенной при найме. Доставка из Бухары в Троицк ныне обходится дешевле, нежели в Оренбург. Караван в Бухару из Оренбурга идет 55–60 дней, из Троицка 50–55 дней. Караваны в Кокан (Ташкент) ходят преимущественно из Петропавловска. Путь— 45–50 дней; плата за верблюда 7–8 р. сер. В Хиву ходят караваны из Оренбурга; путь 50–55 дней; плата 8—10 руб. сер. Главная наша торговля — с Бухарой; Хива — второстепенный пункт; торговля с Коканом ничтожна. Десятилетие 1840–1850 гг. дает следующие цифры.
Привоя
7 310 000 руб. 1 395 000 „
265 000 „
Отпуск
Торговля с Бухарой. 5 225 000 руб. и с Хивой… 1 335 000 „
„с Коканом. 205 000»
Потому средний годовой оборот бухарской торговли — 1 255 000 р., хивинской — 275 000, коканской — 47 000 р.
Чтобы видеть, каких сортов товары требуются от нас среднеазиатскими покупщиками, приведем цены некоторых отпускных статей. Бритвы для этой торговли идут из продающихся на нижегородской ярмарке по 14 коп. сер. за пару, перочинные ножи — по 55–70 коп. сер. за дюжину ножей о двух лезвиях. При такой цене очевидно, какое качество могут иметь изделия. Более высокая доброта не требуется. Ситцы посылаются различных сортов: лучшие — 9 коп. сер., дешевые — 6 коп. сер. аршин по ценам на нижегородской ярмарке. Коленкор— 1р. — 1 р. 50 к. сер. за кусок в 12–16 аршин. Бумажные платки имеют величины обыкновенно 4–7 вершков в квадрате; имеющие 8—10 вершков требуются уже мало. То, что называется «плисом» в среднеазиатской торговле, есть, по удачному выражению г. Небольсина — «вещество, неприятное для осязания и обоняния, не имеющее ничего общего с тем товаром, который мы знаем у себя под именем плиса, приводящее зрителя в раздумье о том, неужели можно этому изделью изобрести какое-нибудь употребление?» — Но это вещество требуется среднеазиатцами, потому что цена аршина его— И'Л коп. сер. Таковы же шелковые и шерстяные материи, годные по цене для бухарца или хивинца. Таково же качество всех прочих статей нашего отпуска. Напр., по словам г. Небольсина, '«фарфоровая и глиняная посуда отправляется от нас в Среднюю Азию только тех сортов, которые по негодности не могут уже иметь сбыта нигде внутри империи; по бедности и незатейливости азиатца, наш брак посуды для него находка, благо товар наш очень дешев». Интересна также доброта очков, требуемых этими народами. Они не бывают дороже 1 р. 50 коп. дюжина. «Эти инструменты, замечает г. Небольсин, если, может быть, и плохо приспособлены для человеческого глаза, зато весьма хорошо согласованы с достатком народов Турана». Однакоже эти удивительные изделия достаются среднеазиатцам вовсе не так дешево, как было бы можно предполагать. С одной стороны, дороговизна привоза, с другой — необходимость брать значительный барыш при мелочности, медленности и неверности торговых оборотов сильно повышают продажные цены наших изделий на бухарских и хивинских рынках. По расчету г. Генса, торговцы наши получают в Бухаре выгоды:
33 процента с рубля 47 „п п
35
п п п
46
«I мм
на ситец.
„нанку.
„платки.
„сукно.
Потому-то, например, кусок сукна, купленный в Нижнем з? 12'/г—17Чі р. сер., продается в Бухаре 24–32 р. сер.
Главная привозная статья из Бухары и Хивы — хлопок и бумажные ткани, очень дешевые. Ткани дают одежду всему населению Оренбургского края, потому что привозимые из империи слишком непрочны и дороги. Покойный Гене говорит по этому поводу: «У нас любят продавать товар лицом; обыкновенно начинают торговцы хорошо, сначала товар красив и вместе с тем и прочен. Потом убавляют меры и плотности. Через несколько лет изделие, одного названия с первоначальным, по достоинству уже не то, и покупщик, обольстившийся названием, находит, что он обманут. Ткани бухарские и хивинские, каковы были за сто лет, таковы и теперь; их покупают без оглядки, а нашим не доверяют. Вот почему наши фабриканты, несмотря на мнимую утонченность промышленности и на так называемую изящность своих произведений, не успели вытеснить из здешней торговли (т. е. из Оренбургского края) грубые выбойки, зендели, бязи и проч.». Г. Небольсин, оправдывая фабрикантов, принужден, однакоже, прибавить, что всеобщее употребление среднеазиатских тканей в прилежащих русских провинциях «указывает на беззаботность промышленника о развитии русской промышленности». Цены этих привозных тканей следующие:
60—80 кап. сер.
50—55 коп. сер.
1 р. — 1 р.‘20 коп. сер 40–50 коп. сер.
Белая бязь (бумажное тканье, видом похожее на холст) лучшая, кусок в 16–21 арш. (общая ширина всех тканей 6 вершков), в Троицке. Синяя бязь (или зендель) лучшая, кусок в 13 арш., на Линии. Выбойка (или бахта), т. е. бязь набивная красками, подобная ситцу, лучшая, кусок 22–24 арш., в
Троицке…………
Алача (или суса), полосатая бумажная ткань для халатов, лучшая, кусок в 9 арш., на Линии….
К обширной статье своей г. Небольсин присоединил три приложения; извлеченные из записок г. Генса: 1) Дорога из Семипалатинска в Ташкент; 2) дорога из Амбергера в Кашемир, Кокан и Кабул; 3) описание странствований Габайдуллы Амирова по Средней Азии до Индии. Все эти маршруты и рассказы записаны г. Генсом со слов самих путников, и если многое в них потеряло интерес новости, то многие указания будут небесполезными и ныне.
Важность «Карты местностей в северо-западной части Средней Азии, положение которых определено астрономически», составленной г. Ханыковым, и приложенного к ней списка этих местностей очевидна. Труды г. Ханыкова по географии этой части азиатского, материка пользуются достаточным весом в ученом мире, чтобы уже имя составителя ручалось за высокое достоинство его нового труда. Свод астрономических наблюдений сделан цз 23 русских и иностранных ученых путешествий. Всех местностей, определенных астрономически до 1849 года между 64° и 102° долготы и 34°—54° северной широты, собрано в списке и отмечено на карте 486; из них большая половина определена трудами русских ученых, из которых первым был г. Вишневский (в 1806–1815 гг.), почти не имевший в этом деле предшественников и между иноземцами. Из общего числа местностей, 360 находится таких, для которых определена и широта и долгота; для остальных найдена только широта. В некоторых полосах этой части материка число определенных местностей так значительно, что карты могут быть составлены с удовлетворительною точностью. Таково пространство, ограничиваемое Орскою крепостью на севере, Аральским морем на юге и р. Тургаем на востоке (45°—51° сев. шир., 76°—83° долг.) и Персидские области, прилежащие к Каспийскому морю; другие полосы, напротив того, остаются еще бедны астрономически определенными пунктами; особенно это надобно сказать о пространствах между южною частик» Каспийского моря на западе. Аральским морем на севере и Бухарою на юго-востоке (38°—43° сев. шир. и 71°—79° долг.) и еще более обширном пространстве на восток от рек Ишима и Сары-Су и на север от озер Кара-Кул и Исык-Кул (43°—54° сев. шир. и 84°—102° долг.). Трудами русских ученых в скором времени, конечно, пополнятся и эти пробелы; тогда карта северозападной половины среднеазиатских стран достигнет равной точности во всех своих частях.
Отчет императорского Русского Географического Общества аа 1854 год. С.-Петербург. 1855.
Деятельность императорского Географического Общества, приносящая столько пользы русской науке, давно уже возбуждает в публике сочувствие, которое должно почесться совершенно заслуженною наградою его неутомимых трудов.
Интересуясь действиями Общества, публика не может не желать постоянно следить за именами сановников и ученых, имеющих особенное влияние на его труды. Потому из «Отчета», лежащего теперь перед нами, прежде всего выпишем здесь личный состав управления Общества в 1854 г.
Вице-председателем Общества в истекшем году был М. Н. Муравьев; его помощником — А. И. Левшин; членами совета — Н. А. Милютин, Я. И. Ростовцев, К. М. Бэр, Г. П. Гельмерсен, К. В. Чевкин, Ю. А. Гагемейстер, К. А. Неволин и К. С. Веселовский. В летние месяцы, по случаю отсутствия вице-председателя и его помощника, текущими делами Общества заведывал Н. А. Милютин. Казначеем Общества оставался М. Д. Княже-вич, секретарем был Е. Иі Даманский.
В отделениях Общества были: в отделении физической географии председательствующим — А. И. Зеленой; этнографии — председ. Н. И. Надеждин, помощником председ. И. И. Срезневский; статистики — председ. А. П. Заблоцкий, помощником председ. К. С. Веселовский; математической географии — председ. В. Я. Струве, пом. председ. Н. П. Буцкий.
По состоянию денежных сумм Общества находим в «Отчете» следующие цифры:
В кассе Общества к 1 декабря 1853 года находилось: капитала и остатков от текущих расходов 20 808 руб. З3/4 коп. сер.; сумм, имеющих особое предназначение, 55 593 руб. 17 коп., всего 76 401 р. 203/4 коп. сер.
В течение года, 1 декабря 1853 г. — 1 декабря 1854 г., поступило: общих доходов 16 675 р. 28 к.; доходов, имеющих особое предназначение, 29 510 р. 60 коп.; всего 46 185 р. 88 к. сер.
Из того числа израсходовано: на канцелярию, наем дома и другие хозяйственные издержки — 4 678 р. 58 к.; на библиотеку и музей — 1 221 р. 5 к.; на снаряжение экспедиций, собрание разных сведений, пособия для ученых работ и выдачу премий — 7 952 р. 48 к.; на печатание изданий Общества — 9 575 р. 7 к.; всего 23 427 р. 18 к. сер.
Затем к 1 дек. 1854 г. состояло: капитала и остаток от текущих расходов 22 624 р. 113/4 к.; сумм, имеющих особое предназначение, 76 435 р. 80 к.; всего 99 059 р. 913Аі коп.
Все источники постоянных доходов Общества представляют хотя не быстрое, но заметное приращение. Продажа изданий Общества доставила 500 руб. сер., более, нежели в предыдущем году. Но особенно значительно возросла сумма пожертвований на особые, предположенные от Общества предприятия — экспедиции и проч. Так, в истекшем году граф Чапский пожертвовал Обществу 17 500 р. сер. в капитал для снаряжения восточно-сибирской экспедиции.
Библиотека Общества отчасти покупкою, отчасти обменом и особенно пожертвованиями приобрела в истекшем году 804 сочинения. Особенно значительно приобретение Общества по завещанию Н. С. Корсакова, из библиотеки которого поступило в собственность Общества 1 006 томов книг и 1 289 листов карт. К 1 апреля 1854 г. библиотека Общества содержала — книг 3 500 названий в 6 700 томах; карт — 1 679 атласов; рукописей — 256 и проч.
Этнографический музей Общества обогатился в прошлом году особенно коллекциею вещей из быта туземцев наших северо-американских владений; она пожертвована П. П. Дорошиным.
Из различных отраслей ученой деятельности общества «Отчет» прежде всего говорит об экспедициях, снаряжаемых Обществом. Их в 1854 г. было четыре: 1) обширнейшее из всех предприятий Общества — экспедиция в Восточную Сибирь осуществилась в этом году. Математический отдел экспедиции, состоящий из главного астронома ее, Л. А. Шварца, н его помощников — поручика
Рошкова и подпоручиков Смирягина и Усольцева, известного художника, академика Майера и натуралиста г. Радде, прибыл в Иркутск; 2) экспедиция для геогностического изучения степной части Черноярского уезда, под управлением г. Ауэрбаха, снаряжена и исполнила свое назначение в течение летних месяцев прошедшего года; она особенно подробно исследовала интересные для науки окрестности горы Большой Богдо и произвела замечательный вертикальный разрез этой горы от вершины до самой подошвы; кроме того, она исследовала самарские серные копи; 3) экспедиция г. И. С. Аксакова для изучения торговли на украинских ярмарках также окончила свой труд; 4) экспедиция для изучения рыболовства на Каспийском море, состоящая под начальством академика Бэра, с успехом продолжала свои важные работы.
Из картографических предприятий Общества важнейшее по объему — издание межевого атласа Тверской губернии, приводится к окончанию под наблюдением г. Менда; более половины этого обширного атласа уже вышло в свет. Кроме того, Общество издало важную «Карту астрономически определенных мест северозападной части Средней Азии», составленную г. Ханыковым (о которой мы говорим в настоящем нумере «Современника» в разборе X книжки «Записок» Общества); оканчивается литографирование карты озера Исык-Кул и его окрестностей, составленной также г. Ханыковым. Изготовление статистического атласа Европейской России г. Н. А. Милютиным продолжалось.
Издания Общества в истекшем году были следующие: 1) X книжка «Записок» (о которой мы говорим в этом нумере «Современника»; она издана под редакциею г. И. П. Арапетова), XI книжка (по преимуществу геологического содержания) приготовляется к изданию под редакциею г. В. Г. Ерофеева. 2) «Вестник» Общества правильно выходил под редакциею секретаря Общества В. А. Милютина и во время его отсутствия — Е. И. Ламанского. 3) «Отчет» Общества за 1853 г. 4) 2-я книжка этнографического сборника под редакциею г. М. К. Коркунова. 5) 2-я книжка статистического сборника. Все эти книги принадлежат к постоянным изданиям Общества. Сверх того, в 1854 г. оканчивались печатанием: 6) Сельская летопись, составленная из климатологических наблюдений 1851 г. 7) Труды уральской экспедиции, том II. 8) То же сочинение на немецком языке. 9) Статистическое описание города Калязина и его уезда (приложение к атласу Тверской губернии). 10) Обзор путешествий и географических открытий в 1848–1853 годах, г. Свенске. Наконец, печатались или приготовлялись к печатанию: 11) Каталог
всех карт России и ее частей. 12) Памятники народного русского языка, под редакциею И. И. Срезиовского. 13) Обозрение внутренней торговли. 14) Перевод Риттерова землеведения, часть которого будет скооо готова к печати.
Из двух премий, которыми ежегодно располагает Общество, Константиновская (которая присуждается по очереди различными отделениями Общества) в прошедшем году выдана по предмету географии — г. Манганари, за карты Мраморного моря. Жуковская статистическая премия присуждена Е. И. Даманскому за его сочинения: «О денежном обращении в России с 1650 по 1817 г.» и «Об операциях кредитных установлений с 1817 года».
Статей доставлено из провинции членами-сотрудниками 350. Вообще, деятельность Общества, сочувствие и содействие его трудам с каждым новым годом усиливается под милостивым покровительством монарха и непосредственным ободрением и участием августейшего председателя общества, его императорского высочества великого князя Константина Николаевича.
Подвиг матери, эпизод из Отечественной войны, в двух действиях, в стихах. Соч. Ореста Миллера. Спб. 1855.
Пьеса г. Миллера не имела особенного успеха, или, лучше сказать, никакого успеха на сцене — этим достаточно определяется степень ее достоинства; потому было бы излишне много говорить о ней. Расскажем только ее сюжет в нескольких словах.
Елена Петровна, «вдова генерала», отпустила двух сыновей в армию, стоящую под Можайском и с минуты на минуту ожидающую сражения (действие в 1812 году в Москве). Легко понять беспокойство нежной матери. Оно увеличивается тем, что Ваня, младший сын и любимец матери, тоскует и рвется душою на защиту родины — он хочет победить или умереть рядом с своими братьями. Он даже успел выпроситься у матери съездить навестить братьев. Елена Петровна мучится опасением, что любимец ее останется при армии. Но Ваня — послушный сын, и возвращается, как ни тяжело ему это. В этом состоит первый акт. Во" втором акте получено известие о Бородинской битве. Дядька старших сыновей длинным рассказом постепенно приготовляет Елену Петровну к страшной вести, что оба они убиты. Жена старшего из убитых падает в обморок, услышав о смерти мужа. Но мать возвышается духом и в порыве благородного энтузиазма сама посылает Ваню, которого удерживала прежде, заступить место братьев в рядах защитников отечества.
Читателям предоставляется судить о естественности развязки. Автор особенно старался изобразить психологическую борьбу — патриотизма и послушания матери — в сердце Вани, патриотизма и материнской любви — в сердце Елены Петровны. Что он не успел еще уловить истинные черты этой борьбы, объясняется и, если угодно, извиняется его молодостью. Этим же объясняется и многое другое неудачное в его пьесе, которая, впрочем, писана довольно гладкими стихами.
Руководстве к изучению форм и порядка делопроизводства, сост. К. Зосимским. Издание второе. Спб„1855.
Читателям, которые имеют нужду в книге подобного содержания, вероятно, уже известен труд г. Зосимского, как руководство, составленное внимательно и основательно. В новом издании автор дополнил и исправил его согласно постановлениям, изданным в XVI продолжениях «Свода законов». Изложение автора точно и ясно, потому его книга действительно может служить хорошим пособием для людей, желающих познакомиться с формами делопроизводства, изучение которых столь необходимо всякому при вступлении на гражданскую службу или при переходе из одного ведомства в другое.
Новейший полный русский песенник. В четырех частях.
Москва. J855.
Русская литература чрезвычайно богата потребностями. Одна из них — собрание лучших произведений русской поэзии, вроде многочисленных сборников, какие существуют в других литературах, вроде, например, известного «Hausschatz der deutschen Poesie» Вольфа. Но у нас существуют только хрестоматии, которые называются хорошими только сравнительно с другими, уж слишком плохими. Притом же никакая хрестоматия, по самому своему назначению для юношества чрезвычайно стесняясь в выборе стихотворений, не может соответствовать требованиям публики, сошедшей с школьной скамьи. Повидимому, материальный успех подобного сборника, составленного хотя с некоторым знанием и вкусом, не подлежал бы сомнению. Но до сих пор русская публика должна довольствоваться хрестоматиями. Кроме них, в нашей литературе существуют только серо-бумажные песенники, слепленные с самою грустною небрежностью, самым жалким невежеством и безвкусием, — песенники, все похожие один на другой по своему внешнему и внутреннему безобразию, как две капли воды, и принадлежащие той же отрасли литературы, к которой относятся анекдоты о Балакиреве и Похождения Францыла Венециана.
Песенник, ныне оттиснутый в четырех частях московскою бумагонабивиою промышленностью, ничем не лучше своих предшественников. Четыре части его все свободно обнимаются общею оберткою, под которою прячется два или три десятка печатных листов плохой бумаги, отчасти наполненных строками избитого шрифта, — общая форма изделий набивной бумажной промышленности. О содержании может дать понятие уже самое заглавие, если его прочитать в полном составе, покрывающем первую страницу: «Новейший полный русский песенник, собранный из народных русских песен и из сочинений известных русских писате-
лей: Пушкина, Жуковского, Лермонтова, Кольцова, Цыганова, кн. Вяземского, Нелединского-Мелецкого, Козлова, Марлинского, Бенедиктова, Батюшкова, Мерзлякова, Дмитриева, Веневитинова, Давыдова, Плетнева, Баратынского; также содержащий песни святочные, хороводные, подблюдные, плясовые, свадебные и проч.».
Какова должна быть книжка с таким списком имен и слов, которые, кажется, отталкивают друг друга! Когда же мы будем иметь сборник, составленный хотя на один волос лучше этих уродливых чудовищ, которые от времени становятся только безобразнее?
Крымская экспедиция. Рассказ очевидца, французского генерала. Перевод с французского. Спб. 1855’.
Брошюра эта, говорят, написанная по поручению принца Наполеона, который находится не совсем в приятных отношениях с своим родственником, нынешним французским императором, произвела в Европе сильное впечатление как потому, что написана очень ловко (ее приписывают даже — вероятно, несправедливо — перу Эмиля Жирардена, самого бойкого из современных французских публицистов), так и потому, что в ней содержится несколько фактов, очень важных и бывших до того времени известными только немногим лицам — они сообщены редактору памфлета, конечно, принцем Наполеоном, который по своему положению мог знать очень много «домашних секретов» французского правительства.
Брошюра имеет двоякую цель: обнаружить непредусмотрительность, неблагонамеренность, эгоизм нынешнего французского правительства (т. е. Луи-Наполеона и его приверженцев), доказать фактами, что Крымская экспедиция задумана не для блага Франции, не по политической необходимости, а единственно по личным расчетам Луи-Наполеона; задумана без знания дела, без предусмотрительности; что до сих пор точно так же без всякой предусмотрительности ведутся военные действия французов в Крыму; что выбор генералов был неудачен и основан не на заслугах, а на личных отношениях их к Луи-Наполеону; что французская армия совершенно понапрасну гибнет под Севастополем от нужд, болезней и неприятельского оружия и т. д. — все это справедливо и составляет сильную сторону памфлета. Но есть у него и слабая сторона — стремление доказать, что принц Наполеон предвидел все пагубные последствия Крымской экспедиции и каждого из ошибочных действий при ее исполнении; что принц Наполеон — великий политик, великий полководец, человек, чуждый всяких эгоистических расчетов и думающий единственно о благе Франции; что если бы в настоящую войну император французов руководился его советами, то все было бы хорошо (подразумевай: а если б принц Наполеон сидел на месте Луи-Наполеона, то было бы еще лучше, Франция благоденствовала бы и вместе украшалась лаврами); что поэтому — должен заключить читатель, французы должны предпочесть гениального и преданного общему благу принца Наполеона Луи-Наполеону — все это слабая сторона брошюры, потому что осыпать себя похвалами не значит еще доказать справедливость этих похвал.
Но русским читателям нет никакого дела до выгод и достоинств принца Наполеона. Им интересна только критическая часть брошюры, в которой много есть правды, и мы постараемся, как можно короче, изложить содержание этой стороны брошюры, не касаясь общих соображений принца Наполеона о причинах войны, которые ныне потеряли свой интерес, и ограничиваясь только фактами, относящимися к Крымской экспедиции.
Французская вспомогательная армия (около 40 000) прибыла в Галлиполи в конце апреля прошедшего года и там долго стояла бездейственно — медленность, вредная для Франции: на войне драгоценна каждая минута. Потом она двинулась в Варну и опять бездейственно стояла там. Целые два месяца свирепствовала в лагере холера с тифусом. Это было легко предвидеть: Варна известна своим нездоровым климатом. Войско роптало и унывало. Для того, чтобы поддержать его дух победами, Сент-Арно послал в Добруджу генерала Эспинаса искать русских — в убийственных болотах этой области умерло до 6 000 французов; русских Эспи-нас и не видал. Пагубность похода очень легко было предвидеть: Добруджа известна, как страна бесплодная, пустынная, болотистая и в высшей степени нездоровая. Наконец, начали говорить о Крымской экспедиции. Но карты Крыма были плохи; состояние дорог неизвестно. Раглан, Гамелен, принц Наполеон считали экспедицию при тогдашних обстоятельствах предприятием безрассудным; Лейонс, Дондас и Чернер говорили в том же смысле. Но решительное мнение главнокомандующего армиею, маршала Сент-Арно, не допускало противоречий. Начать экспедицию в сентябре, когда уже близки осенние и зимние бури, было действительно безрассудно. После сражения при Альме было опять потеряно много драгоценного времени — Канробер, заместивший умершего Сент-Арно, изнемогал под бременем ответственности, к которой не был приготовлен предшествующею своею службою — он никогда не был самостоятельным начальником — потому действовал робко. Медленностью потеряны были все выгоды, приобретенное счастливым началом экспедиции. Сент-Арно всю надежду на успех экспедиции основывал на мысли тотчас же по прибытии к Севастополю штурмовать эту крепость, еще не приготовленную к осаде и не имевшую значительного гарнизона; эта мысль не осуществилась, когда он умер, и единственный шанс торжества был потерян. Союзники, не готовившиеся к зимней кампании, должны были зимовать в Крыму н подвергались страшным лишениям, холоду, часто голоду, болезням, одним словом, началась история, очень хорошо ныне известная. «Очевидец» резко описывает эти несчастия и неудачи.
В этом отношении его показания могли произвесть сильное впечатление на французов, но для нас, которым всегда было известно истинное положение англо-французских войск под Севастополем, в его словах нет ничего нового.
Кого же должны обвинять французы в бесплодной гибели тысяч своих лучших воинов от русского оружия, десятков тысяч— от болезней и лишений? Кто виноват в бездействии французской армии, напрасно страдавшей в Варне в лучшее время года, кто виноват в пагубном для них решении осаждать Севастополь, кто виноват в непростительных ошибках, которыми так богата история этой несчастной осады? Это для большинства остается еще или темно, или совершенно неизвестно. «Очевидец» дает на все положительные ответы.
Французская армия — говорит он — стояла очень долго в Галлиполи и Варне потому, что Луи-Наполеон и Сент-Арно выжидали, пока Австрия объявит войну России. Надежда эта, прибавляет он, была безрассудна, и очень резко доказывает, что надеяться на деятельное участие Австрии в англо-французском союзе могли и могут только люди, лишенные всякого политического такта — быть может, это справедливо, заметим мы; но очевидец забывает другое обстоятельство, еще более важное: в начале войны Франция не думала присылать в Турцию более 40–50 тысяч и не надеялась, чтобы турки могли устоять в поле против русских; потому начать наступательную войну Луи-Наполеон и Сент-Арно считали невозможным; союзники послали войско собственно только для защиты южных провинций Европейской Турции.
План пагубной Крымской экспедиции составлен в Париже самим Луи-Наполеоном, говорит автор, — это должно быть хорошо известно принцу Наполеону, от которого он получил свои материалы. — Все хорошие французские генералы, даже маршал Вальян, нынешний военный министр, видели невозможность исполнить этот план и громко об этом говорили; один главнокомандующий, Сент-Арно, согласился принять его (и тем Кр ым-ская экспедиция была решена), потому что был креатурою Луи-Наполеона и, при всей своей бесхарак герности, был человек отважный до дерзости. Смерть его, передавшая команду осторожному Канроберу, лишила французов всякой возможности успеха, потому что дерзкий план мог быть осуществлен только дерзким средством — немедленным штурмованном Севастополя после Альмского сражения, как и хотел Сент-Арно. Теперь всякое вероятие успеха миновалось для союзников.
Мы передали только главные мысли «Очевидца», в рассказе которого, кроме того, есть очень много интересных подробностей.
Записки о войне 1813 года в Германии. Генерал-майора Н. Ортенберга. Спб. 1855.
Цель, с которою издана эта книга, объясняется автором в предисловии. «Побуждаемый словами «Наставления для образования воспитанников военно-учебных заведений», что военные события 1812, 1813, 1814 и 1815 годов должны составлять предмет особого изучения для офицеров русской армии, я решился, говорит г. Ортенберг, принести посильную дань военной литературе, представив ясное, хотя и краткое изображение одного из знаменитых годов, когда в таком ярком свете проявились и великодушная твердость государя и доблести народа русского».
Приятное препровождение времени или собрание употребительнейших фантов. Спб. 1855.
Быть может, вы захотите посмеяться над этою книжкою — и вы будете правы, потому что многие из описываемых в ней игр нелепы, а сама книжка написана языком, далеко не образцовым в грамматическом отношении. Но любители фантов могут узнать из нее несколько игр, довольно забавных, например:
Ленты.
«Играющие берут в руки каждый особенную ленту и держат ее за один конец; а другой конец всех лент дается в руки тому, кто распоряжается игрою. Когда он говорит: «тяните!» — надо опускать; а когда он говорит: «опускайте!» — надо потянуть. Удивительно, что в такой незамысловатой игре собирается множество фантов».
В самом деле, ошибки должны быть тут ежеминутны, и игра может доставить несколько минут веселого хохота. Однако не все игры так легки и забавны, напр., «быть статуей» или «попугаем» очень трудно, — но только в фантах: в жизни, напротив, и легко и приятно.
<ИЗ № 7 «СОВРЕМЕННИКА»)
Зурна, закавказский альманах. Издание Е. А. Вердерев-ского. Тифлис. 1855.
Прежде всего нам должно знать, что такое зурна и каких звуков можно ожидать от этого мусикийского орудия. — Предисловие альманаха понимает необходимость такого вопроса от читателей, не имевших еще случая наслаждаться зурною, и очень удовлетворительно отвечает на него: «Зурною в Грузии называется собственно духовой инструмент, играющий господствующую роль в грузинском туземном оркестре», и самый оркестр грузинский. — «Назвать зурною первый закавказский литературный сборник — прибавляет откровенное предисловие — казалось приличным потому, что… как от азиатской зурны нельзя ожидать полной музыкальной стройности, так и от первого закавказского альманаха несправедливо было бы требовать совершенной стройности в литературном отношении. Поэтому-то самая смиренная скромность побуждает издателя заранее просить снисхождения критики и читателей, если настоящий тифлисский литературный оркестр на первый раз покажется им несколько зурноват». — Прямота редкая и похвальная, и, несмотря на «зурноватость» Зурны, мы радуемся ее появлению, потому что оно свидетельствует об усилении литературной деятельности или, по крайней мере, стремления к литературной деятельности за Кавказом, — служит проявлением факта, во всяком случае отрадного, каковы бы ни были на первый раз посильные произведения тифлисских писателей.
Альманах состоит из прозы и стихов. В стихах господствуют звуки двух зурн — зурны графа Сологуба и г. Вердеревского; в прозе мы слышим только одну знакомую нам зурну — зурну графа Сологуба. Оба эти писателя принадлежат Петербургу более, нежели Тифлису, — известность их приобретена сочинениями, напечатанными в «Северной Пальмире»; потому интересно взглянуть, какое влияние на их таланты имел поэтический край, куда перенеслась их литературная деятельность. Прислушаемся сначала к стихам. Вот одно из поэтических произведений, внушенных графу Сологубу тифлисскою жизнью:
М. П. КОЛЮБЯКИНУ (При посылке чернильницы)
Примите сей презент, у Гютиха добытый;
Подарок не казист, ни видом, ни ценой,
Но тайный он родник, колодезь он закрытый Всей мудрости земной.
Источник он наук и писаных законов;
Он речи плоть дает, и — вестником молвы —
Гремящий он язык газетных тех трезвонов,
Что любите так вы.
Он ключ добра и зла, ключ вещего познанья;
Хоть черные подчас родятся в нем грехи,
Зато находят в нем — любовь, свои признанья.
Поэзия — стнхн.
Значением ничто сравниться с ним не можеті Отрада и приют взыскательных сердец.
Он счастье заменит, разлуку уничтожит,
Он славе даст венец.
Итак, мой дар богат, хотя не для показа;
Взгляните же в него, особенно тогда,
Когда историка тревожного Кавказа Не будет здесь следа.
Решившись на письмо в угоду нашей дружбы.
Чернильницу возьмите за бока И тихо молвите: «А что же, почему ж бы Не вспомнить старика?»
Поэтический Восток живительно подействовал на поэзию автора «Тарантаса» — какой петербургский, московский, нижегородский или киевский поэт мог бы найти источник поэтического вдохновения в таком, повидимому, незначительном случае, как подарок или «презент» «неказистой» чернильницы? Но на Востоке все облекается поэтическою формою, гармоническими стихами, цветущими выражениями, остроумными и грациозными оборотами… Счастливы поэты, которых благосклонная судьба переносит на Восток! Они, «взглянув», по совету графа Сологуба, в свою чернильницу и «взяв ее за бока», найдут в ней неиссякаемый ключ прелестных стихов, каких никогда не удастся написать поэту, живущему в наших прозаических городах.
Прозаическое произведение графа Сологуба носит еще более очевидные следы животворного влияния восточной поэтической природы. Пьеса его «Ночь перед свадьбой», составляющая лучшее украшение «Зурны», показывает силу фантазии, необычайную для нас, жителей холодного севера. Графу Сологубу угодно называть эту пьесу «Шуткою» и говорить, с обыкновенною авторскою скромностью, что она не имеет литературного достоинства. Читатели не поверят этому: может ли автор «Тарантаса», «Аптекарши» и стольких произведений, блестящих умом и прекрасною мыслью, напечатать что-нибудь, не имеющее замечательного литературного достоинства. И читатели не ошибутся в своем ожидании: «Ночь перед свадьбою» произведение очень замечательное, как убедит их уже самый беглый очерк этой пьесы. Первая сцена представляет вид нынешнего Тифлиса â vol d’oiseau *. На первом плане пирует с друзьями грузинец Кайхосро, жених прелестной Кетеваны. Приятели, потягивая вино, толкуют о свадьбе, назначенной завтра, о просвещении, железных дорогах и воздушных шарах — из пьесы графа Сологуба мы узнаем, что воздушные шары и железные дороги чрезвычайно интересуют грузин.# После того приятели расходятся, остается на сцене один Кайхосро, и вид сцены изменяется: она представляет Тифлис, каким он будет через тысячу лет; со всех сторон возникают дворцы, колоннады, статуи; видны также железные дороги — и вдруг является беседовать с Кайхосро — кто бы, вы думали? — Шамиль (!!).
— Молчите, говорит он, обращаясь к Кайхосро: — или я вас застрелю.
— Кто вы такой? спрашивает Кайхосро.
— Я — Шамиль, сын Чеченского дворянского предводителя (предупреждаем читателей, что мы выписываем слово в слово).
Кайхосро.
Да вы тат*рин, лезгин, нехристь.
Шамиль.
Нет, я, слава богу, русский.
К а й х о с р о.
Да как же по газетам Шамиль наш первый враг?
Шамиль.
Я студент Душетского университета. Мое призвание живопись. В прошлое воскресенье я был в театре, в Куках. Давали новую пьесу, Рустаівель и Тамара-
Шамиль объясняет, что он видел там «бесценную Кетевану», узнал, что отец хочет выдать ее замуж, и явился теперь помешать свадьбе. Кайхосро сердится, Шамиль привязывает его к трубе, на шум выходит Кетевана, Шамиль объясняется ей в любви. Кетевана говорит, что согласна бежать с ним.
Шамиль.
Что я слышу! О Кетевана, о счастие мое! убежим! (Поет.)
Да, убежим на край вселенной,
Там, радость светлая, вдвоем В любви торжественно-блаженной Мы жизнью сердца заживем!
Ничто нас там не потревожит,
Не в силах счастья погубить…
Кетевана.
(Вместе.)
Лишь если муж мой вечно может Шамиль.
Когда жена моя век может
Кетевана и Шамиль (вместе). Меня любить, меня любить!
Они уходят. Является трубочист, отвязывает Кайхосро от трубы и благодарит его за то, что он согласился принять такую услугу. Потом является Карапет, отец Кетеваны; Кайхосро жалуется ему, что Кетевана хочет бежать с Шамилем. Карапет хладнокровно потчует табаком раздраженного Кайхосро и уходит. Потом опять входят Шамиль и Кетевана; Шамиль бьет Кайхосро и кричит:
«Извозчик! извозчик!» — два воздушные шара влетают на сцену и один из извозчиков за два целковых везет влюбленных беглецов в Париж. Вбегает Карапет и, видя, что дочь улетает с Шамилем, поет:
Какое приключенье
Купца сразило тут!
Свершилось похищенье.
Любовники бегут.
Летят за Океаны!
Где сыщется их след?
Лишился Кетеваны
Несчастный Карапет!
Во втором действии приключения становятся еще запутаннее. Кайхосро едет искать Кетевану и осведомляется о беглецах у заседателя, который оказывается не мужчиной, а девицею; заседатель сначала грозится отрубить уши Кайхосро, потом влюбляется в него, и начинается следующая сцена:
Заседатель.
Да не плачь же, не отчаивайся, я не могу видеть ллачущего человека Что ж? свет так создан: одна обманет, другая утешит!
Кайхосро.
Кто меня утеши..
Заседатель.
Рассейся, пойдем в духан (т. е. в трактир). Пойдем, мы заставим тебя позабыть про твою вероломную, — пойдем же туда.
Там под сению духана Приходи к нам отдохнуть;
Там рассейся от обмана И невесту позабудь —
Верность мечтанье пустое,
Об неверной что жалеть!..
Отомстим ей лучше вдвое И назло ей станем петь.
Тра ла ла!
Кайхосро.
Тра ла ла!
Заседатель и Кайхосро (вместе).
Да, пойду под сень духана И приду к вам отдохнуть.
Кайхосро.
Так рассеюсь от обмана,
Только милостива будь!
Кайхосро.
Да, если вы захотите меня утешить, так я… я… с особенным удовольствием. Заседатель.
Ну, вот видишь ли? Давно бы так… Ты думаешь, что в меня можно влюбиться?
Кайхосро.
Очень, очень можно… как она мила!
Заседатель.
Как он хорош!
Новые влюбленные идут «отдыхать под сень духана», то есть трактира; туда являются и все остальные действующие лица. Кайхосро и заседатель начинают бить Шамиля; являются горцы
46 Н. Г. Чернышевский, т. II
721
защищать своего предводителя, дают залп и убегают; декорации опять переменяются и представляют современный вид Тифлиса, Кайхосро просыпается — ои спал, как видим — и отправляется венчаться с Кетеваною, которая и не думала изменять ему для Шамиля. Уходя со сцены, он поет публике:
Я видел многое во сне,
Но главное мне то казалось,
Что вы, смеясь, внимали мне.
Что наша шутка удавалась.
Надобно согласиться, что только «Сон в летнюю ночь» Шекспира может быть поставлен наряду с шуткою гр. Сологуба по фантасмагорической игривости великолепной фантазии, создавшей Шамиля, Кайхосро и заседателя. О, как живительно действует Восток на воображение! Мог ли бы гр. Сологуб напечатать свою прелестную шутку в Петербурге? Никогда здесь не создал бы он ничего подобного.
Но в стихотворениях другого корифея «Зурны», г. Верде-ревского, мы не находим ничего особенно грузинского; г. Верде-ревский пишет в Тифлисе совершенно такие же стихи, какие некогда писал в Петербурге, и подобные которым часто случается видеть в печати.
Затем должны мы сказать несколько слов и о помещенных в «Зурне» произведениях собственно тифлисских поэтов и литераторов. К ним согласны мы применить ту справедливую снисходительность, которой вправе ожидать первые литературные попытки людей, только что начинающих пробовать свои силы в сочинительстве. Гр. Сологуб и г. Вердеревский — люди, получившие полное литературное образование и должны поддерживать известность, которую приобрели прежде, особенно первый. Но к гг. П. Ф. Бобылеву, мирзе Фет-Али-Ахундову, г. г. Гранкину, Шишкову, Кержаку-Уральскому, М. Ш-ну, Г. Г. Г., Дункель Веллингу, Цискарову, Берзенову, князю Эрнстову, графу Стен-боку мы не должны быть строги. Все, что они напишут, заслуживает полного участия и одобрения, как зародыш и залог более удовлетворительного развития тифлисской литературы в будущем. Мы должны даже сказать, что их произведения и придают «Зурне» право на сочувствие критики. Стихотворения тифлисских литераторов написаны вообще гладкими и легкими стихами; прозаические произведения — вообще языком чистым и правильным. Чего же более желать, чего требовать от первых опытов? Мы радуемся, что между коренными тифлисскими жителями являются люди, имеющие наклонность к литературным занятиям; пройдет еще несколько лет — и между ними некоторые будут писать гораздо лучше, иные, быть может, и в самом деле прекрасно. С этой же точки зрения мы радуемся появлению грузинской романистки, которая пишет, право, недурным слогом. Разбирать все эти произведения с тою взыскательностью, которая необходима для критики, было бы неуместно; и мы прощаемся с «Зурною» в надежде, что через несколько времени Тифлис даст нам другие сборники и произведения, которые будут в состоянии с честью выдержать литературный разбор.
Полное собрание сочинений русских авторов. Стихотворения И. Козлова. Издание А. Смирдина. Две части. Спб.
1855.
Это издание перепечатка прежнего, вышедшего лет пятнадцать тому назад. Прежнее издание, как было уже доказано в свое время, не отличалось совершенною полнотою и между прочим пропустило одно из довольно значительных произведений Козлова, в котором поэтически рассказывается жизнь Байрона '. Таким образом, для желающего открывается полная возможность пуститься в мелочные розыски о пропущенных и старым и новым изданиями стихотворениях автора «Чернеца». Открывается и другое поле для новых разысканий по случаю нового издания сочинений Козлова — подробной биографии его не существует; всем известно только, что он сделался поэтом, когда имел несчастие ослепнуть. Но если можно, то мы не знаем, для чего нужно было бы вдаваться в подобные исследования. Конечно, каждый может по доброй воле избирать себе предмет занятий; не будет ничего худого, если кто-нибудь составит большое биографически-библио-графическое сочинение о Козлове — оно будет прочитано двумя или тремя людьми, которые, быть может, заметят в нем, между тысячами нимало не нужных ни на что мелочей, один или два факта если не слишком важных, то и не бесполезных для истории литературы. У нас это делается в последнее время иначе. Думают, будто бы каждое вновь отысканное стихотворение какого-нибудь старинного второстепенного поэта, каждая вновь найденная библиографическая мелочь — такие драгоценности, о которых надлежит тотчас же оповещать всю публику, без различия пола и возраста. На первый взгляд может казаться, что это увлечение, объясняемое молодостью нашей библиографии, безвредно и отчасти даже хорошо с известной точки зрения, как хорош вообще энтузиазм к труду, каков бы ни был предмет его. Но должно припомнить, что есть занятия, которые бывают полезны и почтенны только под тем условием, чтобы не входили они в моду, а оставались исключительною участью немногих сильных и ревностных тружеников. Либих очень хорошо делает, что занимается анализом удобрений, — а хорошо ли было б, если бы все, желающие чем-нибудь заняться, начали избирать предметом своих исследований анализ удобрений? И хорошо ли было б, если б свои кубы и реторты, из которых веет различными сернисто-водородными газами, вынесли они на общественное гулянье или хотя бы в собрание какого-нибудь ученого общества, хотя бы общества сельских хозяев? Нет, эти работы должны производиться в уединенной лаборатории, да и то при запертых дверях. У нас до сих пор часто не хотят замечать различия между черновыми бумагами, эксцерптами и коллекциями мелких заметок, которым место только на письменном столе, самого исследователя, и теми статьями, которые должен он предлагать публике. Впрочем, надобно заметить, что мода на печатание черновых бумаг уже проходит. Но остается еще следствие впечатления, какому поддались авторы этих эксцерптов и которое успели они передать многим из остальных собратий нашего литературного мира. Трудолюбивые собиратели библиографических данных чувствовали необходимость выставить какой-нибудь «резон», чтобы возбудить в публике внимание к своим — вообще сухим — исследованиям, и, к сожалению, придумали «резон» не совсем точный и удачный. Они имели неосторожность сказать, что история русской литературы с Ломоносова до Пушкина предмет новый, не объясненный, никем до того времени не исследованный основательно; что все прежние суждения о достоинствах наших писателей, о значении их сочинений, о ходе и развитии нашей литературы — поверхностны и ошибочны; что потому цель и важность более или менее мелочных исследований, которыми они (т. е. авторы новых анализов литературного удобрения исторической почвы) предлагают наслаждаться публике, — состоят в том, что ими приготовляются основательные понятия об истории русской литературы, — понятия, которых напрасно будем искать в прежних рассуждениях об этом деле, несправедливых по недостатку основательного знакомства с предметом. Собственно говоря, улик и доказательств не было на это представлено ровно никаких; должно также прибавить, что сухие труды, имевшие, по мнению авторов, столь важную цель, не дали еще ни одного результата, заметного хотя бы б микроскоп. Но статьи были переполнены тьмачисленными цитатами, заглавиями книг и именами; некоторые из их составителей действительно были люди трудолюбивые, владевшие значительным запасом эксцерптов, — и потому люди, которые сами не рылись в старых книгах, должны были поверить им на слово, будучи поражены ученою внешностью статей, и начали повторять, что история русской литературы с Ломоносова (за старинную литературу московских времен — предмет действительно неисследованный— никто не думал тогда приниматься) — ждет еще своей оценки, потому что прежние суждения о ней несправедливы. Прежний библиографический жар уже значительно остыл, но возбужденные им голословные толки о необходимости подвергать нашу литературу новой оценке, о неосновательности прежних суждений и т. д. все еще продолжаются, — потому неизлишне возразить на них фактами. Русским писателям остается еще так много сделать для удовлетворения нуждам настоящего, что всякая трата времени и мыслей на переделку того, что уже прекрасно сделано их предшественниками, приносит йоложитель-ный ущерб литературе. Нива настоящего — выражаясь фигуральным языком — нуждается в деятелях, а не бесплодные пустыри прошедшего, поле которого (мы говорим об истории русской литературы) давно исследовано, насколько требовалось и допускалось им исследование 2.
Мы хотим доказать это фактами — и, пользуясь случаем, избираем для примера сочинения Козлова. О нем не было написано обширных статей, как о важнейших наших поэтах — Державине, Батюшкове, Жуковском, Пушкине; не было даже говорено о нем столько, как о других спутниках последнего из этих корифеев, например, о Баратынском, Полежаеве, Языкове и проч. Потому, казалось бы, если о ком можно и должно сказать что-нибудь новое и основательное, то именно о Козлове; если кто-нибудь из поэтов нуждается в новой оценке, то именно он. Но мы приведем суждение о сочинениях Козлова, которое делает совершенно бесполезными всякие дальнейшие исследования и переисследова-ния о их достоинствах и значении для русской литературы. Из какого журнала или какой книги взята нами эта выписка, не говорим, потому что она должна быть памятна всем занимающимся историею нашей литературы, — а кто не помнит ее, тот должен скромно сказать о себе, что не вполне знаком с прежними трудами, о которых потому и не должен отзываться презрительно, пока не узнает их лучше, — тогда он будет и говорить о них не таким тоном, как говорить вошло ныне в привычку 3.
Слава Козлова была создана его «Чернецом». Несколько лет эта поэма ходила в рукописи по всей России, прежде чем была напечатана. Она взяла обильную и полную дань слез с прекрасных глаз; ее знали наизусть и мужчины. «Чернец» возбуждал в публике не меньший интерес, как и первые поэмы Пушкина, с тою только разницею, что его совершенно понимали: он был в уровень со всеми натурами, всеми чувствами и понятиями, был по плечу всякому образованию. Это второй пример в нашей литературе, после «Бедной Лизы» Карамзина. Каждое из этих произведений прибавило много единиц к сумме читающей публики и пробудило не одну душу, дремавшую в прозе положительной жизни. Блестящий успех при самом появлении их и скорый конец — совершенно одинаковы: ибо, повторяем, оба эти произведения совершенно одного рода и одинакового достоинства: вся разница во времени их явления и, в этом отношении, «Чернец», разумеется, гораздо выше.
Содержание «Чернеца» напоминает собою содержание байронова «Джя-ура»; есть общее между ними и в самом изложении. Но это сходство чисто внешнее: «Джяур» не отражается в «Чернеце» даже и «как солнце в малой капле вод», хотя «Чернец» и есть явное подражание «Джяуру». Причина этого заключается сколько в степени талантов обоих певцов, столько и в разности их духовных натур. «Чернец» полон чувства, насквозь проникнут чувством — и вот причина его огромного, хотя и мгновенного успеха. Но это чувство только тепло, не глубоко, не сильно, не всеобъемлюще. Страдания «Чернеца» возбуждают в нас сострадание к нему: а его терпение привлекает к нему наше расположение, но не больше. Покорность воле провидения (Resignation) — великое явление в сфере духа; но есть бесконечная разница между самоотречением голубя, по натуре своей неспособного к отчаянию, и между самоотречением льва, по натуре своей способного
ііастп жертвою собственных сил: самоотвержение первого только неизбежное следствие несчастья, но самоотречение второго — великая победа, светлое торжество духа над страстями, разумности над чувственностью. Вот почему даже лютое отчаяние, если оно является в форме несокрушимой силы духа, горделиво и презрительно несущей свое несчастие, — в тысячу раз сильнее и обаятельнее действует на нашу душу, чем бессильное смирение, тихо льющее сладкие слезы примирения. Примирение — самый торжественный акт духа, но только тогда, когда он совершается собственною силою человека. Глубок и велик тот, в ком лежит возможность не одного примирения, но и вечного оазрыва.
✓
Тем не менее, страдания Чернеца, высказанные прекрасными стихами, дышащими теплотою чувства, пленили публику и возложили миртовый венок на голову слепца-поэта. Собственное положение автора еще более возвысило цену этого произведения. Он сам особенно любил его перед всеми своими созданиями.
И в самом деле, две другие поэмы Козлова: «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая» и «Безумная», уже далеко не то, что «Чернец». В них, особенно в первой, есть прекрасные поэтические места, но в них нет никакого содержания, почему они растянуты и скучны в целом. В «Безумной» даже нет никакой истины: героиня — немка в овчинном тулупе, а не русская деревенская девка. Кроме того, обе эти поэмы, несмотря на разность содержания их, суть не что иное, как повторение «Чернеца»: слова другие, но мотив тот же, а одно и то же утомляет внимание, перестает возбуждать участие. Вот почему две последние поэмы не имели никакого уснеха, тогда как успех «Чернеца» был чрезвычайный. Как целое, эта поэма уже нема для нашего времени; но многие частности и теперь еще прочтутся с наслаждением. Первая часть этого третьего издания сочинений Козлова заключает в себе три его поэмы, о которых мы сейчас говорили; известное его послание «К Другу В. А. Ж.» 4, интересное, как поэтическая исповедь слепца-поэта; балладу «Венгерский 'Лес»; байронову «Абидосскую Невесту», «Крымские Сонеты» и «Сельский Субботний Вечер в Шотландии». Что до баллады — кроме хороших стихов, она не имеет никакого значения, ибо принадлежит к тому ложному роду поэзии, который изобретает небывалую действительность, выдумывает Велед, Изведов, Останов, Свежанов, никогда не существовавших, и из славянского ынра создает немецкую фантастическую балладу. Перевод «Абидосской Невесты» — весьма замечательная попытка; но сжатости, энергии молниеносных очерков оригинала в нем нет и тени. — Так же замечателен перевод и «Крымских Сонетов»; но отношение его к оригиналу точно такое же, как и перевода «Абидосской Невесты» к ее подлиннику. — Одно уже то, что иногда 16-ю, і18-ю и 20-ю стихами Козлов переводит 14 стихов, показывает, что борьба неравная. — «Сельский Субботний Вечер в Шотландии» есть не перевод из Бернса, а вольное подражание этому поэту. Жаль! потому что эту превосходную пьесу Козлов мог бы перевести превосходно; а как подражание — она представляет собою что-то странное.
' С большим удовольствием обращаемся ко второй части стихотворений Козлова. Она вся состоит из мелких лирических пьес и из отрывочных переводов; но в них-то поэтический талант Козлова и является с своей истинной стороны и в более блестящем виде. Конечно, не все лирические стихотворения Козлова равно хороши: наполовину наберется посредственных, есть и совершенно неудачные; даже большая часть лучших — переводы, а не оригинальные произведения; наконец, и из самых лучших многие не выдержаны в целом и отличаются только поэтическими частностями; но, тем не менее,
;самобытность замечательного таланта Козлова не подлежит ни малейшему сомнению. Его нельзя относить к числу художников: он поэт в душе, а его талант был выражением его души. Посему талант его тесно был связан с его акизнию. Лучшим доказательством этому служит то, что без потери зрения Козлов прожил бы весь век, не подозревая в себе поэта. Ужасное несчастие заставило его нознакомиться с самим собою, заглянуть в таинственное святилище души своей и открыть там самородный ключ поэтического вдохнове-
ния. Несчастие дало ему и содержание, и форму, и колорит для песен; почему все его произведения однообразны, все на один тон. Таинство страдания, покорность воле провидения, надежда на лучшую жизнь за гробом, вера в любовь, тихое уныние, кроткая грусть, — вот обычное содержание и колорит его вдохновений. Присовокупите к этому прекрасный, мелодический стих — и муза Козлова охарактеризована вполне, так что больше о нем нечего сказать. Впрочем, его музе не чужды н звуки радости и роскошные картины жизни, наслаждающейся самой собою.
«Ночь весенняя дышала Светло-южною красой;
Тихо Брента протекала;
Серебримая;,уной;
Отражен волной огнистой Блеск прозрачных облаков,
И восходит пар душистый От зеленых берегов.
Свод лазурный, томный ропот Чуть дробимые волны,
Померанцев, мнртов шопот И любовный свет луны,
Упоенья аромата И цветов и свежих трав,
И вдали напев Торквата Гармонических октав,—
Все вливает тайно радость,
Чувствам снится дивный мир,
Сердце бьется, мчится младость На любвн весенний пнр.
Йо водам скользят гондолы;
скры брызжут под веслом;
Звуки нежной баркаролы Веют легким ветерком…
Но густее тень ночная;
И красот цветущий рой,
В неге страстной утопая,
Покидает пир ночной.
Стихли пышные забавы;
Все спокойно на реке,
Лишь торкватовы октавы Раздаются вдалеке».
Какая роскошная фантазия! Какие гармонические стихи! что за чудный колорит — полупрозрачный, фантастический! И как прекрасно сливается эта выписанная нами часть стихотворения с другою — унылою и грустною, н какое поэтическое целое составляют они обе!..
Многие удивлялись в Козлове верности его картин, яркости их красок, — ничего нет удивительного: воспоминание прошедшего сильнее в нас при лишении настоящего; чего страстно желаем мы, то живо и представляем себе, а чего сильнее желает слепец, как не созерцания картин и форм жизни?..
Козлов поэт чувства, точно так же, как Баратынский поэт мысли. Поэтому не ищите у Козлова художественных созданий, глубоких и мирообъем-лющих созерцаний; ищите в нем одного чувства, — и вы найдете в его двух книжках много прекрасного, едва ли не наполовину с посредственным. От этого» се переводы его отличаются одним колоритом — тем же самым, как и его оригинальные произведения…
Кто читал сочинения Козлова, тот согласится в верности и полноте суждения, приведенного нами. Что же можно прибавитъ к этим словам, сказанным уже давно? Разве новые исследования о различных редакциях «Чернеца» или новые, подробнейшие сличения «Безумной» с «Чернецом» и перевода «Абидосской невесты» с оригиналом? Или разыскания о том, в каком журнале в первый раз напечатано то или другое стихотворение? Или рассуждения с целью доказать, что «Венгерский лес» не есть подражание, а творение самостоятельное, высокое значение которого доселе не было объяснено? Можно, если угодно, делать и это; но прежде должно подумать о том, не лучше ли употребить время и труд на что-нибудь более важное.
О весьма замечательном употреблении имен числительных два, три, четыре в русском языке. Новгород. 1855. Деиьга, Кабак, Набат. Новгород. 1855. Исторические записки дирекции Новгородской губернии.
Новгород. 1855.
Все три статейки перепечатаны отдельными оттисками из «Новгородских губернских ведомостей». Чтобы дать понятие о характере первых двух статей, сделаем небольшую выписку из первой, «посвященной исследователям русского слова». По-русски говорится «два стола, три, четыре стола» — вместо обыкновенного множественного (столы) здесь употребляется особенная форма, в которой филологи видят остаток старинного двойственного числа, именительный падеж которого в словах мужеского рода совпадал по форме с родительным падежем единственного числа. Автор брошюры не согласен с этим объяснением, которым совершенно довольны славянские филологи, и думает, что в выражении «два стола» — стола не есть особенная форма именительного падежа, принадлежавшая старинному двойственному, а просто нынешний родительный падеж единственного числа, и видит в этом «глубокую мудрость». Уже в Индии, говорит он, были Брама, Вишну и Шива; у греков были три парки; во многих языках различаются три времени и три рода и т. д.
Наконец почти все разные главные члены человеческого тела состоят, сверх общего названия, из трех частей, так, напр., глаз состоит из 1) белка,
2) радужной оболочки и 3) зрачка; ухо из 1) ушной раковины, 2) трубочки,
3) барабанной перепонки. Когда мы все эти вышеупомянутые и подобные им предметы поближе разбираем и представляем себе в виде сектора круга, то выходит, собственно, четыре предмета, которые составляют единство. Из них главный предмет, заключающий в себе прочие (1), или знаменатель, имеющий быть склоняемым, непременно должен быть поставлен в именительном падеже единственного числа, а прочие (2, 3, 4), принадлежащие, как части к единству его, должны быть поставлены в родительном падеже, чтобы выразить принадлежность их к единству.
На этом основании ввел древний мудрец (установитель русского языка) это употребление родительного падежа единственного числа при числительных два, три, четыре.
Вот мое убедительное мнение. Пусть оно докажет моим читателям, с каким рвением й с какою прозорливостию я привык исследовать темные филологические истины. Э.
Объяснение чрезвычайно замечательное и прозорливое. Но мы уверены, что у не многих из филологов достанет прозорливости, чтобы понять его «убедительность».
В третьей брошюрке представлены некоторые сведения о состоянии училищ Новгородской губернии по 1803 год.
<ИЗ № 8 «СОВРЕМЕННИКА» >
Восточная война, ее причины н последствия. Москва.
1855.
* * *
Брошюра эта, написанная еще в марте прошедшего года и слишком поздно явившаяся в русском переводе, едва ли может иметь особенный интерес для читателей в настоящее время. Борьба, неизбежность которой еще только предсказывает брошюра, продолжается уже более года и приняла такие обширные размеры, что совершенно изменила свой характер. Это уже не война между Россиею и Турциею с ее союзниками, какою представлялась она полтора года тому назад, а война между Россиею и двумя западными державами, которые оттеснили Турцию на второй план и на военном и на дипломатическом поприще. Если возможно было сомневаться, по совету или против совета Англии и Франции начала войну Турция в 1853 году, то для каждого теперь ясно, что в настоящую минуту Турция продолжает ее против собственной воли, по приказанию своих союзников, которые из союзников сделались властелинами слабой державы. Дело приняло оборот, напоминающий басню, рассказанную афинянам, когда сиракузяне предлагали им свою помощь против персов: «Лошадь вела войну с каким-то врагом и, видя собственное бессилие продолжать ее, обратилась с просьбою о помощи к человеку. Человек охотно взялся помогать ей, только с условием, чтобы лошадь позволила ему сесть на ее спину; лошадь согласилась; но когда, по окончании войны, попросила своего союзника освободить ее спину от тяжести его тела, под которою она изнемогает, союзник преспокойно отвел ее в конюшню, не слушая никаких просьб, и после того никогда уже не возвращала себе лошадь прежней воли». Афиняне, выслушав эту басню, отказались от помощи, предлагаемой сиракузянами. Турки не знали басни, вероятно, только потому и просили помощи у французов и англичан. Как бы то ни было, но характер войны совершенно изменился после того, как она стала делом западных держав, и те вопросы, о которых первоначально шло дело, потеряли теперь значение — воюющие державы успели согласиться в их решении на венских конференциях и это не остановило войны, потому что успели уже возникнуть новые вопросы, отнявшие у первых большую часть важности. Во многом изменились и другие обстоятельства, от которых зависит продолжение войны и на которых основаны предположения автора брошІорыГ Одним- словом" события, совершающиеся перед нашими глазами, отняли своим развитием большую часть интереса у прошлогодних памфлетов и статей, которые могли быть любопытны в свое время. К числу их принадлежит и брошюра, заглавие которой мы выписали выше.
Азовское море с его приморскими и портовыми городами, их жителями, промыслами и торговлею. С приложением карты Азовского моря, составленной А. Зуевым. Спб.
1855.
Книжка, составленная внимательно и представляющая интерес по случаю военных событий, театром которых служит Азовское море и его берега. Заимствуем из нее несколько сведений о Керченском проливе и о городах Таганроге, Мариуполе и Бердянске:
Керченский пролив имеет глубины на фарватере, около Керчи, от 21 до 26 футов, далее, к Еникале, местами только 18 и 16 футов, ближе к Азовскому морю глубина уменьшается до 14 футов, а за Финарским мысом (с небольшим четыре версты к северо-востоку от Еникале) в Азовском море увеличивается от 25 до 30 футов. У входа в Керченский пролив с Черного моря ширина его составляет до 14 верст; он расширяется между Керченскою бухтою и Таманским заливом; но близ Еникале, к Азовскому морю, суживается от противолежащей длинной косы, так что в этом месте ширина около четырех верст. Мелководье в северо-восточной стороне Керченского пролива, примыкающей к Азовскому морю, позволяет здесь проходить только судам, имеющим осадки не более 13 футов.
Таганрог, главный портовый город юго-восточной России, с 22 472 жителей, расположен на мысе у северного берега залива Азовского моря, в расстоянии около 30 верст от устьев Дона. В настоящее время в городе считается 1 820 домов и 10 церквей. Особенного замечания заслуживают: императорский дворец (каменный), иерусалимский Александровский монастырь, монумент императору Александру I, старинная крепость, остатки гавани, построенной Петром Великим. Во внешней торговле Таганрога вывоз всегда значительно превышает привоз, при большом требовании пшеницы, которая составляет главнейшую статью заморского отпуска. Пшеница доставляется в Таганрог водою, с разных пристаней реки Дона, куда подвозится сухим путем из Земель Донского и Черноморского войска, из Кавказской области, Воронежской губернии и от Дубозки с Волги, из Самары и других низовых пристаней, а прямо в Таганрог привозят пшеницу из окрестных селений, из Екатеринославской и Харьковской губерний, на воловьих фурах. С 1815 по 1853 год цифра отпуска пшеницы из Таганрога составляет 4 212 088 четвертей.
Гавань Таганрога, основанная Петром Великим, имела первоначально восемь футов глубины. — Не будучи поддерживаема около ста лет, гавань, от наносов с моря — песка и ила, и с нагорной стороны — земли, во время дождей, засорилась и обмелела так, что глубина ее составляет не более четырех футов, и только в одном проходе или ковше осталось место для зимовки небольшого числа малых купеческих судов без груза; но и при выходе их через этот проход встречаются затруднения, а при весеннем вскрытии моря, во время бурных западных ветров, суда нередко терпят вред от сильного натиска льдов. Такое неудобство побудило местное начальство избрать для зимовки судов особенное место вне гавани, защищаемое возвышенным мысом. Таганрогский рейд имеет около 20 верст в окружности; он ограничивается с западной стороны Петрушиною Косою.
Морские суда обыкновенно останавливаются в З'/г и более, до 12 верст
от берега как по мелководию, так и для удобнейшего, в случае надобности, лавирования, и еще более по причине быстрых, неправильных, и часто значительных приливов и отливов.
Биржа Таганрогская, расположенная на низменном песчаном береге морского залива, отделяется от города высокою горою.
Город Мариуполь основан в 1780 году греками, крымскими выходцами, и имеет прекрасный рейд, которого глубина, в 1 '/г мили от берега, равняется 15 и 16 футам. Жителей в Мариуполе считается 4 600 душ обоего пола. В настоящее время в городе 768 домов. Главный промысел жителей мариупольских— закупка и продажа пшеницы, льняного и сурепного семени, частью — сырых кож, шерсти и т. д. для заграничного отпуска прямо из Мариуполя и через Керчь; средним числом в год Мариупольский порт отпускает более 175 000 четвертей хлеба.
Бердянск основан только в 1837 году князем М. С. Воронцовым. Лет 30 тому назад, на месте, где стоит Бердянск, было несколько рыбачьих хижин, и не более 25-ти лет прошло с тех пор, как устроена пристань, а теперь здесь находится город, в котором 6 498 жителей, земли до 10 000 десятин и 985 домов. Быстрому развитию города способствует, сверх значительного отпуска хлеба в Керчь и за границу, производимая жителями его рыбная ловля и сухопутная торговля ррбою.
Бердянск имеет превосходную гавань, в которой может поместиться до 2 000 судов.
По семилетней сложности вывезено хлеба:
С 1839 по 1846 г. 1 020 947 четв., или средним числом в год 145 849 четв., с 1846 по 1853 г. 1 906 957 четв., или средним числом в год 272 422 четв.
Карта Азовского моря, приложенная к его описанию, сделана в большом размере, литографирована и иллюминована очень отчетливо.’
Новые письма о химии, в ее приложениях к промышленности, физиологии и земледелию. Юстуса Либиха. Пере-вод инженер-поручика А. Мохера. Спб. 1855.
Рассказывают, что Либиха, основателя органической химии, когда он был еще мальчиком лет двенадцати, спросили; «Каким предметом ты хочешь заниматься?» — «Химиею», отвечал он. — «Глупенький, как же можно заниматься такими пустяками!» отвечал ученнейший из присутствовавших ученых. В самом деле, если какая-нибудь наука может назваться созданием новейшего времени, то это химия, особенно органическая. Кто учился химии лет двадцать тому назад, тому ныне должно совершенно вновь изучать ее, чтобы хотя сколько-нибудь иметь понятие об огромной важности и великих результатах этой науки, одной из драгоценнейших для человека, едва ли не самой важнейшей в наше время из всех естественных наук и уже ставшей, несмотря на свою молодость, руководительницею нашею и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в физиологии, и в медицине. Виновником столь быстрого и благодетельного для людей развития химии был Аибих; он же был и объяснителем своих великих открытий для всех образованных людей, потому что, обладая всеми качествами гениального исследователя, он в то же время одарен
способностью и охотою писать чрезвычайно популярно — драгоценные качества, редко соединяющиеся в одном человеке. Его «Письма о химии», будучи одною из важнейших книг нашего времени по ученому достоинству, с тем вместе одна из самых занимательных и легких книг, какие только существуют по естественным наукам. В последнем отношении они стоят наравне с астрономическими трактатами Араго, далеко превосходя их по гениальной самостоятельности содержания. Впрочем, было бы совершенно напрасно распространяться о достоинствах этого сочинения, всем известных. Первая часть «Писем» (I–XXVI письма) была уже переведена несколько лет тому назад на русский г. Дымчевичем; теперь является и вторая часть их, служащая необходимым продолжением первой (письма XXVII–XXXVII). Благодаря г. Иохера за этот истинно полезный труд, мы пользуемся появлением новой книги Либиха на русском языке, чтобы сообщить несколько биографических сведений о главе современных химиков.
Юстус Либих родился в 1803 г. в Дармштадте. Еще будучи ребенком, он обнаруживал уже большую любовь к естественным наукам, и потому отец определил молодого Юстуса, по окончании гимназического курса, в аптеку в городке Геппенгейме, близ Дармштадта. Прожив здесь около года, он поступил в Боннский университет, потом слушал лекции в Эрлангене, и в 1822 году, для усовершенствования себя в естественных науках, мог отправиться в Париж, благодаря пособию от правительства. Там двадцатилетний юноша уже обратил на себя внимание Гумбольдта важными исследованиями по части органической химии. Отчасти рекомендации Гумбольдта, отчасти собственной известности, быстро приобретенной, обязан он тем, что на 21-м году получил место профессора в Гиссенском университете, который в свою очередь обязан ему громкою славою, как лучший университет в Европе по части химии. В. Гиссене оставался он до 1852 года, когда, приняв настоятельные приглашения баварского правительства, перешел профессором химии в Мюнхенский университет, привлеченный не какими-нибудь денежными выгодами — он ив Мюнхене получает, если не ошибаемся, не более 2 000 талеров жалованья, т. е. гораздо менее, нежели каждый из профессоров парижского факультета, — а тем, что средства Мюнхенского университета позволяли ему устроить более обширную лабораторию. В Гиссен, до Либиха совершенно неизвестный в ученом мире, стекались на лекции Либиха ученики — не только из всех концов Германии, но также из России, Франции, Англии, даже Швеции. Теперь они стекаются в Мюнхен. Органическая химия, можно сказать, обязана своим существованием Либиху, почти всеми своими важными открытиями — Либиху и его ученикам.
Перевод «Новых писем о химии» удовлетворителен со стороны языка, почти всегда правильного и ясного.
Исследование Псковской судной грамоты 1467 года. Ф. Устрйлова. Спб. 1855. '
Труд молодого ученого, выгодным образом свидетельствующий о трудолюбии и добросовестности, потому достойный ободрения. Псковская судная грамота имеет очень важное значение в истории нашего законодательства и заслуживает подробного изучения. Г. Ф. Устрялов, принявший на себя труд объяснить ее, вообще исполняет свою задачу удовлетворительно и показывает, что ему хорошо известны все пособия, из которых мог он извлечь что-нибудь для этой цели. Несколько сомнительных мест в переводе и в объяснениях — неизбежная принадлежность подобных трудов, как это знает по опыту каждый, ими занимавшийся, и потому за них невозможно упрекать г. Ф. Устрялова. Мы можем сделать на его труд только одно замечание: напрасно к своему переводу не приложил он и самого текста грамоты рядом с переводом. Тогда его переводом и объяснениями было бы удобнее пользоваться.
Полное историческое известие о древних стригольниках и новых раскольниках, так называемых старообрядцах,
собранное протоиереем Андреем Иоанновым. Издание пятое. Спб. 1855.
Сочинение, написанное протоиереем Андреем Иоанновым в конце прошедшего века, есть одно из главных пособий для изучения истории и учений раскола. Сочинитель, сам в молодости принадлежавший к последователям беспоповщины, очень хорошо знал суеверия раскольников, особенно той секты, в которую некогда был увлечен. Кроме того, у него в руках было большое количество раскольничьих книг и грамот, писанных расколоначальниками. Потому его книга заключает в себе множество фактов, сохранением которых мы обязаны исключительно ему, и которых напрасно стали бы искать в других источниках. «Полное историческое известие» было уже редкою книгою в последнее время, и лица, занимающиеся обращением раскольников или изучением их истории, будут рады новому изданию этого важного nocoÄM
Игра пикет, написанная и изданная П. С. Вишневским.
Спб. 1855.
Выучиться по этой книжке играть в пикет очень трудно, потому что правила игры изложены в ней бессвязно и сбивчиво. Гораздо проще и скорее можно научиться пикету, сыграв две или три игры с кем-нибудь знающим, потому что расчеты его легко запомнить. Итак, книжка г. Вишневского, состоящая из
нескольких миньятюрных страничек, не стоила бы своей цены: «75 коп., с пересылкою 1 руб. сер.», если бы в конце ее, после уверения, что «игра эта так увлекательна, что в нее могут играть всегда с удовольствием все мужчины и женщины; здесь бывают иногда такие чрезвычайные случаи, которые могут привести в восхищение самую холодную душу», — если бы после этого уверения не был рассказан автором анекдот, способный привести в восхищение самую холодную душу:
Один почтенный старый воин, славных отечественных войн, рассказывал мне замечательный эпизод из собственной жизни: что в пикет на деньги он никогда не играл; но что этой игре он считал себя обязанным счастливым супружеством. По выходе в отставку в 1818 году, говорил он, решился я жениться, скоро нашел в своей деревне выгодную невесту, но сойтись с нею в продолжение целого года никак не мог; родители ее желали этого брака, а она и слышать не хотела; бывало, прийду к ней, — припоминал старый воин, — как водится в таких случаях, нас оставят вдвоем, и мы сидим час-другой: слова нейдут, она зевает, а мне досадно; дело деревенское, развлечений не много, и чем помочь горю, я не знал; однажды мне пришла в голову благая мысль, и я решился с согласия родителей показать моей невесте правила игры в пикет, и они ей понравились сразу. С той поры счастье улыбнулось нам, и мы более десяти лет не знали скуки, а почтенный старик, сколько мне известно, никогда не лгал.
Итак, кто желает склонить к любви гордую красавицу, должен играть с нею в пикет: «счастье улыбнется ему, и он с нею более десяти лет не будет знать скуки».
Исследование о летописи Якимовской. Составил П. Â. Лавровский. Спб. 1855.
Г. Лавровский предпринял дело небесполезное: разобрать состав Иоакимовской летописи, сохраненной для нас Татищевым, и сличить ее известия- с фактами, находящимися у Нестора и польских летописцев. Особенно сличение с польскими летописями может быть любопытно для людей, незнакомых с ними. Подобно всем новейшим исследователям, он оправдывает Татищева от несправедливого обвинения, будто бы летопись эта выдумана им самим, и признает подлинность летописи. Важнейшие из заключений, до которых он доходит, состоят в том, что первая половина отрывка, сохраненного Татищевым, обнимающая события до призвания варягов, наполнена известиями, которые не подтверждаются другими источниками и носят на себе очевидные следы средневековых сказаний о происхождении и расселении народов; эта часть отрывка составлена под влиянием польских летописцев. Вторая половина отрывка, рассказывающая события, следовавшие за призванием варягов, значительным образом дополняя Несторову летопись, не содержит в себе ничего неправдоподобного или противоречащего достоверным фактам, напротив того, часто объясняет их своими известиями, и потому должна заслуживать на шего доверия.
<ИЗ № 9 «СОВРЕМЕННИКА»> Архив историко-юридических сведении, относящихся до России, издаваемый Николаем Калачовым. Книги второй половина первая. Москва. 1855.
Предисловием к новому тому «Архива» служит обширная статья издателя, г. Калачова, содержащая обзор рецензий на предыдущие томы этого сборника, помещенные в различных журналах и газетах. С тем вместе г. Калачов, где нужно, сам делает замечания на статьи своего издания. Этот критический обзор должен назваться превосходным не только по основательности и учености, но также и по чрезвычайно скромному и вместе полному достоинства деликатному и благородному тону, в котором написан. Настал бы золотой век ученых прений, если бы подобные статьи являлись чаще. Все вопросы, в которых тот или другой рецензент были несогласны с авторами статей, помещенных в «Архиве», рассмотрены с совершенным хладнокровием и редким беспристрастием; отдана полная справедливость немногим дельным замечаниям; спокойно объяснены недоразумения, исправлены ошибки, довольно часто встречавшиеся в разборах «Архива», и ни одной фразы не нашли мы в обширном предисловии г. Калачова, которая отзывалась бы хотя слабым оттенком нетерпимости или гнева, от чего немногие умеют удержаться, отвечая на замечания, сделанные на их книги или статьи. Зато, какое благоприятное впечатление производит на читателя это предисловие! Даже тот, чьи замечания, опровергает г. Калачов, охотно согласится признать основательность его возражений, — потому что везде идет дело о научных вопросах, а не об отыскивании — ^ошибок?^> или нанесении оскорблений чьему-нибудь самолюбию. Так ли поступают обыкновенно? Впрочем, мы не удивляемся редкому спокойствию и деликатности г. Калачова, потому что он силен и спокоен справедливым сознанием достоинств своего издания. Люди, легко раздражающиеся замечаниями критики, обыкновенно не имеют этого успокоительного сознания. Если бы можно было находить излишек в таком превосходном качестве, как внимательность, то мы сказали бы, что г. Калачов напрасно входит в ученые объяснения с одним из рецензентов своего издания, очевидно, не имеющим ни малейшего понятия о деле, — не всякое мнение заслуживает ответа. Имя этого рецензента, нам кажется, не должно было бы стоять подле имен г. г. Погодина, Буслаева и Кавелина '.
Из статей, помещенных в рассматриваемом нами томе «Архива», самая важная и самая интересная, без сомнения — исследование г. Грановского «О родовом быте у древних германцев». Мы не будем говорить о достоинствах, которыми отличается ее изложение, потому что ясность и изящество изложения — постоянные и всеми признанные качества сочинений г. Грановского. Но
гамую высокую цену получает его статья оттого, что он — как и всегда, впрочем — избрал предметом ее вопрос, имеющий очень важное значение в общей системе науки, и, надобно прибавить, в настоящем случае сделавшийся у нас особенно интересным по тем жарким спорам, которые были возбужденій вопросами о родовом быте, в котором многие хотели видеть исключительную принадлежность славянской истории, в противоположность германскому племени, чуждому, по их мнению, общинного начала, — важная ошибка, вовлекающая в различные заблуждения. Оставляя в стороне специальную сторону исследования г. Грановского, мы в коротких словах перескажем существенные выводы, к црторым привели в последнее время разыскания о родовом быте у германцев.
В нашем отчете о предыдущем томе «Архива» 2, мы, чтобы определить степень важности исследований наших филологов о патриархальном быте славян, говорили о значении трудов Гримма и, между прочим, упомянули, что одною из главнейших пружин, вызвавших труды этого «великого исследователя, была односторонняя тевтономания, стремление доказать путем науки, что германцы искони были племенем, высоко превосходившим все остальные племена своими умственными и нравственными качествами, своим общественным развитием. Заключение, которое мы выводили из этого, — именно, что эти труды теряют часть своей важности, как скоро мы поймем фальшивость всех возможных тевтономаний, галломаний, англоманий, чехоманий, булгароманий, — это заключение не понравилось некоторым из людей, обративших на нашу статейку внимание, которого она и не заслуживала, заключая в себе только вещи, далеко не новые 3. Но что же делать, от него нельзя отказаться, потому что оно справедливо, и мы напомнили о тевтономании потому, что вопрос о родовом быте долго был исследуем у немцев также в духе тевтономании, а в последнее время у нас послужил опорою совершенно другой мании. Именно, дело произошло следующим образом.
Поземельная частная собственность становится важною и потому возникает только тогда, когда народ начинает заниматься по преимуществу земледелием; для пастуха мало нескольких десятин земли, ему нужно гонять свое стадо по целой поляне, чтобы прокормить его. Потому, как мы имели случай говорить в разборе III и IV тома «Пропилей» 4, каждый народ, сначала находясь на степени пастушеского быта, незнакомого или мало знакомого с земледелием, не знает частной поземельной собственности — только целый округ, занимаемый племенем, составляет собственность этого племени и находится в общем владении у всех членов его. Потом, когда преобладающим занятием становится земледелие, земля мало-помалу переходит в частную собственность, и общинность владения исчезает.
Итак, мы имеем в истории два различных порядка вещей: первоначальную общинность земли, при отсутствии или маловаж-
ногти земледелия, и земледелие, соединенное с появлением частной собственности. Политическая экономия давно' показала истинное отношение этих фактов между собою. Но старинные историки не знали политической экономии, да и многие из нынешних обращают на нее мало внимания, — и этим объясняется возможность ошибок, состоящих в непризнавании естественной связи между общинностью владения и отсутствием земледелия, земледелием и частною поземельною собственностью, или в отрицании одного из этих периодов развития. В угождение самолюбивым предубеждениям, они, в неведении политической экономии, извратили натуральное сцепление явлений, выбрали такие факты, которые больше других льстили их самолюбию, и отбросили факты, им неприятные.
Немецкие историки начали прагматически обработывать историю своего народа еще в те времена, когда политико-экономические вопросы не были объяснены или, по крайней мере, слухи о политико-экономических прениях не гремели еще в ушах каждого. Потому они остановились на известной истине, что земледельческий народ состоит на высшей ступени развития, нежели племя, не знакомое с земледелием. В угоду своей тевтономании, они стали доказывать, что их предки искони веков были народом земледельческим; после этого им пришлось утверждать, что у немецких племен искони веков существовала частная поземельная собственность, а общинность поземельного владения никогда не существовала. Этим они гордились, за это превозносили немецкое племя выше всех остальных человеческих племен. Свидетельства некоторых летописей, грамот и особенно древних писателей о том, что у немцев существовала некогда поземельная собственность, были ясны и многочисленны; но их отвергали или насильственно истолковывали превратным образом. Правдоподобность гордого мнения значительно поддерживалась тем, что у немцев, которые раньше славян — особенно славян восточных, предались преимущественно занятию земледелием, остатков первобытной общин-ности сохранилось ныне мало.
Но в настоящее время политическая экономия провозгласила, что раздробленность капиталов есть бессилие и ведет к нищете, соединение капиталов есть могущество и ведет к богатству. Важнейший из капиталов — земля. У славян, особенно восточных, которые позднее немцев обратились к земледелию как преимущественному средству жизни, гораздо более, нежели у немцев, сохранилось следов общинности в поземельном владении. Не рассмотрев, что эти остатки — остатки прежнего пастушеского или охотнического быта, некоторые вздумали утверждать, что общинность владения, незнакомая (будто бы) никогда немцам, у славян не есть (так же, как и у немцев) историческое явление, связанное с известным периодом развития, а неизгладимая черта характера, которой лишены другие народы; что поэтому одни славяне осуществляют идеал человеческого быта. Эти люди не заметили, что с развитием земледелия и цивилизации общинность владения исчезает и у славян, как исчезла повсюду, и что ныне она уже гораздо слабее, нежели была у тех же самых славян за триста, за пятьсот лет. Мы не можем здесь рассматривать, каковы экономические идеалы будущего, — но все согласны в том, что было бы мало утешительного представлять себе будущее в таком виде, в каком представляется нам Европа V–X веков. Идеалы будущего осуществляются развитием цивилизации, а не бесплодным хвастовством остатками исчезающего давно-прошедшего.
Предоставляя ученым, специально занимающимся разработкою русской истории, объяснить истинный смысл вопроса о родовом быте и общинности владения в русской истории, г. Грановский статьею, помещенною в «Архиве» г. Калачова, доказывает, что родовой быт и общинность владения точно так же существовали некогда и у немцев, как некогда существовали у славян; что если у немцев менее, нежели у восточных славян, сохранилось остатков этого древнего устройства, то все же сохранилось их довольно много, и что, одним словом, разница здесь не в национальном характере, а только в эпохах исторического развития. Таким образом, всякая тевтономания или чехомания должна быть устранена из этого вопроса, чисто исторического и не долженствующего служить опорою ни тевтономанским, ни каким-либо другим предубеждениям.
Мы уже говорили, что излишне было бы замечать ясность и стройность изложения статьи, потому что это постоянные качества изложения у г. Грановского. От них-то проистекает, что запутанный вопрос о родовом быте германцев представляется у него очень простым, вразумительным 5. Есть люди, которым ясность и простота кажутся недостатками в ученом сочинении, которое, по их мнению, тем лучше и ученее, чем труднее для чтения, чем запутаннее и темнее. Г. Калачов думает не так и справедливо приписывает статье г. Грановского огромное значение для разъяснения вопроса о родовом быте в жизни русского народа, — вопроса, до сих пор остающегося, по его справедливому мнению, темным.
Статья самого г. Калачова «Заметки об Инсаре и его уезде» представляет множество важных материалов для истории порубежных поселений, устройства засек на юго-восточной границе и постепенном движении их на юг и вообще для истории городового устройства в XVI–XVII веках. Мы не можем здесь представить извлечения из этой прекрасной и чрезвычайно добросовестно обработанной статьи, и потому скажем только, что ничего подобного ро этому предмету у нас еще не было написано. Интересны также статистические заметки об Инсарском уезде, предшествующие археологическим.
Кроме этих двух важнейших статей, в первом отделении разбираемого нами тома (исследования) находим статью г. Срезнев-
ского «Роженицы у славян и других языческих народов». По исследованиям г. Срезневского, справедливость которых нам кажется несомненною, «роженицы» у славян были существа, подобно паркам, назначавшие судьбу человека при его рождении. Ученый автор не решает прямо вопроса о том, действительно ли роженица, как единичное существо, была в народных поверьях, или они всегда знали, как ныне знают, только рожениц, являющихся всегда по три или девяти вместе, как парки. Последнее кажется вероятнее, потому что упоминание о роженице (в единственном числе) в паремейнике можно приписать влиянию греческого текста, где соответствующее слово стоит в единственном числе; из этого переводного места «роженица» (в единств, числе) могла перейти и в вопрошания Кирика и в слово Христолюбца. Если так, то сближения единичной роженицы с единичной, высшею личностью Фортуны становятся излишними и остается только соответствие многочисленных рожениц, существ низшего разряда в языческих поверьях, с подобными им парками. Прибавлением к исследованию г. Срезневского является статья г. Афанасьева «О значении рода и рожениц», написанная в известной методе автора, иногда делающего удачные сравнения, но часто и слишком смелого в своих сближениях.
«Учреждение патриаршества в России» г. Зернина — подробный рассказ, который с пользою будет прочитан людьми, не посвятившими своих трудов специально истории Московского царства. Для специалистов же он представит мало нового.
Во втором отделении сборника (материалы) помещены: грамота Новгородского правительства к Рижскому, начала XV века (сообщ. г. Н. Закревским); акты, записанные в крепостной книге XVI века (сообщ. г. Лакиером); дополнительные статьи к судебнику царя Иоанна Васильевича по эрмитажному списку (сообщ. г. Бычковым) — всем этим актам, которые и сами по себе не лишены важности, особенная цена придается прекрасными предисловиями г. Калачова; менее важным кажется нам список бояр и проч., сообщенный г. Глебовым-Стрешневым.
Еще мы должны признать достоинства прекрасных и действительно полезных монографий за статьями: г. Самчевского «Торки, Берендеи и Черные Клобуки» и г. Калугина «Окольничий». Кроме того, в третьем отделении находим несколько мелких статей гг. Зернина, Беляева, Калачова. Соловьева и г. Д. С.
Учебные руководства для военно-учебных заведений.
Руководство начальной геометрии. Спб. 1855.
Имя составителя этого руководства, г. Остроградского, служит достаточным свидетельством тех высоких научных достоинств, которыми отличается его сочинение, содержащее исследования относительно прямой линии и прямолинейных фигур. Если бы г. Остроградский написал руководство свое по общей методе, принятой для учебников геометрий, его книга и тогда, без сомнения, заслуживала бы величайшего внимания, потому что его математический гений необходимо улучшил бы изложение многих частей. Но руководство, составленное г. Остроградским, имеет другое, более глубокое значение для науки, потому что наш знаменитый математик вводит совершенную реформу в методе учебников геометрии, предполагая заменить способ доказывания посредством черчения фигур способом аналитическим, доказывающим геометрические положения без пособия фигур. Вот как он говорит об этом в предисловии:
Автор имеет в виду приблизить изложение истин начальной геометрии к способам, употребляемым в других частях математики. Однако ж он не посмел, п первой попытке, войти в решительное состязание с изложением, которому Эвклид представил образец и которое употребляется более двадцати веков. Но если первый опыт будет одобрен, то в последующих изданиях автор поступит с большею решительностью и введет в начала науки все изменения, необходимые для совершенного выполнения сейчас указанной мысли. Теперь же только некоторые предложения доказаны способом аналитическим и без пособия фигур, т. е. дан алгебраический характер только некоторым частям геометрического изложения *.
О научном превосходстве методы, предпочитаемой нашим гениальным аналитиком, не может быть и вопроса. Благоразумно предоставляя опыту доказать ее практическое превосходство в преподавании и потому вводя на первый раз только отчасти предпочитаемый метод, он выказывает скромность, чрезвычайно замечательную в таком ученом. Желаем от души, чтобы его справедливые ожидания исполнились и чтобы опыт всех преподавателей математики решил дело в пользу нового метода, соответствующего настоящему развитию науки. Очень важны — и, без всякого сомнения, полезны в преподавании — и другие изменения, вносимые г. Остроградским в изложение начальной геометрии, именно: подробное развитие объяснений о предмете и основаниях науки и введение в курс новых предложений, для сообщения совершенной научной строгости выводам. Вот справедливые мнения автора об этом:
Что касается до подробностей в объяснении предмета и оснований науки, предположений, на которых она основана, и начальных ее истин… автор имел в виду избежать неполноты объяснений. Он полагает, что составители курсов начальной геометрии, по примеру Эвклида, слишком сократили этот важный предмет и тем самым мог\и породить неясность в идеях и неправильные взгляды на основные начала науки… Некоторые из предложений также могут показаться излишними; автор просит не произносить подобного приговора, не вникнув совершенно в вопрос: что следует принять, как необходимое допущение.-* и что должно доказать.-* Вы, напр., спросите: начерченная линия прямая или нет? «Нет», отвечают вам, «это видно». В практике такое решение достаточно, но в началах науки свидетельство глаза не принимается. Где был бы конец допущениям, основанным на показании чувств? Пусть докажут, что проведенная линия не имеет свойств прямой, и тогда только убедят нас неоспоримо, что она не прямая.
Не нужно доказывать справедливость этих слов; излишне также говорить, что руководство г. Остроградского отличается необыкновенною ясностью и строгостью изложения; излишне и рекомендовать его книгу величайшему вниманию всех преподавателей математики — вес это совершенно излишне, потому что на ней выставлено имя г. Остроградского.
Православный Собеседник, издаваемый при Казанской духовной академии. 1855. Книжка первая. Казань.
По примеру трех старших духовных академий, из которых каждая издает свой журнал духовного содержания, Казанская академия также приступила к изданию подобного журнала, имеющего одною из главных задач кроткое обличение заблуждений раскольников, секты которых находятся в учебном округе духовного ведомства, принадлежащем к Казанской академии. Первая книжка этого журнала содержит в себе следующие сочинения: Краткие сведения о св. Игнатии богоносце и его посланиях. Перевод послания св. Игнатия богоносца к Ефесянам, по двум его редакциям — краткой и пространной. Черты из жизни блаженного Феофилакта, архиепископа Болгарского, Толкование на св. евангелие от Матфея, в обновленном переводе, Первое и второе послания блаженного Игнатия, митрополита Сибирского и Тобольского, День святой жизни, или ответ на вопрос: как мне жить свято? — Толкование блаженного Феофилакта и послания блаженного Игнатия напечатаны славянским шрифтом, без сомнения, для тех набожных читателей, которые любят по преимуществу книги славянской печати. Из этих статей интереснее всего многим читателям «Православного Собеседника» покажутся послания блаж. митроп. Игнатия, из которых в первом пастырь предостерегает свою паству от раскольничьих лже-учителей, а во втором опровергает ложное мнение раскольников о трехперстном крестном знамении.
Рассказ солдата Сидорова при бомбардировании Севасто* поля англо-франдузами. Москва. 1855.
Одна из многочисленных спекуляций, рассчитывающих на патриотизм простонародья. Книжку эту можно похвалить хотя за то, что она не хочет никого вводить своею внешностью в заблуждение: обертка с лубочными картинками и бумага, какой мы уже давно не встречали даже в серобумажных изданиях, с первого же взгляда дают верное понятие о литературных качествах книжки. Хорошо было б, если бы всегда встречалась такая похвальная «гармония формы с идеею».
Практическое руководство к производству уголовных следствий, составленное по своду законов Ив. Оболенским. 2 части. Москва. 1855.
Г. Оболенский, увлеченный успехом различных руководств к производству следствий, вздумал и сам сочинить книжку подобного рода — это не дурно; но дурно то, что в предисловии он слишком хвалит свою книжку за превосходство над всеми другими руководствами. Мы не заметили в ней практических советов, которые обещает дать составитель, а нашли только то же самое, что представляют и другие юридические руководства, — извлечение из статей свода законов, с тою только разницею, что оно сделано не столь точно и удовлетворительно, как в большей части других подобных книг.
Палитра. Новые стихотворения. Москва. 1854.
Итак, более полугода «Палитра» лежала в кладовой, не ослепляя русскую публику своими разноцветными красками. Жаль, потому что краски в самом деле разноцветны, — или, если хотите, разношерстны. Начинается книжка стихами, написанными как будто в подражание Хераскову:
Смири ты все мои роптанья И безрассудство все мое,
Прощая мне в моем незнаньи,
Неправых дел мое бытьё, и проч.
Далее следует отрывок, написанный под влиянием поэм Пушкина:
Полна могучей красотою Засеребрилась вся Москва,
Как дева юная, фатою Принарядилась… как чиста Твоя роскошная обнова, и т. д.
После этого находим подражания Губеру:
Явился тяжкий час разуверенья!
Довольно!., мучиться не стало сил! и т. д.
Затем подражания автору стихотворения: «Живя согласно
с строгою моралью» 1 —
Живу я честными трудами И взяток в жизнь свою не брал:
Владею я двумя домами И нажил скромный капитал… и проч.
Есть также подражания г. Бенедиктову:
Коса ты русая, большая,
Как гладко ты заплетеиаі Тесьмой широкой ниспадая,
Как ты роскошна и пышна! и т. д.
Некоторые пьесы, напротив того, подделка под стих Кольцова:
Нет уж сил мне терпеть.
Людям выскажу я:
Хоть пропасть, хоть сотлеть,
Тоска мучит меняі и проч.
Вы видите, что талант неизвестного автора «Палитры» незавиден и стихи не гладки. Но если вы захотите взглянуть, какие стихи пишет неизвестный автор, когда, сбросив иго подражания, возносится на крылах собственного вдохновения, то увидите, что даже от подражания Хераскову и г. Бенедиктову, не только Пушкину и Кольцову, его произведения очень много выигрывают. Вот, например, какие пьесы внушает ему собственный гений:
Я не художник, не поэт,
Мне трудно вас изобразить:
Но ваши ласки, ваш портрет В душе не в силах я забыть!
Или:
Два края знакомы родной мне России:
На Юге цветистом, на чудной Неве Видал я красавиц, их взоры живые,
Но огненных глаз, как твои, нет нигде!
Или наконец:
Так много писали, писали в альбомах,
Что, право, не знаешь, что в ваш написать.
Скажу только, где не бывал я в салонах,
Подобной нигде вам не мог повстречать.
Конечно, никто не будет в восторге, если неизвестный стихотворец вслед за «Палитрою» вздумает издать «Кисть», потом «Камень для растирания красок» и т. д. Но, вероятно, каждый согласится, что если уже непременно захочет он печатать свои стишки, то лучше пусть он подражает Хераскову или г. Бенедиктову, нежели предается полетам самостоятельного творчества. Мы все это говорим, разумеется, вовсе не к тому, чтобы давать советы автору «Палитры», — будет он или не будет продолжать свое поэтическое поприще, для нас, как и для читателя, решительно все равно. Мы хотели только заметить, что иным стихотворцам гораздо выгоднее передавать в своих стихах чужие темы, нежели свои собственные. Автор «Палитры», как видно, не знает ни одного иностранного языка, потому он и мог перелагать в своих стихах только русские же стихи; но знай он по-немецки или по-английски — мы уверены, он переводил бы немецких или английских поэтов и, быть может, заслужил бы даже некоторую благодарность многих читателей, быть может, даже принес бы некоторую пользу литературе. Почему бы, кажется, многим из наших стихослагателей, имеющих страшную охоту и даже некоторое уменье подбирать рифмы, притом знающих иностранные языки, не понять, что порядочно переводить хорошие пьесы гораздо почетнее, нежели кропать собственные стишки? Посмотрите, кто не уважает гг. Берга и Ф. Миллера? и кто не уважал бы их еще более, если б они переводили больше, если б, наконец, вместо отдельных пьес, выбранных наудачу и без связи, давали нам в переводах все лучшие пьесы ныне одного, через год другого немецкого или английского поэта?
Между тем, посмотрите, какое прекрасное имя составил себе в немецкой литературе Боденштедт переводом Пушкина и Лермонтова, — а ведь если бы он только воспевал собственные ощущения, никто и не заметил бы его существования. Правда и то, что каждый дельный труд требует некоторой энергии, некоторого терпения; но ведь достает же у людей, о которых мы говорим, энергии и терпения, чтобы выносить досадную для них холодность публики; почему ж бы нс обратить этих качеств на полезное и почетное дело?
Последний вечер новобранца в родительской семье.
Москва. 1855.
Чувство и любовь к престолу и отечеству. Москва. 1855. Описание бомбардирования англичанами Соловецкого монастыря. Москва. 1855. Обхождение русских с врагами. Москва. 1855. Доблестные подвиги русских воинов. Москва. 1855
Все это множество книжек и тетрадок, имеющих в виду воспользоваться патриотическими чувствами народа, так же мало принадлежит литературе, как и «Рассказ Сидорова», о котором говорили мы выше, и читатели, конечно, не потребуют подробного отчета о их достоинствах и содержании.
Акт восьмого выпуска студентов Главного Педагогического Института, 20 нюня 1855 г. Спб. 1855
В течение двухлетия, отделяющего последний выпуск студентов Института от предыдущего, преобразование этого учреждения было довершено разделением его историко-филологического факультета, в двух высших курсах, на отделения наук филологических и наук исторических и учреждением годичных курсов вместо прежних двухлетних, так что ныне Главный Педагогический Институт будет выпускать окончивших курс студентов ежегодно и имеет четыре отделения: 1) филологическое, 2) историческое, 3) математическое и 4) естественное. В конце учебного 1854–1855 года число воспитанников Института было 122; из них окончили курс по истечении этого года 30 человек. Состояние учебных пособий Института в 1855 году было следующее:
Главная библиотека заключала.
1 281 монет и медалей
Классная библиотека…..
Важным улучшением было то, что на экзаменах студентов, оканчивающих курс, присутствовали, кроме профессоров Института, профессоры Санкт-петербургского Университета и другие специальные ученые.
Учреждение Юрьевского общества сельского хозяйства с Отчетом за 1854 год. Москва. 1855. Записки Юрьевского общества сельского хозяйства за 1854–1855 год. Москва. 1855.
С величайшим сочувствием встречаем мы первую книгу трудов младшего по летам из наших Обществ сельского хозяйства и отчет о его учреждении и действиях за первый год существования. Прежде всего расскажем, какие обстоятельства пробудили в сельских хозяйствах Юрьевского уезда (Владимирской губернии) потребность основать Общество, между тем как целые обширные края России не сознали еще пользы, приносимой развитию общего благосостояния подобными учреждениями, потом ознакомим читателя с первыми трудами новоучредившегося Общества.
Известно, что по развитию промыслов Владимирская губерния занимает одно из первых мест между всеми нашими областями. Бедность почвы и подвоз дешевого хлеба из соседних хлебородных губерний были причиною, что владимирские поселяне, не находя выгоды заниматься земледелием, должны были искать средств к безбедному существованию в промышленности, которая давала им порядочные выгоды. Но в последнее время, вследствие развития мануфактур и промыслов повсюду, прежние источники доходов перестали быть выгодными, и явилась потребность заботиться об улучшении средств промышленности или изобретении новых промыслов; ^явилась также необходимость искать в улучшении сельского хозяйства тех способов к жизни, в которых начала отказывать промышленность. Попытки отдельных частных лиц на этом поприще улучшений если и были удачны для самоГ" предпринимателя (что бывало далеко не всегда), то оставались без влияния на общее состояние края. Эти соображения побудили г. дворянского предводителя Юрьевского уезда, В. В. Калачова, предложить помещикам своего уезда проект соединиться в Общество, чтобы совокупными силами искать средств к возвышению собственного благосостояния и благосостояния всей местности, находящейся в одинаковых с Юрьевским уездом экономических условиях. Понимая важность и выгоду этой счастливой мысли, они приняли ее с живым одобрением, через посредство г. губернского предводителя обратились к г. министру государственных имуществ с просьбою об исходатайствовании высочайшего соизволения на основание Общества сельского хозяйства, и устав Общества был высочайше утвержден 19 марта 1854 г. По окончании сельских работ, 11 сентября того же года, Общество, участвовать в котором изъявили согласие уже до шестидесяти лиц, было торжественно открыто, благодаря деятельным заботам В. В. Калачова. В то же время и также благодаря заботам В. В. Калачова была устроена в городе Юрьеве выставка местных произведений для ознакомления как членов Общества с экономическим положением края, так и окрестных жителей с полезными предприятиями Общества. Выставка дала живой повод для бесед ново-открывшегося Общества; с тою же целью г. В. В..Калачов предварительно разослал помещикам ряд сельско-хозяйственных вопросов, обсуждением которых могло начать Общество свои совещания. Московское Общество сельского хозяйства, для изъявления своего сочувствия и готовности содействовать трудам Юрьевского Общества, поручило своему непременному секретарю, г. Маслову, быть своим депутатом при его открытии. В первых же заседаниях Общества, по исполнении обыкновенных формальностей, выборе девиза (труд и соревнование) и герба, избрании президента (г. Пушкевич), вице-президента (В. В. Калачов) и секретаря (г. Дубенский) было прочитано несколько статей, отличающихся здравым практическим направлением (некоторые из них, помещенные в «Записках» Общества, заслуживают полного внимания русских сельских хозяев), начались беседы одушевленные и очень дельные, предложены желающим различные практические исследования, была осмотрена и обсуждена выставка, розданы награды экспонентам и проч. — Одним словом, началась живая и, без сомнения, плодотворная для будущего деятельность молодого Общества. Через три с половиною месяца по открытии, к 1 января 1855 года, Общество состояло уже из 97 сочленов. К отчету Общества за 1854 год, доставившему нам эти сведения, приложено сельско-экономическое обозрение 1854 года в Владимирской губернии и таблицы метеорологических наблюдений.
Переходим к «Запискам» Общества. Кроме различных отчетов об учреждении Общества и выставке, эта, довольно полновесная, книга заключает в себе следующие статьи: «Об устранении препятствий к правильному развитию хозяйства и промышленности во Владимирской губернии» г. Соловьева; «Об овсе» г. Барыкова; «О дублении холста и полотен» г. Калачова; «О почвах Владимирской губернии» г. Дубенского; «Замечания о земледельческих орудиях, бывших на выставке» г. Калачова; две статьи «О разведении табаку во Владимирской губернии» г. Уманова и «Ответы на вопросы, предложенные Обществом» (и составленные г. Калачовым). Место не позволяет нам говорить подробно о каждой из этих статей; заметим только, что все они имеют прекрасное, чисто практическое направление и представляют много полезных наблюдений, указанных авторам их собственным опытом. Чтобы дать понятие читателям о деятельности многих членов Общества, скажем, что ни один из предложенных им 32 вопросов не остался без ответа, а на многие получено по нескольку ответов, большею частью очень удовлетворительных, простых, ясных и здравых. И здесь, как везде, г. В. В. Калачов, которому принадлежит и мысль основать Общество и ее исполнение, является ревностнейшим членом Общества и обнаруживает богатый запас агрономических знаний и уменья прилагать их к делу. Обширнейшая из помещенных в «Записках» статей — «О почвах Владимирской губернии», принадлежит г. Дубенскому; она представляет подробное описание всех местностей Владимирской губернии, по различию их почв и произведений, могущих расти в каждой местности. Если, как и должно думать, точность наблюдений, собранных г. Дубенским, равняется их обилию, то его статья есть одно из лучших описаний подобного рода. Статьи гг. Соловьева, Барыкова, Калачова и Уманова заключают в себе много верных практических указаний и наблюдений относительно различных отраслей сельского хозяйства.
Пожелаем всевозможного преуспеяния трудам Юрьевского Общества сельского хозяйства, начатым скромно и прекрасно, — желаем успеха им сколько по сочувствию к самому Обществу, сколько и для того, чтобы прекрасный пример, поданный гг. помещиками Юрьевского уезда, возбудил, — выражаясь терминами девиза, избранного их Обществом, — повсюду «соревнование» начатому ими «труду» на пользу общую.
О звании генерала, сочинение Дюра-Ласаля, перевел г. Сведерус. Спб. 1855.
Сочинение Дюра-Ласаля, написанное на французском языке, поднесено было в рукописи его величеству, в бозе почивающему императору Николаю Павловичу; русский перевод этой книги посвящен ныне благополучно царствующему государю императору. Краткие размышления, находящиеся в этой книжке, не могут заменить полных трактатов о военном искусстве или качествах полководца, но представляют много умных и справедливых замечаний. Для примера выписываем следующие места, заимствованные с первых страниц книги:
Нет предрассудка гибельнее мнения, что генералы рождаются готовыми, что можно со славою командовать войсками, не быв к тому приготовленным с самого детства и не предаваясь продолжительным и постоянным занятиям. Правда, были примеры, что генералы-невежды одерживали победы; но эти генералы имели достаточно ума, чтобы выслушивать и исполнять полезные советы, были окружены офицерами, знающими свое дело, и потому на них перенесена заслуга действий, совершенных другими. Цезарь к гению своему присоединял самые обширные знания; Конде жнл между ученейшими по всем отраслям людьми, изучение истории было его первой страстью; Ришелье, изумленный его познаниями, предсказал, что он будет первым полководцем в Европе. Но пример Конде не единственный в истории; Густав Адольф, Виллар, Тюрень, Катина, Монтекукули, принц Евгений Люксембург, Филипп Орлеанский, Вандом, Петр Великий, де Сакс, Фридрих, Румянцев, Мальборо, — все эти великие полководцы были также знамениты по своим познаниям. Дюмурье, Моро, Дезе, Пншегрю, Суворов были воины, обладавшие обширным образованием. Противное мнение распространилось потому только, что потворствует нашей лени. Истинный генерал должен соединять обширные познания с счастливыми дарованиями (стр. 2–8).
Переходя к изложению своих понятий о военном образовании, г. Дюра-Ласаль настаивает на том, что специальному образованию должно предшествовать общее, обширное и основательное, и доказывает это тем, что, например, французские специальные, замкнутые школы, Политехническая и Сен-Сирская, несмотря на свою славу, до сих пор еще не дали Франции ни одного хорошего полководца; причиною этого, очень натурально, автор полагает то, что воспитанники этих школ не получают общего образования; чтобы быть хорошим полководцем, прежде всего надобно быть, по его мнению, человеком с развитым умом — качество, которое дается не специальными курсами, а общим образованием.
Неблагоразумно, — замечает он, — давать мальчикам до шестнадцатилетнего возраста воспитание различное, смотря по предназначению их в судьи, в администраторы или в военную службу. Первоначальною целью воспитания должно быть развитие тела, приготовление ума к учению и направлению сердца — это цель общая для всех классов общества. Ежели военное воспитание и требует некоторых особенных изменений, то они не важны и удобопонятны (стр. 13).
Отрывки, нами приведенные, содержат в себе основную мысль книги г. Дюра-Ласаля, который во многих случаях хорошо развивает ее и подтверждает множеством примеров.
Венгерская грамматика с русским текстом и в сравнении с чувашским и черемисским языками, составленная титулярным советником Андреем Дешко. Спб. 1855.
Кто, не зная ни по-немецки, ни по-латыни, захочет познакомиться с венгерским языком, тот найдет в грамматике г. Дешко некоторое пособие для исполнения своего желания. Кроме этого, мы ничего не можем сказать в похвалу его книги, если не считать за похвалу неизбежной фразы, что автор заслуживает признательности за самое намерение, если не за выполнение этого доброго намерения. Зная по-венгерски, г. Дешко, повидимому, не почел нужным для себя приобрести надлежащие знания тех правил, без которых невозможно написать хорошую грамматику, го-поря проще, совершенно незнаком с требованиями науки. Потому он вкладывает венгерский язык в рамки старинных латинских грамматик, которые совершенно не приходятся к этому своеобразному языку. Что же касается выводов, которые он извлекает из своих сравнений венгерского языка с чувашским и черемисским, они лишены прочного основания опять потому, что г. Дешко не познакомился с приемами и понятиями сравнительной филологии и вообще поступает в этом случае без всякой критики. Он говорит, что хочет также издать венгерско-русский словарь, — желаем ему исполнить это доброе обещание, но с тем вместе желаем, чтобы он, прежде нежели приступит к составлению словаря, постарался приобресть достаточное филологическое образование, без которого нельзя составить хорошего словаря.
Венгерские собственные имена принадлежат к числу наиболее искажаемых в большей части русских журналов и газет; между тем выучиться правильно читать их и передавать русскими буквами очень просто; с этою целью* приводим здесь венгерскую азбуку:
венгерские буквы р а е е і о 6
соответствующие русские о а э ей и о оу
— и 6 ü
— У франц. ей франц. и
Из согласных букв только следующие имеют произношение, различное от значения их в латинском языке:
венгерские буквы s cs cz gy ly ny ts tz ty sz zs
соответствующие русские ш ч и Дь ль нь ч ц ть с ж
потому Mâgyar произносится Модёр; huszâr — гусар; Debre-czen — Дебрецен.
• ИЗ № 10 «СОВРЕМЕННИКА»>
В воспоминание 12-го января 1855 года. Учено-литературные статьи профессоров и преподавателей императорского Московского университета, изданные по случаю его столетнего юбилея. Москва. 1855.
Мысль, вызвавшая сборник, изданный «в воспоминание 12-го января 1855 года», прекрасна — день этот заслуживает воспоминания как потому, что Московский университет, оказавший столь много услуг великому делу просвещения русской земли, имеет полное право с гордостью указывать на свою столетнюю деятельность, так — и еще более — потому, что день этот был праздно-ван с торжественностью, достойною высокого его значения для русского общества: 12 января 1855 года было одною из самых блестящих побед науки над холодностью или неприязнью. Чрез-вычай,іое сочувствие к торжеству Московского университета, обнаруженное всеми грамотными людьми, было поразительно и утешительно; оно вынудило и у всех остальных невольное уважение к науке, которую столь многие и столь горячо желали почтить в одном из ее представителей. Московском университете. Да, памятно должно быть в истории русского просвещения 12 января
1855.
Естественно, что ожидания и требования, которыми встречены были книги, изданные по случаю столь важного события, были соответственны его значению. Это, быть может, надобно считать одною из причин того, что они во многом не удовлетворили людей, нетерпеливо ожидавших появления этих изданий. Чем более высоки ожидания, тем возможнее разочарование. Будь издана «История Московского университета» не по случаю его юбилея, а за два года назад или двумя годами позже, ее, быть может, похвалили бы ради нескольких интересных выписок, находящихся в ней; а если бы «Словарь профессоров и преподавателей Московского университета» явился как самостоятельное издание, а не как следствие юбилея, он, без всякого сомнения, был бы встречен с чрезвычайно громкими одобрениями, потому что действительно представляет одно из важнейших собраний материалов для истории русской литературы. Но блеск торжества, в соотношение с которым были поставлены эти издания, затмил их. Нельзя не пожелать, чтобы «Словарь воспитанников Московского университета», последний и самый важный из сборников, которые должны остаться памятниками юбилея, полнотою и ученым достоинством соответствовал требованиям, которые только отчасти нашли себе удовлетворение в двух изданиях, уже рассмотренных «Современником» ', и в книге, о которой мы теперь должны дать отчет.
Впрочем, важнейший из трудов, входящих в состав этой книги, также был уже рассмотрен нами. Это — исследование г. Бодянского «О времени изобретения славянской азбуки», по своей обширности напечатанное отдельно 2. Мы выразили мнение, что вопрос столь второстепенной важности, как спор: «в 855 или в 862 году была изобретена кирилловская азбука», представляет слишком мало интереса для того, чтобы цена приобретенного решения могла искупить огромность ученого труда, употребленного на это г. Бодянским; говорили также, что скудость положительных фактов, на которых должно основываться его решение, едва ли не отнимает возможность притти к несомненному выводу, при разноречивых показаниях легенд, опровергающих в этом случае одна другую и большею частью лишенных признаков исторической достоверности. Но в то же время признавали мы замечательную ученость и неутомимость, обнаруженные нашим сла-вянистом в исследовании избранного им вопроса, и теперь должны прибавить, что его труд на столько же превышает учеными достоинствами все остальные сочинения, написанные в воспоминание юбилея, сколько превосходит их объемом.
Книга, теперь изданная, содержит тринадцать статей гг. Кудрявцева, Лешкова, Брашмана, Беляева, А. Давыдова, Орнатского, Буслаева, Глебова, Швейцера, Спасского, Любимова, Страхова. Этот список имен показывает, что только немногие из наиболее известных в литературе гг. профессоров Московского университета приняли участие в составлении сборника, как гг. Буслаев и Кудрявцев, между тем как другие, из которых достаточно назвать гг. Грановского, Калачова, Леонтьева и Соловьева, не поместили в этой книге ничего. Этого, конечно, нельзя приписывать недостатку сочувствия к юбилею, — подобное предположение и неправдоподобно, и положительно опровергается многими фактами, например, посвящением четвертого тома «Пропилей» памяти торжества Московского университета. Напротив, отсутствие многих имен в сборнике, нами рассматриваемом, конечно, должно быть объяснено другими причинами, чисто случайными.
В литературном отношении бесспорно лучшая из статей, вошедших в состав сборника, принадлежит г. Кудрявцеву, который живо и занимательно рассказал один из периодов войны за независимость Нидерландов. Отрывку этому дано заглавие «Осада Лейдена», хотя эпизод об этом событии занимает только немногие последние страницы рассказа. Первая и большая половина статьи служит введением к истории Лейденской осады. Быть может, картина выиграла бы в единстве, если б это изложение предыдущих обстоятельств было сжатее; но в таком случае мы лишились бы многих подробностей о войне, чрезвычайно замечательной и еще не имевшей хороших описаний на русском языке. Поэтому мы скорее желали бы видеть статью г. Кудрявцева расширенною до пределов истории хотя того периода войны, который заключается осадою Лейдена, — тогда, конечно, осада Лейдена являлась бы только одним из событий, равно замечательных, а не предметом особенной монографии, которая не представляет самостоятельного целого, а кажется только отрывком и не вполне излагает особенные условия, придававшие оригинальный характер и этой войне и осаде Лейдена, — именно, взаимные отношения различных нидерландских провинций и, главное, отношения, которые в начале войны хотели они сохранить к Испании. Но и в настоящем своем виде статья г. Кудрявцева заслуживает полного внимания по интересности предмета, основательному изучению источников и верному изложению событий.
Нельзя сказать, чтобы столь же верно смотрел на свой пред--мет г. Лешков в статье «Древняя русская наука о народном богатстве и благосостоянии». Он из «Домостроя», «Инструкции для управления имением» Волынского и книги Посошкоза3 думает извлечь «древние русские понятия о богатстве и благосостоянии» — и извлекает из них почти только одни нравственные наставления, нимало не определительные с точки зрения политической экономии. «Будь честен, трудолюбив, не пей много вина» — вот мысли, находимые нами в «Домострое», — они хороши, но не принадлежат политической экономии. «Инструкция» Волынского показывает в нем заботливого и умного помещика, но относится скорее к истории сельского хозяйства и помещичьего управления, а не к истории науки о государственном благосостоянии; наконец, книга Посошкова говорит более об условиях хорошей администрации, нежели о законах народного благосостояния; правда, в ней есть многие места, относящиеся к области политико-экономических понятий; но как пользуется г. Лешков словами Посошкова, можно видеть из следующего примера:
«Землю сотвори бог недвижиму и владение земли аще переходит из рук в руки, обачс она стоит недвижимо» — сказавши эту мысль другими словами, мы получим ясное выражение для древнего народного сознания о принадлежности земли государству, о доступности ее всякому русскому и о преимущественном господстве в России общинного владения.
Напротив, какими словами ни-выражайте мысль Посошкова, если только будете выражать ее, а не теории современных экономистов, которых в ней не г и следа, все-таки останется в ней такой смысл: «земля, лежащая, например, на Волге, никогда не передвинется, например, на берега Днепра, сколько раз ни переменяла бы владельцев» — то есть смысл фразы Посошкова чисто географический и не имеет в себе ничего замечательного. Иначе и в стихах Пушкина (в «Подражаниях Корану»):
Земля недвижна; неба своды.
Творец, поддержаны тобой,
Да не падут на сушь и воды
И не подавят нас собой…
можно увидеть «ясное выражение сознания бедуинов о преимущественном господстве в Аравии общинного владения». Поступая таким образом, легко достичь до каких угодно заключений. И выводы г. Лешкова действительно зависят не от фактов, вместо которых он приводит большею частью общие фразы, не имеющие политико-экономического значения, а только ог его собственного произвола. Нам здесь нет места подробно говорить об этих заключениях; но читатели увидят, какие анахронизмы в них господствуют, если мы скажем, что г. Лешков в «Домострое» и т. п. находит полную систему понятий, развитых только через семьдесят лет после Адама Смита противниками школ Мальтуса и Жан-Батиста Сэ. Это все равно, что открывать в грамматике Мелетия Смотрицкого теории Боппа или Гримма о сродстве и истории языков, а в арифметике Магницкого — вычисление орбиты Нептуна. Прибавим, что г. Лешков, забывая, откуда почерпнул свои понятия о народном благосостоянии, противоиола-
гает мнимую теорию «Домостроя» и Посошкова современной науке и, разумеется, отдает преимущество «Домостро'ю».
«Определение положений равновесия плавающих тел», статья г. Брашмана, заключает, по'СХовам автора, переработку и упро-; щение теории, данной г. А. Давыдовым в сочинении «Теория равновесия тел, погруженных в жидкость». Суждение о достоинствах рассуждения г. Брашмана мы должны предоставить специалистам, как и о статье г. А. Давыдова «Приложение теории вероятностей к статистике». Относительно последней мы заметим только, что ученый автор, справедливо желая распространить между людьми, занимающимися статистикою, уменье прилагать к ее цифрам формулы, предлагаемые теориею вероятностей, верно мог бы достичь этой цели, переложив на обыкновенный язык смысл формул, найденных «теориею вероятностей», — заменение же одной формулы, выраженной “языком интегрального исчисления, другою формулою на том же таинственном языке не объяснит ее людям, не знающим высших частей математики; а кто может понимать интегральные формулы, уже давно прилагает их к статистике. Статья г. Швейцера «О кометах, открытых в 1853 году», имеет несомненное ученое достоинство. «Наглядное доказательство обращения земли около своей оси» посредством опыта Фуко с маятником, привешенным на длинной проволоке, интересная и популярная статья г. Спасского — перепечатана из «Московских Ведомостей» с некоторыми дополнениями.
Г. Вернадский так строг в своих суждениях о других ученых, что мы не можем не предполагать чрезвычайного достоинства в его собственных трудах; и потому, хотя его «Исторический очерк практической статистики» есть одна из тех компиляций, которые очень легко составлять каждому, кто знает хотя один из иностранных языков, но мы остаемся уверены, что эта статья должна давать ему право на справедливую гордость.
К числу также компиляционных статей, но имеющих гораздо более ученого достоинства, принадлежат: «Сравнительный взгляд на нынешние понятия об энциклопедии и понятия о ней древних греков и римлян», г. Орнатского, и «Физиология аппетита или голода», г. Глебова. «Ломоносов, как физик», г. Любимова, представляет иногда любопытные сличения теорий Ломоносова с понятиями других тогдашних ученых. Но если мы не ошибаемся, история русской науки более выиграла бы от этого обзора, если б он был написан в чисто историческом духе, а не в тоне похвального слова, совершенно излишнем потому, что в гениальных дарованиях Ломоносова никто не сомневается.
Исследование г. Беляева: «Как понимали давность в разное Еремя русское общество и русские законы» — монография, полезная для истории русского права. Но мы не знаем, принесет ли особенную пользу истории языка «Извлечение из русской грамматики профессора Барсова», сделанное г. Буслаевым. Судя по
этому извлечению, трудно согласиться с почтенным нашим ученым, что «для истории русского языка в XVIII веке грамматика Барсова предлагает весьма много любопытных данных». Неужели любопытными для истории языка считает г. Буслаев, например, следующие заметки:
В родит, пад. множ, числа употребляются и рублей и Рублев. — Віместо полей и морей в стихах употребляется также поль и морь. — Сокращенные имена мать и дочь заимствуют родит, единств, от своих полных матерь и до-черь.
«Рублев» употребляется ныне и употреблялось задолго до XVIII века; следовательно, как само собою разумеется, существовало и во время Барсова — нового факта нам не доставляет его заметка. Предположение об имен, матерь и дочерь также не стоит замечания, по обиходности этих форм. Напрасно такой ученый, как г. Буслаев, терял труд на составление этого извлечения. Вообще, наука ничего не выиграет от желания видеть важность в том, что вовсе не важно, ни с научной, ни с исторической точки зрения. Мы не упоминали бы об этом, если бы пример, подаваемый г. Буслаевым, не действовал на его почитателей, которых число довольно велико, и если бы в такую же ошибку не впадали и некоторые другие из достойнейших наших ученых, бесплодно теряя труд на то, чтоб открыть что-нибудь замечательное в том, что очевидно не может дать никаких результатов для науки.
Вот, например, совершенно другое дело статья г. Страхова: «Краткая история Академической Гимназии, бывшей при императорском Московском Университете» — она дает богатые материалы для историй русского образования, потому что Гимназия при Московском университете была одним из важнейших учебных учреждений, еще очень немногочисленных в последней половине XVIII века, и потому что г. Страхов умеет составлять из своих воспоминаний картины полные и живые Каждый, кто интересуется историею русской образованности, должен желать, чтобы г. Страхов писал более, как можно более: его статьи о профессорах Страхове (родственнике автора) и Мудрове4, вместе с историею Академической Гимназии, принадлежат к числу прекраснейших материалов для истории нашего просвещения при императрице Екатерине II и Александре I. «Пятидесятисемилетнее (1755–1812) участие университетских гимназий в образовании множества молодых людей, — говорит г. Страхов, — было если не больше, то уже, конечно, и не меньше участия самого Университета. Ибо число гимназических учеников бывало всегда с лишком вдесятеро более числа студентов Университета. Например, в 1787 году было студентов 82 и учеников 1 010; а в 1800–1803 годах число студентов не превышало 102, между тем как учеников-гимназистов было до 3 300». Г. Страхов со всеми подробностями описывает порядок занятий и устройство этого столь
обширного заведения, помещение, пищу и распределение времени' у казеннокоштных гимназистов, предметы учения, упЬтребитель-ные награды и наказания, меры к надзору за учениками и т. д.» наконец, постепенное закрытие гимназии с 1804 года и прекращение существования ее после 1812 года, когда из немногих оставшихся учеников большая часть поступили в военную службу. Все это рассказано просто, отчасти даже наивно, но безыскусственное простодушие составляет одно из лучших достоинств, если соединено с умением рассказывать верно и занимательно, как это и находим в воспоминаниях г. Страхова.
Библиотека для дач, пароходов и железных дорог. Собрание романсе, повестей и рассказов, новых и старых, оригинальныу и переводных.. Уіздание А. Смирдина. I. € Аптекарш >. Повесть графа В. А. Соллогуба. Спб. 1855„
Мы желали бы предсказать успех изданию, предпринимаемому г. Смирдиным: мысль издать собрание повестей и романов заслуживает одобрения; для сборника выбран миньятюрный; формат (в 24 долю листа), довольно красивый; шрифт, которым напечатана первая книжка, хорош; бумага очень недурна, — одним словом, внешний вид издания говорит в его пользу. Но, от души желая счастливого продолжения сборнику г. Смирдина, мы посоветуем ему обратить более внимания на выбор помещаемых пьес. «Аптекарша» принадлежит к лучшим повестям графа Соллогуба и в свое время нравилась публике — против нее мы ничего не можем сказать, хотя, для пользы издания, было бы лучше начать его произведением, которое могло бы возбудить более интереса в публике. Если бы следующие книжки наполнялись повестями и романами, равными по достоинству «Аптекарше», то «Библиотека дач, пароходов и железных дорог», не приобретая слишком большого успеха, вероятно, не была бы и предприятием слишком неудачным. Но напечатанный на обертке первой книжки список повестей, которые г. Смирдин предполагает поместить в следующих выпусках, смутил нас: за исключением двух-трех произведений, могущих иметь успех, список составлен из пьес, выбранных несчастливо. — Скажите, могут ли не залежаться в кладовой издателя выпуски, которые будут предлагать публике, например, следующие произведения, и в свое время не понравившиеся публике, а ныне решительно потерявшие всякую возможность быть прочитанными: «Последний консул в Кафе» г. Шид-ловского; «Фультон» г. Каменского; «Александрина» г. Фан-Дима и проч. и проч. Мы боимся, что подобная неразборчивость может уронить «Библиотеку». — Нам неприятно говорить это, но мы искренно желали бы предостеречь издателя. Неужели нет у него знакомого человека, имеющего понятие о литературе, с ко. торым мог бы он посоветоваться?
Полное собрание сочинений русских авторов. Сочинения Н. Греча. Издание А. Смирдина. Три тома. Спб. 1855.
Наш век, едва ли не по всей справедливости, известен у чувствительных людей под названием железного, хотя ныне и добывается каждый год в Сибири, Калифорнии и Австралии столько золота, что им можно было бы гальванопластически позолотить целую Аркадию. В самом деле, что пользы от этих тысяч пудов золота, когда сердца у людей железные, недоступные аркадским чувствам беспредельного самоотвержения ради друзей, когда нет на свете Пиладов и Орестов, или мнимый Пилад предает Ореста? К такому размышлению невольно приходишь, присматриваясь к делам, которые делаются на белом свете. Вот, например, явились два Пилада у Турции, нарекли ее своим Орестом, объявили, что сердечная их забота — спасение несчастного Ореста от всяких действительных опасностей, что единственная цель всех их действий — возвращение здоровья и могущества и славы расстроившему свое здоровье и свои дела Оресту ‘. Кажется, слова эти достойны золотого века… Что же оказывается на самом деле? Орест-Турция уверяет своих друзей, что давно перестала бояться опасностей, которыми ее пугали, упрашивает своих друзей прекратить заботы о ее спасении, — а друзья очень нецеремонно отвечают: «Молчи, не твое дело; мы заботимся сами о себе, а вовсе не о тебе». Да, какой тут золотой век!
То же самое видишь, на что ни посмотришь, — хотя бы, например, на издание «Сочинений» г. Греча, вышедшее в нынешнем году. Памятно еще нам первое издание этих сочинений, повиди-мому, неоспоримо доказывавшее возвращение золотого века био-графиею, которая была к нему приложена2. Какою горячею, вечною дружбою дышала каждая строка этого замечательного жизнеописания! Оно и начиналось объявлением публике, что автор биографии — искренний друг г. Гречу, что он от всей души любит г. Греча, готов ради дружбы подвергнуть себя величайшим нареканиям и подвергает, печатая эту биографию, и т. д., и т. д. Но — напрасно искали мы дружеской биографии при новом издании — как, зачем, почему исчезла она из нового издания? Ужели автор ее не хочет более подвергаться нареканиям ради дружбы? Нет, мы не желали бы верить этому. Нет, мы не желали бы разочароваться в одном из трогательнейших фактов еще остававшихся на земле отголосками золотого века!
Но мы вспомнили о другом случае, и отказались от сладкой мечты о золотом веке. Мы вспомнили о судьбе, испытанной романом г. Греча «Черная женщина», — и на глазах наших невольно навернулась слеза. Увы, кто поразил «Черную женщину»? — Друг! и как поразил? самым коварным образом, — изъязвил бедную «Черную женщину» самыми острыми вшиль-ігами насмешки, уверяя, что облекает ее в великолепнейшее одеяние похвал, хваля себя за этот подвиг, как за величайшее доказательство дружбы! И в довершение этого коварства друг-мучитель еще напоминал публике и автору «Черной женщины», что г. Греч, автор «Черной женщины», — редактор журнала, в котором помещается эта убийственная для него статья, что г. Г реч читал корректуры этой статьи и не мог смягчить ее, напротив, принужден был исправлять каждую шпильку, если она притупилась типографскою опечаткою! Скажите, достигала ли такого жестокосердия даже инквизиция? Она надевала на людей сапоги с гвоздями, вбитыми острием внутрь, но не заставляла жертву лакировать эти сапоги… Читатель, ваше сердце обливается кровью? Вы не верите в возможность такой утонченной жестокости? Мы сами не хотели бы верить, — но вот подлинные слова коварного друга («Библиотека Для Чтения» 1834 г., том IV. Критика, стр. 17 и 19):
Собираясь говорить в этом журнале о книге, написанной его редактором, мы обязаны прежде всего удостоверить собственных наших читателей в возможности говорить здесь о ней беспристрастно и нелицемерно. Критическая часть этого журнала совершенно незавнснма; ни издатель (А. Ф. Смирдин), ни редактор не оказывают на нее никакого влияния…
Автор «Черной женщины», которому лучше всех известны эти обстоятельства, весьма хорошо знает, что, по особенному устройству журнала, он скорее может встретить на его страницах суровый приговор литературного правосудия, чем комплименты подозрительной услужливости, и если б нам вздумалось, в шутку, написать на его роман грозное разругали, мы бы легко могли сделать вас свидетелями любопытного психологического опыта, — вы могли бы сами видеть или представить себе мысленно лицо бедного автора, который, в звании редактора, читает корректуру сочиненной на него укоризны н дрожащею рукою исправляет опечатки в жестоких ударах, наносимых его самолюбию. Мысль о возможности подобного увеселения, мы уверены, неоднократно приходила на мысль почтенному сочинителю «Черной женщины»…
Затем следуют уверения, что критик в восторге от «Черной женщины», потому что это метафизический роман, написанный в доказательство глубокой идеи, — именно, желающий доказать истину магнетизма, и с тем вместе преподробно объясняется, что метафизический роман не может быть ни романом, ни даже сказкою, а всегда останется странною нескладицею, что магнетизм, на котором основан весь интерес романа, — вздор и пустяки, которым могут верить одни невежды и простяки; тут же критик удивляется уму и знаниям автора «Черной женщины»; говорит, что в романе нет ни плана, ни правдоподобия, господствует бессвязность и неправдоподобие и т. д., и в то же время прибавляет, что роман все-таки превосходен… Оказал дружбу критик автору! — скажешь после всего этого3.
Но если человеку изменяют друзья, то в людях посторонних является невольное желание'поддержать покидаемого. Известно, что с легкой руки друга-критика начало распространяться и ныне совершенно утвердилось мнение, что правильность языка— единственное достоинство в произведениях г. Греча. Конечно, мѵ> не решимся принять на себя обязанность защищать достоинства «Черной женщины» или другого романа г. Греча: «Поездка в Германию»; но представим из его «Путевых писем», помещенных во II томе нынешнего издания, и «Обозрений русской словесности», находящихся в III томе, некоторые места, интересные в историко-литературном отношении и с тем вместе показывающие в авторе наблюдательность и замечательную способность понимать практическую сторону вещей, — способность, которая, вместе с несомненным трудолюбием и начитанностью, достаточно объясняет литературные успехи почтенного автора.
В числе предметов, которые мне хотелось в подробности узнать и рассмотреть в Париже, не последнее место занимали судилища уголовные… Слабость есть удел человечестіа. Где под солнцем найти истинное, совершенное беспристрастие и правосудие? Везде знатность, богатство и другие временные блага ослепляют людей; сильный порок торжествует, слабая добродетель угнетается. Не станем искать совершенства в здешнем мире. Но есть средства обуздать злоупотребления власти, сорвать личину с порока и преступления, даровать притесненной добродетели способы оправдаться и восторжествовать над кознями злобы и коварства. Сии средства, кроме надлежащего сообразного с целью, воспитания народного, состоят в утверждении правосудия на твердом, незыблемом основании, в введении ясных, определенных законов и неизменных форм, которые были бы свято наблюдаемы при рассмотрении и решении дел, от коих зависит с одной стороны жизнь и честь частного человека, а с другой — безопасность и спокойствие гражданских обществ. Нашему времени предоставлено исправление многих учреждений и обычаев, ведущихся со времен варварских, когда право сильного, самовластие, суеверие и фанатизм предписывали законы Великие умом и добродетелью мужи вникли в состояние законодательства и судопроизводства, введенных обстоятельствами, утвержденных временем, — и ужаснулись! Судьба человека зависела от воли некоторых частных людей, нередко определяемых без дальнейшего выбора, почти никогда не имевших надлежащего образования и необходимых познаний. Но и самые честные, беспристрастные из сих людей не могли основывать своих суждений и приговоров на ясных, определенных законах, равносильных для всякого гражданина. Правосудие изменялось по времени и месту, по чину, породе, богатству подсудимого! Главнейшими средствами для сохранения правосудия, для обретения надлежащей средины между потворством, излишне щадящим преступников, и бесчеловечием, карающим неопытную и неосторожную невинность наравне с закоснелым пороком, суть: 1) ясное, полное и определенное уголовное уложение, не основанное на мечтательных предположениях, не заимствованное из постановлений других земель, но извлеченное из коренных древних законов отечества, приведенных в порядок, поясненных, соглашенных и дополненных; 2) суд по совести или суд присяжных (jury) и 3) гласное судопроизводство. (Часть II, стр. 354–356.)
Известно, что французское уголовное уложение и судопроизводство введены были во всех почти владениях Рейнского Союза. По изгнании французов из Германии, прусское правительство намеревалось в герцогстве t Прирейнском возобновить прежний уголовный порядок; но жители тех мест, привыкшие уже, в течение двадцати с лишком лет, к публичному делопроизводству, обратились к трону с просьбою не лишать их этого права. Нет сомнения, что великодушный король не лишит новых подданных своих на берегах Рейна выгод, сопряженных с публичным производством дел. Может быть, что он распространит это благодеяние и на всех прочих своих подданных. Достойно примечания, что в России, начале XVI века, когда еще большая
часть Европы была во мраке, едва начинавшем редеть от лучен истинного света, существовали присяжные, илн, по тогдашнему, 'целовальники. (Часть II, стр. 365–366.)
Русский народ подобен юноше, получившему в наследие от отцов споих начала всех добродетелей — веру, верность и любовь к отечеству. Он заимствовал образование ума у иноплеменных народов, скоро перенял полезное, и, в полном чувстве силы своей, превзошел своих учителей делами (это писано вскоре после 1812 года); хитрости противопоставил правду, коварству— верность, нечестию — веру, и утвердил бытие свое навсегда. За напряжением сил следует усталость, в юношеских летах неприметная, скоро проходящая. Народ опять почувствует стремление к подвигам и трудам. Где найти ему удовлетворение? В делах мирных, в подвигах гражданских, в науках, художествах, словесности, в приготовлении запаса к тому времени, когда, не имея более силы юношеской, телесной, должен он будет превосходить других качествами ума я сердца! Для этого должно наблюдать ход его литературы, способствовать ее успехам, замечать встречающиеся ей препятствия и отвращать их, усматривать уклонения народного образа мыслей с пути истины и добродетели, и стараться о направлении его вновь на этот путь, но без всякого принуждения и стеснения, которые производят действия, совершенно противные предполагаемым. Вот воспитание народное, вот истинные средства обеспечить бытие, целость и силу государства на столетия! (Часть III, стр. 288–289.).
Воспитание нли просвещение народное есть дело великое, одна из важнейших и священнейших обязанностей правительства. Но все попечения и ревность занимающихся образованием юношества становятся тщетными и бесполезными, если, по вступлении молодых людей в свет, им нельзя будет употребить талантов, в них открытых или им сообщенных. В разных землях Европы, где издревле заведены хорошие училища, где юношество получает классическое образование и где надлежало бы ожидать непрерывных и важных плодов этого образования, — видим мы совершенно тому противное. Словесность этих стран находится в вечной посредственности. Отчего это происходит? Оттого, что в тех странах господствует пагубное местничество, заграждающее истинным талантам путь к отличиям и наградам; оттого, что умственная сила народа, в тех странах обитающего, драгоценнейшее достояние человека, важнейший, если смею сказать, капитал государства, скована цепями предрассудков, подозрительности и недоверчивости правительства. Таланты гибнут там, как весенние цветы от дыхания бурь и стужи! В России нет этих препятствий; мудрые ее законодатели, Петр, Екатерина и Александр (писано в 1817 году), основали благоденствие своих подданных на благоразумной свободе и приличном каждому званию просвещении. Незнатность и бедность породы не препятствует возвышаться людям с способностями и познаниями. Екатерина даровала подданным своим свободу изъявлять свои мысли изустно и во всенародных писаниях — и воспрянули отечественные таланты! Державин, языком божественной поэзии, Фонвизин, слогом здравого и сильного рассудка, смело говорили пред троном истины, которых обнародование доказало твердость трона сего, на любви подданных к вере и отечеству основанного; Александр довершил начатое ею, и то, что в царствование Екатерины было временною царскою милостью, в правление Александра, с утверждением устава о цензуре, сделалось твердым государственным законом. Издание этого устава, признанного всею просвещенною Европою превосходным в своем роде, ознаменовало возобновление отечественной словесности. История русской литературы в царствование Александра свидетельствует о его важности и благодетельности. (Часть III, стр. 319–321.)
Хвалить все, что помещено в трех томах «Сочинений» г. Греча, было бы напрасно и несправедливо; но можно сказать, что между страницами слабыми встречаются у него иногда стра-, ницы занимательные и хорошо написанные.
О ценах на хлеб в России. А. Н. Егунова. Выпуск 1. Москвл. 18551.
По одной части труда не всегда бывает можно делать основательное заключение о характере и значении целого труда, а если б в настоящем случае и было это возможно, то г. Егунов не хочет признавать того. Оставим же общее суждение о его исследовании до появления следующих выпусков и ограничим наши замечания только теми сторонами его работы, которые уже окончательно представлены публике в первом выпуске2.
Вопрос о средних ценах на хлеб требует длинных и утомительных вычислений, и из слов самого автора мы видим', что охота заняться тяжелым делом составления таблиц средней ценности хлеба по губерниям была внушена ему только понятием о важности этих выводов для решения чрезвычайно интересного вопроса о степени благосостояния русского поселянина, которая зависит преимущественно от доходов, доставляемых ему земледелием. Связь цен хлеба с благосостоянием поселянина очень тесна; но мы сомневаемся, чтобы г. Егунов мог дойти до верных выводов об этом благосостоянии через одно определение ценности хлеба. Количество дохода, доставляемого земледелием, зависит не только от цены, но и от количества полученного хлеба. Узнаю ли я, сколько дохода получает смоленский земледелец, если цифры, доступные для меня, показывают только, что он получает 3 рз» б. 93 коп. за четверть ржи 3, а не показывают, сколько четвертей он получает? А для последнего обстоятельства нет положительных и точных печатных данных. В самом деле, сбор хлеба зависит от урожайности и количества засева; и то и другое не определяется печатными сведениями с достаточною точностью. Как обыкновенно выражаются об урожае? — сам — 4, сам — З'/г, сам — 3. Дроби меньше одной половины единицы уже неупотребительны в обыкновенных известиях. А не только одна четверть, даже одна осьмая единицы в этом случае производит значительную разницу в сумме дохода. Положим, например, что мы нашли такое сведение: в 1850 г. в Смоленской губернии был урожай сам — ЗѴ2 — ведь это не значит, чтобы в точности 10 четвертей посева принесли именно 35 четвертей сбора, а только то, что они принесли более 30 и менее 40, быть может 33, быть может г: 37. — То и другое равно подходит к сам — ЗУ2 ближе, чем к сам — 3 или сам — 4. Но если с 10 четвертей получено 33, то, за вычетом 10 четвертей на семена, остается 23 четверти и доход сеятеля будет (по 3 р. 93 к. четверть) 89 р. 39 к., а если получено 37 четвертей и остается, за вычетом 10 на семена, 27 четвертей, то доход будет 105 р. 11 к. — разница, как видим, 15 р. 72 к., или более нежели 17 %.:—Но еще неопределеннее цифры говорящие о количестве посева. Ведь он зависит от количества земли на тягло, а оно в различных общинах и поместьях одной губернии, даже одного уезда, очень различно. Если г. Егунов признает несовершенную точность в показаниях цен, узнать которые так легко, — стоит толвко спросить на рынке у кого угодно, и дело в шляпе, — то возможна ли хотя приблизительная достоверность в показаниях цифры земли, засеянной в целоѵ. уезде? 4 Ведь эта цифра должна получиться через сложение тысяч цифр, о каждой из которых надобно собирать особенные сведения. Ведь никто, кроме хозяина, не знает наверное, сколько хлеба засевается в хозяйстве. Возможно ли расспросить всех землевладельцев и поселян в уезде? Да и скажут ли они правду? Мы будем еще слишком легковерны, если согласимся считать погрешность в цифрах количества засеваемой в губернии земли не больше 30 %, когда в цифрах, столь удобно получаемых, как цены хлеба, она превышает 10 % или 15 %. Вообразите же себе, до какой степени будет верен вывод о благосостоянии поселянина, если, сделав в цене хлеба вероятную ошибку в 10 %, мы сделаем еще в определении урожая вероятную ошибку на 17 % и в количестве засеянной земли на 30 %? В выводе, обремененном столькими ошибками, очень легко приписать поселянину вдвое более или вдвое менее дохода, нежели он действительно получает, — вместо 100 рублей высчитать 50 или 200, сделать изрядно живущего поселянина нищим или богачом.
Конечно, со временем эти цифры посева и урожая достигнут большей точности; но в настоящее время не только у нас, но также и в Германии или Франции невозможно, основываясь на них, сделать хотя приблизительно верный вывод без произвольных поправок, которые бы насильственно подвигали цифру к величине, сообразной с положением поселянина, прямо известным не из предположений о ценах и посевах хлеба, а прямо из наблюдения над его образом жизни. Математика дает выводы более точные, нежели наблюдение, но только тогда, когда обладает очень точными элементами для своих вычислений; а когда элементы неверны, вычисление ведет только к ошибкам; потому лучше избегать его, пока не получим более достоверных основных цифр, и ограничиваться скромным наблюдением, не имеющим притязаний на абсолютную полноту, но и не уменьшающим или увеличивающим вдвое.
Г. Егунов говорит, что описаний экономического быта простолюдинов у нас очень мало, что этот источник слишком скуден, потому и обратился он к вычислениям, т. е. к гипотезам. Мы согласны, что описания хозяйственного быта простолюдинов у нас очень скудны; но лучше скудость, нежели совершенная недостоверность и произвол. Если нет материалов для описания быта простолюдинов во всех различных сферах их занятий и во всех губерниях, опишите их быт в некоторых состояниях и в некоторых губерниях: лучше сказать что-нибудь верное о Воронежском или Ахтырском уездах, нежели наделать неверных гипотез о всех краях и концах России.
Но средние цены хлеба, если и не могут быть непогрешимым мерилом экономического быта поселян, все-таки имеют большую важность в статистике, особенно для соображений о силе, с какою действуют на народонаселение неурожай и застой в продаже от излишества урожаев, для соображений о хлебной торговле, путях сообщения и т. д. Потому таблицы средних цен хлеба в 1846–1853 гр. 5, стоившие г. Егунову, без сомнения, очень многих трудов, заслуживают полной благодарности, хотя и есть в них некоторые подробности, дающие повод к возражениям. Особенно важны некоторые случаи, представляемые распределением губерний на полосы или группы, которое дает г. Егунов в таблицах VII и VIII °. Например, Тверская губерния у него отнесена к северной полосе вместо центральной — разве быт тверского поселянина ближе к быту архангельского и олонецкого, нежели московского и костромского? Вятская губерния отнесена к одной полосе с Тульскою и Нижегородскою (да и между Тульскою и Нижегородскою какое сходство?) и т. д. Но доказывать неестественность в составлении этих полос излишне — довольно взглянуть на них, чтобы убедиться в том, что г. Егунов следовал произвольному делению, не везде соблюдая даже свой собственный закон близости по средней цене хлеба.
Окончим нашу рецензию сожалением, что г. Егунов без нужды усеял свое исследование бесчисленными нападениями на комитет Географического Общества, сделавший несколько замечаний на представленную автором в Общество рукопись его исследования. Положим, что замечания комитета были несправедливы, по крайней мере, по мнению автора — что ж тут ужасного? разве члены Географического Общества не могут ошибаться? Обижаться тут было нечем, если б они и ошиблись; — ведь они же остались бы в проигрыше, если бы публика сказала теперь, что правда на стороне г. Егунова. Но г. Егунов оскорбился и надолго, оскорбился; вот это немного странно в человеке, который уже пишет не первую статью и мог бы привыкнуть спокойнее принимать и похвалы и замечания. Но и не в этом даже дело — пусть г. Егунов оскорбился, так и быть, — он мог бы выразить свой гнев, написать хоть тысячу страниц против замечаний комитета Географического Общества, но опровергнуть их однажды навсегда и уже не отрывать ни себя, ни читателя от изложения своих исследований беспрестанными уклонениями от своего предмета к Географическому Обществу. Повторять одно и то же сто раз, г— вот что неловко с его стороны, потому что невыгодно для него самого. Читатель утомляется этими беспрестанными отступлениями от предмета и, наконец, говорит: «верно, г. Егунов неправ, если так неумеренно гневается» — выгодно ли подвергать себя такой опасности?
Учебные руководства для военно-учебных заведений. Руководство статистики России. Составлено А'. Соколовским. Спб. /855.
Автор этого учебника умер, совершенно приготовив к изданию свой труд, но еще не успев приступить к его печатанию, забота о котором была возложена на г. Ивановского. Достоинства руководств, одобряемых штабом военно-учебных заведений, признаются всеми специалистами, и потому мы считаем достаточным сказать несколько слов о системе, которая принята в «Статистике» г. Соколовского. Книга его разделяется на три части, из которых в первой (Источники основных сил государства) излагается история расширения пределов Российской империи, настоящие границы и административное разделение ее территории, орография, гидрография, системы водяных и сухопутных сообщений, обозрение климата, постепенное увеличение населения в России, настоящий состав его по племенам, вероисповеданиям и городовому или сельскому месту жительства. Во второй части (Народная деятельность и ее последствия) говорится о различных отраслях промышленности, заботах правительства о развитии духозной деятельности и настоящем ее состоянии. В третьей части (Правительственные силы) сообщается подробный обзор военных сил России и очерк ее финансов.
Премудрость и благость божия в судьбах мира и человека. Москва. 1855 г.
Это обширное сочинение представляет подробный обзор исторических событий, явлений природы и фактов человеческой жизни, служащих доказательствами промысла божественного о мире вообще и в особенности о человеке. Характер изложения в нем отчасти богословский, отчасти научный, смотря по различию изглагаемых предметов, но богословская точка зрения, как и должно быть, неуклонно руководит направлением благочестивых рассуждений автора. Сочинение разделяется на семь писем, которые, в течение нескольких лет, были помещаемы в «Прибавлениях» к «Творениям св. отцов», из которых ныне собраны в отдельную книгу.
Сказание о странствии и путешествии го России, Молдавии, Турдии и Святой земле посгрижеиника Святыя горы Афоиския инока Парфения. В четырех частях. Части 1 и 2. Москва 1855.
Язык этих многотомных записок прежде всего поражает читателя, представляя оригинальную смесь церковнославянского с старинным книжным русским и простонародным русским. Но, прочитав несколько страниц и узнав, что инок Парфений, до обращения своего в православие на тридцатом году жизни, был чрезвычайно усердным раскольником и не получил школьного воспитания, мы перестаем удивляться его слогу, видя, что он естественно образовался от равного изучения старопечатных книг, богословских книг прошедшего века и от постоянного обращения среди простолюдинов.
Столь же разнохарактерно и содержание его рассказов: он равно подробно излагает свои путешествия по святым местам, свои беседы, сначала с православными, которые обращали его, потом с раскольниками, которых обращал он, и, наконец, различные интересные анекдоты, слышанные в путешествиях. Все это записано им, повидимому, совершенно безыскусственно, теми самыми фразами смешанного языка, какими привык он говорить. Напрасно было бы искать системы в его книге; и точное понятие об оригинальности ее наивного изложения можно получить, только перелистовав ее. Но для специалистов будет она любопытна уж по одному тому, что автор сообщает много известий о нынешнем состоянии разных сект, с членами которых сближался, отчасти также и по воспоминаниям о православных и раскольниках в австрийских владениях и в Молдавии.
Слова и поучения на воскресные и праздничные дни. Протоиерея Иоанна Халколиванова. Две части. Спб. 1855.
Проповеди протоиерея Халколиванова принадлежат к числу так называемых «объяснительных поучений на евангельские чтения», — в каждом из его слов сначала рассказывается содержание чтенного в тот день евангелия, потом смысл его объясняется и делаются нравственные применения. Некоторые из этих проповедей написаны очень простым языком, в других заметно более искусственности.
Введение к изучению естественной истории. Составил Д. Михайлов. Спб. 1855.
Г. Михайлов назначает свою книжку для детей, еще не достигших того возраста, в котором возможно пространное изучение естественной истории. Преимущественно заботясь о простоте и ясности изложения, он достигает своей цели довольно удачно, и в этом состоит важное достоинство его брошюры. Но нам кажется, что напрасно он ограничился описанием одного наружною вида животных и растений, совершенно отбросив физиологию, — т. е. самую важную ныне половину науки. Заметим также, что он начинает царством животных и оканчивает царством ископаемых, а не наоборот — причин этого он не объясняет, как и соображений, побудивших его отбросить из своего «Введения» физиологию. Но это изменение порядка — дело второстепенной важности, и
если автору показалось удобнейшим для детей начинать с изучения ближайших к человеческому телу организмов, мы готовы уступить это на полную его волю.
<ИЗ № 11 «СОВРЕМЕННИКА»> Сельско-хозяйственная статистика Смоленской губернии.
Составлена Яковом Соловьевым. С двумя картами. Москва. 1855.
Книга г. Соловьева — один из тех трудов, которые заслуживают полной похвалы без всяких оговорок и, что еще лучше, искренней признательности со стороны каждого занимающегося изучением быта своей родины. «Статистика Смоленской губернии» принадлежит к числу очень немногих у нас капитальных сочинений по этой части и между ними должна занять одно из самых почетных мест. Г. Соловьев был начальником кадастровой і комиссии, посланной от министерства государственны. х~имущёств в Смоленскую губернию для переложения подушного оклада государственных крестьян в поземельный, — это обстоятельство доказывает, что он имел способы собрать статистические данные об этой губернии в такой полноте и точности, какая невозможна была бы ни для какого другого лица. Все изложение книги его свидетельствует, что он занимался этим с ревностью, аккуратностью и знанием, каких только возможно желать; выводы его всегда осмотрительны и основательны; ученый взгляд его на сельско-хозяйственнЫе вопросы всегда проницателен, здрав, чужд и предубеждений рутины и самообольщений, в которые часто впадает теория. Одним словом, книга г. Соловьева — одно из драгоценнейших пособий для изучения сельско-хозяйственного быта в России, одно из столь редких у нас сочинений, о которых можно говорить много и говорить с удовольствием, и нам приятно дать подробный отчет об этом труде, богатом интересными и поучительными данными.
Первая мысль, которая может родиться у рецензента подобной книги — желание сравнить цифры и выводы, представляемые автором относительно отдельной области, с фактами, касающимися других частей государства, чтобы определить отношение части к целому. Но общее понятие о месте, занимаемом Смоленскою губерниею в ряду других, уже достаточно определилось'; и нам кажется, что некоторые, более прежних точные выводы об этом отношении представляли бы менее интереса, нежели подробное изучение тех условий быта в Смоленской губернии, которые более или менее общи ей или с целою империею, или, по крайней мере, с целым северо-западным краем империи.
Но прежде всего скажем несколько слов о порядке изложения, принятом в «Сельско-хозяйственной статистике», — он отличается
полнотою и последовательностью, так что мы можем строго держаться его в нашем извлечении. Г. Соловьев очень основательно начинает очерком исторических событий, имевших влияние на настоящее положение Смоленской губернии (стр. 17–32) ', — без того, по его справедливому замечанию, — странны показались бы некоторые из важнейших фактов быта; потом, в первой главе (стр. 33–85), дает геогностическое обозрение формаций и почв, систем вод, болот, климата; вторая глава (стр. 86—152) сообщает сведения о числе жителей, разделении их по племенам, месту жительства, занятиям и сословиям; о физическом и нравственном состоянии рабочего класса; в третьей главе (стр. 153–256) излагается хозяйственный быт населения; распределение земель, движение поземельной собственности, наемные цены земли, расположение селений, способы управления крестьянами, способы пользования землями, повинности, содержание крестьянского семейства, запасы продовольствия, недоимки, способы займов; четвертая глава (стр. 257–322) посвящена статистике земледелия, пятая (323–383) — второстепенным отраслям сельского хозяйства: огородничеству, садоводству, пчеловодству, лесоводству, скотоводству; шестая глава (стр. 384–486) — сельским промыслам, фабрикам, заводам и торговле. Из двух отчетливо иллюминованных карт одна показывает почвы, лесные породы и средоточия промысловой деятельности; другая — торговые пути для сбыта земледельческих произведений. Самые полные и точные сведения г. Соловьев имел о быте государственных крестьян; данные, касающиеся помещичьих крестьян, часто оказывались неполны и должны были быть дополняемы на основании приблизительных соображений. Сверх того, некоторые вопросы, например, о продолжительности средней жизни в различных сословиях, оставлены автором без рассмотрения, конечно, по недостатку данных; но тем не менее книга г. Соловьева — полнейшее и основательнейшее из всех известных нам статистических исследований об отдельных частях русской империи.
Некогда Смоленское княжество было одно из самых богатых. Оно служило торговым путем из северной Руси и немецких городов в южную Россию и Грецию, благодаря выгодному положению Смоленска на соединении систем Двины и Днепра. Но когда началась борьба между Московским и Литовским княжествами, Смоленская область, поле битв и грабежа, начала сильно страдать. Литовские князья и польские короли поддерживали колеблющееся благосостояние жителей льготами, и Смоленск все еще оставался городом цветущим и торговым; другие города той области также еще сохраняли часть своего благосостояния; так, например, в Рославле жили еще десятки немецких купцов. Но войны между Москвою и Польшею все более и белее вредили Смоленской области, пока Смоленск наконец был разрушен в 1611 году. Как обширен был город еще в начале XI века, видим из того, что в одних посадах его, кроме сгоревших, уцелело 10 церквей, из которых ныне уже не существует ни одной 2. Мало-помалу город возобновился и перешел к России «обширным и хорошо отстроенным» 3; он вел довольно деятельную внешнюю торговлю; смоленские сады славились фруктами. Еще в начале царствования Екатерины II, несмотря на упадок, уже значительный в сравнении с прежним, Смоленск был одним из главных торговых городов империи. Смоленская область, без сомнения, разделяла относительно благосостояния судьбу своего главного города. Так как более или менее быстрое приращение числа жителей в землях еще недостаточно населенных служит мерилом благосостояния, то приведем следующие цифры: нынешняя Смоленская губерния имела жителей: В 1722 Г. — 659 734; в 1775 г. — 892 300; в 1811 г. — 1-056 715; итак, между 1722–1775 г. ежегодное увеличение населения было 0,66 на сто, между 1775–1811 г. только 0,50 на сто — следовательно (говорит г. Соловьев) в последнем периоде «распространение населения уже начало встречать препятствия в средствах к жизни». 1812 год, когда почти вся Смоленская губерния подверглась разорению, нанес ее благосостоянию удар, от которого до сих пор она еще не совершенно оправилась. Потери губернии простирались до 75 миллионов р. ассигн., кроме пожертвований на сумму 10 миллионов, и убытков от того, что пропала до полумиллиона голов скота и более 300 000 десятин земли остались незасеянными4. В 1816 г. население было — в одном мужеском поле податных состояний — на 56 582 души менее, нежели в 1811 году, и только в 1834 году оно достигло опять цифры, которая считалась в 1811 году. Город Смоленск до 1830 г. оста-вался почти в развалинах. Да и ныне, вместо W жителей, бывших до 1812 гГГ он не имеет и 11,000. Приращение населения по губернии было в 1816–1835 г. 0,50 на сто, а в 1835–1851 г. еще менее — только 0,20 на сто. Из этих чисел, по справедливому замечанию г. Соловьева, «следуют два заключения, из которых каждое зависит от другого: во-первых, Отечественная война до сих пор оставила следы на Смоленской губернии; во-вторых, это именно доказывает бедность средств, которая в течение 40 лет не позволяла вознаградить потерь, причиненных войною».
Из общего числа 1 083 249 дуін обоего пола, составлявших население Смоленской губернии в 1853 году, считалось:
Помещиков………… 15995 (обоего пола) или 11/г%
К-естьян госуд. и помещ. 972 544 „„„90%
Прочих сословий…. 94 930 „„„81/2°/оБ
Число помещичьих крестьян в Смоленской губернии — 774 534 души — гораздо значительнее, нежели число государственных крестьян— 197 999 душ; объясняя этот перевес, г. Соловьев говорит: «Польские короли и русские государи неод-«ократно жаловали частным лицам населенные деревни из дворцовых волостей… За неимением данных, невозможно определить, в какой степени увеличилось число помещичьих крестьян от этих пожалований; но, во всяком случае, оно должно быть значительно; так, например, во время последнего присоединения Смоленска к России, весь нынешний Поречский уезд, за исключением Плойского участка, принадлежал к разным дворцовым волостям. Ныне в этом уезде числится 16 756 душ муж. пола помещичьих крестьян», то есть почти столько же, сколько остается государственных крестьян (18 251 душа муж. п.) — иначе сказать, в течение последних 200 лет (с 1654) около половины бывших государственных крестьян обращены в помещичьи чрез пожалованье.
Общее число принадлежащихЧисло владельцев, имеющих: им крестьян муж. пола: 3 039 23127 1 741 82 523 737 148 671 64 44 214 38 79 403е— 501—1000 „. Более 1000 душ.
Таким образом, из общего числа 5 619 помещиков 3 039 должны быть отнесены к числу людей небогатых; наполовину менее помещиков, могущих жить безбедно (1 741), и только 839 помещиков владеют значительными имениями (более 100 душ); из них только 102 человека могут назваться богатыми (имея более 500 душ). Из общего числа крестьян немного более одной четвертой части разделены между 4 780 помещиками, имеющими, каждый, менее 100 душ; владение остальными 3Л сосредоточено в руках 839 владельцев.
Относительно народного здоровья, заметим, что в Смоленской губернии находится 26 врачей и 38_фельдшеров и лекарских учеников. Число оспопрививателей — 191; оспа прививается из 1 000 младенцев 650 1. '
' Грамотность между государственными крестьянами распространена в два с половиною раза более, нежели между помещичьими. '
О нравственном состоянии смоленского населения г. Соловьев замечает; «Родительская и детская любовь сильна; но родственные связи в других степенях ослабляются от семейных раздоров, которые большею частью происходят от женщин… Явное воровство не может найти себе защиты в общественном мнении крестьян; но воровство леса, воровство господских семян во время сева, уклонение от платежа податей, хотя бы и были к тому средства, не считаются ни за грех, ни за преступление… Религиозность простого народа обнаруживается в исполнении одних только обрядовых постановлений; хождении в церковь, соблюдении постов и т. п.; но смысла христианской религии, на котором основаны все гражданские добродетели, он ие понимает».
Очень интересно краткое, но дельно составленное изложение народных поверий у белоруссов, составляющих, как известно, половину населения Смоленской губернии. Выписываем следующие строки, сохраняющие память древней системы дуализма и поклонения стихиям:
Сотворение мира представляется драматически, в виде борьбы доброго верховного существа со злым. Об этом в Белоруссии рассказывается целая легенда. Сущность ее та, что доброе существо везде и во всем желало сделать одно только благое; но везде и во всем ему мешало злое начало. Доброе существо хотело создать один только чернозем, но злое примешало глину и песок. Доброе существо предназначило для земли ровную поверхность; но злое, где только могло, избороздило ее оврагами и набросало гор. Сотворение воды и огня приписывается также злому началу… Особенным уважением пользуется огонь. При устройстве нового жилья огонь непременно переносится с старого очага. Если, по отдаленности нового жилища, нельзя перенести туда старый огонь, то берут, по крайней мере, принадлежности очага — кочергу, ухват и т. п.
Из общего пространства 4 442 661 десятин удобной земли в Смоленской губернии, г. Соловьев полагает:
Усадебной… 66 773 дес. Выгонной….. 249 909 дес.
Пахотной….. 1 462 907 „Кустарников. 408 725 „
Сенокосной…. 847 906 „Лесов……. 1 406441 „
По генеральному межеванию, пахотных земель было показано 1 837 573 десятины, т. е. почти 400 000 десятин более, нежели полагает г. Соловьев, — эту разницу он объясняет отчасти неточностью генерального межевания, отчасти тем, что, по общему мнению, «хлебопашество в Смоленской губернии после 1812 года уменьшилось», что подтверждается большими пространствами зарослей, или заброшенной пахотной земли, поросшей кустарником.
В помещичьих владениях на ревижскую душу приходится земли гораздо более, нежели в государственных имениях, — именно, казна имеет в Смоленской губернии 91 987 ревижских душ и 470 366 десятин, так что на душу средним числом приходится 5 десятин, а помещики владеют 350 922 душ и 3 847 524 де-сят. земли, так что на душу причитается 11 десятин 8. Несмотря на это, казенные крестьяне живут лучше, нежели помещичьи.
Средняя цена ревижской души в Смоленской губернии — от 150 до 200 р. серебром, смотря по уезду и количеству угодий; о продажной цене ненаселенной земли нельзя сказать ничего определенного, потому что ненаселенная земля покупается редко, и то разве для округления угодий, по цене случайно, далеко отступающей от нормальных условий. Наемной цены пахотной земли также нельзя определить, потому что нет обычая брать ее внаймы.
В числе дворян Смоленской губернии есть более 1 Q0D. быть может, до 2 000 человек таких, которые, вовсе Не имея крестьян, живут особенными селами, сами обработывая землю. В одном
Рославльском уезде их считается до 1 000 человек, кроме того, есть они а шести других уездах. Дворяне, имеющие менее 20 душ, «недалеко (по словам г. Соловьева) ушли от тех, которые вовсе не имеют крестьян», и он полагает (стр. 110), что из них до 1 500 человек также сами обработывают землю. Напротив, богатые помещики редко живут в поместьях, а большею частью в городах и столицах. Вообще, г. Соловьев полагает, что из помещичьих крестьян 2/з находится под непосредственным управлением самих владельцев, а остальная треть находится в заведывании бурмистров из крепостных людей или наемных управляющих. Впрочем, наемные управляющие находятся в очень немногих имениях — по всей губернии их не более 20. Оброчных крестьян в Смоленской губернии немного; |ср5дня§_величина оброка — 20 pf сер., причем крестьяне обязаны еще некоторым количеством рабочих дней. В самом значительнейшем числе имений крестьяне состоят на барщине, которую отправляют с 18–20 до 60 лет.
Земли, принадлежащие селению, государственные крестьяне делят между собою по числу ревижских душ в каждой семье, и передел земель производится вообще от ревизии до ревизии. В помещичьих имениях земля раздается по числу тягловых душ, и переделы (впрочем, частные, по возможности, не касающиеся других тягол) бывают с каждою прибылью или убылью тягловых душ в семье. Выгоны и леса состоят в общем пользовании. Государственные селения, замежеванные в одной даче, также при ревизии переделиваются угодьями. Так из 2 083 селений пои 9-ой ревизии более 500 переделяли свои земли.
Сборы с государственных крестьян Смоленской губернии, до переложения подушных окладов в поземельные, были: подушная подать — 95 коп., оброчная — 2 р. 58 коп., на содержание управления государственных имуществ — 583/4 коп., земские повинности— 4074 коп. и на капитал продовольствия — 6 коп., — всего 4 р. 58 коп. с ревижской души. С переложением этих различных сборов на один поземельный налог, средняя сумма, причитающаяся на ревижскую душу, составляет 4 р. 67 коп. сер. Кроме того, стоимость различных повинностей, отправляемых натурою, составляет, средним числом, 99 коп. на душу, так что сумма в^ех окладов и повинностей с казенных крестьян мржет бытьсчнтаемд в Смоленской губернии средним числомjв 5 р. 66 копТра душу.
Помещичьи крестьяне в Смоленской губернии платят, по вычислению г. Соловьева, с ревижской дѵши казенных податей 1 Р. 53 коп.9 и отправляют натурою казенных повинностей по стоимости на деньги не менее 81 коп., всего казенных податей и повинностей — 2 р. 34 коп. с души. Ценность работ, которые должно каждое тягло отправлять на барщину, г. Соловьев полагает не менее, как в 21 р. сер., и, считая на 100 ревижских душ 50 тягол, мы получим, что в Смоленской губернии помещичьи крестьяне платят деньгами или исправляют натурою повинностей
казенных и господских на сумму 12 р. 84 коп., или, круглым числом, 13 р. сер. на каждую ревижскую душу.
После этого г. Соловьев посредством расчетов, основанных на многочисленных показаниях поселян и дополненных осмотрительными и точными соображениями всех условий, старается определить средние расходы крестьянского семейства, состоящего из восьми душ, — двух малолетних, четырех взрослых и двух престарелых; в числе взрослых он полагает двух работников и двух работниц. Он основательно делает оговорку, что совершенной точности в этом расчете достичь ныне еще невозможно. Тем не менее, надобно сказать, что расчет его должен быть очень близок к истине.
Расходы семейства из 2 малолетних, 2 стариков, 2 работниц и 2 работников: Великорусского Бслору и кого Пища. 83 р. 85 коп. 75 р. 32 коп. Одежда…. 60 „ 42 „ Ремонт строений……..Отопление и освещение (дрова и 6 „58 5 „6 лучина)…………Ремонт посуды, земледельческих 10 „50 6 „50 орудий и проч…… 7 „8 „ 5 „ Церковные требы. 1 „50 „ 1 „50 „ Всего 169 р. 51 коп. Всего 135 р. 37 коп.10.В великорусских семьях расходы на содержание вообще несколько значительнее, нежели в белорусских, потому что бело-руссы сокращают расходы на пищу и одежду до пределов, которых еще отвращается великорусе. Например, вместо чистого ржаного хлеба, белорусе постоянно употребляет так называемый. «пушной хлеб», т. е. смешанный с мякиною. Потому для великорусской и белорусской половины смоленского населения г. Соловьев дает различные сметы расходов. Мы здесь можем при-весть только результаты:
То есть, кроме денег на уплату повинностей и податей, крестьянская семья из 8 человек должна в Смоленской губернии наработать в год для себя массу ценностей — великорусская в 170 руб. сер., белорусская в 135 руб. 50 коп., чтобы ее положение не сделалось к концу года хуже, нежели было в начале. Г. Соловьев не делает параллельного расчета относительно средней величины всех крестьянских заработок, предоставляя читателям своей книги судить по собранным у него фактам, возможно ли, чтобы расходы, им выведенные, покрывались доходами, получаемыми в благоприятные годы.
Сумма недоимок, лежащих на государственных крестьянах Смоленской губернии, составляет более нежели двойное количество годичного оклада этих податей, именно, средним числом 10 р. 41 коп. на ревижскую душу. В том числе несколько более половины должно быть считаемо последствием 1812 года, другая половина, несколько менее, прибавилась в течение последних 16 лет. Пропорционально, сумма недоимок, лежащая на помещичьих крестьянах, несколько значительнее, равняясь двум с половиною годовым окладам казенных податей и составляя 3 р. 50 коп. на ревижскую душу. Последняя сумма, впрочем, еще незначительна сравнительно с массою других долгов, лежащих на помещичьих имениях, — суммы этих долгов г. Соловьев, впрочем, не берется определить по недостатку точных сведений. Сравнением пропорций недоимок по уездам автор показывает, что чем именья мелкопоместнее, тем более лежит на них недоимок.
Крестьяне берут деньги взаймы или покупают хлеб и скот с рассрочкою платежа, на одинаково тяжелых условиях, у прасолов или домашних ростовщиков. Для отвращения этого зла, при пяти волостных правлениях Смоленской губернии основаны «вспомогательные кассы» или сельские банки для государственных крестьян. Четыре из них имели капитал по 994 р. сер., а пятая — вдвое менее, так что общая сумма капиталов всех пяти касс — 4 473 р. сер. В течение 7 лет эти кассы выдали 867 ссуд на общую сумму 18 589 р. 22 коп.
Изложив расходы крестьян, автор переходит к доходам, из которых главному — земледелию, посвящает отдельную главу. Общий взгляд г. Соловьева на состояние сельского хозяйства в Смоленской губернии так основателен, что мы позволяем себе сделать небольшую выписку:
Общая система хозяйства — обыкновенная трехпольная. В здешней губернии, где так мало лугов, при истощенных и дурного качества землях, неудобства настоящей системы представляются очевидно в частых неурожаях. Но существует много почти непреодолимых препятствий к замене этой системы другими, с посевами кормовых трав. Улучшения крестьянского хозяйства, по общему мнению, встречают препятствие в способе пользования землями по душам или тяглам. Но если крестьяне могут делить свои земля по душам в трех клннах, то какие могут быть затруднения к подобному разделу в четырех или более клннах! Конечно, для этого нужны решительные меры, с неизбежной, без всякого сомнения, весьма трудной борьбой с народными предрассудками. Помещичье хозяйство вполне зависит от крестьянского. Нет сомнения, что помещичьи земли можно разделить на сколько угодно полей; но обработка их все-таки будет производиться крестьянскими орудиями н на крестьянских лошадях. Посему, прн улучшении системы хозяйства, необходимы; улучшение земледельческих орудий, лучшие породы рабочих лошадей и вообще большее развитие скотоводства. Следовательно, нужны капиталы. Капиталы явились бы и частные, н со стороны правительства, если бы можно было надеяться, что они принесут такие проценты, какие доставляют другие отрасли промышленности. При дешевизне хлеба в сравнении с стоимостью возделывания и при настоящем хозяйственном быте, на это никак нельзя надеяться. Вот почему, если в Смоленской губернии и встречаются улучшенные системы хозяйства, то это скорее — или благое намерение без желаемых результатов, или прихоть помещика. Коммерческих расчетов тут нет. В самом деле подобные улучвіения обыкновенно касаются самого небольшого количества из общего пространства возделываемых земель в известном хозяйстве, так что главная часть доходов получается от земель, обработывае-ных по трехпольному хозяйству. Там же, где введены улучшенные способы хозяйства в большем размере, на это потрачено много денег, которые далеко не приносят обыкновенных процентов. Почти в каждом уезде можно найти одно, два или несколько помещичьих имений, в которых введено многопольное хозяйство. Эти слабые попытки выйти из затруднительного положения, в котором находится Смоленская губерния, конечно, мало имеют влияния на общее благосостояние. Горько, но нельзя не сказать, что от этих улучшений помещичьего хозяйства иногда страдают крестьяне, которые с их тощими лошадьми и дурными сохами с трудом поднимают землю после клевера п.
Количество содержимого скота нимало несоразмерно пространству удобряемых земель; пропорционально, у государственных крестьян оно несколько значительнее, нежели в помещичьих имениях, считая в последних и господский скот. Вообще, скота в три с половиною раза менее, нежели нужно для достаточного удобрения, — именно, менее, нежели две головы крупного скота на десятину, между тем как нужно, по крайней мере, 6 голов; при истощенных Землях, средний доход с десятины озимого поля (рожь) 10–15 р. сер., ярового (овес, ячмень, греча) — 7— 11 р., всего с десятины в трех полях — 17–26 р. сер. І2. Средним числом, государственные крестьяне имеют 2,5 десятины пахотной земли на ревижскую душу, помещичьи обработывают на себя по 2,4 десятины:іа душу. Рассчитав расходы семейства из восьми душ, в том числе 4 мужеского пола, можем легко сосчитать средний доход того же семейства от хлебопашества; именно, при 4 ре-вижских душах семейство казенных крестьян имеет запашки 10 десятин, по ЗѴз в поле, и получает с них хлеба на 56–87 р. сер., а семья помещичьих — 9 десятин, или по 3 в поле, и получает хлеба на 51–78 руб.; при этом надобно помнить, что земли первых удобряются лучше, и потому доход скорее склоняется к высшему из крайних чисел, а у последних, наоборот, к низшему 13.
По сравнению засева и среднего урожая различных пород хлеба и количества их, нужных для продовольствия жителей, г. Соловьев находит, что при среднем урожае Смоленская губерния может отпускать на продажу: около 180 000 четвертей ячменя, около 105 000 четвертей гречи и 745 000 четвертей овса; но должна прикупить из других губерний около 315 000 четвертей ржи м. При этом автор думает, что урожаи приняты им выше средних, а продовольствие сокращено до крайнего предела, и потому в действительности на продажу остается менее, а недостаток ржи бывает значительнее, нежели он принял для избежания всяких упреков в уменьшении урожая и преувеличении количества, нужного для потребления. Но и при высоких цифрах среднего урожая, принятых г. Соловьевым, очевидно, что Смоленская губерния не в состоянии прокормить своего населения без ржи из других губерний. Что касается других отраслей сельского хозяйства, доходы с садоводства и пчеловодства незначительны; коно-плянники доставляют около миллиона рублей серебром. Что касается лесов, в некоторых уездах они почти не имеют цены (десятина строевого леса отдается на сруб за 3 р. сер.), между тем как другие уезды той же губернии терпят большой недостаток не только в строевом лесе, но и в топливе, хотя расстояние между этими местностями, страдающими одни от излишка, другие — от скудости, не превышает 200 верст. Причиною этого различия в ценах — недостаток путей сообщения. Из лесных уездов сплавляется в другие губернии леса на 500 000 р. сер. Относительно скотоводства автор замечает, что и лошади и коровы малы ростом, тощи и изнурены. О лошадях он замечает: «при таком содержании, на каком находятся здесь крестьянские лошади, нельзя ожидать улучшения породы посредством хороших случных жеребцов». Должно заметить также, что число лошадей по различным уездам вовсе не пропорционально количеству сенокосов, которое позволяло бы держать гораздо более лошадей. То же следует из фактов, относящихся к числу и качеству рогатого скота. Попытки улучшения породы остаются безуспешными, по скудному содержанию скота. Он держится почти только для навоза, потому что почти нет сбыта для молока.
Фабрики и заводы в Смоленской губернии малочисленны и незначительна: среднее годовое производство всех их нельзя оценить выше, как 1 миллион рублей |5. Поселянам эти фабрики и заводы не приносят почти никаких выгод, потому что все почти работы на них исправляются барщиною.
Торговля, также очень незначительная, состоит в том, что Смоленская губерния дешево сбывает свои сырые произведения (овес, ячмень, гречу, пеньку, кожи) и дорого покупает все предметы, служащие к удобству жизни среднему и высшему классам ее жителей, — классам, как мы видели, весьма немногочисленным. Крестьянин большую часть вещей, в которых встречается ему надобность, должен, по недостатку наличных денег, брать в кредит у прасолов, которые потом берут у него в уплату хлеб, пеньку и проч., с учетом тяжелых процентов, с обманом в мере и по слишком дешевой цене. Главные средоточия отпускной торговли — Бельская и Поречьская пристани и города Ржев и Зубцов. Из них Бельская отпускала сырых произведений — в 1817 г. более нежели на 19 миллионов р. ассигн., в 1818 г. более нежели на ЮУ2 миллионов р. ассигн., ныне отпускается на 4 миллиона р. сер.; Поречьская — на 2 миллиона р. сер., Ржев и Зубцов отправляют вместе с другими соседними пристанями на 6 миллионов р. сер. Подвоз хлеба, пеньки и проч. к этим пристаням занимает довольно большое число крестьян в свободное от хлебопашества время. Цены за провоз так невыгодны для них, что едва покрывают издержки на содержание лошади, а часто и не покрывают их; но тем не менее крестьянин занимается извозом, чтобы получать хотя некоторое подспорье в прокормлении лошади зимою, — он считает выгодою уже и то, что хотя часть издержек на зимний норм ее доставляется платою за извоз. Работы на шоссе и проводимой ныне железной дороге занимает также довольно значи-тельное число рук. Интересно вникнуть в расчеты этих рабочих с подрядчиками. В контрактах всегда означаются довольно многочисленные случаи вычета — из них главные: 1) за болезнь — проболевший более трех дней подвергается вычету за харчи и медикаменты, кроме вычета платы по расчету числа дней; 2) за прогул вычитается 2Ѵ2 раза дневная выручка; за дни ненастной погоды, когда работы не производятся, также делается вычет |6. Ни один работник, как бы прилежен он ни был, не избавится от того или другого вычета и не получит полной договорной суммы. Г. Соловьев имел случай рассматривать расчеты подрядчика с артелью, состоявшею из 132 человек; полная договорная сумма была 29 р. сер., но только 13 работников получили по 27 р. сер., с вычетом 2 р. сер. из полной платы, — остальным по расчету пришлось еще менее, и 61 человек получили менее 18 р., некоторые не более 11 или даже 10 р. сер. из условных 29. Полной договорной платы, без вычетов, не пришлось получить ни одному. Вообще же, вместе 3 828 р. сер., которые должна была получить артель (по 29 р. на 132 человека), пришлось ей получить только 2 598 р., остальные 1 230 р., т. е. треть договорной суммы, были удерж; ны в виде вычетов различного рода. Все промыслы, мелкие и крупные, — извоз, земляные работы, фабрики, заводы и проч. и проч. — дают некоторое приращение к доходу от земледелия только одной пятой части сельского населения; средства для жизни у остальных четырех гАітьіх частей населения ограничены одним земледелием.
Мы извлекли, быть может, только сотую долю многочисленных фактов быта поселян Смоленской губернии, — фактов, излагаемых в книге г. Соловьева с полнотою и основательностью, которая должна назваться решительно образцовою; мы привели только немногие из его заключений, высказываемых у него не всегда с одинаковою решительностью, но всегда дельных и истинно-благонамеренных; но даже и по этим скудным извлечениям читатели, конечно, видят, что книга г. Соловьева, будучи самым полным статистическим трактатом из всех описаний отдельных частей России, в то же время должна быть названа одним из важнейших сочинений по исследованию русского сельско-хозяйственного быта вообще. Мы едва ли ошибемся, если скажем, что после сочинения г. Тенгоборского «О производительных силах России» еще не выходило у нас по части статистики книг, которые могли бы значением своим равняться прекрасному труду г. Соловьева |7.
Полное собрание сочинений русских авторов. Сочинения Василия Львовича Пушкина и Д. В. Веневитинова. Издание А. Смирдина. Спб. 1855.
Издание г. Смирдина довольно часто соединяло в одном томе имена, принадлежащие различным эпохам и направлениям; так.
например, в товарищи Хемницеру дало оно не Дмитриева, как бы следовало сделать, а Кантемира; Нелединского-Мелецкого соединило не с Мерзляковым, а с Дельвигом, и т. д. Но никогда еще сочетание не было так странно, как в настоящем случае. Между Нелединским и Дельвигом, писателями разных школ, можно найти что-нибудь общее — оба они известны своими русскими песнями; можно найти хотя отдаленное соотношение между насмешкою Кантемира и Хемницера; но каким образом было возникнуть мысли соединить В. Л. Пушкина, посредственного стихотворца, отсталого подражателя Дмитриеву, с Веневитиновым, энергическим юношею, талант и ум которого опередили и эпоху и самые лета его? 1
Хотя стихотворные издания В. Л. Пушкина вообще не заслуживают внимания, в истории литературы останутся два или три отрывка из его полемических посланий против партии Шишкова, — если только история литературы будет заниматься теми бурями в стакане воды, которые до сих пор кажутся важными феноменами некоторым нашим литературным Эренбергам.
Быть может, скажут: смешно толковать о языке, когда он уже обработан для литературы; но совершенно другое значение имеют вопросы о нем, когда он еще только обработываегся, — тогда вопросы о словах и фразах действительно важны — совершенная правда, только надобно прибавить, что неважное место в истории литературы занимают и периоДы литературы, в которые обязанность литературного дела состояла в образовании литературного языка. Времена Опица, Логенштейна и Готшеда не слишком интересны в немецкой литературе. И чтобы опереться на авторитет, припомним слова Пушкина (разумеется, племянника, а не дяди) о французской поэзии: «Малерб ныне забыт подобно Ронсару. Сии два таланта истощили силы свои в борении с механизмом языка, в усовершенствовании стиха. Такова участь, ожидающая писателей, которые пекутся более о наружных формах слова, нежели о мысли, истинной жизни его, не зависящей от употребления»; — кажется, к этому естественно можно прибавить: «и такова же участь периодов литературы, в течение которых вопросы о языке казались и писателям и читателям самыми важными и краеугольными».
Впрочем, само собою разумеется, что как бы чуждо ни было высшим человеческим интересам существенное и главное содержание какого-нибудь человеческого дела, но некоторая частица этих интересов проникает и в него, потому что человек никогда не перестает быть существом мыслящим, — даже и во младенчестве он уже обнаруживает некоторые признаки чего-то похожего ^на мысль, любовь к истине, на заботы о своем благе, на любовь к своим ближким. Так и во время Опипа и Готшеда немецкая литература заключала в себе нечто, кроме заботы о словах, и Малерб с Ронсаром писали не совершенно пустые фразы.
Дело только в том, какой элемент преобладал, — стремление ли к выражению высших человеческих интересов или забота' о словах.
И те споры, в которых принимал участие В. А. Пушкин, под вопросами о словах скрывали некоторые следы — с одной стороны, вражды, с другой — симпатии к высшим интересам, например, к просвещению. Потому мы, — которые смотрели бы на обе партии с одинакою холодностью, если бы под словами не таилась мысль, слабая, робкая, неясная, но все-таки мысль, — сочувствуем одной стороне, находим полезным и справедливым, что другая сторона была побеждена в этой борьбе. Правда, сочувствие наше должно быть соразмерно степени участия мысли в споре приверженцев Шишкова с школою Карамзина, а это участие было слабо. Правда и то, что споры эти вовсе не составляли такого сильного движения в тогдашней литературе, как думали в последнее время, — схватки если и были иногда горячи, то походили на борьбу Горациев с Куриациями или на ту войну, которую могла бы вести армия княжества Книпгауэенского, состоящая из 23 человек, против армии княжества Лихтенштейнского, состоящей из 19 человек, — Бородинской битвы такие войска не дадут и походы их не наделают много шума в публике. Но, как бы то ни было, все-таки борьба карамзинской школы с шишковскою принадлежит к числу интереснейших движений в нашей литературе начала нынешнего века; все-таки справедливость была на стороне партии Карамзина, — и В. Л. Пушкиным, одним из ревностных приверженцев карамэинского направления, были сделаны две или три счастливые вылазки в стан противников, — вылазки, если и не имевшие влияния на ход борьбы — В. Л. Пушкин не был авторитетом даже в то блаженное время, когда авторитетам не было числа, — то, по крайней мере, заслужившие благосклонную улыбку в его литературных патронах и наделавшие досады врагам. Один из этих отрывков, вероятно, знакомый большей части наших читателей, мы относим в примечание 27. Другой, который оыл цитуем не столь часто, помещаем здесь — это ответ на злонамеренные толки, возбужденные отрывком, который привели мы в выноске:
«Кто тщится жизнь свою наукам посвящать, Раскольников Славян дерзает уличать,
Кто пишет правильно, и не варяжским слогом, — Не любит русских тот, и виновать пред богом». Поверь, слова невежд пустой кимвала звук;
Они безумствуют, — сияет свет наук.
В предубеждениях нет святости ни мало,
Они мертвяг наш ум и варварства начало. Ученым быть не грех, но грех во тьме ходить. Невежда может ли отечество любить?
Не тот к стране родной усердие питает,
Кто хвалит все свое, чужое презирает,
Кто слезы льет о том, что мы не в бородах,
И бедный мыслями, печется о словах.—
Но тот, кто, следуя похвальному внушенью, Чтит дарования, стремится к просвещенью; Кто, сограждан любя, желает славы их.
Кто чужд и зависти, и предрассудков злых. Квириты гордые полсветом обладали.
Но общежитию ил греки обучали,
И славный Цицерон, оратбр-гражданин.
Сражая Берреса, вступаясь за Мурену,
Был велеречием обязан Демосфену.
Так: сын отечества науками гордится,
Во мраке утопать невежества стыдится,
Не проповедует расколов никаких,
И в старине для нас не видит дней благих,
Хвалу я воздаю счастливейшей судьбине,
О мой любезный друг, что я родился ныне,
Свободно я могу и мыслить ч дышать,
И даже абие н аще не писать.
В сужденьях таковых не вижу я вины:
За что ж мы на костер с тобой осуждены?
За то, что мы, любя словесность и иаѵки,
Не век над букЕарем твердили ая и буки.
За то, что смеем мы учение хвалить.
Нашествие татар не чтим мы веком славы.
Мы правду говорим, — и следственно неправы.
(Послание к Дашкову.)
Для определения отношений нынешнего состояния нашей литературы к ее положению за эпоху, предшествовавшую появлению А. G. Пушкина, интересно было бы заметить, какие- именно из выписанных нами стихов потеряли свой современный интерес и какие, напротив, сохранили его.
В. Л. Пушкин был одним из тех людей, которые под спором
о словах видели борьбу за просвещение, и в этом смысле стихи, нами выписанные, принадлежат к числу лучших остатков деятельности Арзамасского Общества. Только они, да еще послание к членам Арзамасского Общества, в котором он упрекает их за неумеренные шутки над его стихами, да еще эпиграмма о пятнадцатилетием стихотворце, пославшем две оды на Парнас, и могут назваться удачными его произведениями, если не считать некоторых шутливых стихотворений, остающихся до сих пор в памяти любителей пьес подобного содержания. Прочие его стихотворения чрезвычайно слабы и по содержанию — почти всегда бесцветному, и по форме, чуждой поэтических достоинств. Они едва ли заслуживают хотя малейшее внимание.
Но личность В. Пушкина и отношения, в которых держались к нему его литературные приятели, довольно важны для людей, которые захотели бы представить точную, чуждую реторических прикрас картину стремлений и литературных нравов того кружка, который играл главную роль в нашей словесности до начала Пушкинской эпохи. Несколько анекдотов об этих забавах можно найти в «Мелочах» г. Дмитриева 3. Спора нет, В. А. Пушкин был человек без поэтического таланта; но разве нет ныне людей, лишенных дарования и одаренных страстью к стихотворству, — однако же никогда более даровитые приятели не позволят себе, да и не захотят потешаться над ними подобным образом, потому что это и противоречило бы нашим понятиям о достоинстве литератора, да и скучно показалось бы ныне заниматься придумыванием этих проделок. Но тогда были другие времена: старики, отжившие свой век, смотрели на литературу, как на препровождение времени, требующее важности и солидности, — старики на все смотрят довольно угрюмо; и притом же они привыкли в поте лица трудиться над возвышенными одами, изгоняющими всякую мысль об удовольствии. А для молодого поколения литературные занятия были просто забавою, которой одни предавались по влечению, другие — и большая часть — просто «по легкомыслию молодости»; о высоком общественном значении литературы думали очень немногие; да из тех, в ком было некоторое сознание об этом, почти ни в ком не достигало оно сильного развития. (Конечно, мы говорим исключительно о так называемой легкой литературе; между учеными были всегда люди другого закала, хотя не всегда было их много.) Потому-то понятия — литература, игрушка, потеха, перемешивались очень легко. Конечно, чтобы сделать такой отзыв или согласиться с ним, надобно понимать литературу, как одну из важнейших стихий в жизни обществ, не как игру в фанты, шарады и мадригалы, надобно смотреть на историю литературы, как на одну из важнейших частей общей истории народа. Не для всех еще возможно и ныне становиться на такую точку зрения, хотя мы уже имеем Гоголя и многочисленных писателей, продолжающих в том же смысле действовать на развитие. Действительно, чтобы мысль была ясна для всех, нужно, чтобы близкие факты были ясным ее выражением, а о своей литературе мы еще не можем сказать, чтобы ее влияния на публику невозможно было не замечать, — оно существует, и уже довольно значительно, но еще не так огромно, чтобы быть поразительным для всех. Это потому, что, с одной стороны, люди читающие еще составляют меньшинство в нашем обществе, с другой стороны, и потому, что если — отделка художественной формы достигла уже у нас значительного совершенства, то содержание нашей литературы не проникло еще до глубины существеннейших сторон общественной жизни, — каждый раз когда писатель, повидимому, имеющий достаточно и сил и охоты, чтобы изобразить их во всей полноте, приступает к этому делу, им как бы овладевает какая-то робость, и он отступает назад, уклоняется в сторону, только слегка коснувшись своей задушевной идеи, но не исчерпав всей глубины ее.
Как бы то ни было, факт несомненный, что художественная форма явилась у нас (мы говорим о литературе, начинающейся с Ломоносова) — раньше, нежели содержание, и существенный характер исторического движения литературы с эпохи Пушкина состоит в том, что содержание ее мало-помалу становилось все глубже и живее. Но движение это было до последнего времени гораздо сильнее в прозаическом отделе изящной словесности, нежели в собственно так называемой поэзии. Лермонтов не успел сделать и сам столько, сколько сделал Гоголь, да и новейшие поэты сделали гораздо менее, нежели прозаики.
А между тем проникновение литературы глубоким содержанием началось было именно с поэзии. Мы не можем знать, продолжал ли бы свою поэтическую деятельность Грибоедов или она уже была оставлена им для дипломации. Но, к сожалению, мы слишком хорошо можем знать, что ранняя смерть отняла у нас в Веневитинове поэта, которого содержание было бы глубоко и оригинально. Здесь мы останавливаемся, потому что имеем намерение представить читателям «Современника» о Веневитинове особую статью 4.
Иконы господских праздников, или о том, как надобно писать образа великих праздников церковных, относящихся к жизни воплотившегося сына божия. Спб. /855.
Книжка, очень дельно составленная и, без сомнения, необходимая для наших иконописцев. Составитель ее, г. К. Мансветов, хотел дать руководство, в котором художник, намеревающийся писать икону, мог бы найти все нужные сведения о местности, в которой по преданиям православной церкви происходило событие, изображаемое на иконе, о летах, внешнем виде, одежде и т. д.
священных лиц, принимавших участие в этом событии, поле и действиях их в этом событии и т. д. Мысль очень полезная, и г. Мансветов добросовестно собрал из церковных книг все сведения, нужные для ее исполнения. На первый раз он издал описания местности, лиц и действия для восьми икон великих праздников из жизни спасителя. Желаем, чтобы продолжение его труда было так же хорошо, как и начало.
Материалы к учению об огнестрельных ранах, собранные в походах 1848, 1849 и 1850 годов доктором Гаральдом Шульцом. Перевел с немецкого А. Кашин. Спб. 1855.
Сочинение Шульца принадлежит к лучшим по своей части. Автор служил доктором при прусском отряде, сражавшемся против датчан, и хотя число случаев, подлежавших его наблюдению, не было многочисленно, по незначительности битв, по он старался вознаградить недостаток материалов для наблюдений внимательным их изучением и извлек из своей необширной практики все, что только было в ней нового или поучительного. Нет сомнения, что изданием его сочинения в русском переводе оказывается услуга нашим военным врачам.
Археологические и нумизматические отрывки. П. Савельева. Книжка 1-я. Спб. 1855.
Ученый автор книжки, заглавие которой мы выписали, не почел нужным приложить к ней предисловия для объяснения цели и объема предпринимаемого им нового издания. Сколько можем судить по содержанию первой книжки, оно будет заключать в себе небольшие и чисто специальные монографии, служащие вообще дополнением к разным спискам восточных монет и к различным описаниям мухаммеданских древностей. Так, в первой книжке мы находим описание нескольких не бывших еще изданными сас-санидских диргемов и пяти динаров (золотых монет) той же династии. Динары саманидов очень редки; до сих пор было известно в нумизматических кабинетах целой Европы только восемь экземпляров этих монет; потому описание пяти новых экземпляров, недавно приобретенных императорским Эрмитажем и г. министром уделов графом Перовским, составляет значительное дополнение к нашим знаниям об этом классе монет. Затем следуют прибавления к спискам восточных монет Тизенгаузена и к списку мест, где были найдены клады с восточными монетами в России. Вторая статейка описывает нынешние монеты мухаммеданской Азии, именно монеты Турецкой империи, Персии и Британской Индии. Третья и четвертая статьи содержат рисунки и описания монгольских старинных вещей, найденных (1853 г.) в Забайкальской области, и древностей, найденных за Кавказом. Последние г. Савельев относит к VIII–IX векам, не соглашаясь с мнением г. Ханыкова, который называет их скифскими.
Права и обязанности домовла дельде в, управляющих домами, и жильцов в С.-Петербурге, Москве и других городах. Руководство, рассмотренное II Отделением собственной его императорского величества канцелярии. С.-Петербург. 1855.
Заглавие этой книги достаточно объясняет ее пользу для домовладельцев. Постановления правительства, которыми они должны руководствоваться, собраны издателем из «Свода законов» и его «Продолжений» внимательно и расположены в порядке, облегчающем справки. К этим законам прибавлены извлечения из распоряжений с. — петербургской полиции, относящихся к тому же предмету, — видно, что автор преимущественно назначал свое «руководство» для жителей Петербурга. Домовладельцы в провинциальных великороссийских городах также будут удовлетворены его книгою; но для Москвы и городов в пограничных провинциях сборник его будет не совершенно достаточен, потому что особенные распоряжения местных полицейских управлений в этих городах, значительно различествующие от общих правил, не внесены в его книгу — неполнота, извиняемая тем, что сборники этих местных постановлений можно составить только в самых городах, к которым они относятся.,
<ИЗ № 12 «СОВРЕМЕННИКА»>
О значении практики в системе современного юридического образования. Д. Мейера. Казань. 1855.
Г. Мейер, заслуживший столь лестную известность, как один из лучших наших профессоров правоведения, развивает в брошюре, заглавие которой мы выписали, мысль о необходимости соединения в университетском преподавании тесіретических лекций с практическими упражнениями в производстве и решении дел. Справедливость этой мысли несомненна, и нельзя не прибавить, что ученый и опытный автор излагает ее прекрасно '.
Цель университетского преподавания у нас состоит не столько в том, чтобы образовать так называемых «дельцов», — их мы имеем довольно, и притом они могут приобретать необходимую ловкость и опытность не иначе, как долговременными служебными или адвокатскими занятиями, — сколько в том, чтобы в молодых людях, намеревающихся посвятить себя службе, поселить возвышенные и непоколебимые убеждения о святости, ненарушимости права, развить в них широкий взгляд на основные, неприкоско-венные начала права, из которых должны вытекать все бесчисленные частные законодательные постановления, составляющие только приложение основных начал права к данным историческим обстоятельствам народной жизни. Вся ученая и педагогическая деятельность г. Мейера- ручается за то, что он именно так смотрит на вопрос; если не ошибаемся, это самое воззрение лежит в основе и последней его брошюры Но с тем вместе необходимо, чтобы юридическое образование не ограничивалось одною чисто теоретическою стороною, хотя она и должна считаться коренным элементом его; необходимо, чтобы юноша, получивший верные и высокие понятия о праве, приобрел некоторую привычку прилагать их к практике, и приобрел под руководством тех же самых людей, которым обязан своим теоретическим развитием, — предоставленный единственно собственным, еще неопытным силам, он, быть может, не сумел бы заметить отношения данных частных фактов к принципам права, и в таком случае близко был бы к тому, чтобы отвергать тесную связь практических случаев с теоретическими началами, совершенно отвергнуть теорию, как нечто бесполезное для практики, и таким образом потерять все, что приобрел от теоретического образования, — эту мысль развивает г. Мейер в своей брошюре. С тем вместе, справедливо продолжает он, дать некоторую практическую опытность юноше, получающему теоретическое образование, необходимо и для того, чтоб он не явился в среду дельцов и практиков незнакомый с техническими приемами, которые исключительно у них уважаются, — только это знание доставит ему неоспоримое основание требовать от них уважения к себе и своим познаниям. Вместе с доказательствами необходимости ввести практический элемент в университетское преподавание права, г. Мейер излагает метод и различные способы практических занятий профессора с студентами. Не говоря о других, более или менее ясных для каждого видах этих занятий, как-то: юридическом разборе различных дел профессором с кафедры, каждым студентом в отдельности, примерном производстве и решении, с распределением различных ролей между студентами и проч., обратим внимание читателей только на предлагаемую г. Мейером «юридическую клинику» — род занятий, без сомнения, могущий принести самые прекрасные плоды:
Звание юриста, — говорит г Мейер, — как и звание врача — практическое. Для практического образования врачей учебным заведениям вверяются тысячи больных, на которых студенты учатся применять запас теоретических сведений; сторонние ведомства, сочувствуя просвещенным усилиям к образованию искусных врачей, открывают учащимся свои больницы.
Насколько допускается участие питомца врачебной науки в действительном пользовании больных, настолько, по крайней мере, может быть допущено и участие студента прав, с ними уже ознакомленного, к приложению их подготовленного, в производстве суда действительного или в делах, более или менее его касающихся. В этом занятии молодой человек постигает всю важность юридического образования, усматривает на деле, какое значение имеют «интересы, к обережению которых, его призывает жизнь; чутье жизни шевелит страсть, которая с первого разу, когда еще не поздно, получает благородное направление. Самый упрек в неопытности, в котором так часто скрывается софизм, уже не в состоянии будет безусловно обезоружить молодого юриста, и потому будет высказываем с большею осторожностью и разборчивостью.
Устройство этой клиники весьма простое: бедные люди, нуждающиеся в советах и помощи по каким-либо касающимся их в присутственных местах делам, обращаются по усмотрению своему к заведывающему практикою, в присутствии его учеников сообщают подлежащий случай, который н подвергается обсуждению, результатом чего должно быть какое-либо одобряемое наставником указание (профессор Сандунов дозволял студентам присутствовать при происходивших у него на дому юридических консультациях); по желанию советующегося, тут же может быть для него сочинена нужная бумага. Если дело таково, что интересент станет являться неоднократно, то оно может быть поручено одному из практикантов, так что на попечение каждого из них может достаться по одному делу или по нескольку, под руководством, разумеется, и ответственностью наставника. Понятно, что успех такой консультации обусловливается единственно доверием, которое она внушает основательностью н практичностью советов, и потому ее развитие будет служить залогом ее пользы.
Памятная книжка императорского Александровского Лицея на 1855–1856 год. Спб. 1855.
Кроме отчетов о состоянии Александровского (бывшего Царскосельского) Лицея за прошедший год и правил, которыми должны руководствоваться лица, желающие поместить сыновей или родственников в это учебное заведение, «Памятная книжка» заключает списки начальников, преподавателей и воспитанников Лицея с его основания до настоящего времени и большую статью — «Торговые пути древних греков по Черному морю», написанную г. П. Сабуровым, воспитанником Лицея, кончившим курс в 1855 году с первою золотою медалью.
Учебный курс È Лицее продолжается четыре года, и в этот краткий период времени воспитанники должны изучать, кроме всех предметов, входящих в состав гимназического курса: закона божия, математики, физики, зоологии, ботаники, русского, славянского, немецкого и французского языков, истории, географии, некоторых частей положительного законоведения, черчения и рисования, еще психологию, логику, практическую механику, химию, английский язык, сельское хозяйство, статистику, политическую экономию, энциклопедию права, римское право, финансовое право, историю права и гражданскую архитектуру. Всего, кроме _14.предметов гимназического курса, еще 13 других наук.
Сообразно этому значительному колйчествУгГреподаваемых предметов, число часов, проводимых воспитанниками Лицея в классах, также очень значительно — оно простирается до 8'/г часов в день.
В течение прошедшего академического года число воспитанников Лицея было 120. Из них умерло 7, уволено для поступле-'ния в военную службу 8 и окончило курс 20 человек. Удостоено перевода из низших в следующие классы 81, оставлен по неуспешности на второй год в том же классе только один воспитанник.
Между списками воспитанников Лицея, как известно, особенно интересен список первого выпуска (1817 г.), потому что он заключает в себе имя Пушкина. В числе его товарищей по Лицею были: князь А. М. Горчаков, ныне полномочный министр при венском дворе; С. Г. Ломоносов, ныне полномочный министр в Гаге; барон М. А. Корф, ныне член государственного совета и директор императорской Публичной библиотеки.
Приложенное к отчетам Лицея исследование о торговых путях древних греков по Черному морю, составленное воспитанником последнего выпуска г. Сабуровым, показывает в молодом авторе человека с трудолюбием и основательными познаниями.
Цыганенок. Повесть для детей. П. М. Шпилевского. Спб.
1855.
В основании повести г. Шпилевского лежит мысль добрая и справедливая; некоторые страницы рассказа показывают уменье говорить с детьми, — и книжку, нами прочитанную, можно было бы назвать хорошею детскою книжкою, если бы сантиментальность и неправдоподобие многих подробностей не вредили ее достоинству. Дело в том, что сын небогатого помещика, мальчик лет двенадцати, встречается с другим мальчиком, несчастным цыга-ненком-сиротою, которого в таборе бранят и бьют все, хотя этот мальчик, выученный различным фокусам, кормит табор своими представлениями. Барченку жаль бедного цыганенка, в котором он видит мальчика доброго и умного; он упрашивает своего отца выручить маленького Мартина из несчастного положения; отец соглашается, и Мартин принят в дом своего маленького покровителя, делается товарищем его игр, учится у него читать и всей душою привязывается к барченку. Это было в каникулы; когда каникулы кончились, барченок отправляется в гимназию, Мартин остается в доме его отца и через несколько времени начинает так сильно тосковать о своем приятеле и благодетеле, что решается бежать из деревни в город, где учится барченок, сбивается с дороги, два дня бродит по лесу без пищи; наконец, найден и возвращен в деревню, — но от простуды и голода опасно занемогает; больной, он получает от своего друга письмо, наполненное упреками: один из товарищей по гимназии сказал маленькому его покровителю, что Мартин убежал в лес, увлекшись цыганскою привычкою воровать, и гимназист поверил этому. Огорченный упреками его, Мартин занемогает еще труднее, и гимназист, разубежденный в своих несправедливых подозрениях письмом отца, приезжает в деревню, чтобы утешить и поддержать дух своего приемыша, — но уже поздно: бедный Мар-
тин умирает, осыпая выражениями признательности и любви своего маленького друга, который теперь вдвое сильнее прежнего понимает, какую беду наделало его опрометчивее письмо. Читатели видят, что цель повести — внушить сочувствие к бедным, бесприютным, показав, что эти люди за ласку и ^ободрение платят безграничною привязанностью и при малейшей возможности становятся людьми добрыми; с тем вместе показать, как осторожен каждый должен быть в подозрениях. Жаль, что многие сцены рассказа, развивающего эти здравые мысли,'испорчены излишнею сантиментальностью и что автор сделал его не совсем правдоподобным, заставив помещика не только дать приют цыганенку, но и ухаживать за ним, будто за знатным приемышем. Если г. Шпи-левский намерен продолжать издавать повести для детей, то мы советовали бы ему обращать более внимания на простоту языка и естественность в развитии сюжета, — тогда его повести будут лучше изданной теперь, которою мы только наполовину довольны.
О быте крестьян в Казанской губернии. Казань. 18555
Аксентий Иванович Поприщин в одном месте своих любопытных «Записок» 2 замечает, по случаю присланного в «Северную Пчелу» описания какого-то бала в городе Курске, что «курские помещики хорошо пишут». Автор настоящей брошюры — житель Казани, решился затмить столь почетную известность курских помещиков и, по выражению Сумарокова, «принести честь своей родине», описав быт крестьян Казанской губернии таким игривым слогом, которому позавидуют корреспонденты наших газет, описывающие великолепие губернских балов. Тема у автора, повидимому, очень солидная, — повидимому, она дает возможность только передать читателям дельные сведения, но никак не представляет случаев блеснуть остроумием, — но посмотрите, какими бриллиантами умел ученый автор украсить свой сухой предмет. Он описывает татар и, вдоволь пошутив по случаю того, что на французском языке называются они les tartars, будто бы нахлынули на Европу из тартара, продолжает:
Голова крещеного и некрещеного татарина, по совершенно излишнему в здешнем климате подражанию юго-восточным народам, или, говоря словами Грибоедова, «рассудку вопреки, неперекор стихиям», непременно выбрита. Вообще, татары народ развязный и красивый. Увы! я не могу сказать того же о татарках!.. Конечно, я не разделяю мнения тех этнографов, которые, подобно г. Фуксу, утверждают, будто они от природы неуклюжи, будто лица у них калмыковатые с резко выдавшимися скулами. Но уж и я, снисходительнейший из людей, совершенно согласен, что они неповоротливы от сидячей жизни. Посудите сами: богатые татарки с наслаждением предаются кейфу, расслабляющему силы телесные и душевные! Здесь уже не может быть и речи о телесной ловкости и развязности. Они либо не знают, либо забыли, что первообразцам их, арабским красавицам, говорят как обыкновенный комплимент: «уста твои пунцовы, как геннах, зубы твои белы, как слоновая кость!»
В небольшой брошюрке, украшенной такими любезными цветами иронии, дельные замечания или сухие факты, по необходимости, заняли место второстепенное, — их почти нет.
О значении и постепенном учреждении сельско-хозяйственных обществ в России. С. Пахмана. Казань. 1855.
Нет надобности говорить о важном значении обществ сельского хозяйства для успехов народного благосостояния после того, как важность и польза атих учреждений столь ясно выражена милостивым высочайшим указом от 14 марта 1855 года, — указом, который был одним из первых правительственных действий ныне благополучно царствующего монарха, и обнародованными вместе с этим указом всемилостивейшими рескриптами двум старейшим и главнейшим нашим экономическим обществам. Вот текст этих замечательных актов:
Высочайший указ г. министру государственных имуществ.
«Считая сельское хозяйство одним из главных источников народного благосостояния и зная, что существующие в империи сельско-хозяйственные общества служат правительству полезным и важным по сей части орудием, повелеваю:
1) Императорскому Вольному Экономическому Обществу и императорскому Московскому Обществу Сельского Хозяйства доставить прилагаемые при сем рескрипты, коими я подтверждаю дарованные им моими августейшими предшественниками права.
2) Лифляндскому Экономическому Обществу, как одному из старейших по учреждению и постоянно, по засвидетельствованию Вашему, трудящемуся с пользою и успехом, разрешить именоваться императорским.
3) Императорскому Обществу Сельского Хозяйства Южной России, императорскому Казанскому Экономическому Обществу, Гольдингенскому, Курляндскому, Эстляндскому, Ярославскому, Лебедянскому, Юговосточному, Калужскому, Кавказскому и Юрьевскому Обществам Сельского Хозяйства, а также вспомогательным Лифляндскому Экономическому Обществам: Перново-Феллинскому, Аренсбургскому и Венден-Кольмар-Валкскому, объявить, что труды их и усердие не будут оставлены мною без внимания, и что я всегда готов споспешествовать их полезной деятельности.
Рескрипты.
I. Господа члены императорского Вольного Экономического Общества! В постоянной моей готовности покровительствовать всем учреждениям, имеющим целию улучшение разных отраслей народного хозяйства, мне приятно выразить вам то одобрение, которое Вольное Экономическое Общество заслужило своими долголетними и полезными трудами. — Подтверждая все права и преимущества, дарованные сему Обществу моими августейшими предшественниками, и предоставляя ему выдавать попрежнему медали, установленные высокою его основательницею, императрицею Екатериною II, я остаюсь в полном уповании, что Общество будет продолжать действовать на пользу любезной нам России, и успехи его не оставлю без внимания.
II. Господа члены императорского Московского Общества Сельского Хозяйства! Удовольствием считаю удостоверить вас, что я вполне ценю постоянные труды ваши по развитию и улучшению сельского хозяйства в разных странах любезного отечества нашего, и всегда готов покровительствовать полезную деятельность вашу. Подтверждая все права и преимущества, дарованные Московскому Обществу императором Александром Благословенным и незабвенным родителем моим, я остаюсь в полной надежде, что Общество успехами своими оправдает мои ожидания».
Столь милостивое ободрение монарха должно придать новую силу деятельности наших экономических обществ, новая эпоха жизни должна начаться для них. В такое время полный и основательный обзор предшествующей деятельности и настоящего состояния их, составленный г. Пахманом, является как нельзя более кстати.
Первое из сельско-хозяйственных русских обществ, — Вольное Экономическое, было основано в 1765 г., в Петербурге — оно, по времени учреждения, было восьмым в ряду подобных учреждений в Европе. В 1792 г. было основано Лифляндское, в 1808 г. — Эстляндское, в 1819 г. — Московское, в 1824 г. — Белорусское общество. В настоящее время г. Пахман насчитывает в России 21 общество сельского хозяйства и, кроме того, 28 сельско-хозяйственных компаний, деятельность которых, имея прямою целью получение денежных сыгод, в то же время содействует успехам различных отраслей сельского хозяйства.
Ложь и действительность восточной войны. Сочинение Виктора Жоли. Перевод С. Р. Спб.]855.
Брошюрка эта, составленная из статей, которые первоначально печатались в газете «Санчо», слишком поздно, по нашему мнению, явилась в русском переводе. Последняя из помещенных в ней статеек относится к 7 января нынешнего года, — следовательно, брошюрка трактует о «делах дазно минувших дней», о периоде войны, который уже совершенно потерял интерес для настоящей минуты. Явись она полгода назад — она была бы прочитана с жадностью, а теперь какое кому дело до старых предположений о ходе событий, уже давно совершившихся? Кому теперь любопытно знать, храбро ли будет сражаться принц Наполеон или герцог Кембриджский, когда оба они уже давно воротились во-свояси? Кому любопытны суждения о стратегических способностях Сент-Арно, когда не только Сент-Арно давно успел умереть, но и преемник его, Канробер, уже давно отстранен от команды над экспедиционною армиею? Кому нужны доказательства, что французы ошибутся, рассчитывая встретить в русских воинах слабых противников, когда уже целый год все французские генералы и газеты отдают справедливость стойкому мужеству наших героев?
Если бы брошюрка Жоли была переведена ранее, мы почли бы нужным говорить о ней подробно; теперь же довольно будет ограничиться несколькими словами. Жоли ненавидит англичан и Луи-Наполеона и осуждает их действия. Но за что ненавидит, за что осуждает — этого не видно из его статей, по крайней мере, в том виде, как они являются в этой брошюре. Года три-четыре тому назад он был ревностным республиканцем, — не знаем, оставил ли он свои прежние убеждения, но в брошюрке нет доказательств, чтоб они изменились. Чем он недоволен, — тем ли, что французы начали войну против России, или только тем, что война ведется не Ледрю-Ролленом, а Луи-Наполеоном? Чего он желал бы, — того ли, чтобы война была прекращена, или только того, чтоб она велась со стороны французов иначе, умнее, энергичнее и еще жесточе? Хотел ли бы он, чтоб французская армия никогда не переступала границ родины, или того, чтоб она не плыла на врага в союзе с англичанами, а шла сухим путем по наполеоновскому маршруту, — этого ничего не высказывается в брошюре. Ясно только, повторяем, что Жоли осуждает Луи-Наполеона и англичан. Но опять: за что он не любит англичан? За то ли, что они аристократы? или за то, что у них больше купцов, нежели солдат? или просто за то, что они держали Наполеона на острове св. Елены? — это опять остается в совершенном тумане. Видно из всего, что у Жоли есть какие-то затаенные мысли, которых он не высказывает, чтоб не повредить успеху своей брошюры. Само собою разумеется, нам очень мало пользы отгадывать, что держит у себя на уме г. Жоли, но дело в том, что от этих умолчаний его брошюра не производит на читателя определенного впечатления.
Переведенная у нас брошюра о Крымской экспедиции гораздо яснее и удовлетворительнее. Не говорим уже о том, что автор «Крымской экспедиции» — кто бы он ни был, принц Наполеон или один из его адъютантов, или Эмиль де Жирарден, — разоблачает много тайн, а Жоли не знает ничего такого, кроме того, что напечатано в газетах и уже всем нам давно известно гораздо лучше и полнее, нежели изложено в его брошюре.
Но одного достоинства нельзя отнять у его статей: они написаны бойким пером, и в этом отношении оправдывают старинную известность автора, как хорошего оратора и публициста.
Руководство к всеобщей истории. Сочинение Ф. Лоренца.
Часть III. Отделение 2. Издание второе. Спб. 1855.
Достоинства книги г. Лоренца единогласно признаны всеми. Мало того, чтобы сказать: «это лучший учебник всеобщей истории на русском языке», — других хороших учебников всеобщей истории у нас нет, и ставить сочинение г. Лоренца выше других русских руководств — похвала еще слишком нерешительная. Но и в немецкой литературе, очень богатой прекрасными учебниками всеобщей истории, сочинение г. Лоренца считается одним из лучших. Автор — человек, которого по справедливости надобно назвать ученым; он самостоятельно изучал историю, особенно древнюю, по источникам; со всеми лучшими специальными сочинениями по всеобщей истории он знаком, как нельзя лучше. Он выказал в своем «Руководстве» замечательный педагогический талант: рассказ его сжат, но связен и полон; не обременен излишними, мелочными подробностями, избытком хронологических цифр и собственных имен, — недостаток, которым почти всегда страждут учебники истории, — но содержит множество фактов и все важные факты излагает с обстоятельность^), необходимою для того, чтоб дать о них живое понятие, — качество, которого также напрасно будем искать в других наших учебниках. Наконец г. Лоренц необыкновенно выгодно отличается от других тем, что понимает — и справедливо понимает — значение исторических событий, имеет взгляд, — и взгляд основательный.
Странно, что при таких высоких достоинствах, при таком неизмеримом превосходстве над другими нашими «руководствами» по всеобщей истории, учебник г. Лоренца мало распространен, что только немногие преподаватели истории избирают для своего преподавания эту книгу. Если не ошибаемся, главными затруднениями в этом случае преподавателям представляются цена книги и объем ее. Что касается первого затруднения, оно действительно важно — полное сочинение г. Лоренца (пять частей) стоит 11 р. серебром, то есть вдвое дороже других учебников, и нам кажется, что издатель поступает нерасчетливо, продавая книгу так дорого — выгоднее было бы для него продать. 10000 по 4 рубля, нежели 2 000 экземпляров по 11 р. Впрочем, если бы дело останавливалось только за ценою, оно скоро уладилось бы: издатель понял бы, что его собственная выгода требует понижения цены, если с этим соединен всеобщий запрос на книгу. Вероятно, он продает книгу дорого только потому, что не видит ей слишком большого сбыта даже при низкой цене. Итак, дело останавливается только объемом сочинения, приводящим в смущение многих преподавателей.
Но пугаясь того, что руководство г. Лоренца в полтора или даже в два раза более по числу страниц, нежели другие руководства, преподаватели, как нам кажется, недостаточно принимают в
соображение, что время, потребное для изучения книги, зависят не столько от ее объема, сколько от содержания. Страница какой-нибудь хронологической таблицы или бессвязного перечня собственных имен отнимает у ученика более времени, нежели двадцать страниц логически развивающегося рассказа, передающего события в живых картинах, не обременного десятками ненужных имен. Советуем гг. преподавателям всеобщей истории обратить на это серьезное внимание. Притом же от их усмотрения зависит выпустить из своих уроков подробности, которые кажутся им слишком длинными, — и сам г. Лоренц уже облегчил это, различив мелким шрифтом подробнейшие рассказы от общего очерка событий.
ПРИЛОЖЕНИЯ О БРИГАДИРЕ Ф0НВИЗИНА
1-Я РЕДАКЦИЯ
Из того, что было написано о Фонвизине, под руками у меня были, когда я писал эту статью, сочинение о Фонвизине князя Вяземского и статья, помещенная о Фонвизине в 8 и 9 нумерах Отечественных Записок 1847 года (написанная, вероятно, Майковым) 2.
И тому и другому сочинению я много обязан. Книга Вяземского важна тем, что проясняет жизнь и личность Фонвизина; но я мало мог пользоваться ею прямым образом, потому что хотел разобрать не личность Фонвизина и не отношение его к его веку, а только одно из его произведений, да и то с чисто-литературной стороны. Статья, помещенная в Отечественных Записках, разделяется на две половины: в первой (№ 8) автор рассматривает, как он говорит, «светлую сторону века Екатерины II в умственном и нравственном отношении», рассматривает движение, сообщенное обществу Екатерининского века примером императрицы и отчасти другими благоприятными обстоятельствами. Это до меня не относится, потому не распространяюсь о том, что в его взглядах справедливо, что односторонно. Во второй половине статьи (в № 9) автор рассматривает комедии Фонвизина, главным образом, в том отношении, до какой степени удовлетворяют они требованиям художественности — здесь Он говорит большею частию очень справедливо и особенно хорошо доказывает, что их никак нельзя назвать в строгом смысле комедиями, потому что они не имеют органического единства (к тому же результату приходит и князь Вяземский, который говорит, что «Фонвизин не был драматн-ком, не был даже и комиком», стр. 204–205, — мнение, с которым должно вполне согласиться). Чрезвычайная слабость комедий Фонвизина в художественном отношении хорошо доказана им в этой половине его статьи, и его выводам едва ли кто захочет противоречить. Потому я не много говорю о художественной стороне Бригадира, позволяя себе распространяться только о тех вещах, относительно которых имею мнение, отличное от мнений той литературной школы, к которой принадлежит автор статьи Отечественных Записок. Я стараюсь обращать свое внимание более на естественность, нежели на художественность: вопрос о естественности произведения также очень важен, а между тем о том, в какой степени произведения Фонвизина удовлетворяют требованиям естественности, писано довольно мало.
Я оставляю без внимания язык Фонвизина, потому что все, что можно сказать о нем вообще, давно уже сказано и признано всеми (то, что это живой язык тех классов тогдашнего общества, которые выводятся Фонвизиным, и т. д.). А для того, чтобы проследить в подробностях отношение языка Фонвизина к языку его предшественников и современников, нужно было бы иметь в руках несравненно больше материалов, нежели сколько мог иметь их я.
О влиянии Фонвизина на общество я не говорю ничего, потому что если Фонвизин его и имел, то слишком мало. Нужно, впрочем, согласиться в том, что называть влиянием на общество какого-нибудь литературного произведения: если то, что при появлении нового произведения поговорят о нем, похвалят или осудят автора, то Фонвизин имел его, и имел особенно Бригадиром; он сам говорит в своей Исповеди, как много при дворе говорили о его Бригадире, как друг перед другом наперерыв приглашали вельможи его читать свою комедию — но, кажется, этого еще нельзя назвать влиянием на общество. Оно бывает только тогда, если идеи, лежащие в основании произведения, входят в живое прикосновение с действительною (умственною, нравственною или практическою, это все равно, но непременно с действительною) жизнью общества, так что, прочитавши это произведение, общество станет чувствовать себя ие совсем таким, как прежде, почувствует, что его взгляд на вещи прояснился или изменился, почувствует, что дан толчок его умственной или нравственной жизни3. Такого влияния на общество русская литература при Екатерине не имела. Оиа была забавою, способом препровождения времени, больше ничем: писали из подражания французам или немцам (оды Ломоносова); читали — высшие классы потому, что нельзя же было оставить без всякого внимания эти подражания, когда так увлекались оригиналами; читали также из подражания императрице; читали по моде французских вельмож меценатствовать, а не потому, чтобы находили в русских повестях и стихах что-нибудь новое, что-нибудь интересное — все, что там было, давно уже знали они из французских книг. В среднем классе читали тогда еще чрезвычайно немногие, и эти немногие начали читать еще так недавно, что почти никто из них еще не успел понять, зачем собственно читает он, и что значит то, что он читает; впечатление на этих немногих читателей из среднего класса от прочитанных ими романов, драм н т. д. было для них так непривычно, так мало были приготовлены к нему, что оно оставалось совершенно неопределенным — прочитавши перевод какой-нибудь повести, чувствовали, что в ней есть что-то, ио что именно? — это изо ста читателей едва ли понимал один. Почему же читал средний класс, если не понимал? Читал потому, что умеющий читать человек не может не прочесть книги, если ему делать нечего, а книга есть под руками; читал отчасти и из подражания знатным. Таким образом результат от чтения был только один — приучались к повестям, драмам; уже только следующие поколения, знакомые с малолетства с подобными книгами и, до некоторой степени, с образованностью, которая произвела их, стали читать их, понимая, что в них писано. Так литература была для общества забавой или чем-то непонятным, которое читали, сами не зная зачем. Мне кажется, что настоящего влияния на жизнь нашего общества не имел и Державин, не имел даже довольно долго и Жуковский. История Карамзина была едва ли не первою, писанною по-русски, книгою, которая имела серьезное влияние на наше общество — из иее русские узнали свое прошедшее, и следствия этого знакомства глубоко отразились в их взгляде на себя, в их жизни и стремлениях. До тех пор влияние русских книг простиралось только на книги же — когда принимались писать, писали подражания Ломоносову, Державину, писали в духе Жуковского, тем дело и кончалось. Фонвизин и этого влияния не имел — он не нашел себе в нашей литературе последователей. Что он не имел влияния на жизнь нашего общества, может быть покажется с первого взгляда несправедливым; но пусть поищут следов его влияния — их нет нигде. Спешу подтвердить свои слова словами киязя Вяземского: «Фонвизин один из немногих, которые выражали себя в своих сочинениях; главные творения его носят следы его личности и его эпохи, но… в обществе не дознался я отголоска Фонвизина и в самом историческом Фонвизин* отыскал мало отголосков общества. Например, комедии его ие картина нравов в обществе, ему предстоящем: он жил в столице, а описывал провинцию… Сходство их (лиц им изображенных) отвлеченное, без живого применения к лицам, перед которым* они были выведены… Настоящие Простаковы в глуши губерний и деревень, вероятно, и не знали, что двор смеется над ними, глядя на их изображения. Вероятно, были Недоросли и Бригадиры и в числе зрителей комических картин Фонвизина, но комик колол не их глаза» (стр. 18–20). Правда и то, что йотом (стр. 209) князь Вяземский говорит противное, приписывая комедиям Фонвизина то, что у нас исчезли Недоросли и т. д. — да, во-первых, Недорослей и теперь, через 80 лет, много еще найдется; во-вторых, как могли они исчезнуть от комедий Фонвизина, когда ни они, ни окружавшие их люди не читали книг?
Вещь общеизвестная, что форма комедий Фонвизина — мольеровская, целиком перенесенная им в его Недоросля и Бригадира; я старался объяснить происхождение этой формы, такой противухудожественной и противуестествен-ной. Но оригинально ли содержание комедий у Фонвизина? Обыкновенно отвечают, что совершенно оригинально. Я сильно сомневаюсь в этом, но пока должен ограничиться одними сомнениями, потому что не могу доказать заимствований в содержании, не имея под руками собрания французских комедий мольеровской школы. А не сомневаться в оригинальности всего в комедиях Фонвизина нельзя, потому что князь Вяземский доказал, что у Фонвизина многие лица и многие мысли, кажется родившиеся из самой глубины души Фонвизина, заняты из французских книг. Ведь кажется, что устами Стародума говорит сам Фонвизин, и именно Фонвизин, русский Екатеринина века, так хорош и верен, повидимому, местный колорит во взглядах Стародума; а между тем князь Вяземский нашел, что Стародум составлен весь из выписок у Лабрюера и Ларошфуко (стр. 137); точно так же и Нельстецов, повидимому такой же «оригинальный» мыслитель, говорит выписками из «Мои мысли» Лабомеля. Что, кажется, принадлежит личности Фонвизина больше его писем к Панину из Франции? А князь Вяземский опять-таки говорит, что все порядочные остроты и анекдоты там выписаны из Дюкло Considérations sui les moeurs de ce siede (кн. Вяз., стр. 138 и 135). Поневоле станешь сомневаться и в оригинальности остального. Скажут: «Советник — список с Тартюфа или одного из его потомков, Bit) правда; но остальные комические лица у Фонвизина чисто русские и нравы чисто русские». В этих приговорах о народности нравов и лиц надобно быть очень осторожным; наружность часто бывает обманчива: я уверен, что многие переделанные с французского водевили покажутся очень верными списками с чисто-русских нравов всякому, кто не знает того, как пишутся у нас водевили. И как не показаться нм чисторусскими? в них все чисто-русское: и толстые купцы, которые пьют чай десятками стаканов и поглаживают рукою по брюху, и дочки их, которые хотят выйти замуж непременно за офицеров, и мало ли чего «чисто-русского»? Я думаю, что внимательное сличение лиц и разговоров у Фонвизина с тогдашними французскими комедиями покажет, что и комические лица и сцены заняты Фонвизиным у других точно так же, как заняты лица и мысли Стародума и Нельстецова. Но справедливость требует сказать, что заимствований из Мольера (кроме лица Советника) я не нашел у Фонвизина. 4
Находят дурным то, что в Бригадире «нет единства». Не знаю, что именно понимает под «единством» князь Вяземский; автор статьи Отечественных Записок понимает под «отсутствием единства» в Бригадире то, что в нем «нет главного лица, нет и господствующей идеи». Действительно, нам теперь кажется, будто бы главного лица в Бригадире нет, будто бы все лица (за исключением приставных Добролюбова и Софьи) играют одинаково важную роль. Но что же за беда, если бив самом деле не быХо главного лица? Неужели непременное, необходимое условие художественности произведения то, чтобы в нем одно лицо было главным? Мы часто слышим такие суждения: «Этот роман нехорош, потому что в нем вместо одного главного лица — два главных лица: интерес между ними раздваивается, и не знаешь, иа котором сосредоточить внимание — одно мешает другому, одно заслоняет другое». Нет, такие требования несправедливы; необходимо требовать от художественного произведения единства идея, а то, должно ли быть в произведении одно
главное лицо, или должно их быть несколько, дело, решаемое не теориею, а характером идеи и концепциею известного произведения: еслй идея такого свойства и так развилась в сознании вашем, что воплощается в характере, действиях и отношениях одного лица, разумеется одно лицо н должно стать главным в вашем произведении; а если идея такого рода или так развилась в вашем сознании, что для воплощения ее нужно вам несколько лнц (особенно часто бывает вто, когда основная идея произведения не изображение характеров, а изображение жизни известного класса, или, еще более, известной исторической эпохи), то как же не явится в сознании вашем несколько равно важных, равно необходимых лиц? И можно быть вперед уверену, что интерес вашего произведения вовсе не будет от этого ни ослаблен, ни раздроблен, если только вы строго сохраните единство основной идеи. Не должно, например, в Борисе Годунове Пушкина считать недостатком того, что там два главных лица — Борис и Дмитрий Самозванец: с появлением Самозванца вы не забываете о Борисе, напротив, тут-то именно всего более и начинаете вы интересоваться нм. В большей части романов Вальтер-Скотга (во всех, кажется) по нескольку главных лиц, равно важных по своему внутреннему значению и по своей необходимости для идеи романа, если не для интриги. Кто, например, в Айвенго главное лицо и по своему интересу для читателей и по своему внутреннему значению? Айвенго? А разве не так же важны, как он, или не важнее его Ребекка, Ричард Львиное-сердце, Робин-Гуд? Кажется, они делают впечатление гораздо глужбе того, какое делает сам Айвенго, и несравненно больше интересуют читателя, нежели этот довольно бесцветный рыцарь, который сам получает занимательность почти только от своих отношений к Ребекке. '
Таким образом если бы в Бригадире и не было единства главного лица, большого греха тут не было бы. Но Фонвизину самому показалось бы вто непростительным преступлением против законов изящного (как можно было тогда обойтись без единства лица?) и он не мог сделать этого. И действительно, он этого не сделал. Если нам кажется, будто бы в Бригадире нет главного лица, нам кажется так потому только, что и основной идеею этого произведения кажется нам не та идея, которую положил в основание его Фонвизин. Мы думаем, что он хотел представить нам в Бригадире картину быта и понятий известного класса людей в его время (вроде того, как Гоголь представляет картину быта известного класса в каком-нибудь своем произведении): если так, действительно все лица в Бригадире равно важны для достижения этой цели. Но внимательнее вникнувши в ход действия Бригадира, рассмотрев со вниманием другие произведения Фонвизина (напр. Выбор гувернера, Разговор у княгини Халдиной, письмо Дурыкина и ответ Стародума, и т. д., самого Недоросля с Митрофанушкой, Вральманом и рассуждениями Стародума, даже Исповедь Фонвизина), сообразивши все, что известно нам о мнениях Фонвизина, мы придем к заключению, что в Бригадире хотел он развить и доказать свои мысли о нелепости и вреде тогдашней французомании, о нелепости и пагубности тогдашней системы воспитания у знатных и тянувшихся вслед за знатными, системы, заключавшейся в препоручении детей французским гувернерам и имевшей, по мнению Фонвизина, следствием то, что из воспитанников выходили полуобразованные дураки, набитые французскими фразами и другим французским вздором, выходили такие люди, которые, по мнению Фонвизина, были хуже даже своих совершенно необразованных родителей. Эта мысль везде у него высказывается; она была, повидимому, средоточием умственной и нравственной жизни Фонвизина. Больше всего убеждают нас в том, до какой степени дурно и вредно казалось ему все французское и как глубоко проникнут он был этим взглядом, его «Письма из путешествия». Для человека, подобным образом судившего о французах, о их жизни и понятиях, конечно не могло быть ничего прискорбнее того, что наше молодое поколение вырастало под этим «в высшей степени пагубным» влиянием.,
Я считаю основной идеею Бригадира протест против уважения, пристрастия общества Екатерининского века к тогдашней французской образованности.
Если согласиться с этим мнением, то будет ясно, что по плану самого Фонвизина главным лицом Бригадира должен быть Иван, сын Бригадира; после него интерес сосредоточивался на лице Советницы. Таким образом выполнялось требование тогдашней теории: «главным героем художественного произведения должно быть непременно одно лицо; но для «занимательности» подле него должно стоять другое лицо, другого пола: между этими двумя главными лицами должна быть любовная интрига».
Но и Советница и, еще более, сам герой Иванушка вышли у Фонвизина от излишнего старания сделать их как можно «смешнее», такими мертвыми неестественными, плохими карикатурами, что потеряли не только всякое худо жественное значение, а даже и сходство с теми, кого должны были изображать; Фонвизин их натянул до такой степени, что они совершенно не достигают цели, которой хотел он через них достичь. Потому, не имея совершенно никакого внутреннего смысла, совершенно никакого внешнего приложения к тому, чтб было на самом деле в обществе, Иван и Советница заставляют читателя не обращать на них никакого внимания; делаясь для него нулями, нисколько не нужными и нисколько не занимательными, они заставляют его не замечать и той идеи, которая должна была высказаться через них. А между тем лица, которые по плану Фонвизина должны были быть второстепенными, до известной степени удались, и потому, делаясь несколько интересными, сосредоточивают на себе все внимание читателя, выставляются перед ним на первом плане, и произведение кажется имеющим не тот смысл, который хотел придать ему автор. А удались эти лица именно потому, что для Фонвизина были они второстепенными, и что потому не обращал он слишком большого внимания на их «отделку», т. е. утрировку, пересаливание — это их иногда спасало, и они часто являются не в обезображенном с намерением, «для смеха» виде.
Что же осталось в Бригадире после погибели для читателя двух главных лиц и основной идеи этой комедии? Остались лица Советника, Бригадира и Бригадирши; осталась еще интрига — тройное волокитство, во-первых Советника за Бригадиршей, во-вторых Бригадира за Советницей, в-третьих Ивана и Советницы друг за другом. Рассмотрим эти лица и эту интригу. (О взаимной любви Добролюбова и Софьи не буду я говорить, точно так же как не буду говорить и о них самих — эти лица давно уже оценены по достоинству и в самом деле по всем правам следует им любить друг друга — они так достойны один другого. Можно только заметить, что они даже и языком говорят таким же нелепым и нескладно-жеманным, как сами, между тем как все другие лица Фонвизина Говорят почти везде превосходным языком, который в большей части мест не потерял еще и теперь своего эстетического достоинства, а историческую свою ценность сохранит навсегда).
Прежде всего надобно сказать, что и князь Вяземский и автор статьи Отечественных Записок упрекают Фонвизина за то, что в Бригадире нет действия, нет жизни. Правда, в Бригадире нет действия, если понимать под втим то, что характеры действующих лиц не развиваются во все продолжение хода интриги, что какими показались они в первом явлении, такими и сошли со сцены, не выказав ни одной новой черты, ни одной новой стороны в своих характерах.
Требование: «характеры, выведенные писателем, особенно писателем драматическим, должны непременно развиваться; если они остаются неподвижными, автор виноват и произведение лишено художественного достоинства», — это требование слышишь беспрестанно, беспрестанно слышишь упреки тому или другому произведению за невыполнение его. Но кажется, что такого требования нельзя поставить всегда приложимым законом художественной красоты литературного произведения. Законы художественности не могут противоречить тому, что есть в действительности, не могут состоять в том, чтобы действительность изображалась‘не в своем настоящем виде; как она есть, так и должна она отразиться в художественном произведении. А в действительности мы часто встречаем людей с такой неглубокой натурою, с таким немногосложным характером, что с первого же раза видишь тского человека насквозь и видишь его всего, решительно всего, так что если и двадцать лет проживешь с ним, не увидишь в нем ничего, кроме того, что выказалось в первом же его слове, в первом же его взгляде. Каким же образом такой человек будет развивать перед вами свой характер в художественном произведении, когда в действительности не развивает его? Или художественное произведение должно представлять не всю действительность, а только известную часть ее? вероятно только сцены с кинжалами, выстрелами, разбойниками в красных плащах или только героев, которые ныне ненавидят весь род человеческий, проклинают и беснуются, а завтра бегают по улицам и обнимаются со всеми? Нет, и неподвижные, не развивающиеся характеры могут быть точно такими же поэтическими и интересными, как развивающиеся; — возьмем в пример хоть мистрисс Виккем, доктора Блимбера с семейством и с мистером Фридером, мистрисс Пипчин и т. д. в «Домби» Диккенса, Манилова с супругой, Ноздрева, двух дам — «прекрасную во всех отношениях» н «просто прекрасную» и т. д. в «Мертвых душах» Гоголя — не правда ли, что все это самые художественные, самые живые, самые интересные лица? а разве они не высказались перед вами с первого же раза все сполна? разве развились сколько-нибудь их характеры в продолжение действия? — «Но зато они и не действуют». — Итак, если всегда требовать действия, жизни, то Ноздрев, две ' дамы города NN, Маннлов — неудачные или не поставленные в настоящее положение лица? А если этого нельзя сказать из того, что они не действуют, выйдет только, что известное лицо в художественном произведении может не только не развивать своего характера, но может даже и вовсе не действовать, нисколько не теряя своего художественного достоинства. Но некоторые из них, если я не ошибаюсь, и действуют, нвпр. эти две дамы в Мертвых душах даже двигательницы катастрофы и двигательницы ее по внутренним причинам, а не по внешнему принуждению. — «Но другое дело роман, другое дело драма». — Здесь неуместно было бы настаивать на том, что не совсем «другое дело», что может быть напрасно полагают основным характером драматической формы «сосредоточенную борьбу страстей», «изображение или, лучше сказать, наглядное представление решительных, полных жизни и действия моментов» и т. д. (разумеется, и эти моменты могут служить содержанием драматического произведения, как и всякого другого произведения — эпического, лирического, какого угодно; но разница, сказать; «это содержание может быть в известной форме» и говорить, что «эта форма непременно требует этого содержания, и если вы вложили в нее другое, то вы виноваты»); достаточно сказать, что нельзя найти ни одного драматического произведения, где бы не было нескольких неподвижных характеров, нисколько не мешающих ни «драматизму» произведения, ни «быстроте хода» действия, ни одному из так называемых существенных и отличительных качеств драматического произведения. Не знаю, можно ли сослаться на Шекспира — могут сказать, что у него часто содержание не — вмещается в форму или что он часто вводит эпизоды, «замедляющие действие», как говорят его поклонники quand-mème, то есть, попросту сказать, эпизоды нисколько не вытекающие из идеи произведения — (чтобы подкрепить свои слова, сошлюсь на то, что Гёте считает необходимым переделать Гамлета для сцены — выпустить эпизод о путешествии н при этом несколько лиц и т. д.) °. Но может быть и найдутся такие жаркие поклонники Шекспира, которые не отрекутся принять его некоторые трагедии, напр. Макбета, за образцы драматических произведений; если найдутся, то можно указать им на самого же Макбета, которого обыкновенно и считают — величайшим по драматичности созданием европейской литературы; кроме самого Макбета (характер в самом деле замечательный по тому, как хорошо развивается он — или, лучше сказать, не он, сам он остается неизменным, а его страсть) и, если угодно, леди Макбет (здйсь тоже много сторон в характере, раскрывающихся постепенно), в этой трагедии нет, кажется, ни одного лица, с развивающимся характером; не знаю, может быть слишком смело покажется, если я скажу — нет и характеров. — «Но в том дело, что тут есть все-таки развивающиеся характеры, и в них сосредоточивается интерес драмы, они-то именно и главные лица ее; второстепенные лица могут нс развиваться, если угодно, но главное
непременно должно, и это-то недостаток Бригадира, что там нет ни одного лица развивающегося». — Нет, можно драме и вовсе обойтись без развивающихся лиц; возьмем «Горе от ума» — кажется, его никто не упрекал в недостатке драматизма или интересности; а есть ли там хоть один развивающийся характер? Кто же? Чацкий или Софья? или Молчалин? или Скалозуб? Про одного Фамусова можно — но нет, и про него нельзя — сказать, что в нем есть развитие, хотя почти незаметное. — «Грибоедов нам не указ». — Не знаю, где же вы найдете такую драму, которая была бы вам указом, т. е. подходила бы под ваше требование. Скорее всего можно было бы указать на «Нафана Мудрого» Лессинга, — в нем действительно больше развития характеров, нежели где-нибудь; но, во-первых, вероятно всякий согласится, что, несмотря на это, драматизма в Нафане не чрезвычайно много (он есть, но его там меньше, нежели в Макбете, Фаусте); во-вторых, правда, там удивительно хорошо развиваются под конец характеры Саладдииа и Тамплиэра (когда они узнают, один, что Рая была дочь его брата, другой, что она дочь христианина) и характер Дайи, но главное лицо, Нафан, не развивается и не может развиваться, иначе вся драма погибла бы; о сестре СаЛаддина, Рае, Аль-Гафи нечего и говорить. Наконец, беру Фауста, самое драматическое произведение, по моему мнению, изо всех мне известных и самое безукоризненное по строгой художественности формы (кроме двух сцен, «кухня ведьм» и Walpurgisnacht, которые иным кажутся слишком длинными, особенно первая, нельзя найти там ни одного слова, которое не было бы необходимо и не было бы на своем месте; и как страшно и необходимо развивается перед вами драма!). Там два лица развивающихся: Гретхен (и то больше развивается внешняя обстановка, нежели характер) н сам Фауст (собственно говоря, развивается только его положение и страсти, а характер весь высказался уже в первом монологе); все остальные характеры — совершенно неподвижны: Вагнер — квинт-эссенция неподвижности, Марта — неподвижность, Валентин — неподвижность; Мефистофель — неужели он с первого слова до последнего не одно и то же и говорит и делает? Нечего уже и говорить о второстепенных лицах, как студент, приходящий к Фаусту, подруга Гретхен, лица на загородном гулянье, ведьмы: где и когда и на что раскрывать им многосторонность своего характера, если она есть >в них. А между тем ведь Мефистофель главный двигатель в Фаусте; а между тем Вагнер и Марта принадлежат к числу самых лучших созданий поэзии н ни Вагнера, ни Марты никак нельзя исключать нз Фауста — без них действие невозможно в его настоящем виде.
Нет, дело не в том, чтобы всякий характер, в романе ли, в драме ли, непременно развивался, выказывал в себе в продолжение действия все новые стороны, которых прежде вы не замечали в нем, или, если замечали, то слишком смутно: дело в том, чтобы всякое лицо было живым человеком и, главное, действовало так, как должно действовать по своей натуре, а не так, как заблагорассудится автору. Таким образом, мне кажется, вовсе не должно считать в Бри/адире недостатком того, что действующие лица не развиваются. Но если они не живые люди или действуют против своей натуры, это будет невознаградимым недостатком. Разберем сначала лица.
Бригадир, по справедливому замечанию автора статьи Отечественных Записок, имеет сродство с Тарасом Скотининым у самого же Фонвизина в Недоросле и со Скалозубом у Грибоедова в Горе от ума. Но сродство его со Скотининым не велико; оно ограничивается только тем, что оба они здоровые, грубые мужчинищи, говорить с которыми нужно осторожно, не то шутя «выхватят ребра два» у собеседника. Гораздо больше у него сходства со Скалозубом — оно так велико, что бесполезно распространяться о нем; нужно только сделать оговорку, что Скалозуб вовсе не список с Бригадира и не развитие его: иет сомнения, что Грибоедов и не вспоминал о Бригадире во все время, пока писал Горе от ума. Сходство произошло единственно оттого, что оба характера очень немногосложны и очень верно сняты с натуры, которая представляет нам столько «Бригадиров» н «Скалозубов», что нетрудно комическому писателю напасть На мысль вставить такое лицо в свое произведение. По чрезвычайной несложности своего характера Бригадир, кажется.
близок к общему месту вроде «добродетельный человек», «скупец», «лице» мер» и т. д.; но он живой человек и верный действительности: разве мало людей, весь характер которых только и состоит из одной той черты, которая развита в Бригадире? Нужно различать односторонность характера, происходящую от преобладания внешней привычки (мужик всегда говорит по-мужицки, и за это еще нельзя назвать его общим местом), и то, когда выставляют лицо только для того, чтобы говорить о себе в каждом слове: «я лицемер, я лицемер, смотрите, как я лицемерю». По концепции (которая так проста, что нетрудно с ней справиться) характер Бригадира уступает характеру его жены, но по выполнению он лучший в пьесе и, может быть, лучший у Фонвизина: он нигде не переходит в карикатуру (редкость у Фонвизина), нигде, кроме разве сцены его объяснения с Советницею. Да и здесь его объяснение не карикатура, а скорей общее место, которым до сих пор пользуются не только наши, даже английские писатели (кажется, сам Диккенс иногда не свободен от этого упрека); особенно процветает оно до сих пор у французов. Формула его такая: «солдат везде и всегда должен употреблять образы, картины, сравнения, занятые из военной техники; чиновник — из техники той ветви дел, которою занимается; ремесленник — из техники своего ремесла и т. д.», и одна из выгод этого общего места представляется таким образом: «через это часто можно получать сцены недоразумений, которые довольно (очень, думают писатели этих сцен) интересны и забавны: он говорит не у места и непонятно для того, кому хочет объяснить дело». Что и говорить, человек сродняется с той сферою, в которой долго прожил, и часто (очень часто) слова его носят отпечаток его специального занятия; но заставлять с начала до конца солдата сравнивать все предметы с форте-цией, судью — с тяжбою, истцом и ответчиком — плохая шутка: одна речь не пословица; нужно разбирать, в каком случае как должен говорить человек Мне кажется, что человек, подобный Бригадиру, не стал бы объясняться аллегориями, которые он вообще не должен любить, а тут никогда не вздумает употребить. Аллегории замедляют дело; кроме того, нужно, чтобы человек имел много уменья и привычки хитрить, чтобы вздумалось ему в решительную минуту об аллегориях — не они будут у него на уме, да и время дорого. Бригадир любит делать дело живо и напрямки; «сказал, как есть, была не была»; положенье его затруднительно, а он при своем характере не может извертываться, забегать стороною; да н терпенья у него недостанет. «Пошел напролом, да так да, нет так нет: люблю тебя матушка» — в этом роде должно быть объяснение Бригадира, если уж непременно иадобно вставить в него техническое словцо, а не должно оно растягиваться на две страницы.
Характер Бригадира, кажется мне, выдержан верно в продолжение всей пьесы. Только не совсем натурально, будто бы он мог отдать сына во французский пансион по просьбе жены; никогда не мог он послушаться ее в этом, а отдал его, увлеченный примером других и совершенно против своей воли; по его собственному понятию, следовало бы пораньше записать его в полк; ие жена, а пример других заставил его сделать иначе. Да и Бригадирша, которая выставлена скупою до невозможности, не могла настаивать, чтобы отдать сына во французский пансион, тем более послать его в Париж: это должно слишхом дорого стоить; а выгод от подобного воспитания не может она никаких видеть, потому что не в таких понятиях выросла и состе-релась; она не увлечется ловкостью молодого человека, а скажет разве: «Да чтэ он ломается, бесов сын?» По ее мнению, следует оставить сына дома и кормить его, чтоб не «изнурить» «младенца» — а ведь ученье тоже изнуряет. Вообще Фонвизин не объяснил, каким образом у такого человека, как Бригадир, вышел сын, подобный Ивану, и кажется, что он сделал Ивана его сыном только для того, чтоб дать ему случай к нескольким удачным (и ко многим неудачным) ответам на Ивановы выходки. Как бы то нн было, по исполнению Бригадир лучшее лицо в комедии, живой, и часто натурально действующий человек.
Но если Бригадир живой человек, то Советник, мне кажется, общее место,
распространение на тему: «святоша, лицемер, Тартюф, взяточник». Взяточников и прежде Фонвизина описывал у нас Сумароков и, сколько мне кажется, ничуть не хуже Фонвизина (или Фонвизин не лучше его, как угодно), так что даже и относительной заслуги в новизне нет тут никакой со стороны Фонвизина. А ханжей, да еще влюбленных, с легкой руки. Мольера наплодилось после Тартюфа столько, что и тут Фонвизин только повторял петую тысячи раз песню, которая, пусть простят мне это мнение, н заново-то не была слишком хороша. Нужно, впрочем, отдать ту справедливость Фонвизину, что он не буквально перевел из Тартюфа сцену объяснения в любвн Советника, которая начинается хорошо.
Другое замечательное лицо в Бригадире, приносящее честь Фонвизину — бригадирша. Лицо Бригадирши было бы превосходно, если б Фонвизин по своему обыкновенному пристрастию к неуместным фарсам не заставлял ее часто, слишком часто играть шутовской роли. Но оставим в стороне эти выходки, недостойные таланта Фонвизина, оставим также и ее скупость, не высказывающуюся ни в чем, кроме ее слов, и взваленную на нее тоже без всякой нужды только для того, чтобы «смешнее было», и тогда Бригадирша явится нам в своем настоящем виде: — это простая, до крайности простая и ограниченная, но кроткая и чрезвычайно добрая женщина: жить ей привел бог очень, очень плохо, потому что у мужа слишком «крутой» характер и церемониться с ней он не охотник. Одно нз мест, где она менее обезображена, 2 явление 4 действия (где она плачет и жалуется на мужа Софье и Добролюбову). Но Фонвизин, разумеется, не мог остановиться, где должно, и прилагает всевозможное старание как можно больше и нелепее заставлять ее говорить глупостей, чтоб «смешнее» было, и достигает своей цели так хорошо, что редко на ней остается человеческий образ. К сожалению, писателя романов и повестей до сих пор еще не бросили привычки смотреть свысока на тех простых, нищих духом людей, к которым должна была бы принадлежать Бригадирша, если б Фонвизин утрировкою не сделал из нее чучелы вместо человека: до сих пор не бросили еще привычки обращать этих людей в посмешище, до сих пор еще публика, к стыду своему, читая эти глумления, неуместные и жалкие, потешается вместе с автором над этими лицами. Ведь люди в повестях бывают двух родов: умные — это бывают живыми людьми, хоть слишком часто бывают чересчур умны, и глупые — эти за тем и выводятся, чтоб делать и особенно говорить глупости, а не за тем, чтоб жить, и жаль бывает этого бедного человека, преданного незаслуженному посмеянию; совестно бывает и за автора, который бьет лежачего, и бьет, и трунит, и глумится над своим беззащитным созданием, и глумится почти всегда чрезвычайно пошло, так что роняет сам себя в вашем мнении. Нет, господин «великий» писатель, вы же и «умный» человек, не следует вам смотреть на этих людей с гениально-возвышенной точки остроумия, на которую вы стараетесь взгромоздиться, не следует считать их за паяцов, которые созданы на свет для no’jexH умных людей, то есть нас с вами: и они люди, как мы с вами, и они живут, радуются и скорбят, как мы с вами, и у них есть ум и душа, как у нас с вами, н много, много, может быть больше, нежели в нас с вами, есть в них такого, что заслуживает уважения и полного сочувствия, И поверьте, если уже говорить мысль до конца, что разница между вами, господин «умный» человек, и между ними, между их жизнью и вашей жизнью, даже между их умом и вашим умом вовсе не так велика, как угодно вам предполагать. Посмотрите на Пикквика у Диккенса: не правда ли, что он очень ограниченный человек? А между тем кто может не любить его, кто не станет уважать его, кто бы не посоветовался с ним и не послушался его совета? Нельзя читать без отрадного чувства «Маленькой Фадетты», «Фран-суа-ле-Шампи» 6 и других повестей в этом роде величайшего писателя нашего времени: как отдыхаешь в этой прекрасной, чистой сфере! каждого из этих поселян с удовольствием назвал бы своим другом, без скуки прожил бы годы в их обществе, и не пришло бы, кажется, ни разу в голову, что ты выше их по уму и образованию, хоть бы и в самом деле был много выше их: а между тем не правда ли, что все они (кроме самой Фадетты) люди ограни-
ченные и по большей части очень и очень ограниченные? (Я ие отношу к атому разряду произведений таких пивестей, как гоголева '«Шинель»: их довольно много, они также выводят небогатых умом людей не на посмешище, но выводят их в критические, тяжелые минуты или в бедственных положениях, а я говорю о изображении не трагической стороны их жизни (одни развращенный глупец в состоянии потешаться над страданием), а о изображении в их жизни светлых моментов или не слишком стесненных положений, таких, которые бы вызывали только сочувствие, а не сострадание).
Бригадирша по-настоящему должна была бы принадлежать к таким людям. Но Фонвизин в таком виде не мог изобразить ее: ведь ему нужны были шуточки, паяцы, карикатуры; и Бригадирша только в меиьшей части мест является у него живым лицом: обыкновенно заняты они с своим сынком, «Иванушкою», как она его зовет, возложенною на них автором обязанностью говорить какие-то нескладные нелепицы, которые заставляют стыдиться за неразборчивость вкуса тогдашней публики. Впрочем, и то нужно сказать, что много стыдиться нам за наших предшественников-читателей нечего: мы и сами не слишком разборчивы: чем более нескладно и нелепо лицо, тем смешнее нам оно кажется", и в нашей и даже во французской литературе до сих пор еще основное правило для «создания» комических характеров: «соли, соли, пересаливай; чем солонее, тем вкуснее». Но порадоваться можно тому, что лучшие теперешние юмористические писатели, Гоголь и Диккенс, никогда не впадают в этот недостаток: их можно часто упрекнуть в идеализации положительной стороны жизни,* но в утрировке комических лиц — никогда. У Жорж-Занд не может быть этого недостатка уже и по ее направлению.
Итак: Советник — общее место, занятое у Мольера и других (если угодно, даже у Сумарокова); Бригадир — живой человек, за которого нельзя ие похвалить Фонвизина; Бригадирша в некоторых местах комедии также живая женщина, за концепцию которой нельзя не отдать большой чести Фонвизину; но в большей части мест она выводится какою-то чучелою, которой нельзя назвать даже карикатурой, потому что на карикатуре есть человеческий образ, а Фонвизин и его не оставил на Бригадирше.
Такими же, как она, уродливостями в художественном отношении сделал Фонвизин Ивана и Советницу — или мало сказать, уродливостями в художественном отношении — уродливостями и просто в отношении к здравому человеческому смыслу. А между тем, по справедливому замечанию автора статьи Отечеств. Записок, он дал Советнице такую роль, что часто она действует как умная женщина (напр. когда тотчас догадывается, что если Бригадирша скажет мужу о волокитстве Советника, то расстроятся и их нежные отношения с Иваном, потому что Бригадир рассорится и уедет) и тут же заставляет ее говорить такие вещи, что «становится скучно и стыдно за ум Фонвизина» (слова автора статьи Отеч. Зап.).
Нн о Софье н Добролюбове, ни о взаимной любви их не буду я распространяться, потому что не стоит. Остается рассмотреть остальные волокитства, которые служат завязкою пьесы
Естественно, что Иван, сын Бригадира, и Советница влюблены друг в друга: между ними так много общего, что, встретившись одни среди людей вовсе на них непохожих, не могущих им нисколько сочувствовать, людей, на которых они смотрят как на полу-животных, они необходимо должны были быть очарованы друг другом. Кроме того, вся их жизнь, по Фонвизину, состоит в стремлении быть французами; а французы тогда только и дела делали, что волочились, и романы французские с начала до конца были набиты одним волокитством: — нельзя же было им отстать от своих образцов; оба они только и думали о волокитстве.
Но и князь Вяземский и автор статьи Отечеств. Записок заметили уже, что две остальные страстишки в Бригадире совершенно неестественны: с какой стати Бригадиру влюбиться в Советницу, а Советнику в Бригадиршу? Оба они люди пожилые; один думает о взятках, другой о прежних баталиях, оба думают о своих чинах; а расположения влюбиться в них не может быть никоим образом, вовсе они не такие люди. Но Фонвизину нужно было ваставить их волочиться, потому что других пружин действия не мог он придумать — и он заставил нх волочиться совершенно вопреки характеру и положению их. Конечно, можно было бы удовольствоваться и остальными двумя любовными интригами, совершенно естественными; но Фонвизину показалось тех двух интриг мало. А главное, почему заставил он их волочиться, было то, что, по его мнению, чрезвычайно смешно видеть, как эти почтенные господа, один рубака, другой святоша, будут строить куры и объясняться в любвн: Фонвизин всем жертвовал желанью смешить, не только правдоподобием, которое так сильно страждет от этой двойной любви, но очень часто даже и здравым смыслом.
Откуда произошла эта непременная обязанность комическому писателю смешить и острить во что бы то ни стало, уже прежде меня сказал автор статьи Отечественных Записок — оттуда же, откуда взята и манера выводить утрированные односторонние лица, которым другого названия нельзя дать, кроме названия нелепых общих мест в человеческом образе, лица вроде «скупца», «святоши» и т. д. — все это наследство французской комедии XVII века и знаменитого до сих пор представителя ее Мольера, у которого во всех сочинениях едва ли можно найтн две страницы сряду естественного разговора, до того все натянуто и пересолено, чтоб выходило смешнее н чтобы «резче» выставлялись характеры. Но автор этой статьи не сказал, каким образом явилось в самой французской комедии правило смешить во что бы то ни стало. Постараюсь сказать, как понимаю это.
Французская комедия XVII века произошла из итальянских комических представлений, которые часто импровизировались самими актерами по слегка только набросанному эскизу общего хода комедии (как это бывает и теперь в Италии), часто и вполне писались. У самого Мольера большая часть пьес или подражание итальянским, или просто перевод итальянских; а о предшественниках Мольера во Франции нечего и говорить. К итальянскому элементу присоединилось сильное влияние классической греко-римской комедии, как она дошла до нас в переделках Плавта и Теренция. Но итальянский элемент преобладал.
Что же такое были эти итальянские комические представления? Они произошли опять из двух элементов: простонародных комических представлений, принадлежащих уже самому итальянскому народу (это главный элемент), и подражания (впрочем, довольно слабого) все тем же знаменитым Плавту и Теренцию.
Итальянские простонародные представления, в которых постоянными действующими лицами до енх пор остались несколько типов — паяцов (Арлекин и т. д.), были то же самое, что наши балаганные представления с паяцами. Разница только в том, что наши балаганные представления чужды нашей народности, грубая спекуляция, пошлы и глупы; а итальянские представления об Арлекине — произведение самого народа, и, как все, что производит народ, имеют в Италии значение и смысл, представляют чисто народные нравы, очень часто чрезвычайно живы и остроумны. Но во всяком случае не имеют они никакого притязания на естественность: о ней нечего было им и думать; народ сходился похохотать, а ие «изучать действительность», притязание, от которого не можем оторваться мы, идя в театр. Потому единственная и на своем месте совершенно законная цель их была — потешить народ карикатурами и скандалезно-смешными приключениями. О правдоподобии тут нечего н говорить: когда н в образованном обществе соберутся несколько человек и примутся, чтоб не скучно было, рассказывать смешные истории, ведь никто тут не думает о правдоподобии: напротив, чем ваш рассказ нелепее и смешнее, тем лучше. _
Другой элемент, из которого развилась итальянская комедия и который, кроме этого не прямого, через нее имел на французскую комедию и прямое влияние, это древняя комедия. — Она тоже наводнена фарсёрством, которое в ней уже неизвинительно при ее высоких притязаниях, и нелепейшим остро-
умнем, перед которым бледнеют глупейшие немецкие witz’bi, вицы. В древней комедии этот элемент должен был развиться таким образом:
Аристофанова комедия и вся древняя афинская комедия была чисто политическая комедия на известное лицо и на известный случай (вспомним, что и давалась она один раз). Цель ее, единственная цель ее была — выставить смешную, глупую, вредную сторону этого лица или этой вещи, чтоб уронить их через то в общественном мнении. Она была то же самое, что политические карикатуры в Journal pour rire, Punch и т. п., где не в том дело, чтобы вещь была естественна, чтобы лицо было изображено таким, каким человеческое лицо может быть в действительности, а в том, чтобы представить как можно смешнее, как можно глупее то, что нужно поразить. Потом политика была изгнана из афинской комедии, а творчество между тем иссякло, рутина преобладала; да если бы новые комики были и очень даровитые люди, то Аристофан был не такой человек, от влияния которого можно было бы ускользнуть последующим писателям в его роде: а новые комики не были гении и не им было освободиться от его подавляющей гениальности. И вот они подражали Аристофану во всем, в чем могли подражать. Что же вышло у них? Живой современный интерес комедии пропал; меткость карикатуры, по которой всякий, взглянувши на актера, кричал: «Это СократI» «Это Клеон!» «Это Ламах!» — исчезла, потому что новая комедия должна была отказаться от возможности изображать отдельные лица, как изображала древняя; смелость, которая нужна была для того, чтобы вывести на сцену какого-нибудь Клеона, стала ненужна, исчезло и одушевление автора от этой смелости; патриотизму, проникавшему Аристофана, делать тут было нечего; из всего, что было в древней комедии, новая комедия могла подражать только ее площадности, ее неблагопристойности, ее стремлению представить все в утрированной карикатуре. Так для иее исчезло все содержание аристо-фановой комедии, осталась одна ее форма — она и схватилась с жадностью за ее форму, не разбирая того, годится ли сколько-нибудь эта форма для нее, у которой совсем другие притязания и совсем другое содержание. Хороша же должна была выйти новая комедия!
Но еще лучше стала она у римлян, от которых от одних и дошли до иас комедии после-аристофановские: у греков карикатуры новой комедии, провозглашавшие себя «характерами, верными действительности», были взяты по крайней мере из греческой же жизни; а у римлян и комедия (по крайней мере та, которая дошла до нас), как вся поэтическая сторона их литературы, не имела ровно никакого отношения к их собственной народности, была рабским подражанием тому, что было написано греками. И если греки могли еще интересоваться сколько-нибудь, напоминают ли о своих подлинниках карикатуры, выводимые их новою комедиею под именем гетер, ленонов, старых развратников и т. п., то у римлян конечно и этой заботы не было (живой пример наши водевили, переделываемые с французского: думают ли те люди, которые хохочут иад ними, о сходстве типов и нравов с действительностью или о чем-нибудь подобном?). Греки еще должны были сколько-нибудь думать о содержании; для римлян его уже решительно не существовало. И остались для римлян в комедии одни пошлости, скандалёзности, площадные остроты и фарсы.
Все эти драгоценности перенесли целиком из итальяно-римской комедии во французскую Мольер и его предшественники. Для них в итальянской комедии понятны и занимательны были только ее шуточки, скандалёзности, фарсёрство, а не нравы; в римской комедии, кроме фарсёрства и остроумничанья, и для римлян ничего не было.
Отсюда и по моему мнению это жалкое стремление к пошлому и неуместному остроумию у Фонвизина. Но не только отсюда, как, повидимому, думают многие.
Вкус у самого Фонвизина не был слишком разборчив на то, уместны ли остроты или неуместны, удачны ли они или неудачны. Чтоб убедиться в этом, стоит прочитать его мелкие юмористические статьи, хоть, напр., его Придворную грамматику, где на одну удачную остроту
(Вопрос. Что разумеешь ты через гласных?
Ответ. Через гласных разумею тех сильных вельмож, кои по большей части самым простым звуком, чрез одно отверстие рта производят уже в безгласных то действие, какое нм угодно……………
Вопр. Что есть полубоярин?
Ответ. Полубоярин есть тот, который уже вышел из безгласных, но не попал еще в гласные; или, иначе сказать, тот, который пред гласными хотя
еще безгласный, но перед безгласными уже гласный……..)
приходится по крайней
мере 20 натянутых и вовсе не острых; впрочем если кому вздумается намять вялою и приведенную мною остроту, я много спорить не буду.
«Лисица-Кознодей, басня» — чрезвычайно вяло и задумана и выполнена; остроты нет ни капли. Письмо Взяткина к его превосходительству и ответ на это письмо его превосходительства остроумнее, но пересолены донельзя и наполнены такими вещами, которые вовсе не остроумны. Такую же неразборчивость и утрировку в выборе острот видим и в «Поучении на духов день»; Фонвизину мало было написать его так, чтоб оставалась хоть какая-нибудь вероятность, что оно могло быть произнесено в церкви; он утрирует до того основную мысль, наполняет его такими выходками, что не понимаешь, зачем написано это поучение? А между тем Фонвизин имел кажется серьезно ту цель, чтобы показать, как нужно писать для поселян. А как мало удачного в сравнении с неудачным и неестественным в статьях, присланных от Стародума, напр. хоть в двух письмах от Дедиловского помещика Дурыкина и в ответе на них Стародума и «Университетского профессора», как неостроумно и неправдоподобно они написаны! Беру первое, что попалось под глаза нз ответа университетского профессора о том, какие кандидаты нашлись на место учителя у Дурыкина:
…«Представился мне еще один молодой человек 22 лет; поучен изрядно. Я оставил его у себя обедать и нахожу, что жрет без милосердия. Он требует, кроме обеда н ужина, чтоб дан был ему добрый завтрак, а не меньше н полдник, также чтобы и предлагаемая порция пива была удвоена.
«Господни Кераксин желает также быть учителем, просит 250 рублей в год. Он знает по-гречески, по-еврейски, но не знает по-русски, что, кажется, для детей его превосходительства и не нужно. Ныне, к сожалению, многие из русских дворян хотят детей своих учить по-русски; но поистине, охота сия есть одна пустая затея; ибо сам г. Дурыкин грамотою ли дослужился до титула его превосходительства»…..(стр. 538 Смирд. издания). Есть
ли тут что-нибудь, кроме плоскости, невообразимо пошлой плоскости, кроме самого ничтожнейшего общего места? Неужели это ие реторическое распространение на заданную тему, которое несносно бывает и в серьезном тоне, а еще вдесятеро неприятнее действует на читателя, когда выдают его за юмор?
То же самое, только с большею еще примесью неестественности, повторяется в разговоре у княгини Халдиной, где, кроме всего этого, Сорванцов говорит вещи, до того несообразные друг с другом, что они не могут выйти из уст одного человека; жизнь свою описывает он так, как не мог никогда описывать (если б не было подписано, что говорит Сорванцов, подумал бы, что это принялся отделывать его Стародум); разговор слеплен очень плохо и очень вял; к довершению всего, как только входит Здравомысл и начинает говорить о введении преподавания «Политической науки» и т. п., Сорванцов с княгиней принимаются поддакивать ему: с чем это сообразно и для чего даже нужно это Фонвизину?
То же самое и в «Наставлении дяди своему племяннику» — везде говорящий говорит о себе так, как не мог говорить, и постоянно вслед за фразою, которая показывает в нем хитрого и негодного мошенника, отпускает от глубины души стародумовскую аксиому.
Но если стремление к неуместным остротам и фарсам много (мне кажется, главным образом) принадлежит личности Фонвизина, то, я думаю, одной только мольеровской комедии одолжен он тем, что считал непременно
ИМ нужным главною пружиною действия сделать любовную интригу, несмотря на всю ее неуместность в Бригадире (автор статьи Отеч. Записок хороню доказал, что любовь была бы в Бригадире во всяком случае самою плохою и слабою пружиною действия, потому что лица в Бригадире, кроме Советницы и Ивана, выводятся такие, для которых любовь совершеннейшие пустяки, нисколько их не интересующие, которые нисколько ие могут расшевелить их натуры): ни одна мольерова комедия не обходится без любовника, любовницы и прочего снадобья, нужны ли они или нет. Каким же образом явилось во французской комедии непременным правилом, чтобы завязка комедии была любовь, клеится ли она к лицам или не клеится? Мне кажется, это правило явилось путем, почти одинаковым с тем, которым развилась аксиома, что основная стихия комедии — шутка во что бы то нн стало.
В греческом обществе, как теперь на Востоке, мужчина проводил свое время вне дома; и там и здесь это происходило от унизительного положения женщины в семействе: в Греции женщина жила в гинекее, как иа Востоке живет в гареме, была чужда образования, считалась не более, как нянькЬю детей своего мужа, значения в глазах мужа имела очень мало. Жена не была собеседницею мужа; молодежь не знала своих сестер, не только других девиц. А женское общество для грека было потребностью уж и по стремлению его окружать себя физическою красотой — он и нашел женское общество в кругу гетер. Как турки и арабы проводят все свое время с утра до ночи в кофейных, так грек проводил его в кругу гетер. А отношения к гетерам должны были быть всегда одного рода — любовь, разврат, назовите это, как угодно, но это и составляло частную жизнь грека. Когда комедия вместо политической жизни должна была извбражать частную, она должна была взяться за эти отношения, потому что, кроме их, у грека ничего не было; потому она постоянно вращается в кругу гетер, содержанием ее должны были быть непременно любовные интриги и одни только они.
Другой источник французской комедии — итальянская комедия, частью была тоже подражанием древней. Да и другой элемент, лежащий в основании итальянской комедии, — простонародные итальянские представления были основаны всегда на любви, потому что в итальянской жизни она играла важную роль и, главное, потому что простой народ везде любит в юморе больше всего скандалезность похождений, цинизм шуток; а для скандалез-ности и цинизма самое лучшее приволье — отношения между различными полами и рассказы о любовных приключениях. Это содержание итальянской комедии пришлось очень по вкусу французам XVII века, которые только и думали о волокитстве.
Теперь я должен был бы подробно разобрать ход Бригадира. Но это уже хорошо исполнено автором статьи Отеч. Записок; так я должен только сказать, что совершенно согласен с его выводами: ход пьее*і несвязан, произволен, перерывается ненужными отступлениями на каждом шагу. Впрочем, я не ставлю этого слишком большим недостатком: очень часто основная идея художественного произведения может быть выполнена просто рядом отдельных сцен или отдельных картин; что за нужда, вытекает ли одна сцена из другой, если все они вытекают из идеи произведения? а идея может потребовать для своего осуществления несколько событий, идущих параллельно без большой связи друг с другом.
Теперь хотел бы я просмотреть всю комедию, следя за подробностями, но это показалось бы, вероятно, слишком утомительным, так что я решаюсь ие представлять этого разбора, а только сообщить его результаты. Я знал, что хороших и естественных подробностей наберется мало у Фонвизина, общих мест и натянутых острот — бездна. Я попробовал сосчитать, сколько именно; и вышло, что у Фонвизина в Бригадире приходится на каждые 11 страниц:
хорошего одна страница;
очень посредственного, такого, для чего не нужно ни ума, ни таланта, пять страниц;
невыносимо дурных общих мест и шуток тоже пять страниц.
Итак одна страница хорошего, разведенная в 10 страницах пустого иля дурногоі Влейте стакан уксуса в 10 стаканов воды и отведайте — едва, едва услышите кисловатость. А между тем я считал за хорошее все, что можно /было набрать не совсем дурного. И потом — это хорошее нужно отбирать тіо три, четыре строки между несносными местами, так что еще не успеет оно произвести на вас при чтении никакого впечатления, как это впечатление уже подавляется противуположным впечатлением.
О БРИГАДИРЕ ФОНВИЗИНА
2-Я РЕДАКЦИЯ
Из того, что было писано о Фонвизине, у меня, когда я писал эту статью, были под руками: сочинение о Фонвизине князя Вяземского и статья о Фонвизине, помещенная в 8 и 9 нумерах Отечественных Записок 1847 года.
И тому н другому сочинению много я обязан. Кинга князя Вяземского важна тем, что проясняет жизнь я личность Фонвизина; но я мало мог пользоваться ею прямым образом, потому что хочу разобрать не личность Фонвизина и не отношение его к его веку, а только одно из его произведений, да и то с чисто литературной стороны. Статья, помещенная в Отечественных Записках, разделяется на две половины: в нумере 8 автор рассматривает, как он выражается, «светлую сторону века Екатерины II в умственном и нравственном отношении», рассматривает движение, сообщенное обществу Екатерининского века отчасти примером императрицы, отчасти другими благоприятными обстоятельствами — это не относится опять к моему предмету прямым образом. Во второй половине статьи (в № 9) автор разбирает комедии Фонвизина, главным образом в художественном отношении; здесь он говорит большею частию справедливо, и особенно справедливо, вместе с князем Вяземским, утверждает, что «Фонвизин не был драматиком, не был даже и комиком» (кн. Вяз., стр. 204–205). Чрезвычайная слабость комедий Фонвизина в художественном отношении хорошо доказана им в этой статье; так что я позволяю себе распространяться только о таких вещах, о которых он мало говорит или ничего не говорит, или в которых я не согласен с инм, не повторяя сказанного и доказанного им, что с художественной точки зрения комедии Фонвизина очень слабы.
Я оставлю без внимания язык Фонвизина, потому что все, что можно сказать о нем вообще (что это живой язык тех классов тогдашнего общества, которые выводятся на сцену Фонвизиным), давно уже сказано и признано всеми; а для того, чтобы в подробностях проследить отношение языка Фонвизина к языку его предшественников и современников, должно было бы мне иметь в руках материалов несравненно больше того, сколько мог иметь их я.
О влиянии Фонвизина на общество я тоже не говорю, потому что, если оно и было, то было слишком слабо, незаметно. Моему мнению может быть не захотели бы поверить, и я спешу подкрепить его мнением кн. Вяземского, который резко высказывает эту мысль на 19 и 20 стр. своего сочинения. «История Государства Российского» Карамзина была, сколько я могу судить, первою книгою, имевшею серьезное влияние на жизнь русского общества; до тех пор влияние русской книги ограничивалось только книгами же — их читали, похваливали, подражали им, когда принимались писать — и только. Фонвизин не «мел и того влияния, которое одно могли иметь писатели в его время — он не образовал литературной школы, не имел подражателей.
Вещь общеизвестная, что содержание комедий Фонвизина втиснуто им насильно в мольеровскую форму, которую перенес он целиком на Бригадира и Недоросля. Но оригинально ли содержание комедий Фончиаича5 О'ык-новенно отвечают, что совершенно оригинально. Я сильно сомневаюсь о — tun.
Ведь кажется, что лицо и мысли Стародума создались в самой глубине души Фонвизина, что Стародум высказывает задушевные мысли именно самого Фонвизина, что родиться они могли только в русском Екатеринина века, прилагаться могли только именно к русским Екатеринина века — а между тем ки. Вяземский нашел, что Стародум весь составлен из выписок из Ла-брюера и Ларошфуко (стр. 137); точно так же и Нельстецов, повиднмому, тоже выражение личности Фонвизина, говорит выписками из «Мои мысли» Ламобеля, что, кажется, принадлежит личности Фонвизина больше его писем из Франции к Панину? — а кн. Вяземский опять говорит, что все мысли там выписаны из Дюкло Considérations sur les moeurs de ce siècle (стр. 135 н 138). Поневоле после этого станешь сомневаться и в оригинальности всего остального. Скажут: «Советник — список с Тартюфа или одного из его потомков, это так; но все остальные лица чисто русские и нравы чисто русские»; — не должно много полагаться на так называемый «местный колорит»— он легко наводится и его часто видит догадливый читатель там, где даже и не наведен он; многие водевили, переделанные с французского, покажутся снимками с чисто русских нравов всякому, кто не знает, каким образом пишутся у нас водевили. Я думаю, что внимательное сличение комедий Фонвизина с тогдашними французскими комедиями покажет, что и комические лица и сцены у Фонвизина точно так же заняты им у других, как заняты лица Стародума и Нельстецова. Но справедливость требует сказать, что заимствований из Мольера (кроме лица Советника) в Бригадире я не заметил. 1
И автор статьи Отечественных Записок и ки. Вяземский согласно упрекают Фонвизина за то, что в Бригадире нет действия, нет жизни; они понимают под этим то, что характеры действующих в этой комедии лиц не развиваются во все продолжение хода интриги, что какими они вышли на сцену, показали себя в первом явлении, такими и сошли со сцены, не выказав потом ни одной новой черты в своих характерах.
Требование: «характеры, выведенные драматическим писателем, должны непременно развиваться; если они остаются неподвижными, автор виноват», слышишь беспрестанно. Но едва ли можно такое требование поставить всегда приложимым законом художественной красоты произведения поэзии, драматическою ли, другою ли формою будет оно облечено. Роман, комедия, трагедия, лирическое стихотворение должны одинаково изображать действительность, изображать людей, характеры, действия, чувства такими, какими бывают они в действительности. А в действительности мы часто встречаем людей с такою неглубокою натурою, с таким немногосложным характером, что с первого же слова они высказываются вам все сполна, так что кроме того, что выказалось вам в первую минуту, нечему в них больше и выказываться. Как же такое лицо будет развивать перед вами свой характер в художественном произведении, когда не развивает его в действительности? Или надобно сказать, что такие характеры не могут быть изображаемы в художественном произведении, что в нем могут являться только характеры известного рода? Какие же? вероятно, только те, у которых «на дню семь пятниц», как выражается народ? Нет, и неподвижные, неразвивающиеся характеры могут быть точно так же интересны и поэтичны, как и характеры развивающиеся. Возьмем в пример хоть мистрисс Виккем, доктора Блимбера с семейством, мистера Фидера, мистрисс Пипчин и т. д. в «Домби и сын» Диккенса, Манилова с женою, Ноздрева, двух дам, приятную во всех отношениях и просто приятную и т. Д. в «Мертвых душах» Гоголя — не правда ли, что это самые художественные, самые интересные характеры? а ведь оііи высказались перед вами все сполна с первого же раза; а ведь они не развиваются нисколько во все продолжение действия. Но это романы, не драма? Возьмите какую угодно драму, трагедию, увидите то же, лишь бы он» была писана не по заказу теоретиков для оправдания их теории. Возьмем хоть Фауста — если это не самая драматическая драма, я не знаю, где будем
искать драматизма; переберем лица. Фауст — характер действительно многосторонний, лучше сказать всесторонний:
. ничто не оставлено им
Под солнцем живых без привета:
На все отозвался ои сердцем своим,
Что просит у сердца ответа 2;
вто так; но ведь он высказался перед вами весь в первом же монологе, весь, сполна весь. И разве ошибку сделал Гёте, что поступил так? Кажется, пет. Пойдем далее. Вагнер — квинт-эссенция неподвижности; Марта — неподвижность; Валентин — неподвижность; Мефистофель — разве он с первого слова до последнего не одно и то же говорит, не одно и то же делает? Гретхен — Гретхен развивает свой характер постепенно, но она и первое и последнее развивающееся постепенно лицо в Фаусте. Возьмите «Ревизора» Гоголя; Бобчинский и Добчинский — неподвижность; жена и дочь городничего — неподвижность, смотритель уездного училища— неподвижность и т. д., и т. д. А все они нужные и занимательные лица. Возьмите, наконец, «Горе от ума» Грибоедова — ни в одном лице нет и следов постепенного развития: вышел, сказал первое слово, и баста! нового ничего уже ие ждите от него. Нет, дело не в том, чтобы всякий характер, в романе ли, в драме ли, непременно развивался, выказывал в себе все новые стороны, которых прежде вы не замечали в нем, или, если замечали, то слишком смутно: дело в том, чтобы всякое лицо было живым человеком, а не общим местом или нескладною нелепицею, и действовало так, как должно действовать по своей натуре, а не так, как рассудится автору.
Таким образом, кажется мне, нельзя еще поставить в недостаток Бригадиру того, что характеры действующих лиц в нем не развиваются — если натура их такая, что нечему в ней развиваться, они и не должны развиваться.
Так же единогласно и автор статьи Отечественных Записок и князь Вяземский осуждают Бригадира за то, что в нем нет «единства»; не зн. но, что разумеет под «единством» князь Вяземский, а автор статьи Отеч. Записок разумеет то, что иет главного лица, нет и господствующей идеи.
Действительно, теперь нам кажется, будто бы главного лица в Бригадире нет, будто бы все лица (за исключением приставных Добролюбова и Софьи) играют одинаково важную роль. Но что же за беда, если так и на самом деле? Неужели непременное, необходимое условие художественного произведения — единство лица? Мы часто слышим это, часто нам говорят: «Этот роман нехорош, потому что в нем вместо одного главного лица — два главных лица; интерес между имн раздваивается, и не знаешь, на котором сосредоточить внимание: одно мешает другому». Нет, такое требование несправедливо; должно требовать от художественного произведения единства идеи; а то, должно ли быть в произведении одно главное лицо, или должно быть их несколько, дело, решаемое не теориею, а характером идеи, концепциею известного произведения: если идея такова и так развилась в сознании вашем, что воплощается в характере, действиях и отношениях одного лица, разумеется, одно лицо должно быть главным в вашем произведении; а если идея такого рода или так развилась в вашем сознании, что для осуществления ее нужно вам несколько лиц, то как же не явится в произведении вашем несколько лиц равно важными, равно необходимыми? особенно часто бывает это, когда основная идея произведения — изображение известного класса или, еще более, известной эпохи. И поверьте, что интерес вашего создания вовсе не раздробится и не ослабится от того, если только вы строго сохраните единство основной идеи. В большей части романов Вальтер-Скотта по. ^скольку лиц равно важных своим внутренним значением, и романы его не теряют, а разве выигрывают от этого в каком вам угодно отношении — в отношении ли художественности, или эффектности, или занимательности. Кто, например, главное лицо по своей? внутреннему значению в Айвенго? сам Айвенго? А разве нс в такой же степени важны Ребекка, Ричард-Львнное сердце, Робин-Гуд? кажется, они делают впечатление гораздо глубже, нежели Айвенго, и гораздо больше его интересны для читателя. Да и во внешнем отношении они кажутся важнее его: ему без них нечего делать, он существует в романе только для них.
Но если нам кажется, что в Бригадире нет главного лица, это кажется оттого, что основною идеею его кажется нам теперь не та идея, какую хотел выразить в нем Фонвизин. Нам теперь кажется, что он хотел представить в Бригадире картину быта и понятий известного класса людей в его время — если было бы так, действительно все лица в нем были бы равно важны. Но если мы внимательнее рассмотрим сочинения Фонвизина, то увидим, что в них во всех выражена одна главная идея, что в них одно господствующее направление — показать нелепость и вред тогдашней французомании, нелепость и пагубность тогдашней системы воспитания у знатных и тянувшихся вслед за знатными. Эта идея везде у него высказывается — ив «Выборе гувернера», и в «Разговоре у Халдиной», и в «Переписке Дурыкина со Стародумом», и в самом «Недоросле» с его Вральманом. До какой степени этот взгляд на пагубность французомании развился в нем, всего лучше видеть из его писем к Панину из Франции — он доходит у него до того, что кроме дурного, по его мнению,' во Франции ничего нет.
Если согласиться на то, что идея Бригадира — протест против тогдашнего пристрастия ко всему французскому, против воспитания детей во французском духе, то ясно, что по плану самого Фонвизина главным лицом этой комедии должен был быть Иван, сын Бригадира; после него интерес также сосредоточивался на Советнице. Таким* образом выполнялось требование тогдашней теории: «главным героем должно быть одно лицо; но для занимательности подле него должно стоять другое лицо другого, пола и между этими двумя лицами должна быть любовная интрига». Но и Советница и сам герой Иванушка вышли у Фонвизина, от излишнего старания сделать их как можно «смешнее», такими плохими, неестественными, мертвыми карикатурами, что потеряли не только всякое художественное значение, а даже и всякое сходство с теми, кого должны были изображать; Фонвизин совершенно испортил их. Потому, не имея никакого внутреннего смысла, никакого внешнего приложения к тому, что на самом деле было в обществе, Иван и Советница заставляют читателя или зрителя не смотреть на них — они скучны, мертвы; делаясь для него совершенными нулями, ненужными и незанимательными, они заставляют его не замечать и той идеи, которая должна была высказаться через них. А между тем лица, которые по плану автора должны были быть второстепенными, до известной степени удались и, делаясь интересными для зрителя, заставляют его искать идеи в них — потому н выходит Бригадир имеющим, повидимому, не то значение, какое хотел придать ему Фонвизин.
Что же осталось в «Бригадире» после погибели для читателя двух главных лиц и основной идеи этой комедии? Остались лица Советника, Бригадира, Бригадирши; осталась еще интрига — волокитства
а) Советника за Бригадиршею;
б) Бригадира за Советницею;
в) Любовь Софьи и Добролюбова;
г) Волокитство друг за другом Ивана и Советницы.
(Фонвизин столько нацеплял любовных интриг, что поневоле приходится переметить их нумераіми, чтобы не потерять счета.) Рассмотрим эти лица и интриги.
Бригадир, по справедливому замечанию автора статьи Отечеств. Записок, имеет сходство с Тарасом Скотининым у самого же Фонвизина в Недоросле и со Скалозубом в Горе от ума; но эти позднейшие лица не списки или развитие Бригадира — все сходство между ними ограничивается их грубостью, необделанностью, отсутствием всякой наружной полировки, и произошло оттого, что, кроме этой общей им черты, никаких других и незаметно в иих. Но каждый из них груб и необтесан в своем 'роде. По чрез-вычайиой несложности характера своего Бригадир не далек от общих мест, выводимых под именами Честоновых, Вороватиных и т. д„но он не принадлежит к числу их, потому что говорит и действует почти везде как живой человек, а не как кукла. По концепции характер Бригадира уступает характеру его жены, но по выполнению он лучший в пьесе, и, может быть, лучший у Фонвизина. Он редко переходит в карикатуру, почти всегда говорит так, как ему следует говорить Исключение составляет сцена его объяснения с Советницею. Эта сцена — общее место, которым до сих пор пользуются и английские и немецкие писатели, но которое особенно процветает у французов; формула его такая: «Солдат везде должен употреблять слова, картины, сравнения, заимствованные из военного быта и военной техники; чиновники — чиновного быта и деловой техники; ремесленник — из своего ремесла и т. д.». Что и говорить, человек сродняется с тою сферою, в которой долго пробыл; но заставлять с самого начала до самого конца солдата все предметы сравнивать с фортецией, судью — с делом, истцом и ответчиком— плохая шутка: одна речь не пословица; нужно разбирать, в каком случае как должен говорить человек. Мне кажется, что человек, подобный Бригадиру, не станет объясняться в любви аллегориями, которых он вообще не должен любить и которые здесь замедляют дело; — а положение Бригадира затруднительно, н, при своем характере, при своей привычке итти напролом, он, как скоро стало ему не в силу молчать, должен высказаться прямо и ясно в двух словах, а не растягивать щекотливого дела обиняками своими на две страницы.
Но если Бригадир живой человек, то Советник, по моему мнению, общее место, распространение на тему «ханжа, взяточник, Тартюф». Взяточников и прежде Фонвизина описывал у нас Сумароков, и, мне кажется, не хуже Фонвизина (или Фонвизин не лучше его, я согласен и на это), так что тут и относительной заслуги со стороны Фонвизина нет никакой. А ханжей, да еще влюбленных, с легкой руки Мольера, набралось после Тартюфа столько, что и тут Фонвизин только повторял петую тысячи раз песню, которая и в то время должна уже была бы всем наскучить.
Лицо Бригаднршн было бы превосходно, если бы Фонвизин по обыкновенному своему пристрастию к неуместным фарсам не заставлял ее часто, слишком часто играть шутовской роли, которая погубила Ивана и Советницу. Но оставим в стороне эти глумления, оставим в стороне и ее доведенную до нелепости скупость, без всякой нужды взваленную на нее, и тогда Бригадирша явится нам в своем настоящем виде: это простая, до крайности простая, но кроткая и до чрезвычайности добрая женщина, которая любит всех, с кем имеет дело, любит потому только, что у нее любящее сердце; муж считает ее пошлейшею дурою, хоть сам немного умней ее и считает своею обязанностью останавливать ее на каждом слове, ругать и бить ее каждую минуту. Одно это лицо, если бы было выдержанно, могло бы составить собою драму. Но Фонвизин конечно в обрисовке ее прилагает всевозможное старание сделать ее как можно глупее, чтобы «смешнее» было, и старается об этом так успешно, что редко, редко остается на ней человеческий образ.
Что он постарался не оставить человеческого образа на Иване и Советнице 28, я уже говорил. Он их и Бригадиршу до того завалил грузом пошлых острот и «смешных» глупостей, что они стали уродливостями не только в художественном отношении, но и просто в отношении к здравому человеческому смыслу. А между тем, по справедливому замечанию автора статьи Отечественных Записок, он сам дал Советнице такую роль, что часто она действует, как умная женщина. Но тут же, через две, три строки, заставляет он ее говорить такие веши, что «делается скучно и стыдно за ум Фонвизина» (слова автора статьи Отечественных Записок).
О Софье и Добролюбове я не стану говорить — давно всеми признано, что они — самые скучные антихудожественные и антнестествецные общие места, составленные из ходячих фраз бесцветной морали. Такие лица — необходимая принадлежность мольеровской формы. Впрочем Фонвизин сам питал особенную любовь к лицам подобного рода и их речам — разговоры Стародума занимают треть Недоросля, Выбор Гувернера весь сшит из Стародумских лнц н сентенций, и Стародумом кажется не мог нарадоваться Фонвизин— сколько статей и писем написал он от его имени!
Интрига, на которой основано действие в Бригадире — то, что все действующие лица влюблены, кому в кого пришлось. Только одна Бригадирша избавлена от дьявольского наваждения — и за то надобио благодарить автора. Любовь Софьи к Добролюбову и обратно безукоризненна во всех отношениях: как в самом деле такому прекрасному молодому человеку не оценить по достоинству такой прекрасной девицы и обратно? по всем правилам нм следует любить друг друга. Также естественно, что Иван и Советница влюблены друг в друга: между ними так много общего, что, встретившись одни в кругу людей, вовсе на них непохожих, более близких, по их мнению, к скотам, нежели к ним, они натурально должны были влюбиться друг в друга. Кроме того, по словам Фонвизина, вся нх жизнь состоит в стремлении сделаться французами; а французы того времени только и делали, что волочились, а французские романы с начала до конца были набиты одним волокитством: нельзя же было Ивану и Советнице отстать от своих образцов, оба они только и думали, что о волокитстве.
Но и князь Вяземский и автор статьи Отеч. Записок заметили уже, что все остальные страстишки в Бригадире 'приплетены совершенно неестественно: с какой стати Советнику влюбиться в Бригадиршу, а Бригадиру в Советницу? Оба они люди пожилые, почтенные, один думает о прежних взятках, другой о прежних баталиях, оба думают о своих чинах; а расположения влюбиться вовсе в них никакого не может быть, не такие они люди. Но Фонвизину было нужно заставить их волочиться, потому что других пружин действия не мог он придумать — он и заставил их волочиться совершенно вопреки характеру их. Конечно, можно было бы для хода пьесы удовольствоваться и остальными двумя любовными интригами; но о чем бы он заставил их говорить, если б он не заставил их высказывать их любовь? материи для разговоров было слишком у него мало. Кроме того, ему казалось, что чрезвычайно смешно будет видеть, как объясняются в любви эти почтенные господа, одни святоша, другой рубака; — да и катастрофа в окончании пьесы, казалось ему, выходила великолепная: как же, вдруг открывается, что все кто в кого влюблен, и выходит страшная сумятица — как вто смешно! А Фонвизин всем жертвовал желанию смешить н сочинить получше эффект, не только правдоподобием, которое страждет здесь, но очень часто и здравым смыслом.
Откуда произошла эта непременная обязанность комическому писателю острить и смешить на каждом шагу во что бы ни стало, сказал уже прежде меня автор статьи Отеч. Записок — оттуда же, откуда взята и манера выводить односторонние лица, которым нельзя дать никакого другого названия, кроме названия нелепых общих мест в человеческом образе, лица вроде «скупца», «святоши» и т. п. — все это наследство французской комедии XVII века и знаменитого до сих пор представителя ее — Мольера, у котог рого р“ Дко встретишь разговор, сколько-нибудь естественный, до того все натянуто и пересолено, чтобы было «смешнее» и чтобы «резче» выставлялись характеры. Но автор этой статьи не сказал, каким образом явилось в самой французской комедии правило смешить во что бы то ни стало. Постараюсь объяснить это, сколько могу.
Французская комедия произошла из итальянских комических представлений. которые часто, по слегка только набросанному эскизу общего хода комедии, импровизировались актерами, часто и вполне писались. У самого Мо\"мі большая часть пьес или подоажание итальянским или перевод итальянских; а о предшественниках его нечего н говорить. К этому присоединилось сильное влияние греко-римской комедии, как она дошла до нас в переделках Плавта и Теренция. Но итальянский элемент преобладал.
Что же такое были эти итальянские 'комические представления? Они создались опять из двух элементов: подражания, не слишком сильного
однако, все тем же Плавту и Теренцию и из простонародных комических представлений, принадлежащих уже самому итальянскому народу (это главный элемент), в которых действующие лица арлекнн и его свита.
Итальянские простонародные представления были то же самое, что наши балаганные представления с паяцами. Разница только в том, что наши балаганные представления чужды нашей народной жизни, пошлы и глупы, а итальянские — произведение самого народа, и, как все, что производит народ, имеют на своем месте смысл, представляют чисто народные нравы и часто очень живы и остроумны. Но они не нмелн никаких притязаний на естественность: они не хотели о ней и думать; их единственная и на своем месте вполне законная цель была потешить народ карикатурами и скандалезносмешными приключениями. О правдоподобии тут нечего говорить: когда и
в образованном обществе соберутся несколько человек и примутся от нечего делать рассказывать разные смешные истории, ведь никто не думает о правдоподобии — напротив, чем смешнее и нелепее ваш рассказ, тем лучше.
Другой элемент, который участвовал в происхождении итальянских комических пьес и потом, кроме того влияния, которое имел через них, имел и прямое влияние на французскую комедию, это древняя комедия Плавта и Теренция. Она тоже наводнена совершенно неуместным и неестественным фарсёрством и нелепейшим остроумием, перед которым бледнеют глупейшие немецкие внцы, Witz. В ней этот элемент, мне кажется, развился так:
Аристофаиова комедия и вся древняя афинская комедия была чисто политическая комедия на известное лицо и на известный случай; цель ее была — выставить смешную, глупую, вредную сторону этого лица или события, чтоб уронить его в общественном мнении; она была по своему значению то же самое, что теперь политические карикатуры в Punch, Journal pour rire и т. п., где не в том дело, чтобы вещь была правдоподобно изображена, а в том, чтоб изображена была как можно глупее, смешнее. Потом политика была изгнана с афинской сцены; но творчество уже ослабело, рутина преобладала; Аристофан и его соперники были люди гениальные; люди, явившиеся после них, не были гении, потому были увлечены их силою и рабски подражали нм во всем, в чем могли подражать. Что же вышло? Все содержание древней комедии, чисто политическое, не могло существовать для новой комедии, которая не могла иметь политического содержания; оставалась одна форма, манера; новая комедия и схватилась за манеру древней комедии, не разбирая того, годится ли эта манера для нее, претендующей на изображение действительности, на естественность и правдоподобие: хороша же должна была выйти новая греческая комедияі Но еще лучше стала она у римлян, которые одни нам известны. У греков карикатуры новой комедии, провозглашавшие себя «характерами, верными природе», по крайней мере взяты были из греческой жизни; а у римлян и комедия, как и вся поэтическая сторона их литературы, не имела ровно никакого отношения к народности, была рабским подражанием тому, что было написано греками. И если греки могли еще интересоваться тем, напоминают ли о своих подлинниках карикатуры, выводимые их комедиею под именем гетер, ленонов и т. д., то у римлян и об этом заботы не могло быть — живой пример наши водевили, переделанные с французского: думают ли те люди, которые хохочут, смотря на них, о сходстве действующих там типических лнц с действительностью или о чем-нибудь подобном? Греки еще должны были сколько-нибудь думать о содержании, для римлян его уже решительно не существовало. И остались для римлян в комедии одни пошлости, скандалезности, площадные остроты и фарсы.
Все эти драгоценности перенесли целиком из итальянско-римской комедии во французскую Мольер и его предшественники, а из французской перешли они целиком и к Фонвизину. Но не из одного подражания французской комедии произошло у Фонвизина его жалкое стремление к пошлому и неуместному остроумию — вкус у него самого уже от природы не был слишком разборчив на то, уместны ли остроты, или неуместны, удачны ли они, или неудачны. Чтоб убедиться в этом, нужно перечитать все его сочинения — везде удивительная неразборчивость, везде редкие искры остроумия затоплены в море казавшихся ему остроумием пошлостей, плоскостей, натянутостей. Сошлемся для примера хоть на его Придворную Грамматику, где на одну остроумную вещь (о том, что гласные, что безгласные — да и за это. я не стану мно'го спорить, если кому-нибудь покажется это не слишком остроумным) приходится несколько десятков вовсе не остроумных «острот». Басня Лисица-Кознодей чрезвычайно вяло и исполнена и задумана; письмо Взят-кина и ответ ему его превосходительства остроумнее, но пересолены донельзя и наполнены вещами вовсе не остроумными. Та же неразборчивость в выборе острот и в Поучении на Духов день — Фонвизину мало было написать его так, чтобы оставалась хоть какая-нибудь вероятность, что оно могло быть произнесено в церкви; он утрирует до того основную мысль, что не понимаешь, зачем написано это поучение? А между тем, кажется, Фонвизин серьезно имел в виду показать, как должно писать проповеди для поселян. А как мало остроумного в сравнении с неестественным и неостроумным в переписке Дурыкина со Стародумом! Берем первое, что попалось под глаза из «Письма Университетского Профессора» о том, какие кандидаты нашлись на место учителя у Дурыкина:
«… Представился мне еще молодой человек лет 22; поучен изрядно; я оставил его у себя обедать, и нахожу, что жрет без милосердия. Он требует, кроме обеда и ужина, чтоб дан был добрый завтрак, а не меньше и полдник, также чтоб и предлагаемая порция пива была удвоена.
Господин Кераксин желает также быть учителем, просит 250 рублей в год. Он знает по-гречески, по-еврейски, но не знает по-русски, что, кажется, для детей его превосходительства и не нужно. Ныне, к сожалению, многие из русских дворян хотят детей своих учить по-русски; но поистине, охота сия есть одна пустая затея; ибо сам г. Дурыкин грамотою ли дослужился до титула превосходительства…» (стр 538).
Если тут мы найдем хоть крошку остроумия, то наших сочинителей для толкучего рынка мы должны будем признать настоящими Рабле и Сервантесами. Такие же скучные и нелепые распространения неостроумных ничуть общих мест и в разговоре у Халдиной, где, кроме всего этого, Сорванцов говорит вещи, до того несообразные друг с другом, что никак нельзя было вложить их в уста одному человеку, а весь разговор веден в высшей степени вяло и плохо. Как тут, так и в «Наставлении дяди своему племяннику» говорящий постоянно говорит о себе так, как ни в каком случае не мог говорить, и постоянно вслед за фразою, которая показывает в нем хитрого и негодного мошенника, отпускает из глубины души стародумовскую сентенцию.
Но если стремление к неуместным и неостроумным остротам и шуткам много (мне кажется, главным образом) принадлежит личности самого Фонвизина, то, по моему мнению, одной только мольеровской комедии одолжен он тем, что считал непременно нужным главною пружиною действия сделать любовную интригу. (Автор статьи Отеч. Записок хорошо доказал, что в Бригадире любовь была бы во всяком случае самою плохою и слабою пружиною действия, потому что лица в Бригадире, — кроме Ивана и Советницы, выводятся такие, для которых любовь совершеннейшие пустяки, нисколько их не занимающие.) Ни одна мольерова комедия не обходится без любовника, любовницы, разлучника и прочего снадобья. Каким же образом явилось во французской комедии необходимым правилом, чтобы завязкою была интрига, которую нужно навязать комедии во что бы то ни стало, несмотря на то, идет она к содержанию, или нет? Мне кажется, оно явилось путем, почти одинаковым с тем, которым развивалась аксиома, что основная стихия комедии — шут*а во что бы то ии стало.
В греческом обществе образ жизни был довольно похож на тот, который теперь видим на Востоке— мужчина все свое время проводил вне дома. И там и здесь произошло это от одной причины — от унизительного и неестественного положения женщины в семействе. В Греции семейная женщина была заперта в гинекее, как на Востоке она заперта в гареме; она была чужда образования, считалась не более, как нянькою детей своего мужа, не могла быть собеседницею своего мужа; молодежь не знала своих сестер, не только других девиц. А между тем для грека было потребностью жить в женском обществе уж и по одному его стремлению окружать себя физическою красотою, наслаждаться ею, любоваться на нее; он и нашел себе жен- ское общество в кругу гетер; а как турки проводят теперь все свободное время в кофейных и банях, так грек проводил все время в домах гетер. А отношения к гетерам конечно должны были всегда быть известного рода — любовь, волокитство, разврат, назовите это как угодно, но это одно составляло частную жизнь грека. Эти одни отношения и могла изображать греческая комедия, когда отказалась от изображения общественной жизни — кроме их нечего было изображать в частной жизни, потому что ничего кроме их не было в частной жизни. Потому греческая новая комедия постоянно должна была вращаться в кругу гетер, содержанием ее должны были быть непременно только любовные интриги и надувательства. Рнмляне просто переводили греческую комедию.
Другой элемент итальянской и французской комедии — итальянские простонародные представления тоже все бывали основаны на любовных похождениях. Почему это? Мне кажется, во-первых, потому, что в итальянской жизни любовь действительно играла тогда главную роль; а во-вторых (эта причина — важнее) потому, что простой народ везде и всегда в юморе любит всего больше скандалёзность похождений, цинизм шуток; а для скандалёэ-ности и цинизма самое открытое и широкое поле — отношения между различными полами и рассказы о любовных приключениях. Впрочем, очень может быть, что я упустил из виду еще какие-нибудь, тоже до известной степени важные обстоятельства, имевшие влияние на то, что постоянным содержанием итальянских простонародных представлений была любовь.
Когда итальянская комедия с таким содержанием перешла во Францию, она пришлась как нельзя более по вкусу тогдашнему французскому обществу, которое только и думы думало, только и дела делало, что волочилось; все там тогда волочились с утра до утра, все от старого до малого (12-летних ребятишек), так что любовные интриги были средоточием жизни тогдашнего высшего общества.
Разобравши характеры и интригу в Бригадире, я должен был бы подробно рассмотреть ход этой комедии. Но это уже хорошо исполнено автором статьи Отечеств. Записок, так что я только скажу, что нельзя не быть вполне согласиу с его выводами: ход пьесы несвязен, произволен; он перерывается на каждом шагу ненужными вставками и отступлениями.
Теперь я хотел бы просмотреть всю комедию, следя за подробностями, их естественностью или неестественностью, удачностью или неудачностью. Но это показалось бы, вероятно, слишком утомительным, показалось бы, может быть, даже излишним. Поэтому я должен ограничиться здесь тем, чтобы представить результаты, полученные мною от такого разбора, не прилагая самого раэбора.
Всего по изданию Смирдина в Бригадире, если исключить заглавия действий и явлений, останется 2216 строк.
1) Из них 201 строка набирается хорошего, остроумного нлн естественного
разговора — только 201 строка из 22161 Ведь это всего одна одиннадцатая часть, Ѵп! Да и эта 201 строка набрана мною по клочкам в 3, 4, 5 строк, так что не успеет еще хороший отрывок сделать на читателя впечатление, как оно уже подавляется противоположным впечатлением — хорошее затеряно среди дурного. __
2) Обыкновенных вещей, очень посредственных, для которых не нужно было писателю иметь ни таланта, ни особенного ума — 439 «трок, одна пятая (4s).
3) Общих, ничтожных, но сносных еще сколько-нибудь мест — 546 строк ('/«) — одна четвертая.
4) Те же общие места, но сделавшиеся невыносимыми от' чрезвычайно натянутых и плоских острот— 1030 строк, почти половина (Уго, девять двадцатых).
Итак одна страница хорошего, разведенная в 10 страницах пустого или дурного! Попробуйте развести стакан самого сладкого сиропу в 10 стаканах воды — вы едва в состоянии будете чувствовать, что в этой смеси есть сироп, — она будет безвкусна. А между тем я считал за хорошее все, что можно было найти не совсем дурного.
О СЛОВОПРОИЗВОДСТВЕ в русской языке
Словопроизводство в русском языке, подобно словоизменению, отличается, сравнительно с тою же стороною других новейших европейских языков, гораздо большим разнообразием. Можно даже сказать, что русский язык (подобно [некоторым] другим славянским наречиям) развил в себе много таких способов произведения слов, которые остались мало развитыми в греческом и латинском языках, по богатству словопроизводственных способов стоящих несравненно выше новых европейских языков.
Было бы слишком обширною задачею рассматривать здесь русское словопроизводство во всех его отраслях; потому ограничимся одною — теми случаями словопроизводства, которые находятся в самой ближайшей сбязи с грамматическими флексиями слов (склонением, спряжением и возвышением в степени).
Почти то же самое, что для прилагательного возвышение в степени, для существительного — образование уменьшительных, ласкательных и т. д. слов. Не будем говорить о богатстве этих изменений в русском языке: оно давно признано всеми. Покажем только отношение русского языка в этом случае к другим родственным.
В латинском языке довольно много уменьшительных окончаний; но увеличительных (мужичище и т. д.) [почти] решительно нет; несколько отдельных слов в роде virago (-девчище), неправильно образованных, ничего не значат, не составляяГ’отдалЪного класса; от имен собственных римляне почти не могли производить уменьшительных (слова в роде Teventilla от Terentia и т. д. редки, малоупотребительны и почти лишены уменьшительного значения). В греческом [еще] гораздо меньше, нежели в латинском, уменьшит, нарицат. имен; но зато есть уменьшительные собственные имена, впрочем довольно малоупотребительные, и едва ли не в одном только пошлом смысле (сравн. употребление женских имен с уменьшит, окончанием, и т. д.). В немецком только одно окончание для уменьшения (слова, принимающие eben, не могут принимать lein, и наоборот). В английском уменьшит. форму принимают только собственные имена; во франц. также, и эта форма бывает в обоих языках почти всегда только одна для каждого имени. У нас этих форм множество.
Наши уменьшительные от нарицательных имен имеют, кроме значения уменьшения, еще значение привязанности или нежности — этот оттенок могут принимать существительные уменьшительные почти только в одном итальянском, который из всех известных нам языков только один выдерживает до некоторой степени соперничество с русским в образовании уменьшительных и увеличительных.(обладая окончаниями обоих разрядов, но с гораздо меньшим разнообразием, нежели русский).
Надобно сказать, что народный (великорусский) язык превосходит литературный язык в этом отношении; и что народный малорусский еще богаче народного великорусского разнообразием и употребительностью уменьшительных.
Кроме собственно существительных имен, уменьшительные окончания в русском народном языке принимают и не склоняемые части речи (напр. асъ? (что?) — асинька, от тут— туточка и т. д.).
В прилагательных (и в производных от них наречиях) уменьшительные окончания, подобные окончаниям существительных, употребляются в таком же обширном размере. Из других языков только латинский до некоторой степени имеет это свойство (tantillus н т. п.) — другие все лишены его.
Чрезвычайно оригинальное явление в русском языке образование особенной сравнительной степени с предл. по (потише, полегче) — подобного явления не представляет ни один европ. язык, кроме русского.
В глаголах наши виды и неразрывно с ними связанное сочетание глаголов с предлогами придает русскому глаголу такую живость и определенность оттенка в отношении к образу действия, какого не в состоянии выразить ни один язык из известных нам. Некоторое сходство с нашими видами представляют латинские начинательные и (особенно) учащательные глаголы — но их число невелико, а употребление очень ограничено. Erubesco еще сохранило начинательный смысл, но ignosco, irascor и т. д. уже потеряли его. Ventito прекрасно выражает учащение, подобно нашему «хаживать», но подобных ему слов в лат. немного и они редко употреблялись. Кроме того, в латинском эти подобия наших видов образуются только окончаниями (sco и ito), а предлоги не участвуют в этих тонких изменениях значения, и потому в русском число [этих] оттенков значения, которое принимает одно глагольное понятие, несравненно более, нежели в латинском (erubesco и ventito — только 2 формы, одна для начинательного, другая для учащат. [оттенка] смысла — в русском этих видоизменений десятки: читаю, почитываю, перечитываю, начитываюсь и т. д. и т. д.).
Нам кажется, что эти бесконечно разнообразные изменения глаголов посредством видовых окончаний и предлогов с единственною целью определить способ, каким происходит действие, придает русской фразе живость и определенность, которая в большей части случаев не может быть выражена на других языках: и нам кажется, что эта особенность русского словопроизводства еще драгоценнее его способности к образованию уменьшительных и увеличительных имен.
Точно такбе же решительное превосходство русского языка над другими европ. языками по богатству и разнообразию словопроизводства найдется и во всех почти других отраслях словопроизводства.
РУССКИЕ ТРАГИКИ: СУМАРОКОВ, КНЯЖНИН И ОЗЕРОВ
Постараемся в нескольких словах охарактеризовать содержание и форму произведений наших первых трех трагиков, имена которых выставлены в заглавии нашего очерка.
Прежде всего мы должны обратить внимание на ту сторону их трагедий, о которой менее всего думали они сами — на содержание. И Сумароков, Княжнин, и Озеров сходны между собою (как трагики) в том отношении, что все были подражателями французским трагикам. Сумароков подражал Корнелю и Расину, отчасти Вольтеру: Корнелю и Расину подражал и Княжнин. Озеров подражал уже Дюсису, переводчику и переделывателю Шекспира, н до некоторой степени знал греческих трігиков (понимал их так же, как Дюсис понимал Шекспира). От этого происходит основное различие между нашими трагиками XVI века и трагиком начала XIX века по содержанию: у Озерова оно глубже и разнообразнее (как у Дюсиса, сравнительно с Корнелем), нежели у Сумарокова и Княжнина, которые (подобно псевдоклассическим французским трагикам) ограничивались тесным кругом геройских чувств, изображаемых обыкновенно в борьбе с нежною любовью. У Озерова, как у Дюсиса, вместо неподвижного в своем величии героя сума-роковских и княжнииских трагедий, является человек, правда, слишком мечтательный, сантиментальный и часто до приторности нежный; но все-таки человек, а не бесчувственный резонер, только говорящий «возвышенных чувствах, но едва ля на самом деле проникнутый этими чувствами.
Сумароков и Княжнин сходны в том, что оба списывают своих героев с портретов. и\н, лучше сказать, идеальных бюстов, показанных свету Корне-
лем и Расином. Но Сумароков выгодно отличается от Княжнина тем, что он подражает, а не просто переводит, как почти всегда поступает Княжнии. Потому даже критики псевдоклассической школы, признававшие подражание делом поэзии, нисколько не затрудняясь признавать Сумарокова гениальным трагиком и, говоря только, что он подражал Корнелю, как Корнель подражал Эсхилу и Софоклу, не признавали самобытности и гениальности трагедий Княжнина: он и им (напр. Мерзлякову) казался просто «перелагателем». Озеров, подражает так же, как Сумароков: у него есть целые сцены, целые действия, буквально переведенные с французского; но много у него найдется отрывков и собственно ему принадлежащих. С этим не согласятся многие; но мнение, нами разделяемое (мнение, что Озеров не просто переводчик, что у него есть много не заимствованного, а вылившегося из души), достаточно подтверждается уже тем, что личность Озерова видна в его трагедиях, между тем как не только Княжнин, нет и Сумароков нигде не высказываются в своих трагедиях. Об Озерове можно было сказать:
Его чувствительность сразила,
Чувствительность, которой сила Мойны душу создала —
а ничего подобного нельзя сказать об отношении трагедий Сум. и Княжнина к «душе» [их] авторов.
Само собой разумеется, что при такой подражательности (и таким образцам, которые сами очень мало заботились о народности в своих трагедиях) нечего и опрашивать о народности у Сумарокова], Кн[яжина] и Озерова. Русского в их «Димитрии Самозванце», «Рославе» и «Димитрия Донском» столько же (за исключением имен), сколько их в «Гамлете» и «Эдипе». Едва ли не единственные строки, имеющие какое-нибудь существенное отношение к русской (если не народности, то по крайней мере) истории — перифраз нескольких мест из Наказа и Указов Екатерины II в «Титовом Милосердии» у Княжнина.
Что касается формы, о которой более всего заботились наши трагики (подобно своим образцам), то надобно сказать, что план трегедий Княжнина вообще лучше, нежели планы трагедий Сумарокова, а язык у Княжнина едва ли не больше еще напыщен, нежели у Сумарокова. По языку, нам кажется, Сумароков для своего времени стоял гораздо выше, нежели Княжнин для своего. Правда, что диких несообразностей в выражении у Кн[яжина] гораздо менее, нежели у Сумарокова, но это дело времени, а не автора.
У Озерова форма прекрасна (по мерке его времени) и язык очень хорош. Некоторые стихи даже и для нашего времени еще не потеряли всего своего достоинства.
ПРИМЕЧАНИЯ Составлены Н. В. Богословским
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ИСКУССТВА К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
(Диссертация)
1 Среди работ Чернышевского по эстетике центральное место занимает его знаменитая диссертация.
Чернышевский начал писать ее в ту пору, когда еще только готовился к широкой журнально-публицистической деятельности. Он не играл тогда видной роли в журналистике, ие успел еще войти в круг «Современника». Это было время его первых выступлений в «Отечественных записках».
Во второй половине мая 1853 года Чернышевский подал прошение в Петербургский университет о допущении к испытаниям на степень магистра по истории русского языка и славянских наречий.
Однако, вскоре после подачи прошения, он решил держать экзамен по русской словесности.
Живая и страстная натура, пытливая мысль Чернышевского искали широкого поля деятельности.
Еще в самом начале пребывания в университете Чернышевский высказывал уверенность, что Россия мощно и самобытно выступит на поприще науки. «И да совершится через нас хоть частию это великое событие, — писал он в 1846 году. — И тогда недаром проживем мы на свете… Содействовать славе не преходящей, но вечной своего отечества и благу человечества, что может быть выше и вожделеннее этого?»
Новая тема его диссертации — о взаимоотношении искусства и действительности — получила утверждение профессора русской литературы А. В. Никитенко, который еще в 1848 году рекомендовал Чернышевскому подобную же тему для курсового сочинения 29.
20 июля 1853 года Чернышевский писал отцу: «Ha-днях… примусь за свою диссертацию… Теперь дожидаюсь книг (немецких), чтобы начать статьи об эстетике 30. Их нужно будет писать с большою осторожностью, чтобы они могли явиться в печати» («Литературное наследие», т. II, Письма, Госиздат, М. — Л. 1928, стр. 192).
Уже к началу сентября у Чернышевского была готова большая часть рукописи, которую он намеревался передать Никитенке на Предварительный просмотр.
В первой половине сентября не вполне законченная диссертация, заключавшая в себе, по словам Чернышевского, «критику некоторых положении гегелевской эстетики», была представлена профессору Никитенке, который согласился просмотреть ее «частным образом», чтобы своевременно, еще до напечатания, указать Черныщевскому, что необходимо было бы изменить в ней в соответствии с цензурными требованиями.
Поправки и замечания Никитенки показывают, что он стремился к тому, чтобы такие прямые обозначения, как «гегелевская школа», были заменены косвенными — например, «господствующие понятия», «обыкновенные понятия» и т. п. Некоторые, исключенные по настоянию Никитенки, места свидетельствуют, что первоначальный замысел Чернышевского в отношении критики идеалистической эстетики был шире того, что дано в окончательной редакции.
21 сентября 1853 года Чернышевский писал отцу: «Диссертацию свою пишу об эстетике. Если она пройдет через университет в настоящем своем виде, то будет оригинальна/ между прочим, в том отношении, что в ней не будет ни одной цитаты, а всего только одна ссылка 31. Если же найдут это не довольно ученым, то я прибавлю несколько сот цитат в три дня. По секрету можно сказать, что господа здешние профессора словесности совершенно не занимались тем предметом, который взял я для своей диссертации, и потому едва ли увидят, какое отношение мои мысли имеют к общеизвестному образу понятий об эстетических вопросах. Им показалось бы даже, что я приверженец тех философов, которых мнения Оспариваю, если бы я не сказал об этом ясно. Поэтому я ие думаю, чтобы у нас поняли, до какой степени важны те вопросы, которые я разбираю, если меня не принудят прямо объяснить этого. Вообще ц нас очень затмились понятия о философии с тех пор, как цмерли или замолкли люди, понимавшие философию и следившие за нею (курсив наш. — Н. Б.) («Литературное наследие», т. II, стр. 199).
Говоря так, Чернышевский имел в виду прежде всего, конечно, Белинского и Герцена — прямых своих предшественников в деле освобождения русской философской мысли от ига гегельянщины. Воскрешению материалистических традиций великих представителей революционной мысли России и должна была служить его работа. Опираясь на эти традиции, Чернышевский углублял и развивал дальше революционные идеи и философские взгляды своих учителей.
Диссертации Чернышевского суждено было открыть новую страницу в развитии русской общественной мысли, продолжавшей в пятидесятые — шестидесятые годы, несмотря на цензурные тиски, могучее движение вперед, в борьбе с проповедниками реакции, идеализма, застоя, крепостничества.
Что хотел сказать Чернышевский, указывая на то, что у нас еще не поняли, «до какой степени важны… вопросы», поднятые в его диссертации?
Ответ на это мы найдем и в авторецензии на «Эстетические отношения», и в «Очерках гоголевского периода русской литературы», и в последующей переписке Чернышевского. '
Он многократно подчеркивал, что в известные исторические периоды вопросы литературы приобретают в жизни той или иной нации первостепенное значение. С особой силой это сказывается тогда, когда «литературные вопросы за невозможностью политических становятся, — по выражению Герцена, — вопросами жизни» («Былое и думы»).
Сходные мысли высказывались и в статьях Белинского, писавшего «о сильном и благотворном влиянии нашей литературы на общество и, следовательно, о ее великой для нас важности». 9
«Литература была для нашего общества живым источником даже практических нравственных идей… все наши нравственные интересы, вся духовная жизнь наша сосредоточивалась до сих пор и еще долго будет сосредоточиваться исключительно в литературе: она живой источник, из которого просачиваются в общество все человеческие чувства и понятия», — писал Белинский в статье «Мысли и заметки о русской литературе» (1846).
В «Очерках гоголевского периода» Чернышевский тоже говорит об особой роли русской литературы, которая всегда восполняла в духовной жизни страны то, чего она лишена была «из-за отсутствия разделения труда между разными отраслями умственной деятельности», то есть из-за отсутствия публицистики, философии, политической литературы и т. д.
Перед автором «Эстетических отношений» стояли, казалось бы, непреодолимые трудности. Чернышевский, по собственным его словам, «занимался встетикой только как частью философии». Одиако в самой диссертации он не мог прямо сказать, что он лишен был возможности обрисовать во всей полноте распад идеалистической философии и со всею ясностью заявить об освободительной силе материалистического учения, а должен лишь разбирать «по листочку» «одну ветвь» (т. е. эстетическую теорию) «мысленного древа», не объясняя, что это за древо, породившее эту «ветвь».
Ленин указывает, что Чернышевский умел и подцензурными статьями воспитывать настоящих революционеров. С величайшим искусством минуя цензурные препятствия, Чернышевский проводил в диссертации революционно-освободительные идеи своего времени, вскрывая с замечательной глубиной и последовательностью реакционную сущность идеалистических представлений об искусстве и действительности и провозглашая новые взгляды на искусство, вытекающие из материалистического мировоззрения и одухотворенные революционной страстностью.
При изучении теоретических источников диссертации Чернышевского следует иметь в виду, что в первые годы пребывания в университете (1847–1848) Чернышевскому еще не раскрылся весь смысл деятельности Белинского, о чем ясно говорят некоторые записи дневника Чернышевского той поры. Лишь по прошествии двух лет, когда окончательно выкристаллизовалось революционное мировоззрение Чернышевского, изменилось существенным образом и его отношение к великому критику. Начиная с 1850 года Белинский становится для Чернышевского подлинным светочем и путеводителем до конца его деятельности. '
Диссертация «Эстетические отношения» была первым ярким проявлением приверженности Чернышевского к идеям своего предшественника. Имя Белинского не могло быть названо в этой работе. Но анализ основных положений диссертации показывает, что она была теоретическим обобщением, философским обоснованием и дальнейшим, развитием взглядов Белинского на сущность и значение искусства 32.
Через некоторое время Чернышевский в своих «Очерках гоголевского периода» заявит об этом на страницах «Современника» с полной ясностью: «Литературные стремления, одушевлявшие критику гоголевского периода (т. е. Белинского), — кажутся нам, как и всем здравомыслящим людям настоящего времени, вполне справедливыми, мы все привязаны к ией горячею любовью преданных и благодарных учеников».
После смерти Белинского русская критика переживала период застоя и упадка. Общий фон бледной умеренной критики начала пятидесятых годов с ее приверженностью к идеализму, к теории «искусства для искусства», с ее барственно-эстетическим пренебрежением к «низкой» действительности ярко оттеняет революционное значение материалистической эстетики Чернышевского, провозгласившей искусство одним из сильнейших средств преобразования действительности.
Именно тут с особенной ясностью сказалась близость диссертации Чернышевского к эстетическим взглядам Белинского, выраженным в его статьях последнего периода. Для Чернышевского, как и для его учителя, вопросы искусства были «только полем битвы, а предметом борьбы было влияние вообще на умственную жизнь» (слова Чернышевского о Белинском). Вот почему, несмотря на кажущуюся отвлеченность темы диссертации, она приобрела в освещении Чернышевского животрепещущую общественную остроту и актуальность.
Закончив работу, Чернышевский снова отдал ее А. В. Никитенке. Если при беглом ознакомлении Никитенко не увидел в содержании представленного сочинения' ничего «опасного», то теперь он, видимо, почувствовал, что идеи, развиваемые Чернышевским, шире вопросов «о прекрасном в искусстве и в действительности» и резко противостоят общепринятым идеалистическим взглядам.
Почти в течение целого года он не решался представить диссертацию в факультет со своим одобрением и не давал окончательного ответа. Проволочка эта раздражала Чернышевского. 14 сентября 1854 года он писал отцу: «Дело о моем магистерстве, так несносно тянувшееся, опять подвигается: скоро начну печатать свою диссертацию. Из этого не следует, однако, чтобы конец был уже близок» («Литературное наследство», т. II, стр. 225).
В это время Чернышевский еще не расстался с мыслью о деятельности ученого: он намеревался после магистерского экзамена держать докторский, ио впоследствии, когда стало ясно, что профессура и совет университета делают все от них зависящее, чтобы помешать Чернышевскому осуществить его намерение, он вовсе охладел к этим планам.
В конце сентября 1854 года Чернышевский сообщил отцу, что диссертация переписывается для представления в совет университета: «Никитенко, наконец, удосужился прочитать ее и несколько дней тому назад уполномочил пустить ее в дело» (там же, стр. 226).
Но до окончания дела было еще далеко. Пока декан препроводил диссертацию на официальный отзыв Никитенке, пока тот представил свой отзыв, прошло более двух месяцев, и только 21 декабря Чернышевский сообщил отцу полученное им от декана извещение, что диссертация вскоре будет утверждена советом к напечатанию. В действительности это утверждение состоялось значительно позже.
Наступил 1855 год. 4 апреля Чернышевский писал отцу: «Я надеюсь скоро напечатать свою несчастную диссертацию, которая столько времени лежала и покрывалась пылью. Эта жалкая история так долго тянулась, что мне и смешно и досадно. И тогда я думал, и теперь вижу, что все было только формальностью; но формальность, которая должна была бы кончиться в два месяца, заняла полтора года… дело… тянулось невыносимо долго. Но теперь оно уже дотянулось до окончания» («Литературное наследие», т. II, стр. 251).
Утверждение диссертации советом последовало 11 апреля, и Чернышевский тотчас же сдал ее в типографию. 3 мая диссертация была отпечатана.
«Диссертация для сокращения времени н издержек напечатана мною в большом формате и очень убористым шрифтом; кроме того, и для тех же целей, я значительно сократил ее (хотя цензура университетская не зачеркнула ни одного слова), когда рукопись была уже одобрена к печати. Потому 4 вышло всего только шесть с половиной печатных листов, вместо двадцати, которые были бы наполнены ею без сокращений и при обыкновенном разгонистом печатании… Во внешнем отношении оиа имеет ту особенность, что нет в ней ни одной цитаты — наперекор общей замашке шарлатанить этою дешевою ученостью. К числу особенностей принадлежит и то, что она писана мною прямо набело — случай, едва ли бывавший с кем-нибудь. Этим всем я хотел себе доставить удовольствие внутренне позабавиться над людьми, которые [не могут] сделать подобного…» (там же, стр. 254).
Диспут был назначен на 10 мая 1855 года.
Чернышевский настолько был уверен в своем превосходстве над оппонентами, что в день диспута почти не готовился к нему, занимаясь главным образом правкой корректуры «Современника».
Диспут начался в час пополудни под председательством ректора Петербургского университета П. А. Плетнева. Среди слушателей присутствовали близкие, друзья и знакомые Чернышевского: его жена Ольга Сократовна, А. Н. Пыпин, П. В. Анненков, И. И. Введенский, Ф. Е. Корш, А. А. Краев-ский, В. И. Даманский, Л. А. Мей, И. И. Панаев, П. П. Пекарский, И. В. Писарев, А. Ф. Раев, С. И. Сераковский, А. Н. Струговщиков, И. Г. Терсинский, Н. В. Шелгунов и др.
Официальными оппонентами были профессора А. В. Никитенко и М. И. Сухомлинов.
Описание этого «знаменательного дня» сохранилось в «Воспоминаниях» Н. В. Шелі унова (Гиз, 1923, стр. 163 и сл.). Шелгунов говорит, что умственное движение шестидесятых годов, выразившееся наиболее ярко с 1859 по 1862 год, впервые было провозглашено в 1855 году именно на публичном диспуте в Петербургском университете, когда Чернышевский защищал свою диссертацию.
«Небольшая аудитория, отведенная для диспута, была битком набита слушателями. Тут были и студенты, но, кажется, было больше посторонних, офицеров и статской молодежи. Тесно было очень, так что слушатели стояли на окнах. Я тоже был в числе этих, а рядом со мной стоял Сераковский (офицер Генерального штаба, впоследствии принявший участие в польском восстании и повешенный Муравьевым)… Чернышевский защищал диссертацию со своей обычной скромностью, но с твердостью непоколебимого убеждения. После диспута Плетнев обратился к Чернышевскому с таким замечанием: «Кажется, я на лекциях читал вам совсем не этоі» И действительно, Плетнев читал не то, а то, что он читал, было бы не в состоянии привести публику в тот восторг, в который ее привела диссертация. В ней было все ново и все заманчиво: и новые мысли, и аргументация, и простота, и ясность изложения. Но так на диссертацию смотрела только аудитория. Плетнев ограничился своим замечанием, обычного поздравления не последовало, а диссертация была положена под сукно».
Утверждение Чернышевского в звании магистра последовало лишь в ноябре 1858 года, когда у него пропал всякий интерес к научно-университетской карьере 33.
Прения протекали именно так, как предполагал Чернышевский. По словам Пытшна, Никитенко, отмечая целый ряд неоспоримых достоинств диссертации, тем не менее отвергал ее философскую основу и защищал «незыблемые идеальные цели искусства, установленные существующей эстетической теорией». Сначала Чернышевский возражал очень сдержанно, признавая, что его диссертация слабо аргументирована. Но он указал, что слабость этой аргументации зависела не от него (здесь несомненно имелись в виду цензурные препятствия). Затем он говорил о господстве рабского преклонения перед устаревшими мнениями, о предрассудках и заблуждениях, о боязни смелого, свободного исследования и свободной критики, которая не должна знать преград. «Только этим обстоятельством и можно объяснить, что в нашем образованном и ученом обществе держатся до сих пор устарелых и давно уже ставших ненаучными эстетических понятий. Наши понятия об идеальном значении искусства отжили, и их надо отбросить вместе со всеми аналогичными идеями о других предметах» («Голос минувшего», 1916, № 1).
Таково было впечатление присутствовавшего на диспуте Пыпина. Сам Чернышевский писал бтцу 10 мая’ «Заключился он (диспут. — Ред.) обыкновенным концом, т. е. поздравлениями, потому что диспут чистая форма. Никитенко возражал мне очень умио, другие, в том числе Плетнев, ректор, очень глупо. Впрочем, и Никитенко повторял только те сомнения, которые приведены и уже опровергнуты в моем сочиненьишке, которое, как ни плохо, все же основано на знакомстве с предметом, почти никому у нас неизвестным, потому и не может иметь серьезных противников, кроме разве двух-трех лиц, к числу которых не принадлежит ни один из людей, мне известных… Я думал, что придется мне говорить что-нибудь дельное, в ответ на возражения или, по крайней мере, по поводу их, — но они были так далеки от сущности дела, что и ответы мои должны были касаться только пустяков. Одним словом, диспут мог для некоторых показаться оживлен, но в сущности был пуст, как я, впрочем, и предполагал. Не предполагал я только, чтобы он был пуст до такой степени» («Литературное наследие», т. II, стр. 256).
Выход из печати диссертации, несмотря на важность затронутых в ней вопросов, не вызвал оживленной полемики. Журнальные отклики были немногочисленны. В 1855 году появились лишь две рецензии. С. Дудышкин в «Отечественных записках» (1855, июнь) дал довольно подробный анонимный разбор диссертации с резко отрицательной оценкой ее. По мнению рецензента, новые принципы, положенные в основу эстетической теории Чернышевского, должны повергнуть читателей в «неподдельный ужас». С особым возмущением рецензент отнесся к утверждению Чернышевского, что «единственная цель и значение очень многих (большей части) произведений искусства — дать возможность хотя в некоторой степени познакомиться с прекрасным в действительности тем людям, которые не имели возможности насладиться им на самом деле».
«Лучше повторять, — говорит рецензент «Отечественных записок», — избитую фразу, что предмет эстетики — прекрасное. Это объяснение, как ни односторонне оно, имеет, по крайней мере, то преимущество, что указывает на форму как на главное условие эстетических произведений».
В «Библиотеке для чтения» (1855, т. 132, отд. VI, стр. 5) анонимный рецензент (повидимому, А. Дружинин) поддержал это выступление «Отечественных записок», назвав их разбор диссертации справедливым.
Ко времени появления диссертации в свет Чернышевский уже занимал в редакции «Современника» видное положение. Книга не могла пройти незамеченной в среде писателей. Первые отклики их были крайне неблагожелательны. Писатели-дворяне остро почувствовали в лице Чернышевского
опасного противника. Книга его вызвала переполох в их среде, о чем свидетельствует переписка Тургенева, Григоровича, Боткина и мемуары современников.
С особой резкостью отзывался о диссертации И. С. Тургенев. В течение двух дней (9 и 10 июля 1855 года) он написал по поводу диссертации несколько писем — Боткину, Григоровичу, Краевскому, Панаеву и Некрасову.
Тургенев прямо бил тревогу. Он клялся Григоровичу «преследовать Чернышевского, презирать и уничтожать его всеми дозволенными и особенности недозволенными средствами. «Я прочел его отвратительную книгу, эту поганую мертвечину, которую «Современник» не устыдился разбирать серьезно» 34 (Первое собрание писем И. С. Тургенева, Спб. 1884, стр. 14).
«Книгу Чернышевского, эту гнусную мертвечину, это порождение злобной тупости и слепости не так бы следовало разобрать, как это сделал г-н Пыпин. Подобное направление гибельно — и «Современнику», больше чем кому-нибудь, следовало восстать против него» (И. Панаеву, 10 июля 1855 года).
Указанную нами рецензию в «Отечественных записках» Тургенев поспешил одобрить: «Спасибо вам, — писал он А. А. Краевскому, — что
у вас отделали гадкую книгу Чернышевского. Давно я не читал ничего, что бы меня так возмутило. Это хуже, чем дурная книга, — это дурной поступок».
Интересен ответ В. П. Боткина Тургеневу. «Представь себе дикую странность мою: ведь я не совсем согласен с тобой относительно диссертации Чернышевского. В ней очень много умного и дельного… неоспоримо и то, что прежние понятия об искусстве очень обветшали и никуда не годятся… По мне, большая заслуга Чернышевского в том, что он прямо коснулся вопроса, всеми оставляемого в стороне». Но в дальнейшем Боткин согласился с Тургеневым («В. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка», стр. 61, 62, 66, 67, 69).
Л. Н. Толстому в эти годы Чернышевский был тоже «больше всех не по нутру» (см. «Толстой и Тургенев. Переписка», изд. Сабашниковых, 1928, стр. 27). Но чрезвычайно важно отметить, что много позднее (1896) Толстой был буквально «поражен», когда В. В. Стасов «напомнил» ему однажды то «великое слово», которое Чернышевский выговорил еще в 1855 году в своих великих «Эстетических отношениях»: «…что искусство есть та человеческая деятельность, которая произносит суд над жизнью» (см. сборник «Лев Николаевич Толстой», Гиз, 1928, стр. 358). _
Ф. М. Достоевский выступил в 1864 году с затушеванной пародией на эстетическую теорию Чернышевского в отрывке из романа «Щедродаров» («Эпоха», 1864, май). В этой сатире, направленной главным образом против Щедрина, Достоевский пытался высмеять «Эстетические отношения искусства к действительности» («Яблоко натуральное и яблоко нарисованное»).
Настоящего, обстоятельного анализа и освещения диссертация Чернышевского в то время не получила, да едва ли и могла получить. Это заставило самого Чернышевского, тотчас после издания книги, взяться за разбор «Эстетических отношений», чтобы восполнить свои упущения и под видом критики изложить подробнее то, что недостаточно ясно было развито в его сочинении.
В 1865 году, когда Чернышевский был уже в ссылке, вышло второе издание диссертации (без имени автора). На этот раз вопросы, затронутые в его работе, стали предметом оживленного обсуждения критики. К этому времени относятся статьи Н. Соловьева в «Отечественных записках», нашумевшая статья Писарева «Разрушение эстетики» («Русское слово», 1865, май), рецензия В. Зайцева («Русское слово», 1865, апрель), статья М. Антоновича («Современная эстетическая проблема») и др. Взгляды на искусство радикалов-разночиицев Писарева, Зайцева и др. не совпадали со взглядами Чернышевского. Они выступали уже вообще против искусства, но старались обосновать свои антиэстетические позиции ссылками на Чернышевского.
М. Антонович в своей статье, помещенной в «Современнике» (1865, № 3), называет год появления «Эстетических отношений» «эпохой» в истории наших литературно-эстетических воззрений: «в этом году и в этом сочинении в первый раз были высказаны, доказаны и развиты те эстетические воззрения, которые в настоящее время получили права гражданства и почти исключительно господствуют в нашей литературе».
Стараясь выяснить 'истинный смысл теории Чернышевского, Антонович не только защищал ее от нападений справа, в частности от ядовитых намеков, содержавшихся в «Господине Щедродарове» Достоевского, но ограждал ее и от некоторых рьяных критиков, которые, воюя против ложных направлений искусства, дошли до того, что стали вообще восставать против искусства и против эстетического наслаждения им.
Полемизируя с Антоновичем, Писарев выступил со статьей «Разрушение эстетики», в которой пытался убедить читателей, что диссертация Чернышевского была написана с целью доказать ненужность эстетики. «Писарев плохо понял основную мысль «Эстетических отношений», — писал по этому поводу Плеханов. — ^ Чернышевский, принимаясь за свою диссертацию, вовсе не задавался целью погубить эстетику… но, напротив, горячо защищал ее от тех ее недоброжелателей, которые говорят, что не следует заниматься ею, как наукой слишком отвлеченной и потому неосновательной» (Собр. соч., т. VI, стр. 246).
В 1866 году стали появляться брошюры К. Случевского под общим заглавием «Явления русской жизни под критикою эстетики». Второй выпуск этой небольшой «серии» был посвящен «Эстетическим отношениям искусства к действительности» господина Ч ***.
Случевский, бывший в 50-х годах за границей одним из организаторов в Гейдельберге «русской читальни» — пропагандистского центра, связанного с Герценом, в середине 60-х годов уже изменил свою общественную позицию. Его брошюра, посвященная Чернышевскому, отличается резко полемическим тоном, переходящим местами в шутовской и непристойный тон, сумбурностью изложения, ложной ученостью и откровенным эклектизмом.
Отпор Случевскому можно найти в интересной для своего времени книге А. Немировского «Наши идеалисты и реалисты» (1867), гл. XVI— «Случевский против реалистов».
Из более поздних выступлений следует отметить статью Вл. Соловьева «Первый шаг к положительной эстетике» (1894). Он сам рассматривает свою статью как «некоторое заступничество за Чернышевского против Боборыкина, который «боборыкнул покойного в московском философском журнале» (имеется в виду статья П. Боборыкина «Красота, жизнь и творчество», помещенная в «Вопросах философии и психологии», 1893, кн. 1-я и 2-я).
Однако понимание законов эстетики философом-ндеалистом Вл. Соловьевым прямо противоположив пониманию Чернышевского. Искатель «нового религиозного сознания», Соловьев считал, что цель эта заключается в собирании человечества «вокруг невидимого, но могучего центра христианской культуры».
«Эстетические отношения» оказали плодотворное влияние на развитие русского искусства.
Чрезвычайно интересно свидетельство И. Е. Репина о чтении трактата Чернышевского молодыми художниками шестидесятых годов, группировавшимися около И. Н. Крамского (см. И. Е. Репин, «Далекое и близкое», «Искусство», М. — Л. 1944, стр. 179).
Насколько глубоко идеи Чернышевского проникли в среду передовых русских художников второй половины прошлого века, показывает ответ И. Н. Крамского на обращение к нему В. В. Стасова, выразившего восторженное удивление по поводу одной из статей художника. 30 апреля 1884 года автор статьи пишет Стасову: «Вы говорите, например, что кто же из русских художников так думает и пишет и пр. и пр… Господи, боже мой! Да кто же из русских человеков может так не думать после Белинского, Гоголя, Федотова, Иванова, Чернышевского, Добролюбова, Перова» (И. Н. Крамской, «Письма», стр. 487).
Как раз в десятилетний промежуток между появлением первого и второго изданий диссертации Чернышевского (1855–1865) протекало формирование деятелей русской реалистической живописи в «Артель».
Говоря об этом периоде в истории изобразительного искусства, В. Ста сов писал позднее: «…Двадцатилетняя молодежь возмутилась теми
«программами» на высшую золотую медаль (с поездкой за границу), которые крепко, мирно и счастливо навязывались ученикам академическим в продолжение лет ста, еще со времен Екатерины II. Движимые духом времени н проснувшимся тогда а России чувством самосознания, они отказались от Академии, наград и заграницы, устроили свою собственную Артель, нечто вроде — «фаланстера», а Іа Чернышевский, и стали жить и работать сообща вместе» (В. В. Стасов, Собр. соч., т. IV, «Искусство в XIX веке», стр. 217).
Переходя к оценке диссертации Чернышевского в 'марксистской критике, мы должны прежде всего указать на то, что Ленин в борьбе с махистами, против которых направлена его работа «Материализм и эмпириокритицизм» (1908), остановился в своей книге на предисловии Чернышевского к третьему изданию «Эстетических отношений», посвятив ему «Добавление к § 1-му главы IV. С какой стороны подходил Н. Г. Чернышевский к критике кантианства?»35
Ленин писал: «В первом параграфе четвертой главы мы показали подробно, что материалисты критиковали и критикуют Канта с диаметрально противоположной стороны по отношению к той, с которой критикуют его Мах и Авенариус. Не лишним считаем добавить здесь, хотя вкратце, указание иа гносеологическую позицию великого русского гегельянца и материалиста, Н. Г. Чернышевского.
Немного спустя после критики Канта немецким учеником Фейербаха, Альбрехтом Рау, великий русский писатель Н. Г. Чернышевский, тоже ученик Фейербаха, впервые попытался прямо изложить свое отношение и к Фейербаху н к Канту. Н. Г. Чернышевский выступал в русской литературе еще в 50-х годах прошлого века, как сторонник Фейербаха, но наша цензура не позволяла ему даже упомянуть имя Фейербаха. В 1888 году в предисловии к предполагавшемуся третьему изданию «Эстетических отношений искусства к действительности» Н. Г. Чернышевский попытался прямо указать на Фейербаха, но цензура и в 1888 году не пропустила даже простой ссылки на Фейербаха! Предисловие увидело свет только в 1906 году: см. т. X, ч. 2 «Полного собрания сочинений» Н. Г. Чернышевского, стр. 190–197. В этом «Предисловии» Н. Г. Чернышевский посвящает полстранички критике Канта и тех естествоиспытателей, которые в своих философских выводах идут за Кантом.
Вот это замечательное рассуждение Н. Г. Чернышевского в 1888 году:
«Те натуралисты, которые воображают себя строителями всеобъемлющих теорий, на самом деле остаются учениками, и обыкновенно слабыми учениками, старинных мыслителей, создавших метафизические системы, и обыкновенно мыслителей, системы которых уже были разрушены отчасти Шеллингом и окончательно Гегелем. Достаточно напомнить, что большинство натуралистов,»пытающихся строить широкие теории законов деятельности человеческой мысли, повторяют метафизическую теорию Канта о субъективности нашего знании»,«(к сведению все перепутавших российских махистов: Чернышевский стоит позади Энгельса, поскольку он в своей терминологии смешивает противоположение материализма идеализму с противоположением метафизического мышления диалектическому, но Чернышевский стоит вполне на уровне Энгельса, поскольку он упрекает Канта не за реализм, а за агностицизм и субъективизм, не за допущение «вещи в себе», а за неумение вывести наше знание из этого объективного источника)… «толкуют со слов Канта, что формы нашего чувственного восприятия не имеют сходства с формами действительного существования предметов»…. (к сведению все перепутавших российских махистов: критика Канта Чернышевским диаметрально противоположна критике Канта Авенариусом — Махом и имманентами, ибо для Чернышевского, как и для всякого материалиста, формы нашего чувственного восприятия имеют сходство с формами действительного, т. е. объективно-реального существования предметов).««что поэтому предметы действительно существующие и действительные качества их, действительные ' отношения их между собою непознаваемы для нас»…. (к сведению все перепутавших российских махистов: для Чернышевского, как и для всякого материалиста, предметы, то есть, говоря вычурным языком Канта, «вещи в себе», действительно существуют и вполне познаваемы для нас, познаваемы и в своем существовании, н в своих качествах, и в своих действительных отношениях)… «и если бы были познаваемы, то не могли бы быть предметом нашего мышления, влагающего весь материал знаний в формы совершенно различные от форм действительного существования, что и самые законы мышления имеют лишь субъективное значение», (к сведению путаников-махистов: для Чернышевского, как
и для всякого материалиста, законы мышления имеют не только субъективное значение, т. е. законы мышления отражают формы действительного существования предметов, совершенно сходствуют, а не различествуют, с этими формами)… «что в действительности нет ничего такого, что представляется нам связью причины с действием, потому что нет ни предыдущего, ни последующего, иет ни целого, ни частей и так далее, и так далее».«(К сведению путаников-махистов: для Чернышевского, как и для всякого материалиста, в действительности есть то, что представляется нам связью причины с действием, есть объективная причинность или необходимость природы).««Когда натуралисты перестанут говорить этот и тому подобный метафизический вздор, они сделаются способны вырабатывать и, вероятно, выработают, на основании естествознания, систему понятий, более точных и полных, чем те, которые изложены Фейербахом»… (К сведению путаников-махистов: Чернышевский называет метафизическим вздором всякие отступления от материализма и в сторону идеализма и в сторону агностицизма)… «А пока лучшим изложением научных понятий о так называемых основных вопросах человеческой любознательности остается то, которое сделано Фейербахом» (стр. 195–196). Осиевнымв вопросами человеческой любознательности Чернышевский называет то, что на современном языке называется основными вопросами теории познания или гносеологии. Чернышевский— единственный действительно великий русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 88-го года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путаников. Нс Чернышевский не сумел, вернее: не мог, в силу отсталости русской жизни, подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса» (Ленин, Соч., т. XIV, изд. 4-е, стр. 344–346).
Эти слова Ленина свидетельствуют, что трактат Чернышевского об эстетике, помимо специального значения, имеет еще и огромное общефилософское значение, являясь одним из краеугольных камней русской материалистической мысли.
Насколько высоко классики марксизма ценили теоретические труды великих русских революционных демократов, свидетельствует письмо Энгельса к Е. Паприц от 26 июня 1884 года. Характеризуя уровень, достигнутый передовой русской наукой, Энгельс писал: «Если некоторые школы и отличались больше своим революционным пылом, чем научными исследованиями, если были и есть еще различные блуждания, то, с другой стороны, была и критическая мысль и самоотверженные искания в области чистой теории, достойные народа, давшего Добролюбова и Чернышевского («Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями», Госполитиздат, 1947, стр. 230). Следует отметить, что в ответ на пожелание Маркса получить сведения о жизни и деятельности Чернышевского Даниельсон указывал ему в числе других работ и на «Эстетические отношения искусства к действительности».
«Написанная им для получения степени магистра диссертация («Эстетические отношения искусства к действительности», СПБ., 1855 г. — сообщал Даниельсон Марксу, — ее теоретическая основа послужила исходным пунктом для деятельности Чернышевского и Добролюбова как критиков) была отвергнута университетом».
Впервые детальный анализ диссертации Чернышевского был произведен Г. В. Плехановым. В его сборнике «За двадцать лет» (1905) диссертации посвящена статья «Эстетическая теория Чернышевского», выясняющая источники и философскую основу «Эстетических отношений искусства к действительности». Плеханов сделал это до появления в печати предисловия самого Чернышевского к предполагавшемуся третьему изданию «Эстетических отношений» (1888), предисловия, задержанного тогда цензурой и напечатанного лишь в 1906 году.
Плеханов считал «Эстетические отношения» единственной в своем роде попыткой построения эстетики на основе материалистической философии Фейербаха. (Заметим здесь, что это утверждение Плеханова свидетельствовало о явной недооценке им самостоятельности философской мысли Чернышевского, о чем подробнее нам придется говорить ниже.)
Разобрав тезис Фейербаха — «чувственность» или действительность тождественна с истиной», — Плеханов говорит: «Если сущность человека — «чувственность», т. е. действительность, а не вымысел и не абстракция, то всякое превознесение вымысла и абстракции над действительностью не только ошибочно, но и вредно на практике. И если задача философии заключается в реабилитации действительности, то в такой же реабилитации заключается. и задача эстетики, как особой отрасли философского мышления. Этот неоспоримый вывод и составляет главную мысль диссертации Чернышевского». (Цитируем по «Истории русской литературы XIX в.», изд. «Мир», т. III, стр. 185.)
Плеханов подробно рассмотрел вопрос о возвышенном, о трагическом и комическом в освещении Чернышевского. Ценность и значение работы Плеханова ослабляется ошибками, заключающимися, главным образом, в подмене диалектического анализа действительности механическим сопоставлением идей. Некоторые из этих ошибок вскрыты в статье
А. В. Луначарского «Этика и эстетика Чернышевского перед сѵдом современности» («Вестник Коммунистической академии», 1928, № 5 (1),
стр. 3—11)-.
Луначарский в своей статье показал однобокость и узость плехановского определения Чернышевского как рационалиста н просветителя, восстановив перед нами живой образ боевого материалиста, материалиста-рево-люци^нера.
Не менее важным представляется нам то, что Луначарский разоблачил в своей работе меньшевистский характер плехановской концепции, показав, что один из основных тезисов «Эстетических отношений» — искусство не только объясняет действительность, но и выносит ей приговор — был отвергнут Плехановым именно ввиду того, что Плеханов хотел лишь исследовательского, тад называемого «объективного» взгляда на вещи, «Но марксизм дал правильное представление о закономерностях,' по которым развиваются общественные явления. И если мы из этого марксизма совсем изымем идею о сознательности, о сознательном руководстве явлениями, о нашей активности, то это будет самый настоящий меньшевистский «марксизм». «Вот почему, — писал Луначарский, — для нас важна и приемлема эстетика Чернышевского с ее страстной ненавистью к искусству, понимаемому как сила, подменяющая действительную жизнь, с ее влюбленностью в действительную жизнь, с ее жаждой развития подлинной жизни и ее расцвета, с отрицательным отношением к мертвечине и утверждением, что искусство отражает то, что интересно для человека, а не просто все, как отражает зеркало.
Основная мысль Чернышевского, что искусство произносит приговор над жизнью, то есть вызывает с нашей стороны определенную эмоциональную реакцию на изображаемое, н что художник является моральным деятелем, принимает участие в культурном строительстве, — совершенно правильна».
К сказанному Луначарским следует добавить, что Плеханов недооценил своеобразие и новизну эстетических взглядов Чернышевского. Правда, Чернышевский сам неоднократно с величайшей скромностью утверждал, что задача его диссертации сводится лишь к применению идей Фейербаха к теории искусства. В действительности, однако, это далеко не так. Чернышевскому пришлось заново строить материалистическую эстетику, родственную по духу учению Фейербаха, но совершенно самостоятельную.
В своих заметках на опубликованную в 1910 году статью Плеханова о Чернышевском Ленин отмечает, что «Из-за теоретического различия идеалистического и материалистического взгляда на историю Плеханов просмотрел практически-политическое и классовое различие либерала и демократа» (Ленинский сборник, XXV, стр. 231)
В знаменитых тезисах Маркса о Фейербахе и в статьях Энгельса о нем вскрыт метафизический, созерцательный характер материализма Фейербаха. Для него характерен исключительный интерес к абстрактно-гносеологическим и религиозным проблемам вне связи с общественным развитием. «Фейербах не понимает поэтому и значения революционной, практически-критической деятельности» (Маркс). «Даже Штарке вынужден признать, что политика для Фейербаха недоступная область, а «наука об обществе — социология— terra incognita» (Энгельс).
Утверждать то же самое о Чернышевском, которого Ленин называл великим социалистом, было бы чудовищной несправедливостью. Об этом коренном различии между Чернышевским и Фейербахом мы не должны забывать. Оно-то и показывает, насколько выше «учителя» поднимался Чернышевский.
Трактат Чернышевского сыграл колоссальную роль в борьбе с идеалистической эстетикой. Это была первая в истории материализма попытка создать систематическую, научную эстетику с материалистической точки зрения.
«Эстетические отношения искусства к действительности» посвящены не
только критическому анализу теории Гегеля и гегельянца Фишера; трактат Чернышевского выходит за пределы своего специального назначения, являясь в известной мере и общефилософским трактатом.
В этой работе Чернышевский подвергает всесторонней критике гегелевскую философию, вскрывая двойственность самой системы Гегеля, внутреннее противоречие между ее принципами и выводами, между ее методом и системой. Заметим здесь, что еще за несколько лет до создания диссертации, изучая «Философию права» Гегеля, двадцатилетний юноша Чернышевский отмечал, что мысли Гегеля «не дышат нововведениями», что он «раб настоящего положения вещей», настоящего устройства общества. Консервативная сторона философии Гегеля, противоречие между его системой и методом раскрыты Чернышевским в диссертации. Замечательна вместе с тем проницательность Чернышевского, сумевшего отделить в трудах Гегеля зерно истины от метафизической скорлупы, взять у него то, что представляло объективную ценность. Чернышевский прекрасно сознавал, что философские системы, породившие идеалистическую эстетику, «распалясь, уступив место другим… понимавшим жизнь совершенно иначе».
Замечательно, что в эстетических статьях Чернышевского мы наталкиваемся на попытки читать Гегеля «материалистически». В своей, не изданной при жизни, статье «Критический взгляд на современные эстетические понятия» Чернышевский прямо говорит, что он будет «разоблачать от схоластической мантии» эстетические понятия гегелевской школы: «разоблаченные от схоластики, рассматриваемые в отдельности от принципов и гипотез» гегелевской философии, «эстетические понятия — много выиграют в прочности, потому что гегелева философия давно уже разрушена людьми, провозгласившими новый, более простой взгляд на вещи, о которых так мудрено говорили Гегель и его предшественники… Освобожденные от гегелевской терминологии и стеснительной методы развития, эстетические понятия будут гораздо яснее, общепонятнее, общеинтереснее для читателей…»
Следуя этому своему намерению сорвать схоластическую мантию с эстетических понятий, отбросить «абсолют», «чистую идею» и т. п., Чернышевский пункт за пунктом опровергает основные положения идеалистической эстетики, которая от Плотина до Канта и Гегеля покоилась на религиозном истолковании идеи прекрасного.
Эстетика Чернышевского, как первая материалистическая теория искусства, представляет для нас первостепенный и не только исторический интерес. Многие стороны эстетического учения Чернышевского близки нашему времени. Когда мы всматриваемся в тезисы его диссертации, мы видим, что в целом ряде их затрагиваются проблемы, волнующие наше сегодняшнее советское искусство.
Строя свою эстетику на страстном возвышении действительности, жизни, природы, Чернышевский тем самым закладывал основы реалистической эстетики. Этой своей стороной она особенно родственна нашей современности. Чернышевский отрицал искусство, оторванное от жизни, тяготеющее к призрачным образам бесплодной фантазии, он отрицал тепличные цветы искусства для искусства. Он призывал художников к полнокровному воспроизведению жизни во всем ее многообразии.
Ложные направления в искусстве — формализм и натурализм — решительно осуждались Чернышевским. Строго говоря, впервые философски обоснованную критику формализма и натурализма мы находим в диссертации Чернышевского. Формализм, как мы его понимаем, начинается там, где «искусство, — по определению Чернышевского, — переходит в искусственность», формализм там, где «господствует мелочная отделка подробностей, цель которой не приведение в гармонию с духом целого, а только то, чтобы сделать каждую из них в отдельности интереснее или красивее, почти всегда во вред общему впечатлению произведения, его правдоподобию и естественности».,
Чрезвычайно важно отметить, что многие возражения Чернышевского против формалистических ухищрений обращены вместе с тем и против
бессмысленного, ничем не одухотворенного копирования, когда мелочное выписывание отдельных черт и бесконечных деталей заводит, художника в дебри натурализма. Натурализм, или «мертвая копировка», «дагерротипное копирование», бесполезное подражание, как выразился бы Чернышевский, порождается пассивным «воспроизведением действительности», против которого он предостерегает в своей эстетике.
Необходимым условием для всякого большого художественного произведения Чернышевский считал наличие в нем ответа на запросы современности, «ибо истинный художник в основание своих произведений всегда кладет идеи современные»
Писатель должен быть в гуще жизни, его не могут не волновать вопросы, порождаемые действительностью, и тогда «в его произведениях сознательно или бессознательно выразится стремление» дать свою оценку, «свой живой приговор о явлениях, интересующих его (и его современников, потому что мыслящий человек не может мыслить над ничтожными вопросами, никому, кроме него, не интересными)». Тогда его «произведения будут, чтобы так выразиться, сочинениями на темы, предлагаемые жизнью… тогда художник становится мыслителем».
Эти положения эстетики Чернышевского близки каждому подлинному художнику наших дней.
Действенный революционный характер эстетики Чернышевского отмечен в докладе тов. А. А. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». «Боевое искусство, — говорил тов. Жданов, — ведущее борьбу за лучшие идеалы народа — так представляли себе литературу и искусство великие представители русской литературы. Чернышевский, который из всех утопических социалистов ближе всех подошел к научному социализму и от сочинений которого, как указывал Ленин, «веяло духом классовой борьбы», — учил тому, что задачей искусства является, кроме познания жнзнн, еще н задача научить людей правильно оценивать те или иные общественные явления».
Наиважнейшие эстетические проблемы современности перекликаются с проблемами, выдвинутыми в диссертации Чернышевского. Вот почему наша критика, наша наука, разрабатывая эстетику социалистического общества, не должна забывать об «Эстетических отношениях искусства к действительности»— этом ярчайшем документе эстетики домарксовского периода.
2 Строки эти явно намекают на невозможность говорить о многочисленных фактах, т. е. прямо апеллировать к материализму, назвать имя Фейербаха и т. п.
3 …если еще стоит говорить об эстетике… — слоча эти вовсе не являются отрицанием эстетики, а лишь скрытым указанием на печальную необходимость формально оставаться в узких пределах данного круга проблем, ибо общефилософские вопросы цензурно были запретны.
4 Это — цитата, вернее пересказ отрывка из I тома (стр. 53) «Эстетики или науки о прекрасном» Фр. Фишера («Aesthetik oder Wissenschaft des Schönen», Reitlingen und Leipzig. Carl Mäckens Verlag. 1846–1858. 6 томов).
5 Cp. Fischer, «Aesthetik oder Wissenschaft des Schönen», т. I, Erster Teil, die Metaphisik des Schönen, § 13, стр. 50 и 54.
6 Cp. Fischer, «Aesthetik oder Wissenschaft des Schönen», т. I, § 51, стр. 141.
7 Cp. Fischer, «Aesthetik oder Wissenschaft des Schönen», т. I, § 74, стр. 189.
8Cp. Fischer, «Aesthetik oder Wissenschaft des Schönen», т. I,§ 44, стр. 129.
9 Из баллады В. А. Жуковского «Алина н Альсим» (1814. Из Мон-
10 Fischer, «Aesthetik oder Wissenschaft des Schönen», т. II. Zweiter Abschnitt. Die subjective Existenz des Schönen oder die Phantasie. A. Die Phantasie überhaupt, a. Die allgemeine Phantasie, § 79, стр. 299 и сл См. также: Гегель, том XII, «Лекции по эстетике», книга I, Соцэкгиз, 1938 («Идея прекрасного в искусстве». Вторая глава «Прекрасное в природе», стр. 119 и сл.).
11 Cp. Fischer, «Aesthetik oder Wissenschaft des Schönen», т. I, § 83, стр. 218, а также т. I, § 82, zweiter Abschnitt, das Schöne im Widerstreit seiner Momente, стр. 214–218, и т. I, § 147, В. Das Komische, стр. 334. Подробнее см. в статье Чернышевского «Возвышенное и комическое», стр. 159 настояшего тома.
12 Kant, «Kritik der Urtheilskraft», § 25–26 (SS. 96—101).
13 Fischer, «Aesthetik oder Wissenschaft des Schönen», т. I, Das Erhabene des Subject — Object oder das Tragische, стр. 279–320.
14 Fischer, «Aesthetik oder Wissenschaft des Schönen», т. I, Das Tragische als Gesetz des Universums, § 130, стр. 301–320.
15 Cp. Г. В. Плеханов, «Эстетическая теория Чернышевского» (Соч., т. VI, стр. 271–276) и А. В. Луначарский, «Н. Г. Чернышевский» (Гиз, 1928, стр. 39–44).
16 Во введении к своим «Итальянским исследованиям» («Italieniche Forschungen», 1826–1831) Румор писал: «Знаменитая натурщица Виттория была прекраснее всех художественных произведений Рима, и красота ее осталась недосягаемой для всех подражающих художников».
17 Ср.: «Человек прекрасен только в одну минуту своей жизни, и в эту минуту предмет бывает именно тем, что он есть во всей вечности» (Шеллинг, «Rede über das Verhältnis der Bildenkunst zur Natur», 1843, § 20).
Fischer, «Aesthetik oder Wissenschaft des Schönen», т. I, § 54, стр. 147.
19 См. Гете, «Годы учения Вильгельма Мейстера», Гослитиздат. Собр. соч., т. VII, 1935.
20 «Дон» Жуаи» — опера Моцарта.
21 Гете познакомился с И. Г. Мерком в Дармштадте в 1772 году. Многие черты Мерка запечатлены в образе Мефистофеля. («Мерк и я, мы были всегда вместе, как Фауст и Мефистофель…» — «Разговоры Гете, собранные Эккерманом», изд. А. С. Суворина, Спб. 1905, часть 2-я, беседа 27 марта 1831 года).
22 То есть из «Эстетики» Гегеля.
23 Не вполне точная и неполная цитата из «Лекций по эстетике» Гегеля (см. Гегель, Сочинения, т. XII, Соцэкгиз, 1938, стр. 45).
24 Здесь Чернышевский также приводит сокращенную и не вполне точную цитату из «Введения» к «Лекциям по эстетике» Гегеля (см. Сочинения, т. XII, стр. 46–47).
25 То есть связано с учением Гегеля о диалектике и с материалистической философией Фейербаха.
26 См. прим. 5 к статье «О поэзии. Сочинение Аристотеля».
27 В своем последнем годичном обозрении русской литературы Белинский, опровергая теорию «искусства для искусства», стремился показать, что искусство никогда не ограничивалось элементом прекрасного. Диссертация Чернышевского является дальнейшим развитием этих взглядов Белинского на искусство (см. Г. В. Плеханов, Собр. соч., т. VI, «Эстетическая теория Чернышевского», стр. 251).
28 Здесь Чернышевский имеет в виду издание Дитриха — Августа Tanne: «Сокращение Российской истории Н. М. Карамзина, в пользу юношества и учащихся российскому языку, с знаками ударения и с толкованием труднейших слов и речений на немецком и французских языках и с ссылкою на грамматические правила», 2. части, СПБ. 1819.
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ИСКУССТВА К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
(Авторецензия)
1 Мы уже указывали в примечания» к «Эстетическим отношениям», что выход из печати диссертации Чернышевского, несмотря на важность затронутых в ней вопросов, вызвал лишь немногочисленные журнальные отклики, Чернышевский понимал, что его эстетическая теория ие могла
получить тогда справедливой оценки и сколько-нибудь подробного освещении в критике.,
Вероятно, это обстоятельство и заставило самого Цернышевского вскоре после выхода книги из печати взяться за разбор «Эстетических отношений искусства к действительности», чтобы восполнить, насколько было возможно, упущения в своей работе и под видом критики разъяснить читателям то, что недостаточно полно было развито в его диссертации.
Прежде всего Чернышевский попытался яснее подчеркнуть в авторецензии связь своей эстетики с общей системой материалистических философских воззрений. Готовя свое сочинение как университетскую диссертацию, Чернышевский, конечно, чувствовал себя гораздо более связанным, нежели при выступлении в «Современнике» под псевдонимом Н. П — ъ, с автокритической статьей, посвященной «Эстетическим отношениям искусства к действительности».
В диссертации Чернышевский вуалировал все намеки на родство своей теории с материалистической философией. По мнению самого Чернышевского, эти вынужденные недомолвки явились важнейшим и чрезвычайно ощутительным недостатком его трактата, так как в нем отсутствовал анализ общих начал, из приложения которых к эстетическим вопросам образовалась его теория искусства.
В журнале он имел возможность изъясняться свободнее, и потому здесь гораздо яснее говорится о «внутреннем смысле теории, принимаемой автором диссертации», об общих истоках его эстетической концепции. Именно под тем предлогом, что «г. Чернышевский слишком бегло проходит (в диссертации) пункты, в которых эстетика соприкасается с общею системою понятий о природе и жизни», автор рецензии (т. е. Чернышевский і..е) постарался более обстоятельно осветить эют вопрос.
Не смея упомянуть имя Фейербаха, Чернышевский тем не менее все время стремится хоть намеками указать иа его философские воззрения, послужившие толчком для создания «Эстетических отношений искусства к действительности», которые, разумеется, были совершенно самостоятельным трудом, новым словом в развитии русской философской мысли.
Чернышевский в авторецензии отметил ряд недочетов своего трактата (неполнота изложения, беглость указаний на связь его эстетической теории «с общей системой понятий о жизни и природе», отсутствие анализа идей Гегеля и, наконец, отсутствие примеров живой связи «общих начал науки о интересами дня»). Но все эти лукавые упреки, которые обращает к самому себе Чернышевский, укрывшийся за инициалами Н. П — ъ, целиком и полностью должны быть отнесены, конечно, не к автору трактата, а к цензуре того времени, к общей политической обстановке 50-х годов.
Рецензия вызвала выпад против автора «Эстетических отношений» в «Библиотеке для чтения», 1855, т. 132, отд. VI, стр. 5–6.
2 Ср. «Очерки гоголевского периода русской литературы» (Собр. соч., г. III. Гослитиздат, 1947, стр. 245). «… и теперь для русской публики самый живой н важный интерес имеют еще вопросы, которые в других странах давно уже считаются или отвлеченными, или мелкими, например, хотя бы литературные вопросы, за которыми все мы следим с таким живым интересом и которые у других народов не имеют силы возбуждать такого напряженного участия»,
Герцен в «Былом и думах» писал еще яснее: «Литературные вопросы за невозможностью политических становятся вопросами жизни». _
3 Перифраз отрывка из предисловия Фейербаха к собранию сочинений (1845).
* См. Гегель, «Лекции по эстетике», книга первая. Сочинения, т. Х1І. Соцэкгиз, 1938, стр. 146–156, «Неудовлетворительность прекрасного в природе».
6 Ср. со статьей Чернышевского «О поэзии». Сочинение Аристотеля»:
«Мысль, что «искусство состоит в подражеини» живои действительности и преимущественно воспроизводит человеческую жизнь, беспрекос-
азз
53 Н. Г. Чернышевский, т. 11
ловно считалась справедливою в древней Греции. Платон и Аристотель од», наново полагали ее в основание своих эстетических понятий; они до того были уверены, как и все их современники, в неоспоримой истине этого начала, что везде высказывают его как аксиому, не думая доказывать его».
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ИСКУССТВА К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
(Предисловие к третьему изданию)
1 Второе издание «Эстетических отношений…» вышло (без имени автора) в 1865 готу, когда Чернышевский находился в сибирской ссылке. Указание на желательность третьего издания «Эстетических отношений» было сделано Чернышевским в письме к сыну Александру от 2 ноября 1887 года: «Если бы какой-нибудь издатель полагал, что надобно сделать новое издание «Эстетических отношений», то я просил бы тебя уведомить меня об этом и прислать мне экземпляр книжки; я переделал бы ее» («Литературное наследие», т. III, стр. 229–230).
Вскоре Чернышевский получил экземпляр книги для работы. «Благодарю тебя за твои письма и за присылку «Эстетических отношений», — писал он сыну Александру 12 декабря 1887 года. — Когда найду время, напишу предисловие к этой книжке и сделаю кое-какие примечания…» (там же, стр. 234).
Затем последовали переговоры младшего сына Чернышевского — Михаила Николаевича — с издателем Л. Ф. Пантелеевым. 12 апреля 1888 года Михаил Николаевич сообщил отцу: «… Ha-днях я виделся с Лонгином Федоровичем, который выразил большое желание переиздать «Эстетические отношения», на что испрашивает Вашего согласия. В настоящее время эта книжка совершенно распродана. Мне кажется… что было бы очень хорошо, если бы Вы пожелали написать хоть маленькое предисловие к этой книжке. Я обещал Лонгину Федоровичу написать Вам об этом, причем ему было очень желательно получить ответ по возможности скорее» («Литературное наследие», т. III, стр. 607).
17 апреля 1888 года Чернышевский писал сыну Михаилу: «Благодарю тебя за предложение передать книжку «Эстетические отношения» Лонгину Федоровичу; у меня есть экземпляр ее; получив вчера твое письмо о желании Лонгина Федоровича оказать мне услугу 36, я стал писать предисловие и делать поправки в тексте. Кончу это и пошлю на твое имя в пятницу или субботу перед пасхой. Благодари от меня Лонгина Федоровича» («Литературное наследие», т. III, стр. 240–241)37.
Подготовка нового издания заняла у Чернышевского всего несколько дней. Он начал ее 16 апреля и закончил к 20 апреля 1888 года, когда текст был отослан в Петербург для передачи Пантелееву.
В письме от 20 апреля, сообщая о высылке текста книги, Чернышевский указал, что для нового издания он снабдил текст «поправками на полях книжки и на отдельных листах» и присоединил к нему предисловие («Литературное наследие», т. III, стр. 242).
7 мая 1888 года Главное управление по делам печати известило А. В.
Захарьина (взявшего на себя сношения с цензурой) о том, что книга «Эстетические отношения» и предисловие к ней не могут «бщть допущены к печати» («Летопись жизни н деятельности Чернышевского», сост. Н. М. Чернышевская-Быстрова, «Academia», 1933, стр. 174, № 2092).
Судя по письму Л. Ф. Пантелеева к Чернышевскому от 9 сентября 1803 года, хлопоты об издании все же продолжались, пока не последовало категорического запрещения книги: «Глубокоуважаемый Николай Гаврилович,
перед моим отъездом из Петербурга, 6 мая, я получил Ваше письмо по поводу нового издания «Эстетических отношений». Не отвечал Вам тотчас же потому, что тогда встретились некоторые препятствия к 3-му изданию Вашай «миги, и я уехал в неизвестности, состоится оно или нет. Сегодня Михаил Николаевич сообщил мне, что книга ни в каком виде появиться не может. Это очень и очень жаль» («Литературное наследие», т. III, стр. 597).
В своей книге «Из воспоминаний прошлого» Л. Ф. Пантелеев рассказывает о встрече с Чернышевским в Астрахани в конце мая 1889 года. «Помнится, в это свидание, — пишет Пантелеев, — я коснулся несостсявшегося в половине 80-х годов нового издания его «Эстетических отношений искусства і к действительности». Через А. Н. Пыпина я снесся с Николаем Гавриловичем, и он выслал экземпляр старого издания, кое-где исправленный и с новым предисловием. Хотя книга по своему объему и могла печататься без предварительной цензуры, но, в силу особого распоряжения, все, как старое, гак и вновь написанное Чернышевским, должно было направляться в цензуру, даже, кажется, специальную. С книгой пришел ко мне М. Н. Чернышевский. Увидев новое предисловие, я хотел было прочесть его, чтобы сообразить, нет ли в нем чего-нибудь по тогдашним временам неудобного в цензурном отношении, но М. Н. успокоил меня, что, конечно, Николай Гаврилович очень хорошо знает порядки нашей цензуры, а потому и находил возможным, не теряя времени, представить книгу в цензуру. Я не счел себя вправе настаивать, хотя в начале предисловия и заметил одно щекотливое место, где Николай Гаврилович говорил, что основные идеи книги не принадлежат ему, а идут от Фейербаха. И вот, как я потом узнал, именно благодаря предисловию и главным образом ссылке на Фейербаха книга не была разрешена к переизданию.
* — А я думал, — сказал Николай Гаврилович, выслушав мой рас
сказ, — что все это уж* так старо, что уже не может обратить на себя внимание цензуры, да и Фейербаха-то в живых нет…» (Л. Ф. Пантелеев, «Из воспоминаний прошлого», «Academia», 1934, стр. 549.)
Касаясь этого предисловия Чеонышевского в своей работе «Материализм и эмпириокритицизм» (1908), Ленин писал:
«Н. Г. Чернышевский выступал в русской литературе еще в 50-х годах прошлого века, как сторонник Фейербаха, но наша цензура не позволяла ему даже упомянуть имя Фейербаха. В 1888 году в предисловии к предполагавшемуся третьему изданию «Эстетических отношений искусства к действительности» Н. Г. Чернышевский попытался прямо указать на Фейербаха, но цензура и в 1888 году не пропустила даже простой ссылки на ФейербахаІ Предисловие увидело свет только в 1906 году».
2 Энгельс писал: «Не трудно понять, как велико было действие гегелевской системы в философски окрашенной атмосфере Германии. Это было торжественное шествие, длившееся целые десятилетия и далеко не прекратившееся со смертью Гегеля. Напротив, именно в промежуток с 1830 до 1840 года достигло апогея исключительное господство «гегельянщины», заразившей даже своих противников… Но эта победа по всей линии была \ишь прологом междуусобной войны» (Ф. Энгельс, «Людвиг Фейербах», Соцэкгиз, 1931, стр 41). „
О последующем кризисе и распаде «гегельянщины» Чернышевский рассказывал в VI главе «Очерков гоголевского периода» так: «Следуют* > поколение мыслителей сделало еще шаг вперед, и принципы, неопределенно* односторонне и отвлеченно высказанные Гегелем, явились во всей свое.*, полноте и ясности: тогда колебаниям ие осталось места, двойственность вс-
чезла, фальшивые выводы,»несенные в науку непоследовательностью Гегеля в развитии основных положений, были отстранены, и содержание приведено в гармонию с основными истинами… Развитие последовательных воззрений из двусмысленных и лишенных всякого применения намеков Гегеля совершилось у нас отчасти влиянием немецких мыслителей, явившихся после Гегеля, отчасти — мы с гордостью можем сказать это — собственными силами…
Все истинно даровитые и сильные люди, когда прошло первое увлечение, отбросили фальшивые выводы, радостно жертвуя ошибками учителя требованиям науки, и бодро пошли вперед».
3 …нашими публицистами — то есть Белинским, Герценом.
* Анонимное сочинение Фейербаха, конфискованное тотчас же по вы* ходе в свет.
6 Ср.: «В конце тридцатых годов разделение в его (Гегеля. — И, Б.) школе становилось все более и б^лее заметным. В борьбе с правоверными пиэтистами и феодальными реакционерами так называемые молодые гегельянцы— левое крыло — отказывались мало помалу от того философски пренебрежительного отношения к жгучим вопросам дня, ради которого правительство терпело их учение н даже покровительствовало ему… Но политика тогда была слишком щекотливой областью, поэтому главная борьба велась против религии. Впрочем, в то время, особенно в 1840 году, борьба против религии косвенно была и политической борьбою. Первый толчок дала книга Штрауса «Жизнь Иисуса», вышедшая в 1835 году» (Энгельс, «Людвиг Фейербах», Соцэкгнз, 1931, стр. 41–42).
6 Экзегетика—объяснение и толкование библейских текстов; шире — толкование текстов вообще.
7 Имеется в виду февральская революция 1848 года во Франции, распространившаяся затем почти на все страны Западной Европы. Вслед за революцией в Париже в марте 1848 года вспыхнула революция в Берлине и Вене. Революционное брожение отразилось также в Италии и в Англии.
6 Ср.: «Практические потребности борьбы против положительной религии привели многих из самых решительных молодых гегельянцев к англофранцузскому материализму. А это поставило их в противоречие с их школьною системой. В этом противоречии и путались на разные лады молодые гегельянцы» (Энгельс, «Людвиг Фейербах», Соцэкгиэ, 1931, стр. 42–43).
9 «Сущность религии» вышла в свет в 1845 году.
10 Эти признания Чернышевского грешат неточностями. По записям «Дневника» Чернышевского можно установить, что окончательный разрыв с идеализмом Гегеля произошел у него в 1849 году («Литературное наследие», т. I, стр. 380) Вторая неточность касается Фейербаха, с «Сущностью христианства» которого Чернышевский впервые познакомился через А. В Ханыкова лишь в марте 1849 года («Литературное наследие», т. I, стр. 395, см. также стр 498 и 430).
11 Житейская надобность — магистерские экзамены. Подробнее см. в вашей вступительной заметке к примечаниям настоящего тома.
12 См. пометки * проф. А. Н. Никитенко на полях рукописи «Эстетические отношения», приводимые в текстологических комменгариях настоящего тома.
13 Хотя Фейербах называл себя коммунистом, но его «коммунизм» покоился лишь на признании общности всех людей как представителей рода «человека». Революции 1848 года Фейербах ие понял и не принимал в вей активного участия.
14 Экзегетический трактат — имеется в виду «Критика евангельской истории синоптиков в Иоанне» Бруно Бауэра (1842).
15 См. статью Чернышевского «Антропологический принцип в философии» (1860).
16 Анализу этого замечательного, по определению Ленина, рассуждения Чернышевского посвящено «Добавление к § 1, гл. IV «Материализма и эмпн-
рнокритициэма» Ленина, где Ленин показывает, «С какой стороны подходка Н. Г. Чернышевский к критике кантианства».
17 Фейербах, «Grundsätze der Philosophie der Zukunft» («Основоположения философии будущего», 1843, § 43).
КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ
ПОНЯТИЯ
Обыкновенное понятие о прекрасном н его критика
1 Осенью 1854 года у Чернышевского возник замысел дать наряду с диссертацией «Эстетические отношения искусства к действительности» цикл популярно написанных журнальных статей по эстетике, которые разъяснили бы основы его эстетической теории. Очевидно, академическая форма, в которую Чернышевский поневоле должен был облечь свою диссертацию, не удовлетворяла его, и он хотел через журнал «Отечественные записки» сделать свое эстетическое учение достоянием более широкого круга читателей. Отказ редактора «Отечественных записок» А. А. Краевского напечатать первую статью из задуманного цикла заставил Чернышевского оставить начатую работу.
ВОЗВЫШЕННОЕ И КОМИЧЕСКОЕ
Это — вторая статья из цикла задуманных Чернышевским популярных статей по общим вопросам эстетики.
Получив отказ А. А Краевского напечатать первую статью из этого цикла, Чернышевский, очевидно, прекратил дальнейшую работу, не закончи» второй статьи, — рукопись ее обрывается на полуслове. Надо полагать вс» же, что в основном статья почти закончена и в ней недостает лишь концовки.
1 8 5 3
БИБЛИОГРАФИЯ О сродстве языка славянского с санскритским А- Гильфердинга
1 Во второй половине июня 1853 года Чернышевский начал переговоры с редактором «Отечественных записок» А. А. Краевским «своем сотрудничестве в журнале. 29 июня он сообщил отцу: «Кажется, что у меня устроятся дела с «Отечественными записками» («Литературное наследие», т. II, Письма, Госиздат, 1928, стр. 189).
Уже в очередном июльском номере «Отечественных записок» (цензур«, разрешение—1 /VII 1853 г.) появились его рецензии на книгу А. Гильфер-динга «О сродстве языка славянского с санскритским» и на сборник «Dichterkanon»… «Собрание поэтов» д-ра Нейкирха. Таким образом рецензии это являются первыми работами Чернышевского для «Отечественных записок», дебютом его в «большой прессе».
По прошествии года с лишним Чернышевский вернулся к трудам А. Гильфердинга, в частности и к рецензируемой здесь книге, написав отзыв о ней в «Современнике» (1854, № 10 — см. стр. 412 настоящего тома.)
2 Per anticipationem (лат.) — предваряя. _
3 Имеется в виду «Опыт областного великорусского словаря»^ изданный 2-м отделением Академия наук под ред. А. X. Востокова, Crf6. 1852.
18 5 4 КРИТИКА
Роман и повести Л. Авдеева
' Статья Чернышевского о романе и повестях М. Авдеева — одна из первых его работ, написанных для «Современника». (В самом начале своей журнально-критической деятельности (1853–1854) Чернышевский сотрудничал одновременно и в «Отечественных записках» и в «Современнике».) Первые же статьи Чернышевского в «Современнике» (об Авдееве, о «Трех порах жизни» Е. Тур, о «Бедности не порок») послужили «Отечественным запискам» предлогом для напалок на «Современник» с упреками в непоследовательности и противоречивости критических оценок этого журнала.
Тем самым Чернышевский был вовлечен в полемику с «Отечественными записками». Подробнее об этом см. в статье Чернышевского «Об искренности в критике».
2 «Автор разбора сочинений Пушкина»— то есть В. Г. Белинский.
3 А. Котляревский, «Крымские цыгане», Спб. 1853, см. рецензию на эту книгу в «Современнике», 1854, № 1, стр. 29–32.
4 Мулла Нур и Аммалат-Бек — герои произведений А. Бестужева-Мар-линского.
6 «Чернец» — поэма И. И. Козлова (1825), имевшая большой успеі у читателей и выдержавшая за короткое время три издания.
6 «Полинька Сакс» — повесть А. В. Дружинина, напечатанная впервы» в «Современнике» в 1846 году.
7 Рецензия на повесть «Огненный змий» в «Современнике» не появилась.
8 Пародийное использование стихотворения Г. Державина «Ласточка» («О домовитая ласточка»…)
9 Débats — «Journal des Débats» — парижская ежегодная газета консервативного направления.
«Три поры жизни» Е. Тур
1 Как и предыдущая статья («Роман и повести М. Авдеева»), рецензия Чернышевского на «Три поры жизни» была использована «Отечественными записками» в полемике с «Современником». Подробнее об этом см. в статье Чернышевского «Об искренности в критике».
2 «Семейство Холмских» — популярный в 30–40 годах роман Д. Н. Бегичева.
3 «УэВерли» («Веверлей») — роман Вальтер-Скотта.
«Бедность не порок». Комедия А. Островского. Москва. 1854
1 Статья о комедии «Бедность не порок» направлена главным образом против А. Григорьева. В противовес А. Григорьеву Чернышевский осуждает комедию за «приторное прикрашиваиие того, что не может и не должно быть прикрашиваемо»
Ср. более поздний отзыв Чернышевского о «Доходном месте» Островского в «Заметках о журналах», март 1857 (Собр. соч., 1906, т. Ш. стр. 152 и сл.):
«Комедия г. Островского «Доходное место» сильным и благородным направлением напоминает ту пьесу, которой он обязан большей частью своей ‘ известности, — комедию «Свои люди — сочтемся». Замечательна эта пьеса и в том отношении, что тут г Островский изображает круг, не имеющий ничего общего с купеческим бытом, нравами которого до сих пор он почти исключительно занимался».
* Комедия Островского «Свои люди — сочтемся» полностью была напечатана в журнале «Москвитянин», 1850, № 6. В том же году она вышла отдельным изданием. Появление этой комедии, называвшейся тогда «Банкрот», по словам А. Григорьева, «как событие слишком яркое, выдвигавшееся далеко из ряда обычных, наделало много шуму».
3 В. Ф. Одоевский в одном из своих писем писал следующее: «Если это не минутная вспышка, не гриб, выдавившийся сам собою из земли, про-
соче-нной всякою гнилью, то этот человек (т. е. Островский._Н. Б.) есть
талант огромный. Я считаю на Руси три комедии: «Недоросль», «Горе от ума», «Ревизор». На «Банкроте» я поставил нумер четвертый» («Русский архив», 1879, № 4, стр. 525).
4 Напечатана в журнале «Москвитянин», 1852, № 4.
6 Комедия «Не в свои сани не садись» была напечатана в «Москвитянине», 1853, № 5. Она проникнута славянофильскими настроениями. На ней более всего сказалось влияние кружка «молодого» «Москвитянина», к которому некоторое время примыкал Островский. Мнение о том, что комедия эта по своим художественным достоинствам ниже первой комедии Островского, с наибольшей полнотой выражено в рецензии «Современника» (1854, № 2). См. об этом в статье Чернышевского «Об искренност» в критике».
6 Имеется в виду А. Григорьев.
7 Отрывок из стихотворения «Искусство и правда» (в подлинной рукописи «Рашель и правда») — элегия-ода-сатира Аполлона Григорьева. Стихотворение это, написанное по случаю представления комедии «Бедность не порок», напечатано было в «Москвитянине», 1854, № 4, отд. VIII, стр. 76–82 (см. «Стихотворения Аполлона Григорьева», собрал н примечаниями ^снабдил Александр Блок, изд-во К. Ф. Некрасова, М. 1916, стр. 153–160. и примечания на стр. 555–557). В этом большом стихотворении восторженно говорилось о «новом слове» Островского и резко осуждалась французская актриса Элиза Рашель (1820–1858), гастролировавшая в это время в Москве и в Петербурге. Стихотворение породило ряд резких эпиграмм Н. Щербины и М. Дмитриева (см., иапр., Н. Щербина «Альбом ипохондрика», «Прибой», 1929, стр. 49–50) и вызвало острую полемику против А. Григорьева. В комментариях к «Искусству и правде» Александр Блок высказывает мнение, что «сам А. А. Григорьев впоследствии несколько стеснялся своей «Элегии-оды-сатиры» (см. также А. Григорьев, «Воспоминания», «Academia», 1930, стр. 240).
8 «Пан Халявский» (1839–1840) — роман Г. Ф. Квитки-Основь-
яненко, в котором дано в сгущенно-юмористических тонах описание украинского старосветского быта. Чернышевский относился к творчеству
Основьяненко совершенно отрицательно (см. его рецензию на монографию Гр. Данилевского об Основьяненко (Спб. 1856), Поли собр. соч., Гослитиздат, 1947, т. III, стр. 432–436, и примеч. на стр. 805–806).
9 В стихотворении А. Григорьева «Искусство и правда» говорится, что «Бедность не порок» Островского выше «Гамлета» и «Отелло».
10 Книга С. Глинки «Очерки жизни и избранные сочинения А. П. Сумарокова», Спб. 1841, представляет собою, по определению А. Н. Пыпина, «последний отголосок панегириков XVIII века, совершенно необычных и странных в 40-е годы XIX века». Критический отзыв Белинского об этой книге см. в Поли. собр. соч., т. IV, стр. 321–325.
11 Имеются в виду рецензии на «Бедную невесту» в «Библиотеке для
чтения», 181>2, № 4, «Письма иногороднего подписчика» (т. е. А. В. Дружинина— см. его Собр. соч., т. VI, стр. 639) в «Современнике», 1852, № 3, за подписью И. Т. (т. е. И. С. Тургенева — см. Собр. соч. изд. 1891 г., т. X, сгр. 369 и сл.), в «Отечественных записках», 1852, № 4 (автор С. С. Дудышкин). См. также «В. П. Боткин и И. С. Тургенев», неизданная переписка 1851–1869, «Academia», 1930, стр. 23—25
и 28–29.
12 Гремин, Звонский, Блестов — герои повести А. Бесту жева-Марл и н-гкого «Испытание».
’ Quel giorno ті non leggemo avantel — «В тот день мы больше не читали таи». (Данте, «Божественная комедия», «Ад», песнь пятая, стих 137).
* Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella. miseria — «Нет большего мученья, как о поре счастливой вспоминать в иесчастьи» (Данте, «Божественная комедия», «Ад», песнь пятая, стихи 121–123, перевод Д. Минаева).
13 Ошибка. Надо: «Москвитянин», № 4. Цитируется стихотворение
А. Григорьева «Искусство и правда», отрывок из которого приведен в начале статьи (см. стр. 232 и прим. 7):
На сердце так тепло, так вольно дышит грудь, —
Любим Торцов душе так прямо кажет путь.
16 «Литературный ералаш». Драмы из обыденной, преимущественно столичной жизни. «Раздумье артиста». Соч Буйновидова (А. В. Дружинина) (см. «Современник», т. II, 1854, етр. 17–20).
17 «Мельник, колдун, обманщик и сват» — комическая опера А. О. Абле-гимова, сюжет которой был заимствован из народной жизни. На сцене была представлена в 1779 году, в Москве.
18 См. «Искусство и правда». У А. Григорьева строки эти относятся к французской трагической актрисе Рашель.
19 То есть «Бедность не порок» и «Не в свои сани не садись».
Об искренности в критике
1 Ближайшим поводом к написанию втой статьи явилась анонимная заметка (принадлежащая, вероятно, перу С. С. Дудышкина) «Критические отзывы «Современника» о произведениях г. Островского, г-жи Евгении Тур и г. Авдеева», напечатанная в «Отечественных записках», 1854, № 6, отд. «Библиографическая хроника», стр. 157–162.
«Отечественные записки» обвиняли «Современник» в резкости, опрометчивости и непоследовательности критических суждений о произведениях художественной 'литературы того, времени. В качестве примеров, иллюстрирующих эти обвинения, приводились рецензии Чернышевского на произведения М. Авдеева, на роман Евг. Тур «Три поры жизни» и на комедию А. Островского «Бедность не порок» (см. «тр. 210, 222 и 232 наст, тома).
Чернышевский ие мог обойти молчанием эти выпады представителей узко эстетической «мягкой и уклончивой критики». Ответом его и явилась настоящая статья, в которой он развивает свои взгляды на задачи литературной критики.
2 См. рецензию на «Сочинения Погорельского» в настоящем томе, стр. 381.
3 Не вполне точная цитата из басни Крылова «Воспитание льва».
4 Т. Ч. — псевдоним писательницы А. Я. Марченко (1829–1880).
6 Отзыв о стихотворениях Фета см. в «Отечественных записках», 1850, №№ 1, 2, стр. 49–72 Роман «Мелочи жизни» Н. Н. Станипкого (псевдоним А. Я. Панаевой) был напечатан в «Современнике», 1854, №№ 1–4. Отзыв о нем см. в «Отечественных записках», 1854, № 5, отд. «Библиографическая хроника».
6 «Отечественные записки», 1854, № 5.
7 Сказано это было Белинским.
* «Новый поэт» — псевдоним И. И. Панаева.
9 Имеются в виду рецензии Чернышевского.
10 И. Т. — И. С. Тургенев, поместивший сочувственную статью о произведениях Евг. Тур в «Современнике», 1852, № 1 (см. Сочинения, изд. Глазунова, т. X, стр. 417–437).
11 См. «Современник», 1850, Ke 1, отд. «Критика». Здесь в «Обозрении русской литературы ва 1849 год» повесть М Авдеева «Варинька» поставлена наряду с «Записками охотника» Тургенева, с «Четырьмя временами года» Григоровича и т. п. в числе «замечательных явлений в литературе за 1849 год».
12 В статье Чернышевского «Роман и повести М. Авдеева».
13 Сочувственный анонимный отзыв об Авдееве в «Современнике», 1851, Кв 1, принадлежал, вероятно, А. В. Дружинину.
14 Т. Л. — Л. Н. Толстой, первые повести которого были напечатаны в «Современнике» 1852 года под инициалами Л. Н. Т.
16 Чернышевский в своей статье об Авдееве указывал на то, что в романе «Тамарин» слишком явственно подражание прозе Лермонтова.
16 «Отечественные записки», 1854, Кв 6, отд. IV.
17 См. рецензию Чернышевского на «Бедность не порок».
18 См. статью Чернышевского «Роман и повести М. Авдеева», где он ставил перед автором следующие известные условия: 1) писатель должен «серьезно подумать о том, какие люди, с какими понятиями о жизни— истинно современные люди, истинно современные писатели; 2) он должен различать элегантную отсталость от серьезного понимания жизни и 3) убедиться, что мысль и содержание даются не безотчетной сантиментальностью, а мышлением».
19 Так отвечал в «Отечественных записках» Белинский критикам, обвинявшим его в умалении достоинства писателей, «почитавшихся знаменитыми».
20 «Отечественные записки», 1854, Кв 6.
21 Речь идет о Белинском (пример которого «в памяти у всех») и о его предшественниках — Н. Полевом («Московский телеграф») и Н. Надеждине («Телескоп»); см. рецензию Чернышевского на «Сочинения А. Погорельского» (стр. 381 наст. тома).
22 c’est selon (франц.) — с зависимости от обстоятельств.
23 Цитата из стихотворения М. Лермонтова «Не верь себе».
24 «Марьина роща — старинное преданье» (1809) — прозаическое произведение В. А. Жуковского, написанное в сентиментальном духе. Услад — герой этой повести.
25 Чернышевский имеет в виду прямые и решительные отзывы Белинского о произведениях таких корифеев, как Жуковский и Марлинский. См., напр., статью Белинского «Русская народная поэзия», где он говорит о «водяной чувствительности» «Марьиной рощи» и пышной неестественности повестей А. Марлинского.
26 Витя (Вихорев) — герой комедии А. Островского «Не в свои саии не садись».
27 «Монастырка» — повесть А. Погорельского (А. А. Перовского).
* «Памятный листок ошибок в русском языке, встречаемых в произведениях многих русских писателей» составлялся И. Покровским. «Листок» начал печататься в «Москвитянине» с 1852 года (№ 24, отд. «Смесь», стр. 206), особенно часто печатался в 1853 году (№ 3, кн. 1; № 4. кн. 2; № 6, ки. 2; № 9, кн. 1. № 10, кн. 2, и т. д.). «Листок» этот состоял из цитат и отдельных замечаний по поводу той или иной «ошибки». Чаще всего это были просто мелкие и пустые придирки.
29 «Любовь и верность, или страшная минута» — повесть В. Васильева, М. 1854; «Страшное место» — украинская сказка в стихах русского размера». Сочинение М. С. Владимирова, Спб. 1854. «Георг, милорд английский»— одно из позднейших изданий лубочного сочинения Матвея Комарова. Первоначальное название: «Повесть о приключениях аглицкого милорда Георга» (1782).
39 «Hermann und Dorothea» — «Герман и Доротея» (1798), поэма Гете. В статье «Сочинения Державина» Белинский резко отрицательно отозвался об этой поэме, назвав ее приторной и пошлой.
31 «Отечественные записки», 1854, № 6.
1 Статья написана по случаю выхода в свет первого перевода на русскиЗ язык «Поэтики» "Аристотеля, изданного в 1854 году под названием: «О пов-зни», сочинение Аристотеля в переводе Б. Ордынского» 38.
По внутреннему своему смыслу статья эта тесно примыкает к «Эстетическим отношениям искусства к действительности», дополняя и объясняя основные положения диссертации. «Эстетические отношения», «Авторецензия», «Предисловие к третьему изданию «Эстетических отношений», «Критический взгляд на современные эстетические понятия», «Возвышенное и комическое» и данная статья о «Поэтике» Аристотеля — весь этот цикл произведений Чернышевского образует стройное учение об искусстве, созданное на основе материалистической философии38 Но статья о «Поэтике» Аристотеля, как и «Критический взгляд», предназначавшаяся для широкого круга читателей «Современника», написана с большей простотой и доступностью, нежели «Эстетические отношения», где автор был несколько связан академическими заданиями н требованиями.
2 «Поэтика» принадлежит к поздним работам Аристотеля. Составление ее обычно относят к промежутку между 336 и 322 годами до нашей эры. Со времени выхода в свет первого печатного издания «Поэтики» (1508) до настоящего времени появилось более 160 изданий этой книги с переводами и без переводов (см. предисловие Н. И. Новосадского к последнему переводу «Поэтики», «Academia», 1927).
Говоря о том, что «Поэтика» Аристотеля служила «основанием всех эстетических понятий до самого конца прошедшего века», Чернышевский имеет в виду особенно сильное влияние «Поэтики» на так называемое ложноклассическое направление во французской литературе.
3 Оно у нас прекратилось с 1830 годов — имеется в виду начало деятельности Н. И. Надеждина. Подробнее см. «Очерки гоголевского периода», гл. ГѴ.
Несколькими строками выше Чернышевский говорит о предшественниках Надеждина — представителях узко стилистической критики.
4 Имеется в виду Белинский. Ср. в «Очерках гоголевского периода»: «Что же касается его специальной науки — истории русской литературы, он был н до сих пор остается первым знатоком ее. В этом отношении никто из наших ученых не мог до сих пор сравниться с ним. Вообще, надобно признаться, Белинский, будучи значительнейшим из всех наших критиков, был и одним из замечательнейших наших ученых. Это факт, неоспоримо доказываемый его сочинениями. Сомневаться в том, значит обнаруживать или недостаток научного образования в себе, или свое незнакомство с сочинениями Белинского» (гл. VIII).
5 Речь идет о философии Фейербаха. См. «Предисловие к третьему изданию «Эстетических отношений искусства к действительности».
6 Имеется в виду «Эстетика» Гегеля, состоящая из трех томов.
7 Замечания по вопросам искусства у Платона можно найти в следу
ющих его произведениях: «Федр», «Филеб», «Политика или государство» и др. _
8 ]итате in verba magistri — клясться авторитетом учителя (Гораций, «Эпистола», I, 1, 14).
9 См. первое примечание к статье «Сочинения Пушкина».
10 «Поэзия имеет целью представить нам идеальный мир, субстанциональная сущность которого развивается богатейшим образом в форме
действий, событий и страстей человеческой жизни» (Гегель, «Эстетика», ч. 2, книга II, стр. 49); см. там же, ч. 2, кн. II, стр. 66, и обширную цитату из «Эстетики» Фишера, т. II, стр. 299, приведенную Чернышевским в диссертации.
11 «Эпос и трагедия, а также комедия, дифирамбическая поэзия н бодьшая частъ авлетики и кифариетики — все они являются вообще подражанием» («Поэтика», Л. 1927, I. стр. 41). «Как кажется, поэзию создали вообще две причины, притом естественные. Во-первых, подражать присуще людям с детства; они отличаются от других животных существ тем, что в высшей степени склонны к подражанию, и первые познания человек приобретает посредством подражания. Во-вторых, подражание всем доставляет удовольствие. Доказательством этого служит то, что мы испытываем перед созданиями искусства» («Поэтика», Л. 1927, IV, стр. 44).
12 См. Шиллер, Собрание сочинений, под ред. С. А. Венгерова, М 1901, т. IV, стр. 311–314.
13 См. Платон «Политика или государство», глава X.
14 Жан-Жак Руссо.
15 Cp. Fischer, «Aesthetik oder Wissenschaft des Schönen, т. I, § 13, стр. 53, 54, и § 54, стр. 142–146.
16 Ich singe wie der Vogel singt — Я пою, как поет птица (Гете).
17 Имеются в виду «Ars poetica» Горация и «L’art poétique» Буало.
18 Плеханов в статье «Литературные взгляды Белинского» (Собр. соч., т. X, стр. 280–285) приводит в пример Пушкина, которому монархические круги «не раз предлагали писать полезные для славы отечества нравоучительные произведения» и который предпочитал чистое искусство и именно этим доказал, что он был выше ходячей тогда морали». Разумеется, что, приводя данный пример, Плеханов был неправ: нельзя считать Пушкина сторонником теории «искусства для искусства».
13 «Последний день Помпеи» — известная картина К. Брюллова (1834).
20 Имеется в виду Генрих Гейне.
21 Ср. письмо Чернышевского к жене из крепости: «Я задумал составить ' «Энциклопедию знания и жизни». Потом я ту же книгу переработаю в самом легком, популярном духе, в виде почти романа с анекдотами, сценами, остротами, так, чтобы читали ее все, кто не читает ничего, кроме романов» (Избранные сочинения, Соцэкгиз, 1932, т. V, стр. 22).
22 «Юрий Милославский» — роман М. Н. Загоскина; «Леонид или некоторые черты из жизни Наполеона» — роман Р. М. Зотова. См. отзыв Чернышевского об этом романе в его рецензии на «Лейтенант и поручик.» К. Масальского в «Современнике», 1856, № 1 (Н. Г. Чернышевский, Поли, собр. соч., Гослитиздат, 1947, т. III, стр. 436).
23 Точнее: «составив фабулу на основании правдоподобия, комики подставляют случайные имена, не касаясь определенных лиц, как делают ямбографы. А в трагедии придерживаются имен, взятых из прошлого… Однако и в некоторых трагедиях встречается только одно или два известных имени, а другие вымышлены, как, напр., в «Цветке» Агафона» («Поэтика», Л. 1927, стр. 51–52).
24 «Новейший философ»— Фр. Гегель.
25 Правднн и Стародум — герои «Недоросля» Фонвизина; Коршунов и Разлюляев — герои пьесы «Бедность не порок» Островского; Бородкин — герой комедии «Не в свои сани не садись» Островского.
26 См. Лессинг, «Гамбургская драматургия», перевод Ип. Рассадина, М. 1883; Чернышевский, «Лессинг, его время, его жизнь и деятельность». — Собр. соч., 1906, т. III, гл. VI, стр. 722 и сл.
27 Сады воспеты Делилем в его сборнике стихов «Les jardins» (1782). «Уордстворт с братиею»— имеются в виду представители так называемой «озерной школы» английской поэзии начала XIX века: Вордсворт, Кольридж, Соути и др.
28 См. «Поэтика», Л. 1927, стр. 42–43.
я «Поэтика», Л. 1927, стр. 44.
30 Эстетика Плотина изложена им в 6-й книге первой «Эннеады».
31 См. «Предисловие к третьему изданию «Эстетических отношений искусства к действительности» (стр. 119 настоящего тома).
32 «В драмах эпизоды кратки, в эпосе они растянуты. Содержание «Одиссеи» можно рассказать в нескольких словах» и т. д. («Поэтика», Л. 1927, стр. 61).
33 См. «Поэтика», стр. 77–78.
34 См. Гете, «Годы учения Вильгельма Мейстера», Собр. соч… Гос. изд. іудож. литературы, т. VII, 1935 г.
35 «Поэтика» Аристотеля дошла до иас ие только в испорченной форме, но и в неполной. Это видно из того, что в ней о комедии говорится только вскользь, между тем как в самом начале трактата Аристотель обещает говорить о сущности поэзии и ее видах. Диоген Лаэртский и другие древние авторы свидетельствуют, что «Поэтика» состояла не из одной книги, а из двух или даже трех (см. вступительную статью Н. И. Ново-садского к «Поэтике», «Academia», 1927, стр. 7).
36 Авлетика — игра на флейте, духовая музыка; кифарнстика — игра на кифаре, струнная музыка.
Отзыв Ордынского о самом себе н о нашем разборе его книги
1 Критические замечания Чернышевского о характере перевода Аристотелевой «Поэтики» и о комментариях к ней Ордынского (см. стр. 263 наст, тома) вызвали со стороны переводчика н комментатора резкий ответ: «Образчик модной критики» («Москвитянин», 1855, т. I, № 2, стр. 143–146).
Ордынский пытался отстаивать высказанное им предположение о полноте дошедшего до иас текста «Поэтики», утверждая, что перевод заглавия сделан им правильно и т. д. _
Ироническая заметка Чернышевского вызвала повторный отклик Ордынского «Образчик модной рекритики» («Москвитянин», 1855, т. III, № 9, стр, — 150–151), и иа этом полемика прекратилась.
Песни разных народов. Перевел Н. Берг
1 Чернышевский дважды рецензировал сборник Н. Берга — в «Современнике» и в «Отечественных записках». Обе рецензии появились одно* временно. Полемическая направленность против славянофильских тенденций, присущих переводчику «Песен разных народов», проступает в рецензии «Современника» гораздо резче и отчетливее, нежели во втором отзыве, где уделено больше внимания подбору текстов, качеству переводов и т. в. (см. стр. 362 наст. тома).
2 Цитата из стихотворения Лермонтова «Дума».
3 Имеется в виду Белинский, имя которого не названо здесь по цензурным соображениям.
4 Клефты — греки-христиане, не подчинившиеся власти турок во время
владычества их над Грецией, ушедшие в горы и образовавшие там независимые общины. Клефты принимали деятельное участие в борьбе за освобождение Греции в 20-х годах XIX века.,
5 Один из величайших мыслителей нашего века — Гегель.
е Имеются в виду Людвиг Тик, Август и Фридрих Шлегели в др.
Временник императорского Московского общества истории и древностей российских '
1 Имеется в виду сочинение Яна Колара «Славянская Старо-Италия».
2 Речь идет об «Истории русской словесности преимущественно древней» С. П. Шевырева. В третьей главе «Очерков гоголевского периода русской литературы» Чернышевский пишет об этой книге с нескрываемой иронией: «Это самое ученое и самое важное сочинение г. Шевырева. Но ученое достоинство сочинения теряет от того, что все гипотезы и фантазии высказаны догматически, что ничем не отличены они от достоверных фактов: автор совершенно одинаковым тоном говорит и о том, что Владимир Мономах написал поучение своим детям, и о том, что іегелева философия возникла из мыслей, изложенных в послании Никифора к Мономаху.*» (Собр. соч., Гослитиздат, 1947, т. III, стр. 90).
Естественность всех вообще ломоносовских стоп в русской речи
1 Запись Чернышевского на рукописи статьи свидетельствует о том. что им был задуман в 1854 году цикл популярных статей о русской версификации, которые он намеревался опубликовать в «Отечественных записках»: «Две первые статьи «О русской версификации» были отданы
Краевскому осенью 1854 года: 1) О гекзаметре, 2) Какие стопы 2-х сложные или 3-х сложные свойственнее русской версификации. Они погибли у него, как недостойные печати. А всего я хотел тогда написать 6 или 7 статей: 4 — о рифмах, 5, 6, 7 — не припомню теперь о чем».
Та ким образом данная статья является третьей из задуманного цикла. В. В. Гиппиус, впервые опубликовавший ее в сборнике «Николай Гаврилович Чернышевский, 1828–1928» (Саратов, 1928, сгр. 101–109), ошибочно датировал статью временем после февраля 1855 года, отделяя ее от всего цикла статей о версификации и считая ее плодом последующей работы Чернышевского в области стиховедения. Между тем текст вышеприведенной записи Чернышевского ясно определяет место статьи в указанном цикле.
Гиппиус справедливо отметил, что, не получив возможности целиком опубликовать свои стиховедческие статьи, Чернышевский воспользовался ближайшими случаями для включения их в позднейшие свои журнальные статьи и рецензии уже в «Современнике». Статья вторая — «Какие стопы — 2-х сложные или 3-х сложные свойственнее русской версификации?», так же как спроектированная здесь статья четвертая «О рифмах» — дели материал для соответствующих страниц в рецензии на анненковское издание сочинений Пушкина (см. стр. 469–472 наст. тома). Статья первая «О гекзаметре» дала материал для рецензии на «Пропилеи» П. Леонтьева (см. стр. 544 наст, тома).
Исследователь указывает далее, что Чернышевский и здесь, как и в статье о Пушкине, ошибочно исходил из той же предпосылки, что нормой для стиха является проза. Чем обычнее какое-нибудь явление в прозе, тем, по мнению Чернышевского, «естественнее» оно в стихе. Гиппиус убедительно показал на ряде примеров условность произведенных Чернышевским опытов. «Статистический метод Чернышевского, — пишет он, — не дает оснований дл» заключений ни в ту ни в другую сторону, так как самое понятие ударения в прозе иное, чем в стихах, стихотворная стопа не может быть единицей измерения для прозы».
Подробнее см. в статье В. Гиппиуса «Чернышевский-стиховед» в сборнике «Н. Г. Чернышевский», Саратов, 1926, а также в его вступительной заметке к публикации данной статьи в сборнике «Николай Гаврилович Чернышевский. Неизданные тексты, материалы и статьи». Саратов, 1928.
БИБЛИОГРАФИЯ
Опыт словаря к Ипатьевской летописи г. Чернышевского
1 Авторецензия Чернышевского на свою работу «Опыт словаря к Ипатьевской летописи» была написана им около 14 сентября 1853 года, когда он сообщил отцу: «Я сам написал для «Отечественных Записок» разбор II тома «Известий», где, не говоря худо ни о ком (потому что нельзя говорить), сколько возможно, побранил однако свой словарь. Не знаю, пройдут ли сквозь цензуру и эти замечания. Разбор будет помещен, вероятно, в октябрьской книжке «Отечественных Записок» («Литературное наследие», т. II, стр. 198).
2 Имеется в виду изданное в 1843 году А. X. Востоковым «Остромирово евангелие», снабженное краткой грамматикой и полным словоуказателем.
Федон, или о бессмертии душа. М. Мендельсона
1 Когда Якоби в своем сочинении «Ueber die Lehre des Spinosa» обвинил Лессинга в спинозизме, Мендельсон выступил в сочинении «Moses Mendelssohn an die Freunde Lessings» с такой горячей защитой своего друга, что волнение стоило ему жизни: он умер, не дождавшись выхода в свет своего сочинения.
Справочный эндиклопедическпй словарь, издаваемый под ред.
А. Старчевского. Том седьмой
1 Упоминаемая здесь анонимная рецензия в «Отечественных записках» не принадлежала Чернышевскому, литературная деятельность которого началась позже. «Мы представили…», «остаемся при своем прежнем мнении…» — выражения, связывающие данную рецензию с прежней, но не свидетельствующие, однако, что автором обеих рецензий является одно и то же лицо.
2 Предприятие Плюшара кончилось неудачей. «Энциклопедический лексикон», начавший выходить в 1835 году, прекратился изданием на 17-м томе, выпущенном уже в 1841 году.
См. Н. И. Греч, «Записки о моей жизни», М. — Л., 1930, стр. 592–623 и 822–825, «История первого энциклопедического лексикона в России».
Справочный энциклопедический словарь, нздавамеый под род.
А. Старчевского. Том третий
1 См. рецензию Чернышевского на VII том того же издания (см. стр. 345 наст. тома).
Песни разных народов. Перевод Н. Берга
1 См. отзыв Чернышевского на эту книгу, напечатанный в «Современнике», 1854, т. 48, № 1 1 (см. стр. 291 наст. тома). г
«Габриэль». Комедия в стихах. Соч. Эмиля Ожье
1 Настоящая рецензия — первая работа Чернышевского в «Современнике». Об обстоятельствах написания се и начале сотрудничества в «Современнике» Чернышевский рассказывает в своих «Воспоминаниях о Некрасове» (см. Собр. соч., т. I, Гослитиздат, 1939, стр. 714 и сл.).
Архив историко-юридических сведений… над. Н. Калачовым. Ки. 2-ая, 2-ая половинам
* Рецензия эта тесно связана с другим отзывом Чернышевского о первой половине 2-й книги «Архива», вышедшей позже второй половины (см. 735 стр. наст. тома).
Здесь, как и в рецензии на сборник «Песни разных народов» (Н. Берга) я в ряде других своих ранних статей, Чернышевский начинает последовательную полемику со славянофильскими тенденциями в науке и литературе. Уже в этих ранних работах видны зачатки будущего развернутого спора Чернышевского с унос и те л ямн славянофильских идей.
Рецензия вызвала полемический отклик в журнале «Отечественные записки» (1855, № 3) — «Несколько слов о мнениях «Современника» касательно новейших трудов по русской истории»; анонимный автор статьи выступал в защиту Ф. Буслаева, будто бы опороченного Чернышевским, и в защиту метода исторической филологии. Ответ Чернышевского см. в его разборе следующего выпуска «Архива», а также в рецензии на «Исторические права иностранцев…» (стр. 673).
2 Перевод: «Мы, мы живем,
А живущий прав…»
Полное собрание сочинений русских авторов. Сочинения Антона Погорельского
1 Первые же статьи и рецензии Чернышевского резко выделили его среди тогдашних критиков. За каждой строкой его чувствовалась стройная система взглядов на искусство, цельность отношения к явлениям литературы, глубокое знание законов искусства.
Чернышевский выступил на литературное поприще в период упадка в критике, влачившей после смерти Белинского эпигонское существование. Журналы были переполнены жалобами на отсутствие критики. В статье о сочинениях полузабытого в то время писателя А. Погорельского Чернышевский и остановился на рассмотрении одной из причин несостоятельности современной критики. Статья является образцом ранней публицистической манеры Чернышевского. Воспользовавшись выходом в свет сочинений Погорельского, Чернышевский дает в статье яркую картину упадка критики пятидесятых годов Сочинения Погорельского, изданию которых посвящена статья, послужили в сущности только поводом для того, чтобы сопоставить критику начала 50-х годов с критикой 30-х годов, напомнить о высокой миссии подлинной критики, призванной влиять на читателей и воспитывать их.
Эта статья, как и последоваввтая за нею статья «Об искренности в критике», была направлена против уклончивых, осторожных ценителей литературы, боявшихся говорить откровенно и прямо о слабых произведениях, если они принадлежали перу известных писателей. Чернышевский зло высмеивает тип «умеренного» и «смиренного» рецензента, не осмеливающегося сказать ни одного решительного слова о разбираемом произведении, сопровождающего свои утверждения всевозможными оговорками из боязни аадеть самолюбие критикуемой известности.
В этой статье Чернышевский делает одну из первых попыток так или иначе воскресить память о Белинском, имя которого после 1848 года долгое время было цензурно запретным. И здесь, и в статье «Об искренности в критике», и в ряде других рецензий Чернышевский настойчияо напоминал о своем великом учителе, хотя и не имел возможности назвать его прямо по имени.
Сопоставляя современную журнальную критику с коитикой «Московского телеграфа» (Н. А. Полевой) и «Молвы» (Н. И. Надеждин), Чернышевский показывал, что первая не может быть сравниваема не только с Белинским, но даже и с его предшественниками, зачинателями русской критики.
КРИТИКА
Сочинения Пушкина
Статья первая
1 Четыре статьи Чернышевского о Пушкине являются расширенным раэбором второго посмертного издания сочинений Пушкина (под редакцией П. В. Анненкова), вышедшего в 1855 году.
Статьи явились как бы вступлением к знаменитому спору о пушкинском и гоголевском направлениях в русской литературе, завершившемуся затем созданием «Очерков гоголевского периода».
В статьях о Пушкине, как и в «Эстетических отношениях» и в рецензии на «Поэтику» Аристотеля, Чернышевский ставил забытые со времен Белинского общие вопросы о путях развития литературы, о смысле творчества, о его общественном назначении. Эти вопросы и вылились в дальнейшем в широкую дискуссию о пушкинском и гоголевском направлениях, где имена Пушкина и Гоголя были в сущности лишь условными знаками двух теоретических направлений.
Вопрос об этих двух направлениях был намечен еще Белинским. В 1842 году Белинский, разбирая брошюру К. Аксакова о «Мертвых душах» Гоголя, писал: «Мы в Гоголе видим более важное значение для русского общества, чем в Пушкине, ибо Гоголь более поэт социальный, следовательно более поэт в духе времени, он также менее теряется в разнообрази» создаваемых им объектов и более дает чувствовать присутствие своего субъективного духа, который должен быть солнцем, освещающим создание поэта нашего времени».
В 50-х годах А. В. Дружинин и другие литераторы-дворяне, сторонники эстетической критики, отстаивали теорию «чистого искусства», «искусства для искусства». Она была для них, во-первых, средством обороны против «обличительной», «тенденциозной» литературы сатирического гоголевского направления — литературы, подтачивавшей основы родного им социального уклада, и, во-вторых, возможностью ухода от враждебной, «низкой» действительности в область «идеальных» стремлений.
….. Пушкин был, по их представлениям, «чистым художником» — и только.
В своих статьях об аиненковском издании сочинений Пушкина («Библиотека для чтения», 1855, т. 132) Дружинин резко нападал на писателей «натуральной» школы, идущих по стопам Гоголя, и призывал вернуться к пушкинским традициям. «Против того сатирического направления, к которому привело нас неумеренное подражание Гоголю, поэзия Пушкина может служить лучшим орудием», — писал А. В. Дружинин.
Чернышевский держался прямо противоположной точки зрения. Для него явления искусства не только воспроизводили действительность, не только объясняли жизнь, но часто служили приговором этой действительности (см. 17-й тезис его «Эстетических отношений», стр. 92).
При таком взгляде Чернышевского на литературу, вытекавшем из его общего революционного мировоззрения, творчество Гоголя, с необыкновенной силой обнажавшее социальные противоречия своего времени, представлялось ему наиболее полно удовлетворяющим потребности современности. Кроме того, Чернышевскому не была тогда известна (как и всему русскому обществу) в полной мере история столкновений Пушкина с правительством, его роль в движении декабристов, его борьба с тиранией Николая I, наконец обстоятельства гибели поэта.
В статьях о сочинениях Пушкина Чернышевский писал, что «великое дело свое — ввести в русскую литературу поэзию, как прекрасную художественную форму, — Пушкин совершил вполне, и, узнав поэзию, как форму, русское общество могло итти уже далее и искать в этой форме содержания.
Тогда началась для русской литературы новая эпоха, первыми представителями которой были Лермонтов и особенно Гоголь». 4
Нетрудно заметить, что взгляд Чернышевского на творчество Пушкина близок к взгляду Белинского в последний период его деятельности. Чернышевский также очень высоко ценил поэзию Пушкина, но считал ее, по ряду исторически обусловленных причин, поэзией переходной к литературе «гоголевского периода».
Известная односторонность такого подхода к Пушкину была вскрыта и объяснена еще Плехановым.
В борьбе с теоретиками «чистого искусства» Чернышевский полемически заострял некоторые свои утверждения, напр., что Пушкин «был по преимуществу поэт формы» и что «Пушкин не был поэтом какого-нибудь определенного воззрения на жизнь, как Байрон, не был даже поэтом мысли вообще, как, например, Гете и Шиллер. Художественная форма «Фауста», «Валленштейна», «Чайльд-Гарольда» возникла для того, чтобы в ней выразилось глубокое воззрение на жизнь; в произведениях Пушкина мы не найдем этого. У него художественность составляет не одну оболочку, а зерно и оболочку вместе».
Марксистская критика должна была внести и внесла серьезные поправки в такого рода суждения о великом русском поэте, основоположнике нашей литературы, сделавшем огромный вклад в сокровищницу мировой культуры.
«Мы не можем, — писал А. В. Луначарский, — относиться к пушкинской поэзии как к своего рода дворянской забаве, «приятной как лимонад», но не имеющей большого социального значения… Теперь мы ценим Пушкина не только за «пленительную сладость» его стихов. Вдумываясь в него, мы открыли в этой, на вид до поверхностности счастливой натуре, глубинные мысли и переживания — зародыш почти всех важнейших мотивов, которые развернула потом русская литература. Целый ряд проблем, над которыми мы еще и сейчас можем биться, получил определенные стимулы ог Пушкина. Нам незачем уступать Пушкина сторонникам искусства для искусства, нам незачем говорить: «Некрасов наш поэт, а Пушкин — ваш поэт: оба — наши».
Следует напомнить, что при иззесгчых неправильных, но исторически объяснимых нотах, имевшихся в суждениях Белинского и Чернышевского о Пушкине, взгляд их на творчество поэта в целом был широк, плодотворен и справедлив. Белинский первый исторически объяснил творчество Пушкина Белинский* в «статье одиннадцатой и последней» о сочинениях Пушкина называет имя поэта рядом с Гоголем в качестве родоначалоника натуральной школы, «пошедшей, как известно, не от Карамзина и Дмиіриева, а от Пушкина и Гоголя» (В. Г. Белинский, Соч. А. Пушкина, М. 1937, стр. 507). Чернышевский подчеркивал «нравственное здоровье» творчества Пушкина и благодетельность его влияния на читателей.
2 12 января 1855 года Московский университет праздновал свой столетний юбилей.
3 Имеются в виду известные статьи В. Белинского о Пушкине. Имя Белинского не могло быть открыто названо по цензурным условиям.
4 Первое посмертное издание сочинений Пушкина появилось вскоре после его смерти (первые восемь томов — в 1838 году, три дополнительных тома в 1841 году). Распоряжался этим изданием В. А. Жуковский, допустивший искажение некоторых произведений Пушкина с целью придать изданию благонамеренный характер. Доступной по тому времени полноты издание это не достигло. Критика неблагоприятно встретила это издание. Однако о течение 15 лет оно было единственным собранием сочинений Пушкина.
5 Издание Анненкова является первым критическим изданием сочинений Пушкина. Анненков основательно изучил библиографию произведений Пушкина и почти все его рукописи. В основу текста легло посмертное издание, к которому Анненков отнесся с излишней доверчивостью, исправляя лишь самые очевидные промахи. Анненков значительно расширил круг произведений, включаемых в собрание, и широко попользовал рукописный фонд в своих
«Материалах для биографии Пушкина». Но и Анненков обращался с литературным наследием Пушкина произвольно. Так, например, не желая «ронять» достоинство Пушкина, он не решился напечатать некоторые полемические его статьи, заметки и т. п. Кроме того, следует отметить, что анненковское издание осуществлялось в чрезвычайно неблагоприятных в цензурном отношении условиях: даже напечатанные при жизни Пушкина произведения подвергались искажениям и урезкам.
6 «Orlando furioso» («Неистовый Орланд») — поэма итальянского поэта Лодвико Ариосто (1475–1553), написанная октавами. Пушкин перевел из XXIII песни несколько октав по итальянскому подлиннику.
7 Говоря о монографиях и исследованиях, посвященных деятелям русской литературы, Чернышевский мог иметь в виду такие работы, как «Опыт биографии Н. В. Гоголя» Николая М. (П. А. Кулиша), 1854; «Александр Сергеевич Пушкин. Материалы для его биографии», Спб 1855, П. И. Бартенева; «Жизнеописание Фонвизина» П. А. Вяземского, 1848; «Биография М. Н Загоскина» С. Аксакова, 1853, и др.
Перевод:
Пою тот бой, в котором Толи одержал верх,
Где немало бойцов погибло, где Поль отличился. Николая Матюрена и красавицу Нитуш,
Коей рука была наградою победителю в ужасной схватке.
Стихотворение это предположительно относится к 1811 году. Сохранилось по воспоминанию сестры Пушкина — Ольги Сергеевны (см. Поли. собр. соч. Пушкина, т. I, «Academia», 1935, стр. 365).
кн. І—II, Л. 1924, стр. 5–6.
9 enflure — напыщенностью; dignité — достоинством;…Іа dignité et noblesse… и т. д. — …достоинство и благородство Они просты в повседневных случаях жизни, в их речах нет ничего приподнятого, театрального, даже в торжественных обстоятельствах, так как великие события для них привычны. Эти черновые наброски Пушкина о романах Вальтер-Скотта относятся к 1827 году. Анненков опубликовал заметку с пропускали. Автограф ее был найден уже в наше время и впервые опубликован в сборнике «Атеней»,
10 См. Пушкин, Собр. соч., т. IX, «Academia», 1937. стр. 82. Заметки эти относятся к 1829 году.
11 См- стихотворение «Подруга дней моих суровых» («К няне», 1826) «Зимний вечер» (1825), «Разговор книгопродавца с поэтом» («Старушки чудное преданье…», 1824) и строфу XXXV главы IV «Евгения Онегина».
12 Из письма Пушкина к брату Льву Сергеевичу (Михайловское, ноябрь) См Письма Пушкина, под ред. Б. Л. Модзалевского, Гиз, 1926, т. I, стр. 96–97.
|:< «Сказка о царе Берендее и о сыне его Иване царевиче» В. А. Жуковского (1831)
14 Второе издание «Руслана и Людмилы» вышло в 1828 году. В стихах,
написанных осенью 1824 года, в качестве эпиграфа к тетради с записями народных сказок, составивших впоследствии пролог к «Руслану и Людмиле», собраны мотивы, почти сплошь имеющиеся в сказках няни: «кот ученый»,
«тринадцать витязей», «царь Кащей» и г. п.
15 См. Собрание сочинений Пушкина, т. III, «Academia», 1935, стр. 253.
' 16 П. В. Анненков, «Материалы к биографии А. С. Пушкина», 1855.
Пушкин в 1833 году подарил П. В. Киреевскому, собирателю народной поэзии, тетрадь своих записей песен Псковской губернии. В «Мыслях на дороге» поэт особо отметил записи народных легенд, сделанные П. В. Киреевским.
17 См. Собрание сочинений Пушкина, т. IX, «Academia», 1937, стр. 385
18 Приводимая ниже заметка Пушкина «О народности в литературе» (1826) при жизни его не печаталась. Она вызвана спорами о народности в литературе, возникшими в связи с общей дискуссией в начале двадцатых годов о романтизме и классицизме. Начало этой дискуссии связано отчасти с выступлением Пушкина на широкую литературную арену. Появление «Руслана и Людмилы» вызвало обширную полемику в журналах. Упреки дворянской консервативной критики в том, что в поэму введены «мужицкие» рифмы, «низкие» слова и т. п., и, напротив, похвалы сторонников романтизма, приветствовавших «народность» поэмы, уже тогда наметили линию будущего спора. В двадцатых годах, в период развернутого спора о принципах классической и романтической поэзии, слово «народность» не сходило со страниц журналов, ибо преклонение перед народной стариной и народной поэзией лежало в основе романтической поэтики. Но в статьях критиков Пушкин не нашел удовлетворительного определения самого понятия «народности» и по пытался восполнить этот пробел.
19 Имеется в виду В. К. Кюхельбекер, писавший, что «лучшими, чистейшими, вернейшими источниками для нашей словесности должны быть летописи, песни и сказки народные» («О направлении в нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» — альманах «Мнемозина», 1824, часть II, стр. 42). Сходные мысли развивал и О. М. Сомов в своей книжке «О романтической поэзии», Спб. 1832, стр. 87.
20 Ученый немец — Август-Вильгельм Шлегель, который делает несколько иронических замечаний по поводу «Андромахи» Расина.
21 Француз — Симон де Сисмонди, отнесшийся весьма отрицательно к драме Кальдерона «Оружие любви».
22 В рукописи Пушкина: Кориолана (героя драмы «Оружие любви»).
23 Заметка воспроизведена Анненковым неточно и с пропусками. См. Собр. соч. Пушкина, т. IX, «Academia», 1937, стр. 51–52.
24 Цитируются отрывки из лицейского дневника Пушкина 1815 года. Запись относится к Бакуниной] Е. П. (1795–1869), сестре товарища Пушкина по лицею, бывшей предметом первой юношеской любви поэта.
25 «Елисей, или раздраженный Вакх» (1811), — шуточная поэма Василия Майкова. В окончательной редакции первой строфы VIII главы «Евгения Онегина» вместо «Елисея» — «Апулея».
26 Строки эти были приписаны Пушкиным к эпилогу, поэмы на сохранившемся печатном экземпляре «Цыган» (1827), принадлежащем кн. П. А. Вяземскому.
27 Из письма П. Я. Чаадаева А. С. Пушкину, март — апрель 1829 года. См. Переписка Пушкина, под ред. В. И. Саитова, изд. Академии наук, Спб«1908, т. II, стр. 90–96.
28 «Евгений Онегин», гл. VIII, строфа X.
29 Пушкин был выслан из Петербурга в 1820 году, вернулся из ссылки в 1826 году.
30 П. В. Н—н — Павел Воипович Нащокин, близкий друг Пушкина.
31 Пушкин и раньше хлопотал о разрешении выехать за границу (1825,
1828 гг.), но оба раза получил отказ. 7 января 1830 года он отправил письмо к Бенкендорфу с просьбой разрешить поехать в Западную Европу или в Китай и снова получил отрицательный ответ.
32 См. Собр. соч. Пушкина, т. II, «Academia», 1935, стр. 342–343. После этого стихотворения в рукописи Чернышевского зачеркнут следующий текст: «Вот прозаический отрывок, свидетельствующий о состоянии души его, когда он был или скоро надеялся быть женихом».
С французского:
«Участь моя решена. Та, которую я любил…»
Тут Чернышевский намеревался привести автобиографические записи Пушкина («Участь моя решена…»), прикрытые в рукописи фальшивой отметкой: «с французского» и относящиеся к маю 183Ü года, когда он был помолвлен с Н. Н. Гончаровой. '
33 Знакомство Пушкина с Н. Н. Гончаровой относится к концу 1828 или к началу 1829 года иа общественном балу у танцмейстера Иогеля Уже в мае
1829 года граф. Ф. И. Толстой от имени Пушкина просил у Н. И. Гончаро-
Boi 1 руки cc дочери. H. И. Гончарова ответила неопределенно, и Пушкин уехал на Кавказ. В апреле 1830 года Пушкин вторично сватался к Н. Н. Гончаровой. На этот раз предложение его было принято, и в мае 1830 года состоялась помолвка. 18 февраля 1831 года он обвенчался с Гончаровой.
31 Пушкин после выстрела подбросил свой пистолет и воскликнул: «Браво!» (письмо кн. П. А. Вяземского вел. кн. Михаилу Павловичу, Ь «Исторический вестник», 1905, стр. 183).
35 Имеется в виду письмо В. А. Жуковского к С. Л. Пушкину 15 февраля 1837 года.
зс Из стихотворения «На смерть Гете» (1832).
37 Из письма Л. С Пушкину (сентябрь — октябрь 1822 г., Кишинев). См. Письма Пушкина, под ред. Б. Л. Модзалевского, Гиз, М. — Л. 1926, т. I, стр. 39–40 и 255–256.
38 Отрылпк взят из заметки Пушкина «Встреча с Кюхельбекером» (1827), см. Собр. соч., т. IX, «Academia», 1937, стр 458–459.
33 Знакомство Гоголя с Пушкиным относится не к концу 1829 года, а к концу мая 1831 года.
40 1000 рублей были получены с Н. В. Всеволожского, которому Пушкин проиграл свою рукопись в карты. См. Письма Пушкина, Гиз, 1926, т. I, стр. 84 и 331.
41 Из письма П. В. Нащокину 8—10 января 1832 года. См. Переписка Пушкина, под ред. В. Саитова, изд. Академии наук, Спб. 1908, т. II, стр. 359. Указание Чернышевского на то, что строки эти находятся в post-scriptum’e письма, ошибочно.
42 Л—с—К. К. Данзас, секундант Пушкина на последней дуэли. О кольче и перстне см. В. Вересаев, «Пушкин в жизни», «Academia», М. — Л. 1933.
43 Н. В. В. — Никита Всеволодович Всеволожский (1799–1862), член общества «Зеленая лампа», близкий друг Пушкина.
41 Из воспоминаний о Пушкине А. А. Фукс (впервые опубликованы под заглавием «А. С. Пушкин в Казани» в прибавлениях к «Казанским губернским ведомостям», 1844, № 2).
45 «Стансы» 26 декабря 1829 года.
46 См. сборник «Арзамас и арзамасские протоколы», Издательство писателей п Ленинграде, 1933.
47 «Московский телеграф» — журнал литературы, критики, наук и художеств, издававшийся Н. А. Полевым с 1825 по 1834 год. В 1834 году был явкрыт по распоряжению Николая I. Поводом к закрытию послужила суровая рецензия, помещенная в журнале на пьесу Н. Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла». В правительственных кругах журнал считался опасным ч революционным.
Первоначально Пушкин поддерживал «Московский телеграф» и считал его лучшим «из наших журналов», но с возникновением «Московского вестника» (1827) отошел от «Телеграфа» Расхождение Пушкина с Полевым приняло характер открытого разрыва, как только последний попытался в статье, предваряющей выход первого тома своей «Истории русского народа» (1829), подвергнуть критике историческую концепцию Карамзина, авторитет которого был незыблем для Пѵшкина. К 1830 году относится бурная полемика «Литературной газеты» с Полевым и Булгариным, неожиданно объединившимися для нападения на пушкинский круг литераторов. Пушкин принял участие в этой полемике и с тех пор до конца жизни относился к Полевому резко отрицательно.
48 Это мнение Чернышевского подтверждается как опубликованными дри жизни Пушкина, так и неизданными его статьями и заметками. Ср., например: «Критикою у нас большею частью занимаются журналисты, т. е. èntrep-reneurs (предприниматели), люди, понимающие свое дело, но не только не критики, но даже не литераторы» («Заметки о критике и полемике», 1830).
«Если бы все писатели, заслуживающие уважение, доверенность публики, взяли на себя труд управлять общим мнением, то вскоре критика сделалась бы не тем, чем она есть» («Отрывки из разговоров», 1830).
19 «Литературная газета», издававшаяся А. А. Дельвигов и О. М. Сомовым в 1830–1831 годах, объединяла пушкинский круг литераторов (ГІ. Вяземский, Е. Баратынский, А. Дельвиг и др.). Издание газеты оборвалось на 37-м номере в 1831 году.
59 «Московский вестник» — двухнедельный литературный журнал, орган московского литературно-философского кружка Д. Веневитинова (бывшее «Общество любомудрия»), выходивший под ред. М. П. Погодина с 1827 по 1830 год. К «Московскому вестнику» одно время близко стоял Пушкин, хотя узкс-философское направление этого журнала было ему чуждо («Ты пеняешь мке за «Московский вестник» и немецкую метафизику, — писал Пушкин Дельвигу 2 марта 1827 года, — бог видит, как я ненавижу и презираю ее…».
0І В 1831–1832 годах, после закрытия «Литературной газеты», Пушкин проектировал издание политической и литературной газеты «Дневник».
52 В 1836 году Пушкин полупил разрешение издавать журнал «Современник».
53 Из письма А. А. Бестужеву 8 февраля 1824 года. См. Письма Пушкина, под ред. Б. Л. Модзалевского, Гиз, 1926, т. I, стр. 71.
61 Собр. соч. Пушкина, т. III, «Academia», 1935, стр. 111.
55 Письмо А. Н. Мордвинову в ответ на запрос III Отделения о причинах, «побуждающих» Пушкина хлопотать о поездке в Оренбург и Казань. См. Переписка Пушкина, под ред. В. Саитова, т. III, стр. 31–32.
5,1 Потоп — известное наводнение в Петербурге 7 ноября 1824 г.
57 Письмо Пушкина к брату Льву Сергеевичу 4 декабря 1824 г. См. Письма Пушкина, Гиз, 1926, т. I, стр. 102–104.
58 В подлиннике Слепой поп (священник Г. А. Покатский, «лишенный зрения», как печатал он на своих книгах). Упоминаемая Пушкиным книга — «Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, заключающая в себе наилучшие нравоучения, переложенная в стихи» (1825). См. Письма Пушкина, т. I, стр. 119–120.
59 «А. С. Пушкин, прочитав эту сказку, сказал, между прочим, Ершову: «Теперь этот род сочинений можно мне и оставить» (А. К. Ярославцев, «П. И. Ершов — автор сказки «Конек-горбунок», Спб. 1872, стр. 2).
Сказка «Конек-горбунок» впервые частью была напечатана в «Библиотеке для чтения» в 1834 году. Пушкин в 1831 году читал ее в рукописи и набросал первые четыре стиха
«Записки кавалериста-девипы Н. А. Дуровой» Пушкин напечатал в своем «Современнике», снабдив их предисловием.
00 «Скупой рыцарь» (1830) напечатан был в «Современнике», 1836, № 1, за подписью Р., с подзаголовком «Сцены из ченстоновой трагикомедии» («The covelous Knight»). Эта трагикомедия, указанная как источник, вымышлена Пушкиным. Писатель Ченстон в мировой литературе неизвестен. Возможно, что Пушкин имел в виду английского поэта Шенстона (1714–1763), имя которого было хорошо ему известно еще в лицее. В форме «Ченстон» оно встречается еще в «Кратком начертании изящной словесности» А. Мерзлякова (1822). Однако ни в одном из произведении трехтомного «Собрания сочинений»'(1791) Шенстона нет ничего общего со «Скупым рыцарем» Пушкина.
91 «Цыганы» (1830); напечатано впервые в альманахе «Денница» на 1821 год. Несмотря на пометку «С английского», стихотворение это не является переводным.
92 В 1836 году, подготовляя к печати свое стихотворение «Недорого ценю я громкие права» и желая обмануть цензуру, выдав стихотворение за перевод, Пушкин приписал его итальянскому поэту И. Пиндемонте. Сделал это Пушкин, вероятно, рассчитывая на полное незнакомство цензора с творчеством Пиндемонте, поэта весьма мало известного.
63 Эпиграф «Modo vir, modo femina» («То муж, то женщина») взят из IV книги «Метаморфоз» Овидия (стих 820).
61 «Северная пчела» — газета «политическая и литературная», основанная Булгариным в 1825 году и руководимая им совместно с Гречем: самое распространенное периодическое издание николаевской поры, положение которого обеспечивалось преимуществами политического официоза (политическая часть газеты направлялась III Отделением).
65 В приводимом ниже отрывке речь идет об одописце Василии Петровиче Петрове н о его оде «Его высокопревосходительству Н. С. Мордвинову»
(1796).
Сочинения Пушкина
Статья вторая
’ С 1825 по 1832 год. м
2 См. заметки Пушкина «О ничтожестве литературы русской» (1834) — Собр. соч., т. IX, «Äcademia», 1937, стр’ 266–279.
3 Здесь Пушкин имеет в виду преобразовательную деятельность школы поэтов «Французской плеяды» (Pleiade fran<;aise). Поэты «Плеяды» Жодель (1532–1573), дю Белле (1524–1560) и Ронсар (1524–1584) деятельно изучали античную литературу и подражали древним греко-римским писателям, стремясь возродить классицизм.
4 Перевод:
Наконец пришел Малерб и первый во Франции
Дал почувствовать в стихах точную гармонию.
Эта характеристика Малерба взята Пушкиным из первой песни поэмы Буало «Art poetique» («Искусство поэзии»), стихи 131–132.
5 «Сто русских литераторов» — альманах, издававшийся А. Ф. Смирди-ным. «Одна глава из неоконченного романа» Пушкина была напечатана в I томе альманаха, вышедшем в 1839 году.
6 Осенью 1824 года Пушкин начал писать небольшую стихотворную поэму о Клеопатре, но оставил, написавши, вероятно, около половины — 70 стихов. Через три года (1827) он снова вернулся к этому стихотворению, но также оставил его неоконченным. В 1835 году, задумав прозаическую повесть из великосветской жизни, Пушкин в третий раз стал перерабатывать для вставки в эту повесть свою стихотворную поэму «Клеопатра», но и на этот раз также, повидимому, не окончил ее. Отказавшись от продолжения этой повести, Пушкин начал новый вариант — уже последний — повесть «Египетские ночи» (см. Собр. соч., т. VIII, «Äcademia», 1938, стр. 396–416), куда вставил три свои прежде написанные стихотворные произведения, между ними и поэму о Клеопатре, которую импровизирует итальянец в III главе «Египетских ночей» («Чертог сиял, гремели хоры»).
7 Эти отрывки печатаются ныне под условным названием «Цезарь путешествовал» (см. Собр. соч., т. VIII, стр. 682), где даны три черновых наброска и план повести о Петронии, над которой Пушкин работал в начале 1835 года. Судя по плану, поэт предполагал включить в нее и свои давние наброски стихов о Клеопатре.
8 Satiricon — «Сатирикон» (54–68 гг.) — роман Пет. роння Арбитра.
3 «Разбойников» я сжег, — писал Пушкин летом 1823 года в письме к Бестужеву, — и поделом. Один отрывок уцелел в руках Николая Раевского; если отечественные звуки: харчевня, кнут, острог — яе испугают нежных ушей читательниц «Полярной звезды», то напечатай его». В качестве «Отрывка из поэмы», как гласит подзаголовок, «Братья разбойники» и появились в «Полярной звезде» за 1825 год.
10 История создания «Медного всадника» сложнее, чем она изложена у Чернышевского.
11 Редакторы последних изданий сочинений Пушкина' читают «Гасуб», а не «Галуб», и, отбрасывая условное (по «Современнику», 1837, т. III) традиционное название поэмы «Галуб», дают ей условное заглавие «Неоконченная поэма о Тазите».
^ Все это большое отступление, трактующее о способах писать, направлено против аполитичных поэтов, поэтов-«эпнкуреицев», более всего пекуЩихся о наружной отделке стиха. Ср. «Очерки гоголевского периода» — Собо. соч., т. III, Гослитиздат, 1946, стр. 300–303.
13 По словам Пушкина, «Полтава» была написана им «в несколько дней». На самом же деле — в течение октября 1828 года.
14 Начало романа «Дубровский» помечено 21 октября (1832 г.). В единственной черновой рукописи «Дубровского» имеется целый ряд дат, из них последняя—6 февраля (1833 г.).
15 Чернышевский не случайно называет неоконченную пьесу «Сцены из рыцарских времен» «прекрасной». Идеологу крестьянского восстания тема, затронутая в «Сиенах» Пушкина, была, конечно, особенно близка.
16 Точнее: «Nonumque prematur in annum» (Пусть появляется на девятый год). Гораций, «Ars poetica», стих 388.
17 Чернышевскому неизвестны были, повидимому, истинные причины задержки с печатанием «Бориса Годунова». «Личный цензор» Пушкина — Николай I — долго не разрешал ему публиковать драму. Лишь в апреле 1830 года Пушкин получил разрешение иа издание «Бориса Годунова» «под своею собственною ответственностью».
18 Далее цитируются наброски предисловия к «Борису Годунову», относящиеся к 1829 году.
19 II est indifferent — безразлично.
90 C’est une oeuvre de bonne foi — это добросовестное произведение (из предисловия Монтэня к его «Опытам»),
21 «Борис Годунов» писался Пушкиным в селе Михайловском в годы изгнания.
22 Пушкин по приезде в Москву неоднократно читал в 1826 году «Бориса Годунова» в узком кругу у Соболевского, у Веневитинова и др. Их и имеет в виду Пушкин, говоря об одобрении «малого числа избранных».
23 «Борис Годунов» был крайне недоброжелательно встречен журнальной критикой: «Северная пчела», 1831, №№ 133, 167; «Северный Меркурий», 1831, № 1; «Московский телеграф», 1831, № 2, и др. Из сочувственных отзывов можно отметить лишь статьи Надеждина в «Телескопе» и И. Киреевского в «Европейце».
24 «Разговор книгопродавца с поэтом».
25 В письмах к друзьям Пушкин неоднократно отзывался отрицательно о «Бахчисарайском фонтане» («Бахчисарайский фонтан», между нами, дрянь, но эпиграф его прелесть» — письмо Вяземскому 14 сентября 1823 года; «Если эти бессвязные отрывки покажутся тебе достойными тиснения, то напечатай»— письмо Вяземскому 4 ноября 1823 года; «Ты просишь «Бахчисарайского фонтана»…это бессвязные отрывки, за которые ты меня пожуришь, и все-таки похвалишь» — письмо Дельвигу 16 ноября 1823 года, и т. д.). В 1830 году он писал в одной из своих автокритических заметок: «Бахчисарайский фонтан» слабее «Пленника», и как он отзывается чтением Байрона, от которого я с ума сходил…» («Заметки о- ранних поэмах»).
26 «Водопад» Державина (1791).
27 Saepe stylum verlas (Часто стиль переворачивай) — Гораций, Сатира
1-я, X, 71–73.
Оборотной стороной стиля (грифеля) стирали написанное острым концом этого стиля на дощечке, покрытой воском.
28 Это мнение Чернышевского ошибочно, — наша поэзия не случайно усвоила тоническое стихосложение: оно наиболее отвечает свойствам русского языка. «Силлабическая метрика (во многих отношениях стоящая выше уже потому, что допускает большое разнообразие ритмов) применима только в языках, где слоги (гласные звуки) произносятся отчетливо и где, следовательно, ухо может инстинктивно отмечать их количество в стихе. В языках, где отчетливо звучит только ударный слог в слове или даже в сочетании слов и где слоги неударные произносятся неясно, как в языках английском и русском, силлабическая метрика весьма неудобна; доказательство: иеудач-
ные попытки всех слагателей русских «виршей» XVII и XVIII вв. вплоть до Кантемира. Такие языки естественно должны опирать свою метрику на счет ударений в стихе» (Валерий Брюсов, «Опыты», М. 1918, стр. 16–17).
Любопытно отметить, что мнение, сходное с мнением Чернышевского, высказано было и Гоголем: «Впопыхах занял он (Ломоносов. — Н, Б.) у со-седей-немпев размер и форму, какие у них на ту пору случились, не рассмотрев, приличны ли они русской речи». Наивность этого суждения самоочевидна.
23 В статье «Чернышевский-стиховед», напечатанной в сборнике «Н. Г. Чернышевский» (Саратов, 1926), В. В. Гиппиус пишет: «Сама но себе мысль Чернышевского — возвести законы чередования метрических ударений к естественной акцентовке и для этого запастись статистическими данными из анализа иемериой речи — была и смелой, и в конечном счете плодотворной. Подлинное осуществление она нашла только в стихологической литературе нашего времени. Новейшие стиховеды, через 60 с лишним лет после попытки Чернышевского, естественно, могли обставить свою работу всеми необходимыми научными гарантиями. И, конечно, в свете научного стиховедения метод Чернышевского никакой критики не выдерживает». Далее Гиппиус указывает, что сам по себе средний арифметический итог ничего не доказывает, раз не принято во внимание взаимоотношение между различными акцентными типами слов. Затем прозаическая речь может, конечно, быть материалом для наблюдений над акцентовкой, но нормой для стиха быть не может. Самая же крупная ошибка Чернышевского заключалась в том, что подсчет слогов и ударений он произвел только в одном из двух сравниваемых рядов — прозаическом. Стихотворная речь, по его мнению, в таком подсчете не нуждалась, так как в ней взаимоотношение слогов и ударений предопределено метром. На самом деле это, разумеется, не так…»
Небезынтересно, однако, отметить, что, исходя из одностороннего опыта, Чернышевский все же пришел к выводам, приближающимся к результатам анализа поэтического языка.
30 Оговорка о гекзаметре вскоре была развита Чернышевским более подробно в рецензии на сборник П. Леонтьева «Пропилеи» (см. стр. 544 наст. тома).
31 «Один из современных русских поэтов» — Н. А. Некрасов, действительно воскресивший трехдольиые размеры. Наблюдение Чернышевского подтверждается статистикой некрасовских размеров в названной статье В. Гиппиуса: из 3304 стихотворений, датированных 1845–1855 гг„44,25 % падает на трехдольные размеры, 43,04 % на ямб и 13,71 % на хорей.
32 Дактилическая рифма — рифма, где ударение падает на третий от конца слог (битвою, молитвою и т. п.) — одна из излюбленных рифм Некрасова. о котором говорит здесь Чернышевский, не называя его по имени, ввиду того, что Некрасов — редактор «Современника», то есть журнала, в котором печаталась данная статья.
Вопрос о рифме не имел, конечно, для Чернышевского самодовлеющего значения. Превознесение формы некрасовского стиха, несомненно, было теснейшим образом связано с общей защитой Чернышевским поэзии разночинцев. __
Замечательно, что в вопросе о господстве ямба в русской поэзнн Чернышевский идет по следам А Н. Радищева. Ср.: «Парнас окружен ямбами, и рифмы стоят везде на карауле. Кто бы ни задумал писать дактилями, тому тотчас Тредияковского приставят дядькою, и прекраснейшее дитя долго казаться будет уродом, доколе не родится Мильтона, Шекспира или Вольтера» («Путешествие из Петербурга в Москву», «Тверь»),
В статье «Мысли на дороге» («Путешествие из Москвы в Петербург») Пушкин отмечал: «Радищев, будучи нововводителем в душе, силился переменить и русское стихосложение. Его изучения Тилимахиды замечательны…» и т. д. /
33 Эта защита неточной рифмы свидетельствует о большей чуткости
\
Чернышевского в вопросах стиха. В дальнейшем развитии русской поэзии неточная рифма заняла важное место, оправдав тем самым пре'двидения Чернышевского.
34 Ошибочность этих положений Чернышевского самоочевидна.
35 Имеется в виду статья Варнгагена фон Энэе «Сочинения Александра Пушкина», напечатанная в русском переводе в «Отечественных записках» (1839, ч. III, стр. 18–24). В ней «Борис Годунов» сближался с «Эгмонтом» и «Гецем фон Берлихингеном» Гете.
36 «Чернь» (1828).
37 Чернышевский имеет в виду ответ поэта черни в указанном стихотворении: «Подите прочь! Какое дело поэту мирному до вас?» и т. д.
38 Чернышевский ошибочно приписывает эти сгихи Пушкину. В действительности онн принадлежат П. А. Вяземскому.
33 Баллада «Кубок» в оригинале «Водолаз» (1797) переведена Жуковским в 1831 году, стихотворение «Торжество победителей» — в 1828 году. «Людмила», баллада Жуковского (1808), является вольным переводом «Леноры» Бюргера (В. Жуковский, Собр. соч., т. I, изд. А. Ф. Маркса, Спб. 1902, стр. 53). В 1831 г он вторично перевел «Ленору» (Собр. соч., т. III, стр. 98). «О том, как старушка ехала на коне и кто ехал с нею» — баллада Роберта Соути.
40 Журнал «Приятное и полезное препровождение времени» издавался в Москве в 1794–1798 гг. под редакцией Сохацкого и Подшивалова.
41 О взгляде Чернышевского на поэзию Пушкина, как на поэзию, лишенную глубокого содержания, см. у Г. В. Плеханова в книге «Н. Г. Чернышевский», Спб. 1910, стр. 209.
42 Имеются в виду, вероятно, статьи о Княжнине А. Д. Галахова, напечатанные в «Отечественных записках», 1850, № 4, 8, 12.
43 «Переимчивым» Пушкин называет Княжнина в «Евгении Онегине».
44 Под заметками Пушкина о Державине подразумевается письмо Пушкина к Дельвигу (Михайловское, июнь 1825 г.).
45 Приведенное суждение Пушкина о Ломоносове содержится в статье «Мысли на дороге» (1833–1835), обозначаемой в последних изданиях сочинений Пушкина как «Путешествие из Москвы в Петербург» (см. Собр. соч., т. IX, «Academia», 1937, стр. 221).
46 См. статью Пушкина «Драматическое искусство родилось на площади…» (1830) — Собр соч., т. IX, «Academia», 1937, стр. 176. В статье Пушкина Сумароков назван «несчастнейшим из подражателей».
47 Из статьи «О ничтожестве литературы русской» (1834). Чернышевский ошибается в датировке статьи на 10 лет.
48 Конец статьи, начиная со слов: «Вообще влияние человека», отчеркнут в рукописи на полях и сопровождается пометками автора: «Здесь
получено известие» (о смерти Николая I) и «Дописано 18 февраля 1855 г. — под влиянием известного события написаны последние строки» (6 апреля 1856 г).
Сочинения Пушкина
Статья третья
1 «Возражения на критику Броневского» — статья Пушкина «Об истории Пугачевского бунта», напечатанная впервые в «Современнике», 1836, т. III
2 Речь идет о статье В. Гаевского по поводу анненковского издания сочинений Пушкина.
3 Авторы указанных произведений нам неизвестны. пято
4 «Галатея» — журнал, издававшийся в Москве С. Е- Раичем (1829 1830 и 1839–1840). «Дамский журнал» — салонный журнал, отличавшийся беэидейностью и пустотой, издавался бездарным, слзщавь1М стихотворцем кн. Шаликовым с 1823 по 1833 год.
мною начатую (т. е. «Капитанскую дочку». — Н. Б.) и которая мне доставит деньги, в коих имею нужду. Мне самому совестно тратить время на суетные занятия, но что делать? они одни доставляют мне независимость и способ проживать с моим семейством в Петербурге…» (Переписка Пушкина, под ред. Саитова, т. III, стр. 31–32). '
0 Цитата из первой статьи Белинского о Пушкине.
9 Из пятой статьи Белинского о Пушкине.
10 Из пятой статьи Белинского о Пушкине.
11 Статья 1834 г. Впервые была напечатана в сборнике «Арабески», Спб. 1836.
12 Белинский, пятая статья о Пушкине. Цитата оборвана по цензурным соображениям. «Вот вопросы, — пишет Белинский, — на которые не может дать ответа настоящее, ибо Россия по преимуществу страна будущего».
13 Из пятой статьи Белинского о Пушкине.
14 Демон другою поэта — то есть Лермонтова.
15 Из одиннадцатой статьи Белинского о Пушкине.
,г> Здесь осторожный намек на связь Пушкина с декабристами.
Ср. прикрытое стихотворением «Арион» упоминание об отношении Пушкина к декабристам в предисловии Чернышевского к «Апологии сумасшедшего» П. Я. Чаадаева (сб. «Николай Гаврилович Чернышевский, Неизданные тексты, материалы и статьи», Саратов, 1928, стр. 54).
17 Из стихотворения Лермонтова «Не верь себе».
18 Из стихотворения «Возрождение» (1819).
19 «Разговор книгопродавца с поэтом».
20 Относится к А. В. Дружинину (см. его статью об анненковском издании сочинений Пушкина — «Библиотека для чтения», 1855, т. 132) — и А. А. Григорьеву (см. его «Замечания об отношении современой критики к искусству» — «Москвитянин», 1855, т. IV, №№ 13 и 14.
21 Белинский, пятая статья о Пушкине.
Плеханов в своей работе «Искусство и общественная жизнь» (Соч., т. XIV, стр. 120 и сл.) объясняет возникновение «Черни», «Поэту» и др. разладом Пушкина с «правящими сферами» и презрением его к «светской черни» (но не к публике, то есть к широким массам читателей).
22 А. В. Дружинин, указанная статья (см. прим. 20).
23 Белинский, первая статья о Пушкине.
24 Белинский, восьмая статья о Пушкине.
25 Белинский, десятая статья о Пушкине.
26 Здесь вновь Чернышевский настойчиво указывает на невозможность выходить в статьях за пределы чисто литературных вопросов.
27 Белинский, первая статья о Пушкине.
28 То есть Белинским.
Путешествия А. С. Норова
1 А. С. Коров (1795–1869) — государственный деятель, писатель и переводчик, член’Академии наук и министр народного просвещения (1853–1858).
Некоторые неоспоримые научные достоинства этого труда позволили Чернышевскому дать положительную оценку издания, не касаясь, разумеется, религиозных взглядов автора.
«Пропилеи». Сборник статей изд. П. Леонтьевым
1 …в последние пять или шесть лет — Чернышевский намекает на то обстоятельство, что после революционных событий на Западе в 1848 году в России чрезвычайно усилились цензурные строгости и потому-то перестали появляться переводы исторических работ.
2 Быть и не обнаруживаться — один из типичных примеров эзоповского языка Чернышевского: все это рассуждение скрыто указывает на цензурные условия, препятствующие «обнаружению любознательности».
9 …более существенных сторонах жизни — подразумевается, конечно, политическое устройство общества, республиканский образ правления и т. п.
^ Іэся полемика вокруг перевода «Одиссеи», далеко уводящая читателей от самого существа предмета, чрезвычайно показательна, как пример резкого обострения идеологических противоречий в художественной литературе.
Надо сказать, что I том «Одиссеи» Гомера, переведенный В. А. Жуковским, появился в 1848 году (с пометкой: 1849 год), то есть в год февральской революции во Франции. Самому факту этого перевода Жуковский и другие реакционно настроенные писатели придавали в известной мере политическое значение. Еще до появления I тома Гоголь писал об «Одиссее», переводимой Жуковским: «Появление «Одиссеи» произведет впечатление на современный дух нашего общества… Именно в нынешнее время, когда таинственной волей Провидения стал слышаться повсюду болезненный ропот неудовлетворения человеческого на все, что ни есть на свете: на порядок вещей, на время, на самого себя… когда сквозь нелепые крики и опрометчивые проповедования новых, еще темно услышанных идей слышно какое-то всеобщее стремление стать ближе к какой-то середине… «Одиссея» поразит величавой патриархальностью древнего быта. В «Одиссее» услышит величавый упрек себе наш девятнадцатый век» (Сочинения, под ред. В. Каллаша, т. VIII, стр. 34–35).
Сам Жуковский писал Стурдзе: «Если подлинно мой перевод удался, то… будет эпохою в нашей поэзии это позднее появление простоты древнего мира среди конвульсий мира современного» (Сочинения, т. XIII, 1857, стр. 252).
И. С. Аксаков в письме к отцу выражал сожаление, что «появление «Одиссеи» в России не может иметь влияние на современное общество, на европейское. «Одиссея» не вылечит Запада» («И. Аксаков в его письмах», М. 1888, т. I, стр. 353).
Чернышевский в «Очерках гоголевского периода» едко критиковал панегирический отзыв Шевырева о переводе «Одиссеи», написанный в таком же духе.
а Чернышевский не заметил, что «правильное смешение хорея с амфибрахием тот же самый дактило-хорей (размер русскою гекзаметра, только более однообразный)». См. статью В. Гиппиуса «Чернышевский-стиховел» в сборнике «Н. Г. Чернышевский», Саратов 1926. Ср. суждение Чернышевского о несродности гекзаметра русской версификации, высказанное им во второй статье о «Сочинениях Пушкина».
11 Имеются в виду «Письма об изучении природы» А. И. Герцена, напечатанные в «Отечественных записках» 1845–1846 гг.
7 Рецензент одного из наших журналов — анонимный автор статьи «Русская литература в 1853 году», напечатанной в журнале «Отечественные записки», 1854, № 3.
8 …один из людей… знающих истинное положение науки — N. — автор рецензии на книгу М Каткова в «Москвитянине», 1854, т. III, № 10.
9 Статья М. Каткова напечатана в «Москвитянине», 1854, т. V, № 18, и перепечатана в III томе «Пропилеев».
10 Имеется в виду рецензия, напечатанная в «Библиотеке для чтения», 1853, № 10, и ответная статья А. Авдеева в IV томе «Пропилеев».
11 М. С. Куторга (1809–1886) — профессор всеобщей истории Петербургского университета, специалист по истории древней Греции. Чернышевский во время своего пребывания в Петербургском университете был слушателем Куторги.
12 См. рецензии на сочинения Гильфердинга (стр. 412 настоящего тома) и на «Временник императорского Московского общества истории н древностей российских» (стр. 318 настоящего тома).
13 Сведения о многочисленных отзывах на «Пропилеи» см. в «Систематическом каталоге русским книгам…» В. И. Межсва, Спб. 1869, стр. 311.
14 См. краткую рецензию Чернышевского на отдельное издание этого труда П. Кудрявцева (т. III наст, издания, стр. 597).
18 5 5
БИБЛИОГРАФИЯ
Осада н взятие Византии туркама. Историческое исследование ІИ. Стасюлевича
1 М. Стасюлевичем были написаны к этому времени следующие исследования: «Афинская гегемония», 1849, «Ликург Афинский», 1851, «Защита Кимонова мира», 1852.
2 Ср. отзыв Чернышевского на это исследование, напечатанный в «Современнике» (стр. 639 наст. тома).
Мелочи из запаса моей памяти. М. Дмитриева
1 Имеются в виду «Жизнеописание Фонвизина» П. А. Вяземского, Спб. 1848, и «Очерки жизни и избранные сочинения А. П. Сумарокова» С. Глинки, Спб. 1841.
2 В своем критико-биографическом очерке «А. С. Пушкин. Его жизнь и сочинения», написанном для юношества (1856), Чернышевский приводит это описание приема В. Л. Пушкина в «Арзамас» «как один из примеров, показывающих, что тогда сами писатели смотрели на литературные свои занятия повсе не с нынешней серьезной точки зрения» (см. т. III наст, изд., стр. 32Ü—321).
3 Чернышевский имеет в виду аналогичные высказывания Белинского в статьях «Литературные мечтания», «Речь о критике», «Сочинения Александра Пушкина» и др.
Ср. слова Пушкина, сказанные им в 1836 году в письме Баранту: «Литература стала у нас всего около 20 лет значительной отраслью промышленности. До тех пор она рассматривалась только как занятие изящное и аристократическое. Г-жа Сталь говорила в 1811 году: в России несколько дворян занимаются литературой («10 лет изгнания»).
Никто не думал извлекать других плодов из своих произведений, кроме успеха в обществе».
4 «Für wenige» — сборник переводных стихотворений.
5 Здесь Чернышевский несомненно имеет в виду прежде всего Радищева, назвать которого по имени он не мог по цензурным соображениям.
6 «Роспись российским книгам для чтения из библиотеки Александра Смирдина», чч. 1–4, Спб. 1828,— одно из важнейших библиографических пособий того времени.
7 Указание на Белинского, которого Чернышевский справедливо считал не только лучшим русским критиком и мыслителем, но и историком литературы, о чем говорится в «Очерках гоголевского периода» (см. т. III настоящего издания, стр. 189–190).
Московская самоварница. Сочинение Петра Мед…а. Москва. 1851
1 Макулатурные издания того времени: «Любовь поэта», драматическая фантазия в трех актах с прологом А. Оводова, Спб. 1854; «Каритан», драматическое представление в четырех действиях с прологом и эпилогом И. А. Салова, М. 1854; «Диагор», трагедия в четырех действиях В. Ал-ферьева, Спб. 1854.
2 Имеется в виду памфлетическая статья Пушкина «Торжество дружбы, или оправданный Александр Анфимович Орлов» (1831), напечатанная в «Телескопе».
3 Цитата из неоконченного последнего стихотворения Державина «На тленность».
Магазин землеведения и путешествий изд. Николаем Фроловым
1 Слова греческого философа-софиста Протагора.
3 Имеются в виду труды Риттера и Гумбольдта.
Историческая записка, речи, стихі и отчет Московского университета
1 См. рецензию Чернышевского на стр. 662 наст. тома.
Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя В. Д. Яковлева
1 Гоголь в повести «Рим» (1842) писал: «Все это показывало ему стихии народа сильного, непочатого, для которого как будто бы готовилось какое-то поприще впереди»:
Русское посольство в Польше в 1673–1677 годах А. Попова
1 одного из наших историков литературы — С. П. Шепмрева. В данном случае речь идет об его статье «О значении Жуковского в русской жизни и поэзии» («Москвитянин», 1853, ч 1, январь, № 2, кн. 2, стр. 116).
Обозрение трактатов о морском торговом нейтралитете
1 Л. Д. — Леонид Николаевич Демис.
Путевые записки русского художника. И. Захарова. Ч. 2-я
1 Рецензии на первую часть «Путевых записок» Захарова (1854) были напечатаны в «Современнике», 1854, № 4, и в «Библиотеке для чтения», 1854, № 12.
Осада и взятие Византии турками. Сочинение М. Стасюлевича
1 Ср. отзыв Чернышевского на это исследование, напечатанный в «Отечественных записках» (стр. 600 наст. тома).
Стихотворения А. Н. Майкова 1854 год.
1 «Две судьбы» — поэма Аполлона Майкова впервые напечатана отдельным изданием в Спб в 1845 году. Чернышевский ознакомился с нею в первый год своего пребывания в университете. Размышлениями об этой поэме вызваны замечательные строки Чернышевского о патриотизме (см. его письмо А. Н. Пыпину от 30 августа 1846 года в XIV томе наст, издания).
Новые повести. Рассказы для детей. М. 1854
1 Шуточная рецензия на несуществующую книгу «Новые повести» пародировала произведения некоторых современных беллетристов (Е. Тур, М. Авдеева и др.).
Пародия Чернышевского была одним из первых проявлений открытой борьбы революционных демократов с безидейной и салонной литературой, с либерально-дворянским «народолюбием» писателей, опошлявших крестьянскую тему, с мелкотравчатыми «обличителями» «недостатков общества» н т. п.
Первая повесть «Пять лет» пародирует произведения Евгении Тур из великосветского быта. Вторая — «Старый воробей» — высмеивает подражательный характер романа М. Авдеева «Тамарин», который был бледной копией «Героя нашего времени» В «Черной долине» некоторые исследователи усмат-
рипагот пародию па «Смедовскую долину» Григоровича, напечатанную в «Современнике» (1852, № 2). Может быть, правильнее предполагать, что Чернышевский имел в виду не столько самого Григоровича, сколько его подражателей. Так или иначе, критический фельетон Чернышевского задел Григоровича за живое, следствием чего в 1855 году в сентябрьской книжке «Библиотеки для чтения» явилась пасквильная повесть Григоровича «Школа гостеприимства», в которой в числе других персонажей был изображен петербургский критик Чернушкин, презирающий литературу и не признающий ни одного писателя. Пасквиль Григоровича изобиловал злобными выпадами личного характера.
Две последние «повести» фельетона — Чернышевского метят в авторов, склонных к «обличительному» жанру («Мой знакомец») и к модным в ту пору нравственно-дидактическим описаниям («Фединька и Петинька»),
Суждения «гостей» о «повестях» рисовали картину состояния впигон-ствующей критики начала 50-х годов.
Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского
университета
1 В противовес чисто официальному подходу реакционера Шевырева, подразделившего столетнее существование университета на одиннадцать периодов «по времени кураторства или попечительства различных сановников, зэведывавших университетом», Чернышевский намечает основные периоды истории университета параллельно движению русской общественной мысли.
2 Имеется в виду «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях» Д. И. Фонвизина. «В бытность мою в университете, — пишет автор, — учились мы весьма беспорядочно. Ибо, с одной стороны, причиною тому была ребяческая леность, а с другой — нерадение и пьянство учителей. Арифметический наш учитель пил смертную чашу, латинского языка учитель был пример злонравия, пьянства и всех подлых пороков…», и т. д.
3 errare humanum esl — человеку свойственно ошибаться.
4 Calenun dal opes, Justinianus honores — Гален даст средства, а Юстиниан — почести.
О правах иностранцев в России… И. Андреевского
1 См. стр. 405, 369 наст. тома.
— «Отечественные записки», 1855, т. 98, № 2.
3 Имеются в виду рецензия на книгу П. Медовикова «Историческое значение царствования Алексея Михайловича» (см. стр. 405 наст, тома) и рецензия на «Архив…» Калачова (стр. 369).
4 Указание на историко-литературные статьи Белинского.
Грамматические заметки В. Классовой ого
1 Автор рецензируемой книги — педагог и писатель реакционного направления— был в 1854 году преподавателем 2-го кадетского корпуса одновременно с Чернышевским (см. о нем в письме Чернышевского к М. И. Михайлову, т. XIV наст. изд.).
Иронические похвалы Чернышевского познаниям автора лучше всего оттеняются последующей рецензией на «Русскую грамматику» В, Классовского, вышедшую в следующем году (см. т. III наст, издания, стр. 588–589).
О др?внз-русс: сих училищах. Рассуждение Н. Лавровского
1 Ср. об этом в рецензии на кнису И. Андреевского «Права иностранцев в России» (стр. 673 наст, тома)
О литературных партиях в Риме в вех Августа. Сочинение Н. Благовещенского
1 Ателланы древнеитальянские народные комедии (названы, вероятно по городу Ателла в Кампании). ’
Политическое равновесие в Англии. Сочинение И. В. Вернадского
1 В одной из наших газет… — в «Московских ведомостях» (1854 №№ 34–76). ’
Высший курс русской грамматики, составленныя Влад. Стоюниным
1 См. рецензию на «Грамматические заметки» В. Классовского (стр. 680 наст. тома).
2 Г. П. Павский — священник, профессор богословия и еврейского языка Петербургского университета; подвергался нападкам со стороны правительства и синода за сделанный им перевод некоторых частей библии, не совпадавший с принятым текстом.
М. Н. Катков — реакционный журналист, автор исследования «Об элементах и формах славяно-русского языка» (1845).
Кратхая русская нсторяя для простолюдинов.
Составил дядя Афанасий
1 Дядя Афанасий — псевдоним беллетриста А. С. Афанасьева-Чуж-бинского.
Крымская экспедиция. Рассказ очевидца, французского генерала.
Перевод с французского
Об отношении Чернышевского к Крымской войне см. в его работе «Рассказы о Крымской войне по Кинглеку».
Зурна. Закавказский альманах
1 â vol d’oiseau — с птичьего полета.
Полное собрание сочинений русских авторов. Стихотворения И. Козлова
1 В издании 1840 года стихотворений И. Козлова опущена поэма «Байрон» (1824), написанная под впечатлением известия о смерти Байрона. «Не понимаем, — писал Белинский, — почему Козлов никогда не включал в собрание своих сочинений поэмы «Байрон», посвященной Пушкину… Эта поэма есть апофеоза всей жизни Байрона…»
2 Указание на историко-литературные экскурсы в статьях Белинского.
3 Далее следует выписка из рецензии Белинского на «Собрание стихотворений Ивана Козлова», 3-е иэд., Спб. 1840 («Отечественные записки», 1841, № 3). Имя Белинского Чернышевский не мог здесь назвать по цензурным условиям.
4 В. А. Ж. — Василию Андреевичу Жуковскому.
Архив нсторихо-юэідичзских сведений, относящихся до России
1 Имеется в виду рецензия Ф. Булгарина («Северная пчела», 1855, №№ 62 и 67).
2 См. стр. 369 нг. ст. тома.
3 Речь идет о статье, напечатанной в «Отечественных записках», 1855, № 3, стр. 21–42, «Несколько слов о мнениях «Современника* касательно новейших трудов по русской истории».
4 См. стр. 544 наст. тома.
5 В статье «Сочинения Т. Н. Грановского» (1856) Чернышевский писа г, что работа Грановского «О родовом быте у древних германцев» «действительно составила эпоху в прениях о родовом и общинном быте… Факты, указанные Грановским, пролили много света на это дело и полагают конец многим ошибочным мнениям о совершенном, будто бы, различии славянской общины от общин, какие застает история у германских н кельтских племен» (см. т. III наст, изд., стр. 366–367).
Учебные руководства для военно-учебных заведений
1 Метод преподавания, предложенный Остроградским, не получил распространения.
Палитра. Новые стихотворения. М. 1855
1 Автор стихотворения «Живя, согласно с строгою моралью» — Н. А. Некрасов.
В воспоминание 12 января 1855 года
1 Имеются в виду «Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского университета» (1855) и «История Московского университета» (1855). См. отзывы Чернышевского на эти издания на стр. 662 насг. тома.
2 См. стр. 649 наст. тома.
3 Книга Я. Посошкова — «Книга о скудости и богатстве».
1 См. о биографии Мудрова, составленной Страховым, стр. 668 наст, тома.
Полное собрание сочинений русских авторов. Сочинения Н. Греча
1…два Пилада у Турции — Англия и Франция (см. рецензию Чернышевского на книгу «Восточная война, ее причины и последствия» на стр. 729 наст. тома).
2 Речь идет о биографии Н. И. Греча, написанной Ф. Булгариным и напечатанной в V томе сочинений Н. Греча (1-е издание), 1838, стр. I–XX, под названием «К портрету Николая Ивановича Греча».
Последующие строки рецензии Чернышевского написаны в духе иронического восхваления союза Булгарина и Греча, подобно тому, как это было сделано в статье Ф. Косичкина (А. Пушкина) «Торжество дружбы, или оправданный Александр Анфимович Орлов» (1831).
3 Автором этой рецензии был О. И. Сенковский, совместно с которым Греч в 1834–1836 гг. редактировал «Библиотеку для чтения».
О ценах на хлеб в России. А. Н. Егунова*
1 Полное название рецензируемой Чернышевским книги: «О ценах на хлеб в России и их значение в сфере отечественной промышленности». На обложке указано: «Второй и последний выпуск печатается». Отсюда пометка Чернышевского: «Выпуск 1». Книга, по словам автора, написана в связи с поручением Географического общества «составить для которого-либо из изда-
ний Общества особую статью о домашнем обиходе русского простонародья в разных частях империи» («Вестник Географического общества», 1851, т. 1, стр. 118). ’ ’ ' ’
2 Содержание книги А. Егунова не отвечает заданию Географического общества. Автор ограничивается общими положениями о качестве первичных материалов и одиннадцатью таблицами средних цен на различные хлебные культуры по губерниям.
3 Средняя цена ржи по Смоленской губернии за 7 лет (с 1847 по 1853 г.), из таблицы № 1 книги Егунова. Возможно, что Чернышевский взял среднюю цену по Смоленской губернии в связи с тем, что почти одновременно он рецензировал книгу Якова Соловьева «Сельскохозяйственная статистика Смоленской губернии» (см. стр. 765 наст. тома).
4 Егунов в таблицах показывает: 1) средние годовые цены за период 1847–1853 в копейках серебром, 2) средние цены за 7 лет по четырем временам года (зима, весна, лето, осень), 3) средние за 7 лет.
Самый метод, применяемый Егуновым для выведения средних цен, неправилен с точки зрения научной статистики. Средние цены за 7 лет выводятся у него без одного из основных показателей — количества продава-емогб хлеба и представляют собою лишь среднюю арифметическую из годовых цен, которые, надо полагать, выведены у него с подобной же погрешностью.
5 У Чернышевского ошибка. Следует — в 1847–1853 гг.
6 В этих таблицах Егунов приводит, кроме средних цен, данные о числе душ по IX ревизии, о количестве земли в губерниях и домашнего скота.
Сельскохозяйственная статистика Смоленской губернии. Составлена Яковом Соловьевым *
1 Исторический очерк Смоленской губернии в книге Соловьева начинается со страницы 1-й, а не 17-й, как это указывает Чернышевский. Очевидно, впрочем, это сделано в связи с тем, что у Соловьева на стр. 17-й говорится, что с 1686 г. по «вечному миру с Польшей» Смоленское княжество навсегда укреплено за Россиею.
2 Здесь, вероятно, описка. Соловьев относит этот факт ко времени разрушения Смоленска польским королем Сигизмундом в 1 è 11 году.
3 Слова из донесения посланника императора Леопольда при Алексее Михайловиче.
4 Здесь (и ниже) Чернышевский округляет данные Соловьева Соловьев пользуется данными из книги Михайловского-Данилевского «Описание отечественной войны», 1839, ч. III. Пожертвования — расходы на ополчение в деньгах, кроме снабжения армии в натуре рожью и овсом из сельски/, запасных магазинов.
5 У Соловьева более развернутые данные: отдельно государственные
крестьяне и отдельно помещичьи, причем из числа первых выделены крестьяне, принадлежавшие Московскому человеколюбивому обществу, из числа вторых выделены крепостные и дворовые. При подсчете Чернышевский сделал ошибку, а потому у него не сходится итог (не подведен, но составляет 1 083 229) с общим числом населения 1 083 249.
6 Таблица также переделана Чернышевским, суммировано число безземельных владельцев крестьян с числом владельцев, имеющих менее 21 души. В количестве крестьян у обеих категорий Чернышевский допустил ошибку: у него получилось 23 127 крестьян, следует 23 227 (154 плюс 23 073),
7 У Соловьева даны абсолютные числа: из числа родившихся между дзумя ревизиями 51 тыс. младенцев оспа привита около 30 тыс.
3 Средний размер земли на душу выведен Чернышевским. У Соловьева
нет.
5 Размер казенных податей в 1р. 53 к. вычислен Соловьевым весьма произвольно (он условно берет число душ в тягле — хозяйстве — в 2 человека).
10 Таблица несколько изменена в сравнении с тем, как она дана у Соловьева.
12 г Цита!е небольшие изменения в сравнении с текстом Соловьева.
Средний доход с десятины вычислен Чернышевским.
3 Средний доход от хлебопашества вычислен Чернышевским на основании данных Соловьева.
14 Здесь и выше цифры округлены Чернышевским. То же относится и к данным о других отраслях сельского хозяйства, о котором говорится ниже, в этом же абзаце.
15 У Соловьева годовое производство фабрик и заводов равно в 1850 г. 1 235 977 р. 44'/! к.
16 Соловьев насчитывает пять (а не два, как у Чернышевского) случая вычета с рабочих: болезни, прогул, недоработка уроков, неявка к сроку или побег, утрата инструментов. С вычетом менее 5 % не оказалось никого. Средний вычет составил около 32 %, доходя в отдельных случаях до 70 %.
17 В книге «Исследование о производительных силах России» Тенго-борский защищает ту точку зрения, что Россия — страна по преимуществу земледельческая и что в ней надлежит поощрять лишь те отрасли промышленности, для которых в России имеется достаточно сырья.
Полное собрание сочинений русских авторов. Сочинения Василия Львовича Пушкина и Д. В. Веневитинова
1 Чернышевский высоко ценил самобытное и сильное дарование Д. Веневитинова, умершего в возрасте 21 года, когда не успели еще развернуться его блестящие способности. В «Очерках гоголевгкого периода» Чернышевский писал о Веневитинове как о «раннем провозвестнике» поколения, давшего России Станкевича, Белинского, Герцена и др. (см. т. III наст, изд., стр. 157).
Чернышевскому в поэзии Веневитинова были дороги и ее глубокая содержательность и известная близость вольнолюбивым тенденциям эпохи декабристов.
Не удивительно, что объединение в издании Смирдина литературного наследия Веневитинова с произведениями В. Л. Пушкина, дарование которого Чернышевский справедливо считал легковесным, показалось ему странным и совершенно неоправданным. Отзывы Чернышевского о
В. Л. Пушкине см. в его рецензиі^на книгу М. Дмитриева «Мелочи из запаса моей памяти» (стр. 607 наст, тома), а также в критико-биографическом очерке «Александр Сергеевич Пушкин» (т. III наст, изд., стр. 310 и сл.).
2 Из статьи А. Пушкина «О ничтожестве литературы русской» (1834).
3 В книге «Мелочи из запаса моей памяти» (см. рецензию Чернышевского на стр. 607 наст. тома).
4 Отдельной статьи о Веневитинове Чернышевский не написал.
О значении практики в системе современного юридического образования. Д. Мейера
1 Подробный отзыв о Мейере дан Чернышевским в статье о «Губернских очерках» М. Е. Салтыкова-Щедрина (1857) (см. т. IV настоящего издания).
О быте крестьян в Казанской губернии. Казань. 1855
1 В брошюре указан ее автор — В. Сбоев, фамилия которого, вероятно, случайно, опущена в журнале.
2 «Записки сумасшедшего» Н. Гоголя.
' Незадолго до нзчзлэ выпускных экзаменов в университете (весною 1850 года) Чернышевский решил написать сочинение на степень кандидата. Тема сочинения была выбрана им не сразу.
Первоначально он намеревался писать или по кафедре истории (у проф. М. С. Куторги), или по кафедре философии (у проф. А. А. Фишера). В конце февраля 1850 года он советовался с Фишером о возможности представить диссертацию на кандидата о Лейбнице. Однако момент для писания философской диссертации был выбран им неудачно. Философия стала гонимым предметом после европейских событий 1848 года. Царское правительство решило ограничить преподавание философии в университете логикой и опытной психологией с присоединением этих предметов к кафедре богословия.
В ответ на предложение Чернышевского Фишер откровенно сказал ему: «Нет, не пишите, не советую: время неудобное». Приведя в письме к отцу 27 февраля 1850 года эти слова своего профессора, Чернышевский замечает: «После этого, кажется, не нужно комментариев к тому, каково ныне время». Далее в том же письме говорится: «На другой день я поговорил с Никитенкою (профессором русской словесности. — Г. П.) и начну на-днях писать о Фонвизине» («Литературное наследие», т. II, стр. 164).
Аналогичная запись имеется и в дневнике Чернышевского (конец февраля 1850 г.) (см. том I наст, издания, стр. 364).
Кандидатское сочинение о «Бригадире» было написано Чернышевским в мае месяце 1850 года. 23 мая он уже передал его проф. Никитенко (том I наст, изд., стр. 374), о чем он сообщает отцу в письме от 30 мая («Литературное наследие», т. II, стр. 178).
Никитенко предложил Чернышевскому внести некоторые исправления в диссертацию, и 10 июня, за несколько дней до отъезда в Саратов, Чернышевский опять отнес ее Никитенко.
Случилось, однако, так. что Чернышевскому вскоре пришлось сызнова писать это же сочинение, так как первый вариант был затерян слугою Никитенко. Это выяснилось уже по возвращении Чернышевского в Петербург. См. запись в дневнике от 15 сентября 1850 г. (том I наст, издания, стр. 391).
Затерянный экземпляр сочинения Чернышевского был обнаружен впоследствии в бумагах Никитенко М. К. Лемке. Эта диссертация была напечатана в Собр. соч. Чернышевского, 1906, т. X, ч. II, стр. 1—20. Второй же экземпляр, сданный Чернышевским проф. Никитенко, был найден уже в наше время в деле совета С.-Петербургского университета «О допущении Н. Чернышевского к экзамену на степень магистра». Этот вариант диссертации опубликован в сборнике «Шестидесятые годы», изд-во Академии наук СССР, 1940, стр. 7—15. Мы даем обе редакции сочинения Чернышевского.
2 Имеются в виду монография П. А. Вяземского о Фонвизине, Спб. 1848, и статья «Сочинения Фонвизина», напечатанная в «Отечественных записках», 1847, №№ 8 и 9 (автор — С. Дудышкин).
3 Уже в этом университетском сочинении Чернышевского заметно влияние взглядов Белинского, что отмечено Плехановым в его работе о Чернышевском. Здесь различимы и основы будущих воззрений его на литературу.
4 Это мнение высказано Гете в его «Вильгельме Мейстере».
6 Произведения Жорж Санд.
Вторая редакция
1 Мнение о подражательном характере творчества Фонвизина опровергнуто советскими учеными.
2 Цитата из стихотворения Е. А. Баратынского «На смерть Гете».
ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ
ВАРИАНТЫ
К «ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОТНОШЕНИЯМ ИСКУССТВА К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ»
№ 1
В настоящем трактате я ограничиваюсь [только самыми] общими выводами из фактов и подтверждаю их опять только самыми общими указаниями на факты [, не вдаваясь в подробный анализ главнейших произведений искусства, почти не приводя собственных имен]. Вот первый пункт, относительно которого я должен дать объяснение. Ныне век монографий, и [мое] сочинение может подвергнуться упреку в несовремеиности. Удаление из него всех специальных исследований может быть сочтено за пренебрежение к ним или за следствие мнения, что общие выводы могут обойтись без подтверждения фактами. Но такое заключение основывалось бы только на внешней форме [моего] труда, а не на внутреннем его характере. Реальное направление мыслей, развиваемых мною, уже достаточно свидетельствует, что они возникли на почве реальности, и что я вообще придаю очень мало значения для нашего времени фантастическим полетам даже в области искусства, не только в деле науки. Сущность понятий; мною излагаемых, ручается за то, как желал бы я, если б мог, привести в своем сочинении многочисленные факты, из которых выведены мои мнения. Но если б я решился следовать своему желанию, объем труда [моего] далеко превзошел бы границы, которые должен был я определить ему. Думаю, однако, что общих указаний, мною приводимых, достаточно, чтобы напомнить читателю десятки и сотни фактов, говорящих в пользу мнений, мною принимаемых, и потому надеюсь, что краткость объяснений не есть бездоказательность.
Но зачем же избрал я такой общий, такой обширный вопрос, как эстетические отношения искусства к действительное іи, предметом своего исследования? Почему не избрал я какого-нибудь специального вопроса, как это большею частью ныне делается?
По моим ли силам задача, которую хотелось мне объяснить, — решать это, конечно, не мне самому. Но предмет, привлекший мое внимание, имеет полное право обращать на себя внимание всех людей, занимающихся эстетическими вопросам», — то есть интересующихся искусством, поэзиею, литературой. '
Мне кажется, что бесполезно толковать об основных вопросах науки только тогда, когда нельзя сказать о них ничего нового и основательного, [когда специальные исследования и множество других обстоятельств не при-
8/2
готовили еще для нас возможности] видеть, что наука изменяет свои прежние воззрения, и показать, в каком смысле, по всей вероятности, должны они измениться. Но когда выработаны материалы для нового воззрения на основные вопросы нашей специальной науки, и можно и должно высказать эти основные идеи.
Уважение к действительной жизни, недоверчивость к априорическнм, хотя и приятным для фантазии гипотезам — вот характер направления, господствующего ньгне в науке. Мне кажется, что необходимо привести к этому знаменателю и наши эстетические убеждения, если еще стоит говорить об эстетике.
Я не менее, нежели кто-нибудь, признаю необходимость специальных исследований; но мне кажется, что от времени до времени необходимо также обозревать содержание науки с общей точки зрения; мне кажется, что если важно собирать и исследовать факты, то не менее важно и стараться проникнуть в смысл их. Мы все признаем высокое значение истории искусства, особенно истории поэзии; мне кажется, что не могут не иметь высокого значения и вопросы о том, что такое искусство, что такое поэзия.
№ 2
…моего друга, женщину, которую я люблю, — и холодно смотря на живое лицо, полное красоты или выразительности, я буду в упоении смотреть на ничтожную картинку, потому что эта картинка говорит мне о тех, кого я люблю, говорит мне обо мне самом.
Бывает в произведениях искусства еще сторона, по которой они являются неопытному глазу выше явлений жизни и действительности, в них все заранее растолковывается и объясняется самим автором, между тем как природу и жизнь надобно разгадывать собственными силами, — но об этом мы должны будем говорить ниже.
№ 3
Сторона, только и принадлежащая всем произведениям всех искусств, — воспроизведение того, что интересно для человека в действительности, на что он хочет смотреть, о чем он хочет думать, что его радует илн печалит. Но, интересуясь действительностью, интересуясь жизнью, человек не может не произносить о них своего приговора — и поэт или художник не может, если б и хотел, отказаться от этого, и приговор его о действительности невольно выражается в его произведении — вот новое значение произведений искусства.
Бывают люди, у которых весь приговор состоит только в том, что сфи обнаруживают привязанность к известным явлениям жизни и не любят, избегают других сторон ее. Это люди, у которых умственная деятельность или от природы слаба [и] ленива, или по случайным обстоятельствам мало развита наукою и размышлением. Бывают исторические эпохи, когда подобная умственная слабость овладевает целым народом. В этом случае произведения искусства не имеют большой ценности в смысле воспроизведения любимых сторон жизни. Но есть люди, в которых умственная деятельность, сильно возбуждена вопросами, порождаемыми наблюдением жизни. И если такой человек одарен художническим талантом, то в его произведении, сознательно или бессознательно, выразится стремление произнести свой приговор об интересующих его явлениях жизни, предложить или разрешить вопросы, возникающие для мыслителя из жизни, и его произведения будут так называемыми сочинениями на тему, которая предлагается ему явлениями жизни и его личностью. Одним словом, есть произведения искусства, в которых просто воспроизводятся явления жизни, интересующие человека, и есть другие произведения, в которых эта картина жизни проникается определенною мыслью. Последнее направление может находить себе выражение во всех искусствах — например, в живописи (карикатуры Гогарта), но преимущест-
Стр. 7, 21 строка. В 1-м издании: прекрасное а этой системе понятий являеіся
Стр. 7, 31 строка. В 1-м изд.: Как следствие и часть метафизической системы, изложенное выше понятие
Стр. 7, 13 строка снизу. В рукописи: основаниях, независимых от общих метафизических оснований. Поэтому
Стр. 7, 12 строка снизу. В 1-м издании: что господствующее понятие о прекрасном не выдерживает критики, будучи взято и вне связи с упавшими ныне метафизическими системами.
В рукописи: системами [, вместе с которыми оно появилось]
«Прекрасно то существо,
Стр. 8, 17 строка снизу. В рукописи: делаются они домашними.
[Все экземпляры дикой лошади не отличаются друг от друга ничем; но как огромно различие домашних лошадейI Мы нс думаем требовать, чтобы в одном экземпляре совмещались различные-..] [Дикая кошка всегда одного цвета; но домашняя кошка бывает различных цветов, при совершенном единстве породы: хороша черная, как смоль, кошка, но хороша и серая, полосатая, как тигр, кошка. — мы не думаем, и требовать, чтобы в одной кошке совмещалась и красота черной, и красота серой кошки.]
(Второй отрывок зачеркнут в тексте автором, возможно, по указанию Никитенки, так как три строки его отмечены на полях карандашною чертою и вопросительным знаком. Повидимому, начатой и незаконченной фразой о лошадях Н. Г. Чернышевский предполагал заменить этот зачеркнутый текст. — Ред.)
Стр. 8, 13 строка снизу. В рукописи: в одном человеке, нельзя же быть черноволосым и белокурым в одно время [; все согласны, что голубые глаза хороши, что также хороши и черные глаза]; и верно никто еще не горевал о том, что у человека с черными глазами глаза в іо же время и не голубые.
Мне кажется, что выражение «прекрасным
Стр. 9, 2 строка снизу (в подстрочном примечании). В рукописи: сущностью изображаемого; таковы, напр., многие стихотворения Лермонтова и все почти произведения Гоголя.
Стр. 13, 13 строка. В 1-м издании: потому, что есть уже несколько курсов эстетики, не чуждых мысли, что красоту
Стр. 13, 15 строка. В 1-м издании: или выражаясь их терминологиею, предвозвещает личность, утверждающих, что прекрасное в природе
Стр. 13, 15 строка снизу. В 1-м издании нашего духа
Можно вообще сказать, что, читая в новейших эстетиках места, где перечисляются различные виды и качества прекрасного в действительности, приходишь к мысли, что, сознательно поставляя красоту в полноте проявления идеи, бессознательно принимают их авторы, что полнота жизни и красота в действительности тождественны. И не только эта мысль кажется лежащей бессознательно в основании взгляда их на прекрасное в природе, но и в самом развитии общей идеи прекрасного слово «жизнь» попадается в новейших эстетических сочинениях так часто, что, наконец
Стр. 13, 4 строка снизу. В 1-м издании: есть жизнь» и обыкновенным определением «прекрасное есть полное единство идеи и образа»?
Стр. 13, 1 строка снизу. В 1-м издании: под «идеею» в новейшей эстетике понимается
Стр. 14, 13 строка. В 1-м издании: (или, говоря языком спекулятивной философии: в природе)
Стр. 14, 19 строка. В 1-м издании: составляют сущность господствующих ныне эстетических понятий и занимают столь важное место в системе их не случайно.
Стр. 14, 20 строка снизу. В рукописи: в другом свете.
[Таким образом эти два различных определения ведут к двум существенно различным взглядам на прекрасное в объективной действительности, на отношение фантазии к действительности, на сущность искусства. Они ведут к двум совершен™ различным системам эстетических понятий; потому что одно из них, принимаемое нами, возводит в основную мысль то, что при другом, общепринятом, вторгается, правда, в систему эстетики, но вторгается наперекор существенному ее направлению, подавляется противоположными воззрениями и погибает без всякого почти плода.
Предлагаемое нами определение возводит в основную мысль эстетики достоинство и красоту действительности].
Итак, должно сказать
Стр. 14, 13 строка снизу. В рукописи: с тем вместе оно [не есть нечго им чуждое, возникшее на вненаучной почве, оно] представляется
Стр. 14, 12 строка снизу. В рукописи: дальнейшее развитие [Этими отношениями достаточно ограждается его значение] Существенное
Стр. 15, 6 строка. В 1-м издании: образом. В господствующей системе эстетических понятий чистое единство идеи
Стр. 15, 13 строка. В рукописи: (das Komische). Возвышенно, и комическое составляют, таким образом, два односторонних проявления прекрасного.
Подвергнув критике
Стр. 15, 19 строка. В рукописи: определения прекрасного. И вот мы опять имеем два определения «возвышенного», как имели два определения прекрасного. В сущности эти два определения совершенно различны, потому что перевес идеи над формой
Стр. 15, 18 сірока снизу. В 1-м издании: (или, употребляя терминологию спекулятивной философии: что проявляет в себе)
Стр. 15, 7 строка снизу. Для 3-го издания вылущено: («безобразное», сказал бы я, если бы не боялся власть в игру слов, сопоставляя безобразное и безобразное).
Стр. 17, 4 строка. В 1-м издания: в сущности господствующих понятий. В рукописи: понятий о нем. Потому на него должен я обратить более внимания, [не могу здесь приводить подробных доказательств, но и без них почти очевидно, что понятия эти распространены настолько в] Мало того, мысль
Стр. 18, 1 строка снизу. Для 3-го издания исправлено: возвышенным: гремучая змея ужаснее лова; но она отвратительно-ужасна, а не возвышенноужасна. Чувство ужаса
Первоначально для 3-го издания сюда относилось примечание Н. Г. Чернышевского иа полях книги, незаконченное и после зачеркнутое: Автор не знал тогда, что укушение тарантула вовсе не так опа[сно?]
Стр. 19, 14 строка. В рукописи: потребности «любить» (г. е. быть влюбленным до безумия, потому что эту любовь обыкновенно изображают нам в патетических романах и о ней толкуется в эстетиках) потребность есть и пить
Стр. 20, 20 строка. В рукописи: главные видоизменения, и если наш обзор занял очень немного места, то единственно потому, что предлагаемые в нем объяснения по чрезвычайной простоте своей не нуждаются в подробном развитии. Видя в этой простоте одно из ручательств за годность объяснения, нам остается показать
Стр. 20, 23 строка. Для 3-го издания исправлено: высказанным в курсах эстетики, пользующихся ныне особенной известностью. О том, что
Стр. 20, 26 строка. В 1-м издании: У Канта и вслед за ним у позднейших эстетиков: «Мы сравниваем
Стр. 21, 17 строка. В рукописи: между тем как воззрение, неосновательность которого мы старались показать, принимает <что> и возвышенное в действительности есть только призрак, влагаемый в объективные предметы, и является только [нашим] человеческим взглядом: [надобно заметить еще, что] новейшие эстетики полагают, будто бы возвышенное
Стр. 21, 21 строка. В рукописи: если возвышенное есть существенно бесконечное, то [действительно] возвышенного нет в мире, доступном нашим чувствам и нашему уму. Определение: «великое есть гораздо большее» делает ненужным вмешательство фантазии, прикрашивание ею действительности. Кто принимает его, тот говорит, что в природе и в человеке есть истинно возвышенное. Но если
Стр. 22, 9 строка. В рукописи: о трагическом очень мало известны публике, не следящей специально за развитием спекулятивного мышления; а между тем они играют очень важную роль
Стр. 22, 12 строка. В рукописи: понятиями о жизни, они известны чрезвычайно смутно и с тем вместе чрезвычайно распространены. Поэтому
Стр 24, 4 строка. В рукописи отчеркнуто Никитенкой и переделано автором: оно восстает против своего победителя в лице Брута. Цезарь погибает Стр. 24, 8 строка. В рукописи: выше их и, наконец, погибают от той силы, против которой восстали и которая воскресает в лице триумвиров. Они погибают; но
Стр. 24, 10 строка. В рукописи: свое сожаление о Бруте и признают справедливость его стремления. Так совершается
Стр. 24, 19 строка снизу. В рукописи: восточных народов. Мы знакомимся с ним из греческих мифов (напр. мифа о Эдипе) и из восточных сказаний. Мы говорим здесь о том первоначальном понятии судьбы, которое господствует в рассказах Геродота
Стр. 24, 22–26 строки снизу. В рукописи к этим строкам, начиная со слов: Живое и неподдельное понятие — относится заметка Никитенки: «Понятия греков о судьбе совсем другие, чем понятия восточных <народов>. Предопределение и fatum не одно и то же в философском смысле».
Стр. 24, 11 строка снизу. Для 3-го издания вставлено: полудикого человека и научные
В рукописи: полудикого и научные понятия, потому страждут совершенно подобною несостоятельностью.
Стр. 25, 24 строка. В рукописи: современной науки. Нас можно было бы даже упрекнуть в том, что мы останавливаемся над разоблачением этого опыта, несостоятельность которого очевидна для людей, смотрящих на жизнь просто, без научных предубеждений; но если с одной стороны необходимо объяснять понятия, выработанные наукою, для людей, не занимающихся ею специально, то с другой стороны необходимо и доказывать ученым образом несостоятельность понятий, чуждых науке, но успевших принять научную форму, хотя бы их несостоятельность была довольно ясна для неспециалиста именно потому, что он чужд предубеждений, которым поддаются специалисты. Если критика не будет проведена с точки зрения специа гизма, го она в ученом отношении неудовлетворительна. В настоящем случае специальная критика тем необходимее, что это введение понятия о судьбе
Стр. 25, 16 строка снизу. В рукописи: примирить их с истиною, наука может только показать, из какого источника возникло заблуждение, но не может разделять его. Понятие о судьбе родилось и развилось следующим образом. '
Полудикий человек не может представить себе жизни, непохожей на свою собственную жизнь. Потому все силы природы представляются ему чем-то человекообразным. Очеловечивая все, полудикий человек представляет себе и силу случая каким-то подобным человеку существом: это существо называется у него судьбою. Предполагая, что этот краткий наліек может нуждаться в подробнейшем объяснении, спешим дать ему приличное развитие. Одно из действий
В рукописи против фразы, начинающейся словами «Очеловечивая все», заметка Никитеики: «Откуда это?»
Стр. 25, 8 строка снизу. Для 3-го издания исправлено: наука дает че \о-веку понятие о том, что деятельность неорганической природы и жизнь растений совершенно отличны от человеческой жизни, что и жизнь животных не совсем одинакова с ней. Дикарь или полудикий
Стр. 25, 2 строка снизу. Для 3-го издания исправлено: сознательно, как человек, что они даже умеют говорить на человеческом языке и не говорят на нем только потому
Стр. 26, 10 строка снизу. В рукописи: и его расчетами; случай сильнее наших расчетов — значит, судьба всесильна; случай невозможно.
Стр. 27, 12 строка. В рукописи: «трагическом участи». Не правда ли, что природа
К этой фразе относится замечание Никитенки на полях рукописи: «Кто же так думает из хороших эстетиков?»
Стр. 27, 21 строка. В рукописи: его деятельности. О подобных веиіах было бы [совестно и] не нужно и говорить, если бы глубокомысленными системами не затемнялось [то, что известно] иногда воззрение, ясное всякому, незнакомому с ними человеку. В том нет сомнения
Стр. 28, 13 строка снизу. В 1-м издании: Вольтера, Гёте, Вальтера Скотта. Борьбы
Стр. 29, 10 строка. В рукописи: пал Сюлли, так нисколько не был виноват в своей погибели Колиньи. До некоторой степени
Стр. 29, 19 строка. В рукописи: любят друг друга; Дон-Карлос и маркиз Поза виноваты тем, что благородные люди; и, наконец, ягненок в басне, пьющий воду из одного ручья с волком, также виноват: зачем он шел к ручью, где мог встретиться с волком? а главное, зачем не запасся он такими зубами, чтобы самому съесть волка? Мысль видеть
Стр. 29, 3 строка снизу. Для 3-го издания выпущена фраза, начинающаяся словами: «Правда, мы могли бы не забывать», и следующая за ней.
Стр. 29, 17 строка снизу. В 1-м издании: столкновения новейшие эстетики исходят от мысли
Стр. 30, 1 строка. Для 3-го издания исправлено: жизни. Однако многим романистам и всем авторам трактатов об эстетике непременно
Стр. 30, 6 строка. В рукописи: далеко не все гнусности, дслеко не все преступления. Так напр. нарушение нравственной чистоты общество [наше] считает позором только для женщины, а не для мужчины. По мнению большинства, мужчине даже не мешает покутить, даже совестно не покутить в молодости. А если голос
В рукописи слово гнусности подчеркнуто карандашом и отчеркнуто на полях. — Слово наше зачеркнуто и исправлено автором на нашего времени.
Стр. 30, 16 строка. В рукописи: мнения, [не всегда наказываются даже угрызениями совести.] Потому нельзя
Стр. 30, 19 строка. Для 3-го издания вставлено: на человека и не в ней сущность его.
Стр. 30, 2 строка снизу. В рукописи: чисто случайно (вопроса этого я должен буду коснуться, говоря об отношении искусства к действительности); во-вторых
Стр. 31, 4 строка. В рукописи после слов: трагедий Шекспира, следует: Последняя мысль требует обширного развития, которого не допускают пределы настоящего сочинения, и потому я могу высказать ее теперь только как мнение, предоставляя себе право доказать ее в другом месте. Объяснять, почему страшно, трагически действует на человека зрелище страдания или погибели человека, кажется мне совершенно излишним. Но мне кажется не совершенно лишенным научного интереса указание на особенный вид трагического, самостоятельность которого, сколько мне известно, не признана еще в эстетике.
Кроме страдания и погибели человека, на нас действует трагически нравственная погибель человека — порок и бездушный, строго последовательный эгоизм. Зло, когда оно сильно, действует' трагически. Об этом трагическом чисто злого легко было позабыть большей части людей, занимавшихся исследованием трагического; потому что от зла обыкновенно ясным образом страдают и погибают люди, приходящие в соприкосновение с человеком, сильным во зле; и потому кажется, что трагический эффект производится только страданием и погибелью людей, гибнущих от зла. Но бывают и пороки и преступления милые, веселые, ласковые, мягкие, от которых ясным образом страдает только нравственность, а отдельные люди, повидимому, терпят очень мало, или даже выигрывают. Чтобы объяснить нашу мысль, приведем пример: пред-
ставим себе какого-нибудь английского лорда, который эпикурейски проживает свои огромные доходы на удовлетворение своей страсти к чувственному наслаждению. Он человек, любящий комфорт во всех отношениях, даже в отношении своей совести; потому и не подумает он о «низких» или «преступных» средствах удовлетворения своей страсти: не говоря уже о том, что он не прибегнет к насилию и тому подобным уголовным мерам, он не будет даже и соблазнителем. [Он просто будет утопать в сладострастии с женщинами, которые не через него лишились чистоты своего сердца: через него не стала погибшею женщиною ни одна из них.] Он очень милый человек, и счастливицы все те, которые пользуются его милостями; не злосчастны и те, которыми он уже пресытился, потому что не с пустыми руками он отпускает их [из своего сераля]. «Кто же пострадал от меня?» — может он гордо спросить окружающих его. И действительно, он пагубен не для отдельных лиц; он пагубен только для общества, заражаемого, оскверняемого им; он враг только «суровой» нравственности. Но на самом деле он преступник, хуже всякого другого преступника, потому что он развратитель хуже всякого развратителя. Его пример говорит: «не бойтесь порока; порок может быть никому не вреден, порок может быть добр, кроток». Правда, искусство не изображало, сколько помнится, подобных личностей с настоящей точки зрения (можно, однакоже, указать в этом роде на известную картину Кутюра «Римская оргия»); но не изображало их оно потому, что слишком трудно удержаться от негодующего отвращения при изображении подобной личности и не отмстить такому человеку за страшный вред, им приносимый, изобразив его не только пагубным, но и жалким, грязным, презренным. Трагическое здесь против воли автора обращается в ироническое, саркастическое. И этот род трагического подходит под определение, выставленное выше
Он естественным образом приводит нас к комическому.
С господствующим определением
Стр. 31, 9 строка. В 1-м издании: сказать, что слишком ограничивают понятие
Стр. 31, 23 строка. В рукописи: понятий немецкой эстетики о том, в чем состоит сущность прекрасного
Стр. 31, 14 строка снизу. В рукописи: только о прекрасном отчасти для того, чтобы не изменять без нужды очерка понятий, которые мы находим необходимым подвергнуть критике, отчасти потому, что было бы совершенно бесполезно и утомительно
Стр. 31, 2 строка снизу. В 1-м издании: в искусстве (в объективном существовании, придаваемом
Стр. 31, 4 строка снизу. В 1-м издании: в действительности (или в природе), если захотим удержать философскую терминологию, прекрасное
Стр. 32, 2 строка. В 1 — м издании: к прекрасному в фантазии и в искусстве. Господствующая ныне система эстетических понятий решает его
Стр. 35, 17 строка снизу. В рукописи: от искажающих случайностей».
Выписка моя длинна, может быть, слишком длинна. Но я должен был выставить во всей полноте критику прекрасного в природе, чтобы предупредить возможность упрека, что мною опущены, забыты или не довольно рельефно выставлены на вид «важнейшие недостатки прекрасного в действительности»; такому упреку я всегда мог бы подвергнуться, если бы стал сам формулировать [упреки, даваемые прекрасному в действительности] мысли, которые кажутся мне несправедливыми и несправедливость которых мне хочется обнаружить. -
Прежде нежели
Стр. 36, 14 строка снизу. В рукописи: только говорится. Далее текст зачеркнут в связи с заметкой Никитенкн на полях: «Слишком много любви», и заменен другим, начинающимся слонами: «Желания раздражаются», и кончая словами: «удовлетворились бы им» (стр. 38, 16 строка снизу). [Возьмем для примера обыкновеннейший сюжет произведений искусства — любовь и красоту. Человек может мечтать об идеальных красавицах; но может мечтать только при двух условиях: когда у него еще нет или уже нет серьезной,
действительной потребности любить, а есть только фантастическое направление мыслей к тому, что «любовь высшее благо жизни*, к тому, что «он необыкновенный человек, выше всех этих жалких людей», из которых на деле многие умнее и благороднее его, что поэтому «он должен любить не так, как они», что поэтому он может полюбить только такую же необыкновенную красавицу, какой он сам необыкновенный человек. Вот первое условие- но его мало: нужно еще второе — надобно, чтобы человек не имел случая видеть красавиц, не имел даже случая видеть и просто хорошеньких женщин; иначе он тотчас же, при своей внутренней пустоте, влюбится по уши, и будет толковать и другим и себе о том, как необыкновенно счастлив он, встретив «неземное» существо. Но все вто фантастическое мечтание о «неземной красоте», воя вта фантастическая невлюбленность и влюбленность бледна, смешна, жалка перед действительною любовью. Действительно любящий человек, — а таких людей гораздо больше, нежели фантастически влюбленных или желающих влюбиться — не думает о том, есть или нет на свете красавицы лучше той женщины, которую он любит: ему дела нет до других; он очень хорошо знает, что любимая им женщина имеет свои недостатки — что ему за дело до этого? зедь он все-таки ее любит, ведь она все-таки хороша и мила. И если вы станете «анализом показывать, что она не абсолютное совершенство», он скажет вам: «я лучше и больше вас это знаю; но если я вижу в ней очень много недостатков, то гораздо более вижу я в ней достойного любви. Наконец я люблю ее так, как она есть:
Можно краше быть Мери,
Милой Мери моей,
Но нельзя быть милей».
Для избежания недоразумений можно прибавить, что настоящею любовью надобно считать тот род любви' который в нашем обществе обыкновенно развивается в кругу семейной жизни; изредка он бывает и в кругу старого знакомства, тесных дружеских связей. «Восторженные» люди подсмеиваются над этою «мещанскою» любовью, — что же делать, если неблестящее чувство родительской, супружеской или даже просто дружеской любви на самом деле гораздо сильнее и — если сказать по правде, гораздо страстнее «безумной» любви, о которой столько пишется в «созданиях поэзии», столько толкуется в кружках молодых людей? Я нисколько не хочу нападать на тот род любви, который преимущественно пользуется титулом любви; я хочу только сказать, что, во-первых, истинная любовь подобного рода чужда всяким мыслям о «неземном» «совершенстве», во-вторых, что есть другие роды любви, гораздо сильнее и гораздо прозаичнее втого рода любви, если прозаичным называть все свободное от фантастических иллюзий].
Стр. 36, 12 строка снизу. В рукописи: простой пищи. Почему действительность даже посредственною (не говорим уже превосходною) достоинства совершенно помрачает самые роскошные, повидимому, создания фантазии, нс место исследовать здесь. Это факт, доказываемый
Стр. 36, 4 отрока снизу. В рукописи: далеко не титанического, или когда человек беспрестанно раздражается препятствиями и противоречиями. Несомненно то
Стр. 38, 13 строка. В рукописи: иа куски; [против этого нельзя спорить, хотя бы и защищать художественчоать первобытной формы;] монотонность их
Стр. 39, 16 строка. Для 3-го издания исправлено: проникающее органическую природу
Стр. 39, 21 строка снизу. В рукописи после слов: «двух половин листа», следует: Подробное доказательство того, что существенный результат дей-ствования сил природы — произвождение прекрасного, завлекло бы нас слишком далеко. Но если понимать красоту, как жизнь, то не. нужно и подробных указаний, потому что в природе повсюду стремление к проиввождению жизни; если же и не соглашаться с предлагаемым воззрением на сущность красоты, высокая степень напряжения сил природы к произведению прекрасною легко может быть доказана неисчерпаемым обилием прекрасного в природе. Во
56 Н. Г. Чернышевский, т. U
всяком случае очевидно, что поставлять в недостаток прекрасному в действительности его непреднамеренность совершенно несправедливо. Итак, приходим к следующему упреку, выводимому ид этою отвергаемого нами основания.
II. «От непреднамеренности
[Поэтому прекрасное редко встречается в действительности. Совершенно справедливо. Но это дурно для нас, в вовсе не значит, чтобы прекрасное было дурно]
Стр. 39, 20 строка снизу. В рукописи:
II. «От непреднамеренности красоты в природе происходит то, что прекрасное редко встречается в действительности». Мы сейчас говорили, что, напротив, оно встречается часто. Но если б и действительно встречалось оно очень редко, его малочисленность была бы
Стр. 40, 9 строка. В рукописи: прекрасным и великим. Далее зачеркнуто карандашом Никитенки: [у людей, в самом деле наполненных потребностью величественного в жизни, почти всегда наполнена жизнь величественными подвигами. В пример укажем на людей, одушевленных стремлением к воинской борьбе, для которых «свист пуль единственная мувыка по сердцу» — правда, что теперь войны гораздо реже, нежели прежде; но все-таки человек с истинно воинственным духом может навоеваться, сколько душе угодно: пусть русский отправляется на Кавкав, францув в Алжир, англичанин в Ост-Индию; там они найдут вволю и битв, и походов, и стычек, и тревог. Одному немцу некуда ехать воевать; но воинственность немцев подлежит в настоящую минуту сильному сомнению; а когда у ннх были эпохи воинственности, было у них довольно и войн. Но зачем же непременно требовать битв, подобных Бородинской и Лейпцигской? Истинная потребность не так разборчипо-щепетальна; н человек, который ждет Бородинской битвы, чтобы броситься в битву, не слишком мучнтся потребностью битв. Кроме того, истинная потребность не бывает так исключительна, чтобы человеку непременно были нужны для его счастия битвы с неприятельскими войсками, если у него есть потребность борьбы; такому человеку привлекательна всякая упорная и рискованная борьба; н если ему не представится случая провести сзою жизнь на боевых полях, то он найдет по сердцу себе жизнь в рискованных и тяжелых предприятиях другого рода: он сделается предприимчивым сельским хозяином, который борется с землею, он сделается спекулянтом, который задумает страшно рискованные предприятия; одним словом, как бы ни устроилась его карьера, жизнь его будет полна риска, тревог, борьбы.] Жизнь так широка
Стр. 40, 10 строка. Фраза, начинающаяся словами: «Жизнь так широка и многостороння», выпущена для 3-го издания.
Стр. 40, 18 строка. Фраза, начинающаяся словами: «Это потому, что дух», и следующая за нею: «На ловца и вверь бежит», выпущены для 3-го издания.
Стр. 40, 21 строка. В рукописи: женская красота. Далее заключенный в прямые скобки текст зачеркнут в рукописи Никитенкой. [Обыкновенно случается слышать в жизни н всегда приходится читать в эстетических трактатах, что красавиц очень мало на свете, или, говоря строго, почти вовсе нет. Говорится так; но едва ли так чувствуется на самом деле. Опыт сделать очень легко: надобно только взять одного из людей, жалующихся на то, что красавиц мало, и походить с ним на Невском, когда по Невскому гулянье. Вы услышите, что он будет постоянно толкать вас под руку, говоря: «Посмотрите, какая хорошенькая!.. Ах, вот еще какая хорошенькая!.. Ах, вот еще, посмотрите, посмотрите — это решительно красавица!» и т. д. и т. д. — и в четверть часа он вам представит не менее пятидесяти или шестидесяти красавиц. Интересно было бы собрать такого рода сведения: можно предположить, что в Петербурге около 150 000 женщин: из них около 35 000 находятся в периоде жизни от 16 до 25 лет; сколько между этими тридцатью пятью тысячами пользуются в своем кружке репутацией красавиц?'Без всякого сомнения, несколько тысяч, и вероятно от осьми до девяти тысяч. По крайней мере, если случится быть на вечере, где съехались десять или двенадцать молодых дам и девиц, то почти всегда между ними найдутся три или четыре, которые пользуются славою красавиц. Нет, вместо, того, чтобы говорить о том, как мало красавиц, скорее можно говорить о том, что красавиц слишком много.] Но, быть может.
Стр. 40, 28 «трока. В рукописи: умных и т. д. [Нет, на самом деле люди не пренебрегают красотою живого человека; скорее можно упрекнуть нх а том что они не всегда беспристрастны и довольно разборчивы, называя молодость! часто одну только молодость, красотою, восхищаясь красавицами, вся красота' которых состоит в том, что им девятнадцать лет.] Как же объяснить
Стр. 40, 12 строка снизу. В рукописи: назовем второстепенными. Далее текст, заключенный в прямые скобки, зачеркнут в рукописи Никитенкой. [Есть различные степени красоты в действительности; но если высшая степень прекраснее других, из этого еще не следует, чтобы на низших степенях
не было истинной и полной красоты. Первоклассный богач в Европе один_
какое-то лицо, называемое Ротшильдом, о котором почти никто не знает даже, который это Ротшильд: парижский или итальянский; но из того, что Ротшильд богатейший человек а Европе, никак не следует, чтобы все в Европе, кроме Ротшильда, были бедняки. И, соглашаясь с Румором, что первая красавица в Италии была Виттория из Альбано, надобно сказать, что Италия, однако же, населена не уродами и что в Риме конечно было в то время бесчисленное множество женщин, которые и подле Виттории казались вполне прекрасными.] И вообще
Со слов: «Есть различные степени красоты» до слов: «который это Ротшильд» — отчеркнуто Никитенкой на полях. ‘
Стр. 40, 7 строка снизу. Для 3-го издания исправлено: кто-нибудь один из них. Авторы трактатов об эстетике в духе господствующей шкоды рассуждают так: «если есть иди может быть предмет выше находящегося у меня перед глазами, то предмет, находящийся у меня перед глазами, низок. Но не так чувствуют люди. Зная, что Амазон[к]а величественнее Волги, мы продолжаем, однако, считать Волгу величественною рекою. Философская система, которой держатся эти авторы, говорит, что если один предмет
Стр. 40, 2 строка снизу. В рукописи: Обыкновенно говорится в философских книгах, что если один предмет
Стр. 41, 12 «трока. В рукописи: действительней жизни. Далее текст, заключенный в прямые скобки, зачеркнут Никитенкой в рукописи: [Упрек философам, что они стоят на отвлеченной, не прилагающейся к действительности точке зрения, — истасканный упрек, но очень часто бывает он справедлив; и справедливо можно приложить его к тому эстетическому воззрению, которое находит, что прекрасное в действительности — редкое явление, потому только, что первоклассная красота — редкое явление.
В действительной жизни мы одинаково считаем хороший предмет хорошим, хотя бы не находили других предметов, еще более хороших, или нашли их. Если может быть отыскан в мире предмет лучше того, который, имея положительные достоинства, не имел [бы] важных положительных недостатков, то через сравнение мы не получим еще права называть (и не называем в действительной жизни) неудовлетворительным для нас менее блестящего из двух сравниваемых предметов. Это правило всегда соблюдается в дей<Сстви-тельной жизни?>] Потому, находя
Стр. 41, 12 строка. Фраза, начинающаяся словами: «Потому, находя предмет X», выпущена для 3-го издания.
Стр. 41, 15 строка снизу. В рукописи: ею наслаждающемуся. Далее текст, зачеркнутый Никитенкой: [Дело очень известное, что люди, нормальным образом влюбившиеся друг в друга, т. е. влюбившиеся при относительном равенстве лет, напр. женщина лет 18 и мужчина лет 25, женщина лет 22 и мужчина лет 30, стареют в одно время; не смешно ли и не глупо ли 50-лет-иему человеку любить красавицу в 20 лет? Неиспорченный нравственно мужчина пожилых лет может любить настоящею любовью только женщину уже пожилых лет; не смешны ли мои жалобы: «Моя красавица стареет!», когда я сам старею? Смешно горевать о том, что осьмилетней девочке еще не осьмнадцать лет; смешно горевать и о. том, что 42-летней женщине уже не двадцать два. года.] Не совсем
Стр. 42, 13 строка снизу. В рукописи: упрек несправедлив. Далее за-черкнуго карандашом Никитенки:
[Конечно, светская красавица всего прекраснее в бальном платье, которое не может она носить всегда; но плохая красавица та светская красавица, которая хороша только в бальном платье; много найдется красавиц, которые хороши во всех нарядах, во всякое время.] «Иногда
Стр. 42, 1 строка снизу. Для 3-го издания исправлено: разнообразие выражения на выразительном лице придает
Стр. 43, 7 строка. В рукописи: целые сутки? го, чго нам 'надоело бы] наскучило бы смотреть, и мы отвернулись бы, как вто, впрочем, и бывает часто в действительности, — вероятно, каждый из нас уйдет, не дождавшись конца самой живописной сиены, если только она будет слишком продолжительна. И чем обыкновенно
Стр. 44, 3 строка. В рукописи: фраза: «нет, практическая жизнь человека», отчеркнута на полях Никитенкой; следующая фраза: «Человек ищет только хорошего, а не совершенного», также отчеркнута Никитенкой на полях и отмечена вопросительным знаком.
Стр. 44, 10 строка. В рукописи: праздной фантазии [которая подлежит ведению нравственной патологии.] Мы хотим
Стр. 45, 11 строка. В рукописи: внимания. Далее зачеркнуто Никитенкой: [Раздражаться и оскорбляться пустяками — признак расстроенного состояния духа или смешной щепетильности.] Человеку, не приготовленному
Стр. 47, 4–5 строки. В 1-м. издании: Доказательство действительно неопровержимое в кругу понятий философских школ, породивших его и принимающих
В рукописи: мерилом [жизни и] не только теоретической истины и деятельных стремлений человека абсолютное. [Но опыт разрушает эти системы: мы уже видели, что в практической жизни мы вовсе не ищем абсолютного.] Но втн системы
Стр. 48, 4 строка. В рукописи: прекрасного в действительности». [Так утверждают поклонники искусства, свысока смотрящие на прекрасное в действительности.] Посмотрим же
Стр. 48, 16 строка снизу. В рукописи: стремления к прекрасному часто губят и еще гораздо чаще искажают красоту
Стр. 49, 5 строка. Для 3-го издания исправлено: таков же. Правда, в прекрасных произведениях искусства находится более преднамеренности создать прекрасное, нежели в прекрасных произведениях другой деятельности человека, и бесспорно, что в деятельности природы вовсе нет преднамеренности, потому следовало бы согласиться, что преднамеренности больше
Стр. 49. 16 строка. В рукописи: не только привитые понятия, [почти всегда] большею частью [ложные или] односторонние!
Стр. 50, 4 строка. Для 3-го издания выпущена часть фразы до конца после слов «скоро стареет язык».
Стр. 50, 9 строка. Для 3-го издания исправлено: бесцветно и безвкусно; ученые комментарии не могут сделать всего в них столь же ясным и живым для потомков, как все было ясно
Стр. 50, 18 строка. В рукописи: римских поэтов. Далее зачеркнуто Ни-кнтенкой: [Что делает относительно содержания развитие нравственного чувства, то же самое делает относительно формы развитие эстетического чувства; не указываем на погибель для нас красоты в талантливых поэтах псевдоклассической эпохи, — все согласны в том, что язык Шекспира часто бывает ужасно изыскан и напыщен.]
От поэзии
Стр. 51, 1 строка. В рукописи: своим разнообразием. И этот и предыдущий недостаток произведений искусства требовал бы гораздо сильнейшего развития. Но я везде стараюсь избегать подробностей, довольствуясь общим указанием.
V. «Красота в природу,
Стр. 51, 5 строка. В рукописи: бывающая справедливою; но в отноше-
кии к произведениям искусства она почти всегда оказывается справедливою. Все произведения,
Стр. 51, 16 строка. В рукописи: нравственного чувства. Не говорю
уже о картинах и статуях, изображающих — Лелу и Ганимеда: неприготовленною человека обдают ужасом подобные мифы, и странно, как не прячут подобных картин и статуй в кабинеты, доступные только спеииалъным ученым. Вообще надобно признаться, что в изданиях in шит Delphini и виноградном листке есть своя доля справедливости, и доля очень большая Но греческий мир
Стр. 51, 22 строка. В рукописи: служит «Фауст». Доказательство этого_
беспрестанно повторяющиеся в наше время фразы, что Мефистофель довольно жалкий демон; в самом деле образованному человеку нашего времени жалки и смешны сомнения, от которых содрогается Фауст.
VI. «Прекрасное
Стр. 52, 1 строка. В рукописи: в причине, — аксиома известная со времени схоластиков, — чего нет в человеке, того не может быть и в искусстве, деле человека. Широкое,
Стр. 52, 27 строка. В рукописи весь этот абзац и конец предыдущего, начиная со вдов: произведениях искусства, как бы легки ни казались они с первого взгляда, снабжен следующей пометкой Никигенки на полях: «Много очень потрачено ума и времени на борьбу о тенями».
Стр. 52, 18 строка снизу. В рукописи: произведениях искусства. Я хочу только сказать, что если в микроскоп смотреть на недостатки произведений искусства, как смотрят в микроскоп на недостатки прекрасного в действительности эстетики, предпочитающие красоту искусства красоте действительности, іо очень много можно сказать против красоты произведений искусства, гораздо больше, нежели против красоты созданий природы и жизни. Я хочу только показать, что строгой щепетильной
Стр. 52, 16 строка снизу. В рукописи: создаваемое искусством. [Итак, мь) думаем, что мнение, будто бы прекрасное, создаваемое искусством, вообще выше прекрасного, производимого природою и жизнью, не может быть принимаемо наукою за (общую) аксиому, прилагающуюся ко всем частичным случаям. Теперь]
Из обзора, нами сделанного
Стр. 53, 6 строка. В рукописи: эстетическом отношении. Только обозрев содержание, существенные достоинства и недостатки отдельных [частных] искусав, можно будет нам приступить к ответу на вопрос о значении искусства вообще.
Ряд искусств
Стр. 54, 6 строка снизу. В рукописи: стоящий 10 000 франков ГНам кажется, что все эти вещи одинаково ничтожны; нам кажется, что труд, на них употребленный, одинаково — труд, брошенный на ветер] Быть может
Стр. 55, 11 строка снизу. В рукописи: человеческую фигуру. Беспрестанно случается читать и слышать фразу: кона (или он) хороша (или хорош). как греческая статуя (или статуя Кановы)», так же часто приходится читать или слышать фразы: «несравненная красота форм, несравненная красота профиля великих созданий ваяния» и т. п. Обратилось
Стр. 55, 9 строка снизу. В рукописи: нежели красота красавцев и красавиц. которые живут на свете, живых людей.
. «Красота некоторых статуй выше красоты действительных людей» —
против этой сентенции так же страшно восставать, как страшно было некогда восставать против мнения, что Вергилий — величайший из всех поэтов, и что каждое слово Аристотеля — непреложная истина. В Петербурге
Стр. 56, 1 строка. В рукописи: судить самостоятельно [И может ли вообще произведение искусства быть выше живого человеческого лица по красоте?] Но этого
Стр. 57, 1 строка. В рукописи: частях лица. Кто говорит: «мне нравится очертание рта, подбородка, лба, но не нравится очертание носа» — тот не постиг, что не будь таково очертание лба, рта и т. д„не было бы таково
очертание носа, изменилось бы очертание всех остальных частей лица. Эта ’ есная взаимная зависимость
Стр. 58, 1 строка. В рукописи: загрубелого лица. Но цвет лица еще свежею, цвет тела, еще не начавшего окоченевать, — живопись передать не в силах. Лица стариков и людей, загрубелых от работы и лишений, загоревших под солнцем, выходят гораздо удовлетворительнее, нежели нежные молодые лица, особенно [детские и] женские [лица красавиц]. Покрытые [морщинами или] оспенными ямочками
Стр. 58, 4 строка. Для 3-го издания исправлено: молодые. Наилучшее передается живописью наименее удовлетворительно, наихудшее — наиболее удовлетворительно. То же самое
Стр. 58, 24 строка. В рукописи: веселости и т. п. И отчего не в состоянии живопись передать удовлетворительно ничего тихою, кроткого, возвышенного— очень понятно: средства ее слишком грубы. Нужна микроскопическая нежность отделки, чтобы передать микроскопически нежные, тонкие, гармонические напряжения и ослабления мускулов, едва уловимое усиление бледности или румянца, тусклость или свежую живость колорита в лице. Руки человеческие
Стр. 58, 20 строка снизу. В рукописи: сравним ид е природою. Можно сказать, что все это уже давно известно, и что я только повторяю общие места. С одной стороны, такое замечание будет справедливо. Все уверены в том, что искусство не может выдержать соперничества с природою, что «природа искуснее всех художников»; но — странным образом — вместе с этим почти все продолжают говорить, будто бы и очертания, и выражение изваянных или нарисованных людей «выше, прекраснее, полнее» того, что встречается в живых людях. Вообще спорить за «новость» своих мыслей дело излишнее: если они стары и общеприняты, тем лучше. Но, к сожалению, это трудно сказать в настоящем случае, потому что обыкновенно приходится слышать и читать мысли совершенно противоположные. Впрочем живопись Стр. 58, 6 строка снизу. В рукописи: природу и искусство. Человек почти никогда не в состоянии бросить камень прямо по отвесной линии; сам собой в действительности камень падает всегда совершенно по отвесной линии; если кому-нибудь наконец удалось бросить камень также перпендикулярно, сн может хвалиться этим только перед другими людьми, не умеющими так сделать, а не перед природою, которая всегда без малейших усилий так делает. Переходим к живописи
Стр. 59, 12 строка. В рукописи: настолько же, [если не больше, они] уступают природе. В результате получаем опять то же, что получили выше; живопись не может удовлетворительно изображать предметов в том виде, какой они имеют в действительности. «Но живопись лучше
Стр. 60, 21 строка. В рукописи: второстепенный, неважный аксессуар — выигрыш также не слишком велик. Итак, если есть в этом роде живописи преимущество перед действительностью, оно так маловажно, что едва ли заслуживает внимания. Но действительно ли
Стр. 61, 4 строка. Для 3-го издания вставлено: пред которыми, как говорит господствующая эстетическая теория, утрирующая в втом случае мысль, о умеренной форме справедливую, исчезают и живопись и скульптура.
Стр. 61, 16 строка снизу. В рукописи: не хочет рассказывать. Не место здесь рассматривать, почему пением выражаются эти чувства; но. что они выражаются пением — мысль, которую можно упрекнуть в избитости, мысль, которая непременно найдется в каждом.
Стр. 62, 12 строка. В рукописи: высокую красоту, оно увлекательно, как увлекательна красавица, не знающая о своей красоте, — потому является
Стр. 63, 1 строка. В рукописи: произведением искусства Чтобы оградить себя от недоразумений, мы должны оговориться, что вто увлечение. ’
Стр. 63, 7 строка. В рукописи: когда предмет вдохновения — предмет, располагающий к чувству. Между вдохновением
Стр. 64, 23 строка. В рукописи: действительной жизни. С таким мнением невозможно согласиться непредубежденному человеку, оно основывается
Стр. 65, 11 «трока. Для З-ГО и «Дания вылущено: истинно-типические личности. 1
Стр. 65, 6 строка снизу. В рукописи: ласкают внучат, и т. п и иною является подобных «гтипических лиц», которых уже давно назвали ходячими куклами с надписью на лбу: герой; злодей; глупей; трус и т. д. Но большею частью
Стр. 66, 19 «трока. В рукописи: оригиналом. Нам скажут: правда, что первообразом
Для 3-го издания исправлено: оригиналом. Можно возразить: правда, что первообразом
Стр. 66, 2 отрока снизу. Для 3-го издания вставлено: оно было в ею изображении живым лицом
Стр. 67, 1 строка. В рукописи: живые характеры. Наш обзор того, каким образом «создаются» поэтом типические лица, слишком общ, краток, потому конечно неполон; чтобы развить и доказать наш взгляд, надобно было бы написать обширную монографию; но человеку, не предубежденному фразами о «создавании типов», едва ли покажется нужным подробнейшее развитие столь осязательной мысли. Вообще, чем более известно о характере поэта, о его жизни
Стр. 68, 16 строка. В рукописи: событий, которые заслуживают имени драм, романов и г. п., никак не менее драм, романов и т. д„написанных величайшими писателями. Надобно только
Стр. 68, 3 строка снизу. В рукописи: по сюжету или тому, что в латинской поэтической терминологии называется fabula, по типичности и полноте обрисовки лиц, действующих в [втом] происшествии, поэтические пр> из ведения
Стр. 69, 1 «трока. Для 3-го издания исправлено: действительности — украшение события прибавкой эффекных аксессуаров и соглашение характеров лиц с теми событиями
Стр. 69, 9 строка. В рукописи: двигателями или участниками трагических
Стр. 69, 11 строка. В рукописи: ужасных дел; какая-нибудь дама, которую нельзя назвать даже записною сплетницею, может [расстроить] погубить счастие многих людей необдуманными словами, высказанными без всякого особенного намерения, единственно потому только, что она не умеет, подобно большей части людей, держать язык за зубами. Люди не злые особенно
Стр. 69, 13 строка. В рукописи: Яго или Мефистофель. Люди не злые особенно и не добрые особенно делают дела, которые можно приписать «злодеям» или «героям». Так обыкновенно бывает в жизни. В произведениях
Стр. 69, 14 строка. Для 3-го издания вставлено: дурные дела обыкновенно делают люди очень дурные; хорошие дела
Стр. 69, 17 строка снизу. В рукописи: часто приходится сказать: «старая погудка на новый лад!» В них почти всегда почти все делается на один и тот же лад: влюбляются, ревнуют, изменяют, недоумевают, удивляются, приходят в отчаяние — всегда одинаково, по общему правилу, потому что влюбляется — всегда пылкищ молодой человек, ревнует — мнительный человек, изменяет — слабая сердцем женщина и г. д., одно и то же делает всегда один и тот же характер, наиболее гармонирующий с приписываемым ему действием— В наше время
Стр. 69, 11 строка снизу. В рукописи: о произведениях поэзия. [Сколько найдется людей, которые, произнося приговор свой о романе нли повести, прежде всего и больше всего говорят о Том, «хорош ли язык», и в сущности больше ничего не замечают.] Что касается
Стр. 70, 7 строка. В рукописи: на каждом шагу, беспрестанно упоминая о том, что в «природе есть истинная красота», когда припомнишь это, то покажется [что почти не стоит и опровергать такого несостоятельного мнения, которое готово упасть от одного намека], что было бы довольно
Стр. 70, 11 строка. В рукописи: фантазии, [и тогда наш слишком крат-
кий и слитком общий обзор покажется слишком длинным и слишком подробным]. Мы решительно думаем
Стр. 70, 11 строка. В рукописи: «творческой» фантавии. Мы решительно думаем, что по красоте целого, по законченности подробностей, одним словом по всем тем отношениям, на основании которых обсуживается достоинство эстетического произведения, создание действительности и жизни несравненно выше произведений человеческого искусства. Если так,
Стр. 70, 24 строка снизу Для 3-го издания вставлено: почти каждый француз, имеющий порядочное литературное или светское образование, превосходно говорит
Стр. 74, 21 строка. В рукописи: некстати. Когда мне приходится смотреть на море, моя голова может быть занята (и обыкновенно бывает занята) совершенно другими мыслями, и я не замечаю моря, не расположен эстетически им наслаждаться. А произведениями искусства я наслаждаюсь, когда мне угодно, когда я расположен ими наслаждаться, и на морской вид смотрю именно тогда, когда способен им любоваться. Очень часто
Стр. 76, 13 строка. Для 3-го издания исправлено: явления истинно-прекрасные», или, по специальной терминологии господствующей школы: «Идея прекрасного
Стр. 76, 18 строка. В рукописи: заключающихся [и восполнить его]. Длинный разбор существенных достоинств и недостатков произведений искусства уж доставил нам много указаний, которые могут помочь при этом при выводе нашего заключения о сущности искусства. «Человек имеет
Стр. 76, 24 строка снизу. Для 3-го издания исправлено: начало всякой техники, всякого труда, направленного к созданию и усовершенствованию всяческих надобных нам предметов; выводя из стремления
Стр. 76, 7 строка снизу. В рукописи: всем несовершенным, если бы возникали вследствие того, что «на земле нет совершенства, а нам необходимо совершенное», то человек должен был бы
Стр. 77, 29 строка. В рукописи: точнее и полнее. Такое значение преобладает во всех искусствах, кроме поэзии, у которой, кроме того, есть и другое значение — служить объяснительницею жизни. Живопись, скульптура и особенно музыка также по мере своих средств иногда стремятся объяснять жизнь, но их объяснения слишком неопределенны, неясны, потому непонятны; они должны по преимуществу ограничиваться только воспроизведением, а не объяснением. Итак, первое
Стр. 78, 11 строка. В рукописи: воспроизведение [природы] действительности. [Не скрываем от себя, что эти довольно громкие слова имеют существенное родство с знаменитою некогда и осмеянною ныне фразою — «искусство есть подражание природе»] [Не боясь насмешек] [Посмотрим же, что находят неверного и недостаточного в втом определении искусства, заимствуя из лучших современных курсов эстетики критику теории подражания, чтобы видеть ее справед…] Нисколько не думая
Стр. 78, 12 строка снизу. В рукописи: мертвую маску». Ясно, что [из] 8тих совершенно справедливых возражений против теории, желающей, чтобы искусство обманывало глаза подделкою под действительность, ни одно не имеет силы против нашего воззрения; но здесь прежде всего
Стр. 79, 2 строка В рукописи: в том случае, когда искусство ставится выше природы и жизни действительной, когда предполагается
' Стр. 79, 5 строка. В рукописи: и вовсе не имеет своею целью превзойти ее. Что произведения искусства не имеют той жизненности
Стр. 79, 8 строка. Для 3 — го издания исправлено: Итак, выражение; «искусство есть воспроизведение
Стр. 80, 6 строка. Для 3-го 'издания исправлено: не выделывать трели, имеющие смысл только в пении соловья, утрачивающие его при повторении их человеком. Что касается
Стр. 80, 20 строка. Для 3-го издания вставлено: facsimile с обыкновенной рукописи, не понимая
В рукописи; faceimile, не понимая [смысла и] значения копируемых буки [Итак, формальным началом искусства мы признаем воспроизве'дение действительности. Каково же содержание искусства?]
Прежде, нежели перейдем
Стр. 80, 1 строка снизу. В рукописи после слов: «внутреннего содержания», следует: Что действительно греческое воззрение исказилось в позднейшей так называемой теории подражания природе, лучше всего свидетельствует критика зтой теории, представленная нами выше. Очевидно, что по понятиям автора критики искусство, руководимое теориею подражания, стремится к тому, чтобы обмануть внешним сходством и заставить зрителя принимать мертвую подделку за живой предмет, портрет за настоящего человека, кулисы театра за действительное море или дубраву. Иначе критик не сказал бы: *Подражая природе, искусство, по ограниченности своих средств, дает только обман вместо истины и вместо живого существа только мертвую маску». Псевдоклассическая теория
Стр. 81, 3 строка. В рукописи после слов: «испорченного вкуса», следует: Нас нельзя упрекнуть в том, чтобы [мы] обвиняли за это злоупотребление, принадлежащее только эпохам испорченного вкуса, все искусство. В нашем анализе недостатков искусства мы не становились на точку зрения, подобную той, с какой автор выписанных нами строк смотрит на правила, преподаваемые искусству искаженною теориею, против фальшивых стремлений которой он восстает совершенно справедливо. Обвинять искусство вообще в подделке было бы неосновательно.
Теперь мы должны
Стр. 81, 12 строка. В рукописи: В живописи не подходят под эти подразделения множество картин фламандской школы, множество картин, изображающих различные сцены домашней жизни.
Стр. 81, 23 строка. В рукописи: нежные мечты? Можно сказать, что все музыкальные мотивы должны быть прекрасны по форме, но иы говорим о содержании, а не о форме (о том, что красота формы необходимая принадлежность произведений искусства, мы будем говорить ниже, и тогда рассмотрим, должно ли считать ее характеристическим признаком искусства). Но из всех искусств.
Стр. 81, 26 строка. В рукописи: и природы, а действительность не может вся подойти под рубрики: прекрасного, возвышенного и комическою: точки зрения
Стр. 81, 10 строка снизу. В рукописи: своими родами. Давно уже замечено, что для большей
Для 3-го издания исправлено: своими разрядами. Для большей
Стр. 82, 12 строка. В рукописи после слов: «в жизни», следует: Даже те эстетики, которые хотят ограничить содержание искусства прекрасным, восстают против определения искусству более широких границ только из боязни, что если мы скажем «содержание искусства — все интересное для человека в жизни», то определим ему слишком шаткие, слишком субъективные границы. То справедливо, что даже и в одну данную эпоху человек интересуете я предметами и событиями очень разнообразными; что еще более будет разнообразия, если мы возьмем человека на разных ступенях развития: но так же точно справедливо и то, что все это разнообразие интересующих человека предметов, событий, вопросов, сторон жизни бывает содержанием искусства; и если бы принимаемое нами понятие о содержании искусства назначало ему границы, не резко очерченные, шаткие, тем не менее оно было бы справедливо; неопределенность границ факта не мешает его единству и его истинности. Может быть, строжайшее рассмотрение отношений искусства к философии, истории, описательным наукам доказало бы, что и при нашем широком определении можно по содержанию разграничить искусство от других сродных направлений человеческого духа довольно точно — по крайней мере не менее точно, нежели определялись эти границы прежде. Но это вовлекло бы нас в отступление слишком длинное, и притом едва ли необходимое в настоящем случае. [Но едва ли эта причина, выставляемая вперед при отвержении принимаемого нами понятия, есть настоящая причина.] В самом деле, если считают необходимостью
Стр. 82, 14 строка. В рукописи: содержание искусства, то едва ли потому, чтобы опасались отнять у искусства определенные границы и специальность содержания. Нам кажется, что истинная причина
Стр. 82, 17 строка. В рукописи: всякого произведения искусства. Действительно, если мы под прекрасным будем понимать полное осуществление идеи или полное единство содержания и формы, как понимают обыкновенно, то мы будем совершенно справедливы, говоря, что прекрасное есть необходимая принадлежность всякою произведения искусства. Но не должно упускать при втом из виду двух обстоятельств. Первое обстоятельство то, что единство идеи и образа или содержания и формы вовсе не специальная особенность. Но эта формальная
Стр. 82, 21 строка. В рукописи: всегда имеет [определенную] цель, которая составляет сущность дела, которая на философском языке может быть названа идеею [известного] дела. По мере соответствия нашего дела [нли нашего произведения] с нашею целью
Стр. 83, 1 строка. В рукописи: воспроизводимого (портрет должен походить на оригинал;) потому произведение искусства
Стр. 83, 16 строка. В рукописи: действительном мире. Прекрасное как объект, как прекрасное существо или прекрасный предмет, не есть единственное содержание искусства. Не одно радостное, полное жизни и живой свежести, интересует человека: не одно прекрасное и воспроизводится искусством. Нам кажется, что смешение красоты
Стр. 84, 19 строка. В рукописи: наполнены любовным воркованьем романы Диккенса, в которых опять дело идет вовсе не о любви, и романы Жорж Занд из сельского быта, в которых любовь [также решительно неуместна], если только возможно, еще менее уместна по духу и цели романа, «Пишите о том, о чем вы хотите писать» — [вот] правило, которое редко хотят, или, лучше сказать, [которое не смеют] редко решаются соблюдать поэты [добровольно связывающие себе руки любовными интригами и наводящие любовный туман на глаза своих читателей.] Любовь кстати
Стр. 84, 25 отрока. В рукописи: с ним соединенный — искусственная сантиментальность, жеманность, которою проникнуты большая часть произведений искусства последних двух столетий. В наше время
Стр. 84, 13 строка снизу. Для 3-го издания исправлено: облечено красотою»; одно из условий красоты — развитие всех подробностей из завязки сюжета; в нем даются такие глубоко обдуманные планы действования лиц романа или драмы, каких
Стр. 84, 6 строка снизу. В рукописи: человеческого сердца. И критики правы. Выставив искусственно законченный характер, поэт уже не имеет права расширять его, сказав: «я вывожу скупого эгоиста, любящего однако блеснуть при случае великолепием», или «я вывожу молодого человека с возвышенными чувствами и с потребностью любить страстно» — сказав это, поэт уже исчисляет вам все пружины, которыми движется тот человек, и будет непоследователен, дав ему случай обнаружить в сердце своем какие-нибудь новые стороны. «Красота требует
Стр. 85, 1 строка. В рукописи: свой характер, между тем как на самом деле в разговорах обыкновенно выказывается только внешняя сторона человека, его манера говорить, но не сердце ею. Следствием всего
Стр. 85, 14 строка. В рукописи: вти состояния также принадлежат жизни человека и если достигают интересности, также воспроизводятся искусством. Мы упомянули об этом для того, чтобы показать, как в наше определение содержания искусства входит Фантастическое содержание: определять значение фантастического содержания в искусстве мы не будем, потому что оно уже очень определительно и справедливо объяснено эстетикою: пока человек принимает свои мечты за действительность, они имеют для него (и для искусства, воспроизводящего его жизнь) все значение действительности: [хотя надобно прибавить, что он с своею фантастическою жизнью или смешон, или
ж&лок в глвз&х нвослвплвнного человека, если только не представляется ему ребенком.] t
Но мы сказали выше, что, кроме воспроизведения жизни, искусство Стр. 85, 6 строка снизу. В рукописи: только ослабление. Было время, когда «сокращения» (epitome) предпочитались самим сочинениям; почему же и нам не превозносить поэзию за то, что она, выпуская несущественное, в кратком очерке представляет существенное, если потомки великих римлян находили, что Юстин лучше Трога Помпея, а Евтропий лучше всех историков? Мы не отрицаем
Стр. 86, 3 строка. В рукописи: действительной жизни. [Одним словом, все выгоды искусства перед живою действительностью могут быть определены так: «хуже, несравненно хуже, но дешевле; не требуют ни столько времени, ни столько внимания, ни столько проницательности. И] нельзя не прибавить, что всякий прозаический рассказ, всякое описание делает то же самое, что поэзия. Словами всегда передаются только существенные подробности, потому что полнота картины исчерпывается только живописью, а не словами; постепенный ход события во всех подробностях мог бы быть изображен только рядом картин, но не историей или романом. Сосредоточение
Стр. 86, 17 строка. В рукописи: у которых умственная деятельность от природы слаба и ленива или по случайным обстоятельствам мало развита наукою и размышлением. Они могут сказать только; «это я люблю, а этого не люблю; это хорошо, а это дурно»; когда подобный человек
Стр. 86, 22 строка. Для 3-го издания исправлено: кроме того, что воспроизводит любимые им стороны жизни. В рукописи: сторон жизни. Его голословным приговорам нет явного места в художественном произведении; а если б он и захотел их высказать, они не имели бы никакой цены, потому что были бы общими местами из общеизвестных фраз, уже давно всем знакомых. Но если человек
Стр. 86, 16 строка снизу. В рукописи: жизнью. Одним словом, есть произведения искусства, в которых просто воспроизводятся явления жизни, интересующие человека, и есть другие произведения, в которых эти картины проникнуты определенною мыслью. Это направление
Стр. 86, 14 строка снизу. Для 3-го издания исправлено: можно указать на картины из быта и многие исторические; но преимущественно
Стр. 86, 8 строка снизу. В рукописи: соответствующего в действительности, в этом отношении они самостоятельны, как самостоятельна наука. Но самостоятельны они только по форме; не имеют себе ничего соответствующего в явлениях действительной жизни только в отношении формы, в отношении преднамеренности; что касается до содержания
Стр. 87, 5 строка. В рукописи: мудрость? И разве не из наблюдений жизни выведена вся наука? Разве
Стр. 87, 14 строка. В рукописи: как наука, жизнь выше, полнее, правдивее, законченнее, даже художественнее всех творений ученых-мыслитслсй и поэтов-мыслителей. Но мы должны повторить то, что уже было нами сказано выше; жизнь мудрена, жизнь не думает объяснять нам своих явлений, не заботится о выводе из них нравственных сентенций и психологических аксиом; в произведениях науки и искусства это все сделано, растолковано все; правда, выводы неполны
Стр. 87, 14 строка снизу. Для 3-го издания исправлено: история говорит о жизни человечества, заботясь более всего о фактической правде, искусство— о жизни человека, история — о жизни общественной, искусство — о жизни индивидуальной. Первая задача истории
Стр. 88, 8 строка снизу. В рукописи: рассказом. Одним словом: верное воспроизведение жизни искусством не есть простая копировка, особенно в поэзии. Доказывая, что поэт (или художник вообще) не может представить ничего равного живому событию, живым людям, живой природе по жизненной полноте и по художественной законченности, мы говорим совершенна не о том, чтобы он был бессмысленным копировщиком отдельных событий; н что касается до круга деятельности творческих сил поэта
Стр. 89, 13 строка. В рукописи: точки зрения поэта (или, перенося в подобное положение художника вообще: когда художник не имеет перед главами воспроизводимой действительности), еще более необходимого простора фантазии, когда поэт творит под влиянием определенного направления, определенной мысли: в втих случаях он еще более должен видоизменять и комбинировать. Но необходимость
Стр. 89, 16 строка. Для 3-го издания «ставлено: поэт или художник, и не представляла их в виде гораздо более полном, чем какой они могут получить в произведении искусства; а из того
Стр. 89, 5 строка снизу. В рукописи: унижать искусство, если восставать против преувеличенных похвал ему, доказывать, что панегиристы искусства присваивают ему больше, нежели позволяет уступить справедливость. Но восставать
Стр. 90, 25 строка. В рукописи: как моменты прекрасною, и только через это получают право быть предметом искусства. Возвышенное и, момент его, трагическое оказались существенно различными от прекрасного, н надобно было
Стр. 90, 20 строка внизу. В рукописи: предметы искусства, входящие в искусство как моменты жизни вообще. Это уже было
Стр. 90, 19 строка снизу. В рукописи: Но если прекрасное есть жизнь или, определеннее, полнота жизни, то аам собою
Стр. 91, 2 строка. В рукописи: своему назначению, и от красивости формы, которая состоит в совершенстве отделки. [ «Сад прекрасен» — можно сказать в трех различных случаях: 1) когда в саду все зеленеет, все цветет, все говорит о жизни (только в этом смысле должна употреблять эстетика слово «прекрасное»); 2) когда ои дает хороший доход (достижение цели, единство идеи и отдельного предмета) — в втом смысле о прекрасном говорят технические руководства, прикладные науки; 3) когда он подчищен, подрезан и т. д. — о прекрасном в втом смысле говорят люди с изысканным вкусом; забота о нем — дело второстепенной важности, но вта забота может простираться на все в мире, и такого рода прекрасное действительно не встречается в природе и серьезной жизни. Беспрестанные толки]. Неумеренные пенегирики о прекрасном в произведениях искусства большею частью остатки этого изысканного стремления к отделке, остатки вкуса, господствовавшего в начале XVIII века во Франции, ныне отвергаемого всеми в принципе, хотя еще продолжающего иметь сильное влияние на суждения большинства.
4) Возвышенное действует
Стр. 91, 14 строка. В рукописи: подчинение повта греческим понятиям
о судьбе.
Стр. 92, 14 строка. В рукописи: жизни [/5] [Пение искусство только в некоторых случаях, если под искусством понимать воспроизведение явлений жизни; по первоначальному значению оно естественное излияние продолжительного ощущения; и в втом случае оно искусство только в том смысле, что надобно учиться петь, чтобы очень искусно петь, искусство только с технической стороны]
<На этом рукопись обрывается.>
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ИСКУССТВА К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Сочинение Н. Чернышевского. СПБ., 1855. <Автореценвия.>
(стр. 93—119)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855 г., № 6, стр. 23–54 за подписью Н. П — ъ
Перепечатано в полном собрании сочинений Н. Г. Чернышевского (СПБ., 1906), т. X, ч. 2, стр. 165–189.
892
Текст, проверенный по рукописи, впервые напечатан в однотомнике «Н. Г. Чернышевский. Избранные сочинения. Эстетика. Критика». Гослитиздат, 1934, стр. 112–131.
Рукопись-автограф на девяти листах писчего формата хранится в Центральном государственном литературном архиве (нив, № 1646).
В рукописи имеютая исправления, сделанные красным карандашом и принадлежащие И. И. Панаеву.
Стр. 93, 8 строка. В рукописи: но более сообразным с выводами [, к которым приходят ныне строгие исследователи явлений природы, исторических судеб рода человеческого и которые доставляются], которые дает строгое
Стр. 97, 9 строка снизу. В рукописи: «не могут жить друг без друга», каждый из них находит все свое счастье только в счастье другого, и если одному из них
Стр. 98, 16 строка снизу. В рукописи: романтизмом, уродливость и внутренняя бедность которого давно уже признана всеми.
Но, как мы говорили
Стр. 106, 18 строка. В рукописи: Г. Чернышевский, как последователь новых воззрений на действительность, ставящий ее выше грез фантазии
Стр. 106, 21 строка. В рукописи: В этом случае он, по нашему мнению, совершенно поеледовательно прилагает к данному вопросу
Стр. 107, 2 строка. В рукописи после слова: «действительности», следует: Нам кажется, что автор таким образом не забыл ни одной инстанции, от которой зависит решение вопроса; и если его критика справедлива, то он имел право сказать; «Мой разбор показал, что произведение искусства может иметь преимущество перед действительностью разве только в двух-трех ничтожных отношениях (да и в в тих случаях преимущество очень сомнительно, — прибавим мы) и по необходимости остается далеко ниже ее по красоте своих произведений в существенных (во всех существенных — прибавим мы) своих качествах. До какой степени справедлива критика автора, мы не можем решить, потому что, как сказали, принадлежим с ним к одной школе, и должны предвставить решение людям, не приготовленным к согласию с автором приверженностью к одним и тем же принципам, из которых он только выводит следствия, и выводит, вообще, довольно логически. Но сочувствие не есть потачка [не мешает строгости]. Но мы должны н здесь заметить
Стр. 107, 21 строка. В рукописи: от статуй. Но и эта ошибка — опять прибавим мы, должна быть только поставлена в вину автору, а сущности защищаемою им дела нисколько не вредит, потому что о танцах и сценическом искусстве должно быть повторено то же самое и почти теми же словами, что находим у автора в отделе о музыке.
Но если произведения искусства далеко ниже
Стр. 110, 3 строка снизу. В рукописи: бывает то же самое. То же делает и оглавление книги с текстом книги — конечно, по оглавлению легче обозреть содержание книги, нежели читая подряд весь текст ее; но следует ли из этого, чтобы оглавление стихотворений Пушкина было лучше самых стихотворений?
Наконец, если художник
Стр. 111, 14 строка снизу. В рукописи после слов: «значение научное», следует:
Мысль, что искусство не может не только стоять выше действительности, но и равняться с нею по эстетическому достоинству своих произведений, выводится через простое приложение общих начал современною миросозерцания к данному вопросу, и рецензент считал себя вправе сказать, что она может выдержать критику. Но дальнейшие, более частные понятия г. Чернышевского о том, что искусство есть воспроизведение природы и что содержание ею — все интересные для человека явления жизни, хотя и находятся в согласии, даже в довольно тесной научной зависимости от общего понятия об отношении искусства к действительности, но вполне определяются не столько этим понятием, сколько анализом фактов, представляемых искусством; потому рецензент предоставляет эти частные мысли ответственности самого автора, и если рецензент позволяет себе прибавить, что они также кажутся ему в сущности справедливыми, то это его мнение, а не окончательный приговор науки. Справедливость, однако, требует сказать, что фактов, подтверждающих теорию автора, приведено в его анализе довольно много.
От общего определения
Стр. 115, 17 строка. В рукописи: «ужасное в жизни человека». [Читатели конечно заметили, что общий результат изменений, вводимых г. Чернышевским в теорию искусства — утверждение искусства на чисто человеческих потребностях, вместо прежних фантастических или трансцендентальных оснований, непрочность которых ныне <доказана.> наукою, сближение искусства с действительною жизнью и действительными потребностями человеческого сердца. В этом случае автор является верным учеником современной науки, которая все свои воззрения основывает на потребностях человека и целью всех своих теорий поставляет благо человека,]
Понятие комического
Стр. 118, 14 строка. В рукописи: мнение о его книге. Читатели видели, что рецензент по своим убеждениям стоит на точке зрения, совершенно сходной с тою, от которой выходит г. Чернышевский в своем исследовании. Потому наша критика касалась только изложения и способа применения к частным вопросам тех начал, которые принадлежат современной науке. Мы должны сказать, что
Стр. 118, 9 строка снизу. В рукописи: моего изложения» (стр. 8).
Это совершенно так: понятия, усвоенные автором, большею частью должны быть названы сообразными с современными воззрениями; изложение, принадлежащее уже автору, очень часто неудовлетворительно. Надобно сказать
Стр. 118, 5 строка снизу. В рукописи: Достичь этой цели он мог двумя путями: или сообщив своему сочинению угрюмую, но почтенную внешность непонятностью языка, многочисленными ссылками на бесчисленных ученых и тому подобными аппаратами, которые чрезвычайно эффектно действуют на людей, воображающих себя учеными, или придав своим общим мыслям живой интерес приложением их к текущим вопросам нашей литературы. Не будем осуждать г, Чернышевского за то, что он не хотел прибегнуть к первому средству; но осуждаем его за то, что он не решился показать многочисленными примерами
Стр. 118, 1 строка снизу. В рукописи: столь многих. Что делать? Общее начало возбуждает к себе общее внимание только тогда, ко\да служит исходным пунктом для панегирика или филиппики; без того оно остается не замечено почти никем, как бы ни было важно само по себе.
[В доказательство напомним г. Чернышевскому два или три случая, бывших с. одним из молодых литераторов. Ои написал несколько статеек, вовсе не важных, но не совершенно лишенных смысла для мыалящего человека. Эти статьи прошли незамеченными. Случилось ему также написать две или три статейки]. — [Можно доказать ему очень легко] — [не думаю, чтобы г. Чернышевский мог слишком гордиться своим сочинением, которое содержит не более, как приложение давно известных общих воззрений науки к эстетическим вопросам, мы будем еще менее считать особенно важным трудом свою статью, заключающую только разбор этого сочинения, однако же мы имеем право сказать, что понятия, нами в ней изложенные (и не принадлежащие нн рецензенту, ни г. Чернышевскому, которые только усвоили нх) заслуживают более внимания, нежели мелкие приложения, которые мы сейчаа из иих делаем. Но мы уверены, что эти ме\кие применения обратят на себя внимание многих, не удостоивших размышления предыдущие страницы нашей Етатьи.] По г. Чернышевский не хотел или не умел воспользоваться представлявшимися ему многочисленными случаями для апологий и, особенно, для филиппик; он не затронул ни одного из имен, занимающих ныне литературный кружок; потому его сочинение произведет на людей, сочувствующих литературным вопросам, гораздо менее впечатления, нежели, конечно, желал бы автор произвести изложенными у него мыслями.
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ИСКУССТВА К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
(Предисловие к третьему изданию) '
(стр. 119–127)
Первоначально опубликовано в полном собрания сочинений (СПБ 1906) т. X, ч. 2, стр. 190–197. "
Текст, проверенный по рукописи, впервые напечатан в однотомнике: «Н. Г. Чернышевский. Избранные сочинения. Эстетика. Критика», Гослит-иідат, 1934, стр. 132–137.
Рукопись на тринадцати листал в полулист крупного почтового формата хранится в Центральном государственном литературном архиве (вив. Ns 1063). Она писана под диктовку Н. Г. Чернышевского рукой его секретаря К. М. Федорова, но в тексте и на полях содержит поправки и вставки, нанесенные самим Н. Г. Чернышевским. Часть исправлений в конце статьи принадлежит А. В. Захарьину, переписывавшему ее и представлявшему ее в 1888 г. в цензуру. Перед заглавием на первом листе рукою Н. Г. Чернышевского помечено: «Рукопись для нового издания книжки «Эстетические отношения». Далее следует заглавие, написанное рукою К. М. Федорова: «Преди-вловие к третьему изданию».
Стр. 119, 9 строка. В рукописи: остается мало [людей, сохраняющих верность Гегелю;] [которые не смеялись бы] [огромное большинство ученых смеется над пустым фантазерством тех метафизических систем, из которых последней и самой сильной была выработанная нм] [на основании] последователей Гегеля.
Стр. 120, 25 строка. В рукописи: гегелевской школы [и деятели ее, кроме вксцентриков, подобных Бруно Бауэру, признавали его мысли справедливыми] считали его своим. Он [даже] сохранял [если не всю гегелевскую терминологию, то вначительную часть ее терминов] часть гегелевской терминологии.
Стр. 121, 9 строка. В рукописи: более похож на [Лейбница] философов XVII века
Стр. 123, 4 строка снизу. В рукописи: к благу нации. [Пока он думал, что заявлением своего мнения он мог бы ослабить партию реформы], [пока он думал, что могли бы несправедливо сказать порицавшие его приверженцы реформ] [К несправедливому порицанию справедливо прибавить упреки] [он молчал и молча переносил упреки в трусости, апатии, недостатке отваги и патриотизма]. Теперь дело партия
Стр. 124, 19 строка. В рукописи: кроме Штрауса [, а быть может, превосходил и его собственно силой ума]. Он несколько рая
Стр. 126, 3 строка снизу. В рукописи: исключигельно к мелочам [большею частью чисто грамматическим]. Мы не хотели переделывать.
На полях рукописи исправлено рукою А. В. Захарьина: Автор не желает переделывать
КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ
ПОНЯТИЯ
(стр. 127–158)
Впервые опубликовано в журнале «Звезда» 1924, Ns 5, стр. 202–231 П. Е. Щеголевым, по автографу, местонахождение которого в настоящее время неизвестна В предисловии к статье П. Щеголев дает следующее описание рукописи:
«Автограф-тетрадь и» восьми листов писчей бумаги (24 страницы), на-Зисанная уемистым и четким почерком Чернышевского, На первой странице перед заголовком читаем следующую запись автора: «по приезде в Петербург. 1854. Осень. На эти статьи — которых было бы 6 или 7— я полагал
большую надежду. Первая была у Краевского и возвращена, как недостойная печати». Рядом с втой записью имеется и другая: «кстати, я тогда возлагал также надежду на статьи о версификации, на которых две (о гекзаметре и о 3 и 2 сложных стопах) также были отданы Краевскому, у которого и пропали». Эта аапись дает нам указание на время создания настоящей статьи».
ВОЗВЫШЕННОЕ И КОМИЧЕСКОЕ
(стр. 159–195)
Впервые опубликовано в журнале «Под знаменем марксизма» 1928, № 11, стр. 6—35 П. Е. Щеголевым, по рукопиеи-автографу, местонахождение которого в настоящее время неизвестно.
Печатается по этому первоначальному текету, сверенному о рукописью
В. А. Пыпиной.
Стр. 179. 6 строка. В рукописи: толковать о еудьбе. [Цель и характер наших отатей, конечно, заставляет нас не приводить богословских возражений, которыми еще сильнее отвергается идея судьбы, как противоречащая идее провидения.] На следующем вслед ва втой фразой окончании абзаца карандашом поперек «трок написано: «Едва ли эта тирада не должна быть выпущена».
БИБЛИОГРАФИЯ
О сродстве языка славянского с санскритским.
Состав. А. Гильфердинг
Гетр. 196–203)
Первоначально опубликовано в «Отечественных записках» 1853, Ni 7, стр. 16–24. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906) т. I, стр. 1–7. (
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Отечественных записок».
Dichterkanon (Собрание повтов. Доктора Нейкирха). Киев, 1853.
(стр. 204–209)
Первоначально опубликовано в «Отечественных записках» 1853, Ni 7, стр. 24–30.
Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. І,стр. 8—12.
Рукопись-автограф на двух листах хранится в Центральном государственном литературном архиве (инв. Ni 1588). Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по'тексту «Отечественных записок».
КРИТИКА
Роман я повести М. Авдеева.
(стр. 210–221)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1854, № 2, стр. 39_53.
Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 105–115.
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Современника».
896
Три поры жизни. Роман Е. Тур.
(стр. 222–231)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1854, № 5, стр. 1_12.
Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), г. I, стр. 1 15_123.
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Современника».
Бедность не порок. Комедия А. Островского.
(стр. 232–240)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1854, № 5, стр. 14–24. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 123–130.
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Современника».
В 1912 г. была сделана неосновательная попытка приписать статью Добролюбову. (См. Первое полное собрание сочинений Добролюбова под ред. М. К. Лемке, т. I, стр. 1–4.)
Об искренности в критике.
(стр. 241–262)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1854, № 7, стр. 1—24. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 140–158.
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Современника».
О поаэии. Сочинение Аристотеля. Перевел Б. Ордынский.
(стр. 263–288)
Первоначально опубликовано в «Отечественных записках» 1854, № 9, стр. 1—28. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 26–47.
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Отечественных записок».
Отзыв г. Ордынского о самом себе…
(стр. 289–290)
Впервые напечатано в «Отечественных записках» 1855, № 4, отд. IV, стр. 85–86. Рукопись не сохранилась. Ни в одном собрании произведений Чернышевского не перепечатано; в литературе о Чернышевском отмечено лишь однажды в статье Е. А. Боброва — «Борис Иванович Ордынский» в «Варшавских Уннв. Известиях», 1903, № 8, стр. 61–62. Авторство Чернышевского ясно по смыслу ответа Б. И. Ордынскому. Возможно, что Чернышевскому принадлежит весь отдел журналистики четвертого номера «Отечественных записок» (стр. 68–85), но этот вопрос остается пока открытым.
57 Н. Г. Чернышевский, т Іі,
С. рейсер 897
Песни разных народов. Перевел Н. Берг.
(стр. 291–317)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1854, № 11, стр. 1—32. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 179–204.
Рукопись-автограф на тринадцати листах в полулист писчего формата. Хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеке СССР им. В. И, Ленина (инв. № 1592).
Стр. 293, 26 строка. В рукописи: превозносится застой, вместо гуманности угловатость, наконец вместо самостоятельности человеческого духа владычество случайных условий, наложенных климатом и внешними обстоятельствами на понятия и жизнь человека, еще подавленного природою и историческими столкновениями, вместо живого духа
Стр. 293, 5 строка снизу. В рукописи: думая возвысить [народность] специальную самостоятельность
Стр. 294, 5 строка. В рукописи: быть не самостоятельным и дей
ствует, не связывая себе рук никакими посторонними заботами, даже заботами о самостоятельности. Толкует об анергии
Стр. 295, 8 строка снизу. В рукописи: медицины [мы здесь употребляем слово варвар для обозначения нецивилизованного человека вообще, как употребляет это слово новейшая наука; в этом смысле очо' не заключает в себе никакого указания на жестокость нравов; оно равносильно выражению [член] человек, принадлежащий к патриархальному обществу]; несколько имен
Стр. 296, 4 строка. В рукописи: и стремлениям. [В этом положении народа есть свои хорошие стороны.] Не отталкиваемая
Стр. 296, 12 строка. В рукописи: Потому нищета и [зависимость от чужих благ] [чужой милости редко дает себя чувствовать] соединенные с нею
Стр. 297, 8 строка. В рукописи: не одними выгодами [и благами, но также приносит и некоторые неблагоприятные] [имеет и свои темные стороны. Важнейшая из этих сторон именно распадение народа на классы, чуждые друг другу и по интересам, и по образу жизни, н по понятиям. То, что цивилизация не может с первого раза охватить всю массу племени, до сих пор было неизбежным фактом. Потом уже мало-помалу]. Как первые лучи солнца
Стр. 297, 11 строка. В рукописи: высшие члены общества [, и потом уж, только через долгое время, делаются участниками в ее благах низшие слои населения. А пока совершится это нисхождение, масса населения остается [коснеть] в прежнем [застое] [патриархальном] (быте] Большинство
Стр. 297, 12 строка. В рукописи: Мало [сказать, что она остается коснеть— нет, она падает, отторгнутая от духовного общения с теми слоями общества, которые придавали ей связь, вдыхали в нее жизнь; она дробится на мелкие местные округи, чуждые общественной жизни, чуждые национальных вопросов, которые, за исключением немногих случаев, становятся непонятны для нее и по своему содержанию. Резкое отличие от всего, чю имеет право на значение в обществе, сознается массою, и она теряет прежнее высокое чувство внутреннего самоуважения]. Время н силы [массы] его все более
Стр. 297, 24 строка. В рукописи: ошибочны.
Во-первых, люди
Стр. 297, 31 строка. В рукописи: совершенно бесполезны: [и попытки к его возвращению необходимо будет иметь самый жалкий конец]. Во-вторых, окончательный результат цивилизации состоит в том, что она, разлившись наконец по всем слоям народа, соединяет их опять в одно духовное целое; связывает их узами одинакового знания и довольства, как прежде они сливались в одинаковом невежестве и скудости. Потому заботиться о быстрейшем, обширнейшем распространении образованности [в массе] — вот единственное истинно успешное и полезное стремление; скорбеть не о том, что цивилизациею изгоняется невежество, а разве о том. что оно изгоняется ею
не довольно быстро — вот единственная скорбь, достойная образованного человека. '
Существенные качества,
Стр. 298, 11 строка. В рукописи: страстный поклонник. [Что касается до заключения, следующего за выписанною нами фразою: «Это (язык народных песен) главный источник, откуда образованный язык народа может почерпать силу и крепость» — с таким выводом едва ли следует согласиться и поговорить об этом довольно распространенном у нас мнении мы предоставляем себе впоследствии.]
Чрезвычайно высокое поэтическое
Стр. 298, 19 строка. В рукописи: «Одиссее» [(Для русской публики достаточно будет сослаться в доказательство этого на «Рустема н Зораба»: беспристрастный человек согласится, что этот чудно-прекрасный. эпос для современного европейца полнее, очаровательнее греческих эпосов, он ближе к нашему сердцу, к нашей душе, он ^гуманнее] отражает жизнь более человечную, нежели рассказы о битвах у стек Трои и странствованиях Одиссея. Образ Зораба прекраснее и гуманнее Ахиллеса: только в одной сцене Гектор приближается к нему: [подобного Гурдаферид нет даже] Гурдаферид очаровательнее н женственнее Нэвзикаи)]. Прекрасные романсы
Стр. 311, 12 строка. В рукописи: чешских реформатов, когда они
были изгнаны из родины и принуждены бежать в горы к словакам (по недостатку шрифта
Стр. 311, 22 строка. В рукописи: Родина драга
Цо же нам до ржеки,
Цо нам до места.
Ах, нам выказана К выгнанства цеста.
[Не взяли еже с себу Ниц, по вшем вета Ен библи Кралицку,
Аабиринт свела Да что нам Влетава,
Что нам наша Прага,
Коли в нас угасла Сила и отвага.
Из дому нас гонят.
Все у нас побрали,
Только лишь с собою Библию мы взяли]
И т. д.
Вот буквальный перевод:
Стр. 311, 25 строка. В рукописи: родина дорогая.
Что нам до реки, что нам до городаI Ах, нам указана дорога в изгнанье
и т. д.
Вот начало
Стр. 315, 10 строка снизу. В рукописи: вечером сидела (Мадьярская)
Удалый я мадьярин.
Лихой и ловкий пэреньі Ногою я притопну,
Сто немцев я прихлопну.
Пущусь ли в танец скорый —
Я брякну лихо шпорой,
", И шапку эаломаю
И немца загоняю!
Любовь моя со мною.
Блистая красотою,
Мадьярский ангел ясный,
Кого люблю я страстно.
Я с нею обнимуся И крепко к ней прижмуся С горячим поцелуем,—
И вместе затанцуем.
А немец без подковок,
Без шпор куда не лоиокі Одно н тс ж наладил И танец весь изгадил.
У, немец ты проклятый,
Что ястреб полосатый,
Недаром же, недаром Противен ты мадьярам.
Временник императорского Московского общества история и древностей Российских. Книги 16, 17, 18, и 19.
(стр. 318–334)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1854, № 12, стр. 33–52. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 204–217.
Рукопись-автограф на 6 листах в полулист писчего формата. Хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв. № 1593).
Стр 319, 5 строка снизу. В рукописи: притязания его беспредельны. [Три или четыре века тому назад, когда начало распространяться знакомство с греческим языком, все утверждали, что не знающий греческого языка есть невежда, что в Платоне разрешены все высшие вопросы человеческой души, в Софокле искусство достигло своего идеала, что Фукидид должен навсегда остаться величайшим историком мира, и новым народам остается подражать во всем грекам. Не очень давно] [Немного еще прошло времени с тех пор, как утверждали, что санскр…] [начав учиться по санскр] И для собственной пользы
Стр. 325, 6 строка. В рукописи: Троянскую землю. [При этом можно было хотя вспомнить, что Елена была жена Менелая, следовательно не может ни в каком случае и никогда не называема была «девою», «девицею».] После такого объяснения
III. Естественность всех вообще ломоносовских стоп в русской речи.
(стр. 335–341)
Впервые опубликовано в сборнике «Николай Гаврилович Чернышевский. 1828–1928. Неизданный тексты, материалы и статьи» Саратов, 1928, стр. 104–109.
Печатается по рукописи-автографу, хранящемуся в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В И. Ленина (инв. № 996). Рукопись — на трех полулистах писчего формата. Нал заглавием н между его строк более крупным почерком Н. Г. Чернышевского сделана позднейшая вставка: «Две первые статьи «О русской версификации» были отданы Крэевскому осенью 1854 года 1) о гекзаметре 2) какие стопы — 2 сложные или 3 сложные свойственнее русской версификации. Они погибли у него как недостойные печати. — А всего я хотел тогда написать 6 или 7 статей: 4) о рифмах, 5, 6, 7 — не припомню теперь о чем».
БИБЛИОГРАФИЯ «Известия императорской Академни наук по отделению русского языка и словесности». Т. II.
(стр. 342–343)
Первоначально опубликовано в «Отечественных записках» 1854 № 1
стр. 23–24. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. X, ч. 2, стр. 82–83 первого счета.
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Отечественных записок».
Федон, или о бессмертии душа, М. Мендельсона. Перевод
В. Мызникова.
(стр. 343–344)
Первоначально опубликовано в «Отечественных записках» 1854, № 5, стр. 24–26. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 13–14.
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Отечественных записок».
Справочный энциклопедический словарь, издаваемый под редахдией А. Старчевского, т. 7.
(стр. 345–358)
Первоначально опубликовано в «Отечественных записках» 1854, № 6, стр. 121–134. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 14–25.
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Отечественных записок».
Справочный внцнклопедический словарь, издаваемый под редакцией А. Старчевского, т. 3.
(стр. 358–362)
Первоначально опубликовано в «Отечественных записках» 1854, № 11, стр. 18–22. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 48–51.
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Отечественных записок».
Песни разных народов, перевод Н. Берга.
(стр. 362–368)
Первоначально опубликовано в «Отечественных записках» 1854, № 12, стр. 53–59. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 51–58.
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Отечественных записок».
Габриэль. Комедия. Сочинение Эмиля Ожье.
(стр. 368–369)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1854, № 1, стр. 24–25. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 103–104.
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Современника».
Архив историко-юридических сведений…, над. Н. Калачовым.
Книги второй половина вторая.
(стр. 369–381)
Впервые напечатано в «Современнике» 1854, № 4, стр. 1—14 (второй пагинации). Рукописи не сохранилось. Ни в одном собрании произведений Чер. нышевского не перепечатано и в литературе о Чернышевском не отмечено. Авторство Чернышевского бесспорно устанавливается полемическим абзацем, направленным против «Отечественных записок» и непосредственно связывающим настоящий отзыв с отзывом, напечатанным в «Современнике» 1855, № 9, на вышедшую позже 2-й половины — 1-ю половину второй книги «Архива…» Калачова (см. в наст, томе стр. 735).
С. Рейсер
Полное собрание сочинений русских авторов. Сочинения А. Погорельского.
(стр. 381–388)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1854 № 6, отд. IV, стр. 35–37. В полное собрание сочинений (СПБ, 1906 г.) не вошло.
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Современника».
Принадлежность рецензии Н. Г. Чернышевскому устанавливается его указанием на нее в статье «Об искренности в критике» (см. начало).
О земле как элементе богатства. А. Львова.
(стр. 388–399)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1854, № 6, стр. 65–76. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 131–139.
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Современника». '
История России с древнейших времен, сочинение С. Соловьева.
(стр. 399–405)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1854, № 10, стр. 39–46.
Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 159–164.
Рукопись-автограф на одном листе писчего формата. Хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв. № 1590). Рукопись сохранилась не полностью. Она кончается словами: «прибылью в имуществе, нежели в народе» (стр. 401, 15 строка). После этих слов в рукописи карандашная пометка Н. Г. Чернышевского «Окончание пришлется через несколько часов». Это окончание отсутствует.
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Историческое значение царствования Алексея Михайловича.
Сочинение П. Медовикова.
(стр. 405–412)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1854, № 10, стр. 46–54. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 164–170.
Рукопись-автограф на одном цельном листе писчего формата с прибавлением отрывка в четвертую его часть хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (ина. № 1589). Рукопись сохранилась не целиком: отрывок на отдельном листе обрывается на словах: «каких-нибудь других трудов» (стр. 409, 6, 5 строки снизу) и на обороте начинается словами: «воззрений и объяснений, но с тем» (стр. 410, 20 строка снизу), кончаясь словами: «слишком мало исторических памятников» (стр. 411, 2, 3 строки).
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
О сродстве языка славянского с санскритским. Составил А. Гильфердннг. Об отношении языка славянского к языкам родственным. Исследование А. Гильфердннга.
(стр. 412–419)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1854, № 10. стр. 61–70. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 170–177.
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Современника».
Комнатная магия. Сочинение Г. Ф. Амарантова.
(стр. 419–420)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1854, № 10, стр. 76. Перепечатано а полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 177–178.
Рукопись-автограф на одном листе в полулист писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки им. В. И. Ленина (инв. № 1591). На этом же листе рукописи помещена рецензия на книгу «Первая> любовь», сочинение А. К — ва.
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. ^Печатается по тексту «Современника».
Первая любовь. Повесть. Сочинение А. К — ва.
(стр. 420–421)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1854, № 10, стр. 77. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 178.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв. № 1591). На этом же листе рукописи помещена рецензия на книгу «Комнатная магия» Г. Ф. Амарантова, после которой следует карандашная пометка Н. Г. Чернышевского, относящаяся к рецензии на «Первую любовь»: «Отдельная статья, только печатать необходимо рядом».
Разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника»
Учебник русской словесности. А. Охотина.
(стр. 421–423)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1854, № 12, стр. 62–65. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 218–220.
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Современника».
КРИТИКА.
Сочннания Пушкина. Изд. П. В. Анненкова. СПБ., 1855.
(стр. 424–516)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 2, стр. 27–58, № 3, стр. 1—34, № 7, стр. 1—26, № 8, стр. 27–52. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 245–330.
Текст, проверенный по рукописям, первоначально опубликован в книге: «Н. Г. Чернышевский. Избранные сочинения. Эстетика. Критика», Гослитиздат, М., 1934, стр. 180–242.
Рукопись-автограф на тридцати трех листах писчего формата в полулист с прибавлением трех небольших листов хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв. № 1600). Она заключает в себе три первые статьи, четвертая — отсутствует.
Статья первая заканчивается в рукописи словами: «литературных мнений Пушкина», после них карандашная пометка Чернышевского: «Конец первой статьи».
Статья первая
Стр. 424, строка 13 снизу. В рукописи: отчет публике. Читатели наши конечно знают, чего не должно искать в наших статьях о новом издании Пушкина
Мы не будем
Стр. 427, 21 строка. В рукописи: первый том.
[Полное суждение наше об этой биографии мы выскажем в конце нашего рассмотрения; теперь же повторим замечание, сделанное нами в начале статьи: мы принимаем то, что дает публике новое издание, не более и не менее. Сам издатель говорит, что недостатки были неизбежны, и мы видели, как справедливо и скромно смотрит он на весь свой труд, считая его только по возможности полным. Потому и составленное им жизнеописание называется не «биографиею», а только «Материалами для биографии» Пушкина, показывая тем, что сведения, им сообщаемые, не совершенно полны и что из них не могло быть составлено окончательное, полное и4ображение личности и деятельности Пушкина. Тем не менее, «Материалы» эти представляют множество новых и в высшей степени драгоценных данных для изучения характера, мнений и творчества великого поэта. Мы хотим извлечь эти драгоценные данные и постараться познакомить с ними читателей. Нет сомнения, что сличение сведений, заимствованных из труда г. Анненкова, с предшествующими статьями о Пушкине, разбросанными по разным журналам [и сочинениям], могло бы доставить для нашего очерка новые черты; но, с одной стороны, объем нашего этюда превзошел бы границы, которые должен сохранить ои как журнальная статья; с другой стороны, мы уверены, что большая часть [наших] читателей твердо хранят в памяти существеннейшее из того, что было до сих пор высказано в печати о Пушкине, и останутся довольнее, если новые сведения, заимствованные из «Материалов» г. Анненкова, не будут в наших статьях обременены повторением того, что уже давно известно каждому образованному русскому, и отчасти было прочитано [ими] в «Современнике» и других журналах так недавно. [Наконец] «Материалы», доставляемые г. Анненковым, так многочисленны, что сами по себе вполне заслуживают отдельного изучения].
Значение и достоинства биографии.
Стр. 428, 9 строка. В рукописи: возникающих. [Предмет монографии избирался или немаловажный, или разбивался на маловажные эпизоды.] Не такова
Стр. 428, 23 строка. В рукописи: Пушкина. [Подобной биографии не имел еще ни один писатель.] Сличения
Статья вторая
Статья вторая — на тринадцати листах в полулист писчего формата.
На последнем листе рукописи (оборот 13 л.) карандашная помета автора: «дописано 18 февраля 1855 года — под влиянием известного события написаны последние строк«(6 апреля 1856 г.)». Эти последние строки отчеркнуты Чернышевским, начиная со слов: «Вообще влияние человека», против них на полях обведена чертою заметка: «Здесь получено известие» (речь идет о смерти Николая I).
Стр. 452, 27 строка. В рукописи: успели написать столько, что например все произведения пятидесятилетней поэтической деятельности Жуковского по
объему не составят и одной пятой части произведений тою или другою. Вероятно *
Стр. 470, 19 строка. В рукописи: с ударениями и без ударений **
[** Вот примеры из первой попавшейся под руку немецкой книги_
Grundriss der grichischen Litteratur, von Bernhardy. Первые строки предисловия, Vorwort (отмечаем большими буквами гласные, на которых есть ударение). Gegenwörtig mAg auf dem wEiten FEIde der LitterArhistorie, das Unter nAhen und fErnen tHEilnehmen bestEht Oder den]
** Не приводим примеров, чтобы убедиться
Стр. 473, 12 строка снизу. В рукописи: не более, как отражение обыкновенных понятий, какие были повторяемы всеми в то время, повторяемы даже без особенной охоты, потому что имели чрезвычайно мало содержания. Петр — великий человек
Стр. 476, 13 строка снизу. В рукописи: русской поэзии. Прийдут времена, когда его произведения останутся только памятниками эпохи, в которую он жид: но когда прийдст это время — мы еще не знаем, а теперь мы можем только читать и перечитывать
Статья третья
Рукопись на 13 листах разного размера, из которых девять — в полулист писчего формата, остальные— вставки на отдельных листках. Рукопись содержит множество вклеек. На полях листов 2 и 8 зачеркнуты автором отрывки, написанные шифром. Цитаты из статей Надоумко в рукописи приведены не полностью: начиная со слов: «Сии маленькие желтенькие,
синенькие и зелененькие» и далее (стр. 491–495) они заменены указаниями Чернышевского типографии о наборе соответствующих отмеченных мест из «Вестника Европы».
Стр. 477, 13 строка. В рукописи: издателя, энергически проведшего свое предприятие через все затруднения и оказавшего
Стр. 483, 4 строка. В рукописи: большинства публики. Кто был в этом случае прав — Пушкин, или публика, мы не будем говорить здесь. Дело будет ясно само собою, без всяких заключений с нашей стороны, когда мы проследим характер изменения, происшедшего в стремлениях великого поэта. Скоро мы увидим, что тогдашняя критика успела найти причину охлаждения публики к ее любимцу.
Но справедлива
Стр. 484, 6 строка снизу. В рукописи: бесполезно: известно, что главною целью, с которою основалась Литературная Газета, было преследование Н. Полевого.
Вражда Дельвига
Стр. 485, 17 строка снизу. В рукописи: а Сомов имел огромное влияние на Дельвига.
Стр. 485, 6 строка снизу. В рукописи: заслуживает глубокого нашего уважения.
Стр. 486, 7 строка. В рукописи после слов: «подробных доказательств», следует: Известно также, какое сильное (и не совершенно основательное) негодование во всех почитателях Карамзина было возбуждено замечаниями Полевого на Историю Государства Российского (эти замечания были умереннее почти всех других критических статей о труде Карамзина) и изданием «Истории Русского народа»; известно и то, как благоговел перед Карамзиным Пушкин. Но выпишем
Стр. 491, 8, 9 строки. В рукописи: «Телескоп» с жаркого боя взял первенство
Стр. 496, 14 строка. В рукописи: из «Ивана Выжигинэ» (И!) [Risum teneatis]; были другие рецензенты
Стр. 496, 21 строка. В рукописи после слов: «забвения и сожаления…», следует: Можно даже прибавить, что и те факты, важные для своего времени, которые приведены нами в настоящей статье, не имеют ныне существенного интереса, как не имеет его много другое, более или менее важное для своею времени, с такою шумною суетливостью выкапываемое ныне из «бездны пустоты» старых времен.
Но если уж вошло в моду говорить о старине, то нельзя не восстать против мнения, столь часто повторяемого и столь несправедливо отнимающего заслуженную честь у людей, которые должны занимать одно из самых почетных мест в ряду деятелей на ниве нашего просвещения, людей, которые достойны уважения и по своему уму и по горячей ревности ко всему, что казалось им благом и истиною, и которых имена доселе забываются или даже хулятся по узким и неверным понятиям о их отношениях к Пушкину, между тем как беспрестанно пишутся хвалебные распространения о людях, которые не имели и тысячной доли их достоинств и значения в нашей литературе.
В следующей статье
Путешествия А. С. Норова.
(стр. 517–543)
Первоначально опубликовано в «Отечественных записках» 1855, № 1, стр. 23–52 Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 57–80.
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Отечественных записок».
Пропилеи. Сборник статей по классической древности, издаваемый IL Леонтьевым. Книги III и IV.
(стр. 544–579)
Перзоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 4, стр. 53–74, и № 5, стр. 1—22. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 365–395.
Рукопись-автограф на шести полулистах писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв. № 1650). Эта рукопись заключает в себе только первую статью, вторая не сохранилась. Печатается по тексту «Современника».
Морской сборник… Год 1855. Книжки 1–9 (январь — сентябрь).
(стр. 580–599)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 10, стр. 29–54. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. X, ч. 2, стр. 79–97 (пятого счета).
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Современника».
БИБЛИОГРАФИЯ
Осада н взятие Византии турками. Историческое исследование М. Стасюлевича.
(стр. 600–606)
Первоначально опубликовано в «Отечественных записках» 1855, № 3, стр. 4—10. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I; сгр. 81–86.
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Отечественных записок-906
Крым с Севастополем, Балаклавою и другими его городами,
(стр. 606)
Первоначально опубликовано в «Отечественны* записках» 1855, № 3, стр. 37. В полное собрание сочинений изд. 1906 г. не вошло.
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Отечественных записок». Сличение текста этой рецензии с рецензией на ту же книгу в «Современнике» 1855, № 2, принадлежность которой Чернышевскому подтверждается рукописью-автографом, произведенное Н. М. Чернышевской, обнаружило явное сходство их по языку, что дало основание включить и эту рецензию в настоящее издание.
Цветок на могилу певда в стане руссхих воинов. Сочинение А. Иевлева.
(стр. 606–607)
Первоначально опубликовано в «Отечественных записках» 1855, № 3, стр. 42–43.
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Отечественных записок». В полное собрание сочинений (СПБ., 1906) не вошло. Принадлежность этого отзыва Н. Г. Чернышевскому устанавливается сличением текста с его рецензией на ту же книгу, напечатанной в № 3 «Современника» за 1855 г. и помещенной в т. X, ч. 2 полн. собр. соч., стр. 66 (пятого счета).
Мелочи ив запаса мое Я памяти. М. Дмитриева.
(стр. 607–612)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 1, стр. 11–17. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. X, ч. 2, стр. 53–58 (пятого счета).
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Современника».
Московская самоварница. Сочинение Петра Мед…а.
(стр. 612–614)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 1, стр. 19–21. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 220–221.
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Современника».
Магазин землеведения и путешествий. Географический сборник, издаваемыя Николаем Фроловым.
(стр. 614–624)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 1, стр. 21–33. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 222–230.
Печатается по тексту «Современника».
Рукопись-автограф на четырех листах в полулист писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв. № 1598).
Стр. 617, 12 строка. В рукописи после слов: «поэтическою темою», следует: потому что они принадлежали обществу, в котором женщина существовала для мужчины, только пока он влюблен в нее, — проходит восторженное
9Э7
поклонение — и «ненаглядная» девица остается женою-батрачкою: и теперь поэту, изображающему этот круг жизни, можно о женщине сказать только:
Будет бить тебя муж привередник И свекровь в три погибели гнуть.
Точно таково же
Счастливое семейство, или полезное чтение для детей. Сочинение Л. Ярцовой. Часть первая.
(стр. 624–625)
Первоначально опубликовано в «Современнике», 1855, № 1, стр. 40. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. X, ч. 2, етр. 58 (пятого счета).
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Совре* менника».
Историческая записка, речи, стихи и отчеты императорского Московского университета, читанные… 12 января 1855 г.
(стр. 625–628)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 2, стр. 41–45. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 230–233.
Рукопись-автограф на двух листах в полулист писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв. № 1622).
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Италия. В. Д. Яковлева.
(стр. 628–631)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 2, стр. 50–52. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 233–235.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв. № 1608).
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись ке содержит. Печатается по тексту «Современника».
Знахари. Исторический роман в двух частях В. Н. Савинова.
(стр. 631–633)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 2, 53–55. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. X, ч. 2, стр. 59–60 (пятого счета).
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Современника».
Крым с Севастополем, Балаклавою и другими его городами.
(стр. 633–635)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 2, стр. 55–58. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 236–238. Рукопись-автограф на одном листе в полулист писчего формата храшггся
в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв. № 1623).
Выдержки из рецензируемой книги в рукописи отсутствуют, они заменены указаниями Чернышевского типографии на необходимость перепечатки отмеченных страниц.
Разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Русское посольство в Польше в 1673–1677 годах. Сочинение
А. Попова.
(стр. 635–636)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 2, стр. 58–59. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 238–239.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина. На обороте — рецензия на книгу «Камчатка и ее обитатели» (ннв. № 1624).
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Камчатка и ез обитатели.
(стр. 636)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855 № 2, стр. 59–60. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. X, ч. 2, стр. 60–61 (пятого счета).
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР нм. В. И. Ленина. На обороте — рецензия на книгу А. Попова «Русское посольство в Польше в 1673–1677 годах» (инв. № 1624).
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
История Рима от основаяяя города до рождества христова М. Богоя в ленского.
(стр. 636–637)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 2, стр. 60. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), г I, стр. 239.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина. На том же листе и на его обороте написаны рецензии на книги: «Обозрение трактатов о морском тортовом нейтралитете» и «Путевые записки русского художника. И. Захарова» (инв. № 1626). 1
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Обозрение трактатов о морском торговом нейтралитете. Составил Л. Д.
(стр. 637)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 2, стр. 61. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 239–240.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописен Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв. № 1626).
Разночтении с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Путевые записки русского художника. И. Захарова. Вторая часть.
(стр. 637–638)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 2, стр. 61–62. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. X, ч. 2, стр. 61 (пятого счета)
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР
им. В. И. Ленина (инв. № 1626).
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Описание замечательнейших лабораторий Германии и Бельгии.
Составлено Петром Кочубеем.
(стр. 638)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 2, стр. 62.
Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ… 1906), т. I, стр 240.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР
им. В. И. Ленина (инв. № 1625). Конец рукописи, начиная со слов «равно как и самые описания», написан рукою Н. А. Некрасова.
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Осада н взятие Византин турками. Сочинение М. Стасюлевича.
(стр. 639–643)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 2, стр. 65–71. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 240–244.
Рукописи н корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Современника».
1854 год. Стихотворения А. Н. Майкова.
(стр. 643–647)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 3. стр. 1–5. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. X, ч. 2, стр. 62–65 (пятого счета).
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Современника».
Российская родословная книга, издаваемая князем Петром Долгоруковым. Части 1 и 2.
(стр. 647–649)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 3, стр. 5–7. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 331–332.
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Современника».
О времени происхождения славянских письмен. Сочинение О. Бодянского.
(стр. 649–652)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, Nt 3, стр. 7—11. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 332–335.
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Современника».
по
Русская геральдика. Сочинение А. Лакиера.
(стр. 652–655)
— Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 3, стр. 11_14.
Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I,стр. 335–337.
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Современника».
Цветок на могилу певда в стане русских воинов. Сочинение А. Иев тева.
(стр. 655)
Первоначально онуоликовано в «Современнике» 1855, Кв 3, стр. 15–16. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. X, ч. 2, стр. 66 (пятого счета).
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Современника».
Экономические очерки Александра Аплечеева.
(стр. 655)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 3, стр. 16. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. X, ч. 2, стр. 66 (пятого счета).
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Современника».
Новые повести. Рассказы для детей.
(стр. 655–662)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855 г., № 3, стр. 17—2й. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 337–343.
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Современника».
Биографический словарь профессоров и преподавателе.’: императорского Московского университета. История императорского Московского университета, написанная С. Шевыревым. 1755–1855.
(стр. 662–673)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 4, стр. 25–39. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 343–353.
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Современника».
О правах иностранцев в России до вступления Иоанна III Васильевича на престол великого княжества Московского.
Сочинение И. Андреевского.
(стр. 673–680)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 4, стр. 40–47. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 353–358.
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Современника».
Грамматические заметки. R. Классовского.
(стр. 680–686)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 4, стр. 47–54. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 359–364.
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Современника».
Очерк истории императорского Гатчинского сиротского института. Составлен П. Гурьевым.
(стр. 686)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 4, стр. 61–62. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. X, ч. 2, стр. 66–67 (пятого счета).
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Современника». '
Отчет императорской Публичной библиотеки за 1854 год.
(стр. 686–689)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 5, стр. 5–7. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, сгр. 396–398.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв. № 1641).
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
О древне-русских училищах. Рассуждение Н. Лавровского.
(стр. 689–690)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 5, стр. 7–9. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 398–399.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв. № 1644).
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
О литературных партиях в Раме в век Августа. Сочанепне Н. Благовещенского.
(стр. 690–692)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 5, стр. 12–15. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 401–403.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР нм. В. И. Ленина (инв. № 1640).
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Повесть о Цареграде. Издание И. Срезиевсхого.
(стр. 693)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 5, стр. 15. Перепечатано в гчх»“ом собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 403.
Рукопись-автограф написана на одном полулисте писчего формата вместе рецензией на книгу «Политическое равновесие и Англия» И. В. Вернадского. Хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв. № 1642).
Разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Политическое равновесие и Англия. Сочинение И. В. Вернадского.
(стр. 693)
Перооначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 5, стр. 15–16. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 403–404.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата. Хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР
им. В. Й. Ленина (инв. № 1642).
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Высший курс русской грамматики, составленный Владимире л
Стоюниным.
(стр. 694–697)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 5, стр. 16–19. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 404–406.
Рукопись-автограф на двух полулистах писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР
им. В. И. Ленина (ннв. № 1607).
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
История православного русского монашэства до основания Лавры св. троицы преподобным Сергием. Сочинение Петра Казанского. Москва. 1355.
(стр. 697)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 5, стр. 20. В полное собрание сочинений изд. 1906 г. не вошло. -
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина биб\иотеки СССР им. В. Й. Ленина (инв. № 1643). На этом же листе рукописи написаны рецензии на следующие книги: «О договоре Новагорода, И. Андреевского», «Краткая русская история для простолюдинов, дяди Афанасия», «Таврида с Крымским полуостровом», «Полифеизм древних греков».
Разночтений с печатным текстом рукопись не содержит.
Таврида с Крымским полуостровом, в географическом, историческом ѵі статистическом отношениях с самых древнейших времен.
(стр. 697)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 5, стр. 20. В полное собрание сочинений изд. 1906 г. не вошло.
Рукопись-азтограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. Й. Ленина (инв. № 1643).
Разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
58 Н. Г. Чернышевский, т. II
Полифенам древних греков. Составил Ю. Баз.
(стр. 697)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 5, стр. 20. В полное собрание сочинений над. 1906 г. не вошло.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв. Ns 1643).
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
О договоре Новагорода с вемедкими городами и Готландом, заключенном в 1270 году. Сочинение Ивана Андреевского.
(стр. 698)
Первоначально опубликовано в «Сопременнике» 1855, № 5, стр. 20–21. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 407.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв № 1643).
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Краткая русская история для простолюдинов. Составил дядя
Афанасий.
(стр. 698)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 5, стр 21. В полное собрание сочинений изд. 1906 г. не вошло.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина.
Выписка из рецензируемой книжки в рукописи отсутствует, она заменена соответствующим указанием автора типографии о наборе первых страниц.
Разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Азовское сяденяе. Н. Кукольника.
(стр. 699–702)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 6, стр. 28–32. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 407–410.
Рукопись-автограф на трех листах в полулист писчего формата. Из рукописи видно, что рецензия два раза начиналась автором. Первый лист представляет позднейшую вставку, текст начала рецензии на втором листе вычеркнут и чернилами и карандашом. Рукопись хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им В И Ленина (инв. № 1604).
Стр 701, 10 строка. В рукописи после слов: «коэацкий майдан,
или сходка», следует пометка автора: «Набирать с другого листа, под цифрой', 2». u
Другой лист представляет следующий вариант начала, вычеркнутый автором: -
Новая пьеса плодовитого романиста и драматурга писана с целью доказать две темы, из которых одна справедлива и прекрасна, а другая_сужде
ние о справедливости И качествах второй темы «Азовского сиденья» мы предоставляем читателю.
Справедливая сторона^ пьесы— то, что Донские козаки были очень храбрые воины и люди, достойные всякого почтения ва свою честность и другие хорошие качества. Это в пьесе доказывается тем, что все Донцы, выведенные на сцену — герои, каковы они действительно и были.
Но среди этих благородных героев является одно лицо, нещадно позоримое автором — Заремба, представитель качеств запорожского войска; по мнению г. Кукольника, этот запорожец — хвастун, трус, вор, бесчестный волокита, предатель, подводящий татар на пагубу своих единоверцев. Читатель конечно будет изумлен таким необыкновенным мнением г. Кукольника о запорожцах. в которых признавали высокую храбрость и честность даже заклятые враги их — крымский хан и турецкий султан; читатель, вероятно, даже усум-нится в том, точно ли мы передали мнение г. Кукольника о запорожцах — изложение содержания пьесы убедит его в строгой точности нашего вывода.
«Историческое сказание» г. Кукольника начинается тем, что поэт Терешка Лещина, идеал автора, говорящий ломаным малорусским языком, в отличие от простых людей, выражающихся в пьесе по-русски, называет запорожцев «злодеями» — если бы Терешка был турок, это было бы с его стороны натурально; но малороссу странно выражаться о героях Украйны таким образом: «Вы, запорожцы, говорит Терешка Зарембе, погубили Малороссию; мы, украинцы,
От злодеев запорожьских повтикали Бодай вам добра не було, племя ведмежье!
Но, прибавляет Терешка, ваши злодейства не останутся безнаказанны: у меня есть бандура и голос чистый, голос слезами вымытый — я буду казнить запорожцев своими песнями —
Не забудуть добрые люди песень Терешки,
Зачуют и у Дьявольской Сече голос Лещины!
(стр. 6)
В ответ на эго запорожец называет Донцов дураками за то, что они взяли у турок Азов:
Ну, уж вы с своим дурацким Азовом! Есть чем хвастать!
(стр. 9)
— Как? Дурацкий Азов? — восклицает донской атаман, Кумшатный — и рассказывает, как Донцы взяли Азов. Выслушав его, Терешка «с жаром» говорит:
Де там дурацький! Ось я його в песне отмалюю,
Пошлю по свету, нехай ходить,
Нехай внучатам нашим снится.
— А запорожцы, прибавляет поэт Терешка, мою жену зарезали.
Як забачив, що мою жинку зарнзали (поет вполголоса, бешено сопровождая пение сильным stretto, под которое козачки пляшут:)
Не заплакав,
Ей же богу, не заплакав!
На коня, да за шаблюгу,
Та до лиса, та за чуба Запорожця!
Та шаблюгу в саме серьдце От, тогда вже и заплакав!
(танец оканчивается).
Ясно, что г. Кукольник, по недоразумению, смешивает яапорожцев с татарами: думает, будто запорожцы грабили Украйну — вовсе нет, они ващи-щали ее. Впрочем, можно объяснять дело иначе: Терешка, в качестве поэта, выдумывает небывальщину [у него не было никогда жены, он человек холостой и теперь влюблен в какую-то козачку [влюблен в коэачку Дашу]. Запорожец между тем хвастает своим богатством и подвигами и волочится за козачками. В этом состоит первая]
[Во второй картине — коэацкий майдан, или сходка]. Из Азова прибежал вестник
Стр. 702. 8 строка снизу. В рукописи: книжного языка с простонародным. [Удивительны стихи, которыми написана пьеса — таких стихов мы еще никогда не читывали и едва ли еще когда-нибудь будем читать. Чтобы поделиться с читателями удовольствием, которое доставили нам вти необыкновенные стихи, выпишем тираду Ульяны, тоскующей по муже —
— Он вернется, говорит Даша, утешая свою подругу.
Ульяна А если не вернется? Ах, Даша, ДашаІ
Ты не любила своего мужа, Андрея Матвеича!
Больше: он был тебе постыл и противен.
А как ты переносишь вдовство свое? Весело, небось!
А я не перенесу, бейте, не перенесу!
Брошу вам Наташу, а сама… о, глубок тихий Дон!
Не увидите вдовства моего! Не увидите!
МатушкаІ ДашаІ Не могу! помилуйте!
Как наскочили татаре на богатый днор наш,
Я молиласьі
Как привязанная к седлу, я неслась на диком коне За спиною безобразного таіарина,—
Я молилась!
Как наткнулись татаре на козачью засаду,
Как выскочил из-за кургана Дмитрий Ефимыч,
О, я позабыла мой плен!* Я обрадовалась.
Сердце угадало друга нежного, мужа дорогого!
И с ним расстаться! О, смейтесь, браните!
А вы, слезы, не иссушайте этих камней.
Лейтесь, с вами легче!
Имели ли <вы>, читатель, хотя малейшее предчувствие, что на русском языке можно писать подобными стихами? Достоинство пьесы совершенно соответствует прелести и гармоничности втой новой версификации. Охотно можно бы оставить без внимания «Азовское сидение», если бы не были в втой пьесе выставлены запорожцы в таком виде, в каком до сих пор еще не выставлялись они никем из русских писателей. И для чего нужно было это? Неужели унижать одного брата было необходимо для прославления другого? Автор мог бы припомнить, что донские и днепровские козаки были братья. Эта странная фантазия—.в удовлетворение которой написана пьеса — уни-вить действователей одного из славных эпизодов русской истории XVII века, заставила нас откровенно высказать навге мнение о мнимо «историческом ска» аании», которое без того мы прошли бы совершенным молчанием]
О еі.ізня и ученых трудах Френа. Сочинение П. Савельева.
(ар 702–704)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, ТЛ 6, стр. 36–37. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ, 1906), т. I, стр. 411–412. Рукопись-автограф на одном листе в полулист писчего формата хра-
ніпся в отделе рукописей Государственной ордена Ленина бибдотеки СССР им. В. И. Ленина (инв. № 1627). <.
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Записки Русского географического общества. Книжка X.
(стр. 704–709)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 6, стр. 37–43.
Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 412_416.
Рукопись-автограф на двух полулистах писчего формата хранится в Центральном государственном литературном архиве (инв. № 1606).
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Отчет императорского Русского географического общества за 1854 год.
(стр. 709–712)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 6, стр. 46–49. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 416–419.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (нив. № 1628).
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит, Печатается по тексту «Современника».
Подвиг матери. Сочинение Ореста Миллера.
(стр. 712)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 6, стр. 49–50. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 419.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописен Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв. № 1639).
На одной странице с этой рецензией помещена рецензия ма «Руководство к изучению форм и порядка делопроизводства, сост. К. Зосимским».
Раэнсчтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Руководство к изучению форм и порядка делопроизводства. Сост.
К. Зосимским.
(стр. 713)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855. № 6, стр. 50. В полное собрание сочинений нзд. 1906 г. не вошло.
Сьсрено с рукописью-автографом, хранящейся в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (иая. № 1639).
Разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается пв тексту «Современника».
Новейший полный русский песенник.
(стр. 713–714)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 6, стр. 50–51. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ-, 1906), т. I, стр. 419–420.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР
им. В. И. Ленина (инв. № 1612).
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Крымская экспедиция.
(стр. 714–716)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 6, стр. 51–55. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 420–422.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР
им. В. И. Ленина (инв. № 1613).
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Записки о войне 1813 года в Германии. Генерал-майора Н. Ортенберга.
(стр. 717)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 6, стр. 65. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 423.
Рукопись-автограф занимает часть полулиста, занятого также рецензией на книгу «Приятное препровождение времени или собрание употребительнейших фантов». Хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв. № 1599).
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Приятное препровождение времени или собрание употребительнейших
фантов.
(стр. 717)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, N» 6, стр. 66. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 423.
Рукопись-автограф хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв. № 1599).
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Зурна, закавказский альманах. Тифлис. 1855
(стр. 717–723)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 7, стр. 1–7. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. Л, ч. 2, стр. 67–72 (пятого счета).
Рукописи и корректуры не сохранилось. Печатается по тексту «Современника».
Исследование Псковской судной грамоты 1467 года. Ф. Устрялова.
(стр. 733)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, Лга 8, стр. 46. ß полное собрание сочинений иэд. 1906 г. не вошло.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в от. деле рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв. № 1637). Писана вместе с рецензией на «Исследование о летописи Якимовскон» П. А. Лавровского.
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Полное историческое известие о древних стригольниках в новых раскольниках, так называемых старообрядцах, собранное протоиереем Андреем Иоанновым.
(стр. 733)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, ЛГ# 8, стр. 46. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 426.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отдел* рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленин» (инв. № 1629).
Разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатаете] по тексту «Современника».
Игра пикет, написанная и изданная П. 0. Вишневским.
(стр. 733–734)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 8, стр. 46–47. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 426.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отдел» рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленин» (инв. № 1638).
Отрывок из рецензируемой книжки П. С. Вишневского в рукописи отсут «ствует, он заменен указанием автора типографии о наборе отмеченных страниц.
Разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Исследование о летописи Якимэвской. Составил П. А. Лавровский.
(стр. 734)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 8, стр. 47–48. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 427.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отдел» рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленин* (инв. № 1637).
Разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается не тексту «Современника».
Архив историко-юридических сведений, относящихся до Россия, издаваемый Николаем Калачовым. Книги второй половина первая.
(стр 735–739)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 9, стр. 3–8. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 427–431.
Рукопись-автограф на двух полулистах писчего формата хранится в отдел»
рукописен Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им В И. Ленина (инв. № 1595). '
Существенных разночтении с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Учебные руководства для военно-учебных заведений. Руководство начальной геометрии.
(стр. 739–741)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 9, стр. 16_17.
Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ… 1906), т. I, стр. 431–432.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Лепина библиотеки СССР им. В И. Ленина (инв. № 1621). На обороте листа — рецензии на «Православный собеседник». «Рассказ солдата Сидорова» и «Практические руководства к производству уголовных следствий», сост. Ив. Оболенским.
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Православяый собеседник, издаваемый при Казанской духовной академии. Книжка первая.
(стр. 741)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 9, стр. 18. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр 432–433.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР нм. В. И. Ленина (инв. № 1621).
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Рассказ оолдата Сидорова при бомбардировании Севастополя англо-франдузами.
(стр. 741)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 9, стр. 18. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 433.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего фермата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв. № 1621). _
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Практическое рухозодство к производству уголовных следствий, составленное по своду законов Ив. Оболенским. 2 часта.
(стр. 742)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 9, стр. 19. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 433.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв. № 1621).
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Палитра. Новые стихотворения.
(стр. 742–744)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 9, стр. 19–21. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), г. I, стр. 433–435.
Рукопись-автограф на одном листе писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв. № 1610).
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Последний вечер новобранца в родительской семье. Чувство и любовь к престолу и отечеству. — Описание бомбардирования англичанами Соловецкого монастыря. — Обхождение русских с врагами. — Доблестные подвиги русских воинов.
(стр. 744)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 9, стр. 21. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 435–436.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата (с рецензией на «Акт восьмого выпуска студентов Главного педагогического института»). Хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (нив. № 1635).
Разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Акт восьмого выпуска студентов Главного педагогического института 20 июля 1855 года.
(стр. 744–745)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 9, стр. 22. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 436.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (нив. № 1635).
Печатается по тексту «Современника».
Учреждение Юрьевского общества сельского хозяйства с отчетом за 1851 год. — Записки Юрьевского общества сельского хозяйства за
1854–1855 год.
(стр. 745–747)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 9, стр. 22–25. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 436.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им В. И. Ленина (инв. № 1645).
Разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
О звании генерала, сочинение Дюра-Лассали, перевел г. Сведерус.
(стр. 747–748;
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 9, стр. 25–26. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 438–439.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится а отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И Ленина (инв. № 1609).
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит.
Венгерская грамматика с русским текстом н в сравнении с чувашским и черемисским языками, составленная… Андреем
Дешко.
Гетр. 748–749)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 9, стр. 29–30. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр 439–440.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв. № 1634).
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
В воспоминание 12 января 1855 года. Учено-литературные статьи профессоров и преподавателей императорского Московского университета, изданные по случаю его столетнего юбилея.
(стр. 749–755)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 10, стр. 33–39. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 440–445.
Рукопись-автограф на двух полулистах писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв. № 1603).
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Библиотека для дач, пароходов и железных дорог… Издание А. Смирдина. 1. «Аптекарша». Повесть графа В. А. Соллогуба.
(стр. 755)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 10, стр, 66–67. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 445–446.
Рукопись-автограф в лист писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв. № 1610).
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Полное собрание сочинений русских авторов. Сочинения Н. Греча.
(стр. 756–759)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 10, стр. 67–72. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 446–449.
Рукопись-автограф на двух полулистах писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В И. Ленина
(инв. № 1605).
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
О цепах па хлеб в России. А. Н. Егуиова. Выпуск 1.
(стр. 760–762)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 10, стр. 72–76. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр.'449–452.
Рукопись-автограф на двух полулистах писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв. № 1601). Сверху на полях рукописи карандашная помета Н. А. Некрасова: «эту рецензию можно оставить до след<ующего> №, если без нее довольно. Н<екрасов>».
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит.
Печ атается по тексту «Современника».
Учебные руководств.”, для военно-учебных» введении. Руководство статистики Россия. Составлено А. Соколовским.
(стр. 763)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 10, стр. 76. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 452.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв № 1633) Тут же рецензии на книги «Премудрость и благость божия…» и «Введение к изучению естественной истории», гост. Д. Михайловым.
Разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Премудрость и благость божия в судьбах мира и человека.
(стр. 763)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 10. стр. 76. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 452–453.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв. № 1633).
Разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой земле… ияоха Парфения. В четырех частях. Части 1 и 2.
(стр. 763–764)
Первг ’ачально опубликовано в «Современнике» 1855, № 10, стр. 77. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 453.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата вместе с рецензией на «Слова и поучения…» хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки им. В. И. Ленина (инв. № 1632).
Разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается во тексту «Современника».
Слова и поучения на воскресные и праздничные дни. Протоиерея Иоаяна Халколиваяова. Две части.
(стр. 764)
Первоначально опубликовано d «Современнике» 1855, № 10, стр. 77. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 453.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отдел» рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им В И Ленина (инв. № 1632).
Разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Введение к изучению естественной истории. Составил Д. Михайлов.
(стр. 764–765)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 10, стр. 78. В полное собрание сочинений изд. 1906 г. не вошло
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отлете рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССРим. В. И. Ленина (инв. № 1633).
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит.
Сельско-хозяйственная статистика Смоленской губерния. Составлена Яковом Соловьевым.
(сгр. 765–775)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, Кя 11, стр. 1—14. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 454–463.
Рукопись-автограф на четырех полулистах писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв. № 1602)
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Полное собрание сочинении русских авторов. Сочинении Василия Львовича Пушкина и Д. В. Веневитинова. Издание А. Смирдина.
(стр. 775–780)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 11, стр. 14–19. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр 463–467.
Рукопись-автограф на пяти полулистах писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв. № 1596).
Стр. 776, 12 строка. В рукописи после слов: «и самые лета его?», следует: «с которого начался бы новый период поэзии, если бы он дожил до двадцати пяти лет? Да и нужно ли было помещать В. Л. Пушкина в число классических русских писателей? Много было помещено в библиотеку г Смирдина тех авторов, которые имели на то очень мало права; но Долгорукий, Измайлов Муравьев, Хмельницкий все же пользовались некоторою известностью в свое время, — а В. Л. Пушкин и в свое время считался плохим поэтом, иначе не сказал бы ему? Куковский:
Ты, Пушкин, стихотворец-горе..
Но не будем распросіраняться об этой ошибке — каждый легко может поправить ее, разорвав две половины книги, неуместно соединившей несоединимые имена, и, пожалуй, отбросив первую половину.
Хотя
Стр. 776, 17 строка. В рукописи: важными феноменами [, хотя из наших миньятюрных Эренбергов, занимавшихся исследованием инфузорий, многие уже охладели к споим микроскопическим исследованиям той капли дождевой воды, которую, не разобрав дела, сначала сочли было порядочно-глубоким морем. И если история почтет неизлишним делать несколько подробную характеристику эмбриологических движений того слабого зародыша литературы, который и в наше время еще едва достиг развития младенца, неясно лепечущего некоторые слова, содержащие какой-то — впрочем утешительный — намек на человеческую речь, — если, говорим, история будет интересоваться характеристикою того времени, личность В. Л. Пушкина доставит ей для этой довольно бесцветной картины два-три из наиболее ясных очертаний. «Если» — неужели мы имеем право употребить этот предполагающий, но не удостоверяющий союз? [В самом деле, если мы не без причины посмеиваемся над французскими лиллипутами]. Да, кажется, что если вто «если» отбросить, как слишком шаткое, то прийдется заменить его более положительным «едва ли». В самом деле, ведь мы подсмеиваемся же, если в каком-нибудь жалком французском журнахе, например, какой-нибудь L'IIIustraiion, не уступающей достолюбезностью нашей покойной «Иллюстрации», — встретим среди других, более дельных толков статейку о новом стиходельном произведении какого-нибудь Вьенне, нападающего на слова indemniaer, razzia и т. п., безобразящие, по его мнению, французский язык, — мы подсмеиваемся над журналом, который пускается в такие прения, да и над французскою публикою, допускающею литераторов заниматься такими пустяками, — и смеемся совершенно справедливо; но кто же и занимается втими толками? Вьенне [который не стоит в уровень даже с Февалем], которого еще никто не причислял к первоклассным или хотя второклассным писателям; L-' Г Hustration, в которой не участвует ни один нз мало-мальски даровитых писателей. Спрашивается, какую же цену имеют эти прения? И какова была бы литература, в которой главное движение состояло бы в толках о языке?
Но]
Быть может, скажут -
Стр. 780, 8 строка. В рукописи: у нас [великого поэта, который дал бы новее и самое благотворное направление нашей поэзии. Читатели знают, чго мы говорим это о Веневитинове.
Сколько мы знаем, никто из первостепенных наших поэтов не чувствовал так глубоко всей необходимости оживить литературу привитием к ней современной науки, и никто не был способнее его исполнить это великое дело, потому что никто не был, при равном поэтическом таланте, одарен столь сильным влечением к науке и столь могущественным умом. Мы не хотим пускаться в гипотезы и отгадывать, каковы были бы в своих частностях следствия более продолжительной деятельЬости этого человека; но каков был бы общий результат, мы положительно видим по результатам деятельности людей, которые подобным образом действовали на наших писателей и публику, хотя и не тем путем действовали, потому что не были поэтами. Если их деятельность была так благотворна и плодотворна, — то насколько теперь была подвинута наша литература силою великого поэта, которому талант дает силы подчинять своей обаятельности массу, недоступную другим влияниям, кроме силы поэзииі Проживи Веневитинов хотя десятью годами более — он на целые десятки лет двинул бы вперед нашу литературу…
О его поэтическом таланте мы не будем говорить, — огромность его признана всеми. Не будем говорить н о его образованности, какой мало примеров. Но мы хотим сказать хоть два-три слова о залогах того стремления, служением которому была бы деятельность этого таланта. В этом отношении замечательна статейка Веневитинова «Несколько мыслей в план журнала». Не будем разбирать частных предположений и мнений юноши — место не позволяет нам вдаваться в подробности, — но сущность мыслей состоит в следующем: главная цель, к которой должны быть направлены все нравственные усилия народа— просвещение. «Какими же силами подвигается Россия к этой цели? Какой степени достигла она в сравнении с другими народами на сем поприще, общем для всех? Вопросы, на которые едва ли можно ожидать отаета, ибо беспечная толпа наших литераторов, кажется, не подозревает их необходимости». Двигательницею просвещения должна быть литература; но мы находимся в самообольщении, воображая, что наша литсраіура соответствует этому назначению, тогда как она у нас только форма без содержания, тогда как «мы еще не вникли в сущность познания и не можем похвалиться ни одним памятником, который бы носил печать свободного энтузиазма и истинной страсти к науке». Нэша литература легка до легкомыслия, апатична до нравственного бездействия. «Одним из пагубных последствий сего недостатка нравственной деятельности была всеобщая страсть выражаться в стихах. Многочисленность стихотворцев во всяком народе есть вернейший признак его легкомыслия; самые пиитические эпохи истории всегда представляют нам самое малое число стихотворцев». Наша литература как бы «освобождена от обязанности мыслить» — вот ее коренной недостаток. «Итак, философия и применение оной — вот предметы, заслуживающие особенное наше внимание, предметы тем более необходимые для России, что она еще нуждается в твердом основании изящных наук, и найдет сие основание, сей залог своей самобытности и следственно своей свободы в литературе, в одной философии, которая заставит ее развить свои силы и образовать систему мышления». Надобно перенестись к 1825–1827 годам, чтобы понять всю глубокую справедливость этих слов, понять, какую силу ума должно было иметь, чтобы так смотреть на литературу, ее состояние в России, средства двинуть ее вперед и вместе с нею двинуть общество… Кому из прославленных тогдашних литераторов хотя воображалось что-нибудь подобное? Кто твердил о Байроне, кто о Данте, кто о Шекспире, как о патронах и избавителях нашей литературы, будто Байрона, Данте и Шекспира, а не учебные руководства надобна рекомендовать от недуга незнания… И человек, писавший эти «мысли», был двадпатилетннй юноша, и этот юноша умер на 22-м году жизни…
Конечно, теперь времена изменились; философия перестала быть единственною наукою, от которой зависит умственное и нравственное развитие человека; но подстановите вместо слова «философия», принадлежащего первой половине нынешнего века, слово «наука» — замените также слова «господство стихотворений» словами «преобладание повестей без содержания, цели и смысла» — и тогда под статьею Веневитинова можете вы поставить вместо 1825 года 1855-й.
Не кончить ли нам этим? Иначе, ведь Веневитинов не Василий Львович Пушкин: если говорить о нем все, что можно и должно сказать, то это будет очень длинная история.]
Заключительные строки статьи в рукописи писаны рукою Н. А. Некрасова, начиная со слов; «Здесь мы останавливаемся…».
Икояы господских праздников.
(стр. 780–781)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 11, стр. 29. В полное собрание сочинений изд. 1906 г. не вошло.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата с рецензией на «Материалы к учению об огнестрельных ранах, собранные… Шульцом» хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв. № 1631).
Разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Материалы к учению об огнестрельных ранах, собранные… доктором Тара льдом Шульцом.
(стр. 781)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 11, стр. 31. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр 467.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР нм. В. И. Ленина
(инв. № 1631).
Существенных разночтении с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Археологические и нумизматические отрыв гч. П. Сівэльева. Книжка 1-я,
(стр. 781–782)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 11, стр. 31. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 468.
Рукопись-автограф на одном полулисте вместе с рецензией на «Права и обязанности домовладельцев» хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В И Ленина (инв. № 1630).
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Права и обязанности домовладельцев, управляющих домами а жильцов в С.-Петербурге, ІНосхве и друглх городах.
(стр. 782)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 11, стр. 32. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 468.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР нм. В. И. Ленина (инв. № 1630).
Разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
О значении практики в система современного юридического образовандя. Д. Мейера.
(стр. 782–784)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 12, стр. 37–39. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 469–470.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отдел* рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв. № 1614). '
Разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Памятная книжка императорского Александровского лицея аа 1855–1855 год.
(стр. 784–785)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 12, стр. 40–41. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 470–471.
Рукопись-автограф па одном полулисте писчего формата хранится в отдел* рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им В. И. Ленина (инв. № 1616).
Разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Цыганенок. Повесть П. М. Шпнлевского.
(стр. 785–786)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 12, стр. 41–42. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. I, стр. 471–472.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Лепина (ина. № 1615).
Существенных разночтений с печаіным іекстом рукопись не содержит Печатается по тексту «Современника».
О быте крестьян в Казанской губернии.
(стр. 786–787)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 12, стр. 42. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ, 1906), т. I, стр 472_473.
Рукопись-автограф народном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв. № 1617).
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
О значении и постепенном учреждения сельско-хозяйственных обществ в России. С. Пахмана.
(стр. 787–788)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 12, стр. 43–45. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ, 1906), т. I, стр. 473–474.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина (инв. № 1618).
Разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Ложь и действительность Восточной войны. Сочинение Виктора Жоли. Перевод С. Р.
(стр. 788—789)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 12, стр 45–46. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), т. І,стр. 474–475.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР нм. В. И. Ленина (инв. № 1620).
Разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
Руководство к всеобщей истории. Сочинение Ф. Лорен да.
Часть III. Отделение 2. Издание второе.
(стр. 790–791)
Первоначально опубликовано в «Современнике» 1855, № 12,
стр 46–48. Перепечатано в полном собрании сочинений (СПБ., 1906), і. I, стр. 475–476.
Рукопись-автограф на одном полулисте писчего формата хранится в отделе рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И Ленина (инв. № 1619).
Существенных разночтений с печатным текстом рукопись не содержит. Печатается по тексту «Современника».
59 н, Г. Червышевский, т. II
ПРИЛОЖЕНИЯ
О «Бригадире» Фонвизина.
(стр. 792–815)
Первая редакция первоначально опубликована в полном собрании сочинений Чернышевского, 1906, т. X, ч. II, стр. 1—20. Вторая редакция напечатана в сборнике «Шестидесятые годы», иэд-ro Академии наук СССР, 1940, стр. 7—15. Печатается по рукописям, хранящимся в отделе рукописей ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина и в Ленинградском областном историческом архиве.
О словопроизводстве в русском языке.
(стр. 815–816)
Магистерское сочинение, написанное Чернышевским 1 марта 1854 года на экзамене. Впервые напечатано в «Литературной газете», 1938 г., 26 июля, № 41. Рукопись хранится в делах Совета СПБ. университета, находящихся в Ленинградском областном историческом архиве. Печатается по рукописи.
Русские трагики: Сумароков. Кияжиии и Озеров.
(стр. 816–817)
Магистерское сочинение, написанное Чернышевским 4 марта 1854 г. на вкзамене. Впервые напечатано в «Литературной газете», 1938 г., 26 июля, № 41. Рукопись хранится в делах Совета СПБ. университета, находящихся в Ленинградском областном историческом архиве. Печатается по рукописи.
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Алексей Михайлович — царь Московский — 331, 405–412, 553, 636, 653, 675 Алкивиад — 276 Алферьев, В. — 612 Альфонский, А. А. — 625 Амарантов, Г. Ф. — 419, 420 Амрнльканс — 205 Андерсен, Ганс Христиан — 204 Анакреон — 51, 205, 323 Анаксагор — 285 Андреевский, И. — 673, 674, 698 Андроник — 285, 692 А н к е — 652
Анненков, П. В. — 424–425, 427–446,449—454, 458–460, 463–465, 468, 486, 496–497, 503, 505, о09
Ансильйон — 545 Антоновски й-П р о к о п о-
н л ч — 667
Ангонский — 665
А
Аблееимов, А. О. — 239–240 Август, Карл — 206. Август — король польский — 332 А в г у с т — 28, 180, 690–691 Авдеев, А. А. — 556–557 Авдеев, М. В. — 210–221, 246, 247, 249,- 251–253, 259–261, 655, 658
А в и н о в, А. П. — 588 А в и т, Октавий — 691 Агасси — 622 Агафон — 276 А д е л у н г, Ф. П. — 318, 688 Аксаков, И. С. — 711 Александр 1 — 730, 754, 759 Александр Македонский— 16, 79, 319, 522, 606
Анфилофий — 171 Апелликон Теосский — 285,
286
Апеллес — 49 Аплечеев, А — 655 Апулей, Люций — 205 А р а г о — 621–622 689, 732 Арапетов, И. П. — 711 Аристотель — 80, 104, 135, 263, 267, 268, 270, 274–279, 281–283, 565, 563—572
Аристофан — 274, 279, 452, 552, 803, 812
Ариосто, Людовико — 297, 231, Аристид — 571 Арцыбашев, Н. С. — 318, 406 Арцы мович — 58S—589 Аскольд — 370, 653 Афанасьев, А. Н. — 370, 380–381, 739
Афанасьев, Чужбин-ский, А. С. — 698
Б
Б а б р и й — 205 Ба бет, И. К. — 579 Б а в и й — 69 2 Баз, Ю. — 697
Байрон, Джордж Гордон — 66, 72, 189, 191, 208, 214, 228, 283, 452, 473–474 479, 438–489, 491–492, 493, 501, 506, 508, 673, 723 Барсов, Е. В. — 667, 7оЗ, 754 Батте, Шарль — 268, 278 Баумгартвн А. Г. 128, 284, 520
Б а у м е й с г е р — 123 Бауэр, Бруно—124
В а Л*Ь т е р-С к о т т — 51, 84, 223, 273, 545, 610, 795, 808 в а н д — 748 в арр о н — 577 в е н е В И Т И Н 0 в, Д. В,- /14, 775- — 776, 780 в е н е лин — 667 в е н е циан, Ф. — 713 в е р д еревский, Е. А,- 717— 718, 722 в ерн адский, И. В. — 626, 693,Балакирев — 713 Б а л ь б и, Адриан — 485 Баратынский, Е. А. — 437, 481, 714, 725, 727, 808 Барский, В. Г. — 518 Б а р ш е в, С. И. — 626 Барятинский, князь — 648 Барыков — 746–747 Б а с т и а, Фредерик — 392 Батюшков, К. Н. — 714, 725 Б а у з ё, Ф. Г. — 665, 667 Беккер — 416, 544, 561, 685, 688 Бегичев, Д. Н. — 223 Белинский, В. Г. — 119, 158,
211, 246, 253, 255–256, 264, 293, 382, 407, 497–498, 500, 503, 505–508, 509, 512–516, 610, 612, 678, 723, 72j
Беллингсгаузен, Ф. Ф. — 587 Беляев — 625, 626, 739, 751, 753 Бенкендорф, А. X. — 484 Бен — Аяс — 524
Бенедиктов, В. Г. — 214, 261, 714, 742–743 Березин — 620 Берозий — 524
Берг, Н. — 291, 294–295, 293, 308–311, 317, 362–363, 744 Бёрк — 136
Бернарда н-д е-с а н-П ь е р р — 209
Бессонов — 558 Бетховен, Людвиг — 51 Благовещенский, Н. — 558, 690, 692
Богданович, И. Ф. — 626, 666 Богоявленский, М. — 636 Боденштедт — 744 Бодянский, О. М. — 625–626, 649, 651, 652, 666, 750, Болдырев — 666 Болтин, И. Н. — 321, 406 Б о к к е р — 685 Боккачио — 61/
Бонне — 344 Бопп, Франц — 199, 752 Б о с с ю э т, Жан-Бенинь — 261 Борисов — 686 Борк — 284
Брамбеус, барон (псевдоним О. И. Сенковского) —386 Бранкович, Вук — 293 Брашман — 626, 751, 753 Б р ё д е р — 403 Бруно, Джордано — 291 Брут, Марк Юний — 24, 167–163 Б р у с с е — 680 Брюллов, К. П. — 272 Брянцёв — 665
3 у а л о-Д е п р е р, Н. — 205, 268. 270, 278, 452
Бугенвиль — 375, 619 Булгарин, Ф. В. — 423, 493, 496 735, 756 ’
Буле, Иоганн-Феофил — 666–667 Б у н и — 688 Б у л и ч, Н. И. — 688 Б у р ь е н — 545
Буслаев, Ф. И. — 370, 377–381 676, 735, 751, 753–754, 625–626 666, 677, 686, 696 ’
Бух, Леопольд — 620, 623 Б у ц к и й, Н. П. — 710 Бюргер, Готфрид-Август — 474 Бэр, К. М. — 709, 711 Бэкон, Фрэнсис — 265 Бычков — 739
В
753
В е р р е с — 778
Верстовский, А. Н. — 628 Веселовский, К. С. — 709–710 В и л а н д, Христов-Мартин — 294 В и л л а р — 748
Винкельман, Иоганн-Иоахим — 137
В и р г и л и й, Публий Марон — 37–33, 50, 691–692 Вишневский — 709, 733 Владимир — князь Киевский — 302–303, 329
Владимир Мономах — 689 Воейков, А. Ф. — 666 Войкович — 589 Вольтер, Мари-Франсуа — 28, 183, 447, 452, 487, 493, 866 Вольф, Христиан — 124, 128, 284, 713
Вольфрам, Ф. Эшенбах — 50 Волынский — 751–752 Вордсворт, Вильям — 278 Воронцов, М. С. — 731 Востоков, А. X. — 202, 342,652 696
д
д
д
Вронченко, М. В. — 536–537 Всеволожский, Н. С. — 536 Вульпиус — 205 Вяземский, П. А. — 319, 324–326, 329, 462, 474, 479, 485, 483, 607, 611, 714, 792, 794, 796, 801, 806–803, 811
Г
Г агемейстер, Ю. — 709 Галилей, Галилео—291 Г амелен — 715
Ган, Е. А. (псевдоним: Зинаида Р-ва) —252 Г анеман — 630 Г аннибал, Ибрагим — 654 Г а у с с, Карл Фридрих — 680 Гегель, Гёор-Виль' ельм-Фрид-рих —6–8, 13–15, 17, 20–21,28, 31–32, 42–43, 45, 47–48, 76, 7379, 90, 95, 107, 109, 119–122,124— 125, 127–128, 152, 170, 265, 267, 277, 295, 685 Г е з и о д — 205 Гейне, Генрих — 272–273 Г е л л е н — 565 Гельмерсен, Г. П. — 70?
Г еннади — 683 Генрих IV — 29 Г енрих VIII —180 Гене —704, 707–703 Г ераклид Понтийский — 564— 565
Гервинус, Г еорг-Г отфрид — 636 Г ерений — 522
Геродот —24, 166, 180,276–277, 375, 524, 527, 531, 555 Гёттлинг — 558 Герц, Генрих —402 Герцен, А И. — 119, 556 Гёте, Иоганн-Вол ьф'анг — 32–33, 51, 67, 63, 86–37, 139–140, 167, 206–203, 258, 266, 270, 283, 293, 305, 322, 437, 451, 452, 473, 484, 505–507, 509, 797–798, 803 Гизо, Франсуа-Пьер— 548, 562 Г и л л и с — 544 Г ильтебрант — 666 Гильфердянг, А. Ф. — 196–203, 412–419, 573 Г и м а р — 476 Г иппарх — 544 Г иппократ — 668 Глаголевский, С. — 666 Глебов — 626, 751, 753 Г л е б о в-С трешнев — 739 Глинка, G, Н, — 233, 607
Г н е д и ч, Н. И. — 626 Гоголь, Н. В. — 63, 73, 139, 151 156, 169, 187–188, 213, 232–233’ 267, 293, 337–339, 384, 439, 444 466, 498, 475, 478, 497, 499, 505 503, 513, 516, 556, 60>—61 о’,
629—630, 780, 786, 795,797, 801 807—803
Г о г а р т —86, 147, 284 Годунов, Борис — 330, 459–512 Голенище в-К утузов, Л. И.—
688
Голицын, Д. В. — 436, 590 Г ольберг, Людовик — 204 Гомер —51, 203, 283–284, 323 325–326, 329, 366, 506, 552—55з’ 555, 682
Гончаров, И. А. — 246–247,
592
Гончарова, Н. Н. — 435 Гораций, Квинт-Флакк — 37, 270, 278, 459, 468, 526, 691–692 Горчаков, А. М. — 648, 785 Готовцева, А. И. — 485 Г о т ш é д, Иоганн-Кристов — 776 Гофман —666 Грамм а тин — 607 Грановский, Т. Н. — 544, 545, 551, 574, 625,666, 735–736, 738, 751 Грез, Жан-Батист — 38 Г р е й г, С. К. — 585 Греч, Н. И. — 688, 756–759 Грибоедов, А. С, — 232, 493. 513, 626, 636, 695, 780, 786, 793, 803—809
Григорович, Д. В. — 242, 246, 259, 370, 659
Григорьев, А. А. — 232–233, 237, 240, 481, 511 Гримм, братья Яков и Вильгельм—199, 201, 371–378, 563, 572–573, 619, 676, 752 Грот, Я. К. — 364, 551, 563–567, 574
Губер, Э. И. — 444, 742 Г уголь — 686 Гумбольдт, А. — 619 Гумбольдт, В. — 681, 686 Гурьев, П. — 686 Гутенберг — 322 Гюго, Виктор — 203
д
а в ы д о в, А. И. — 626, 696, 714, 751, 753
аль, В. И.-440 а н з а с, К. К. — 440
Л я я и л о в. Кирша — 294, 305, 553 Дянковский — 323 Дайте, Алигьери — 50, 237, 291 Д а н ц, Август — 559 Дезе — 748
Дезульер, Антуянетта — 84, 278 Д е к я р т, Ренэ — 104 Л е л и л ь, Жак — 278, 447 Дельвиг, А. А. — 387, 462, 476, 480, 481–486, 488, 776 Деми — 688 Д е м и с, Л. Н. — 637 Демидов, Н. Н. — 562 Д е м о ж о, Жак Клед — 264 Демокрит — 80, 270 Державин, Г. Р. — 218, 264,422, 441, 467, 476, 607, 613, 644–645, 647, 725, 759, 793 Десницкий, М. — 666 Д е ш к о, А. — 748–749 Дидро, Дени — 33, 284 Диккенс, Чарльз — 29, 51, 84, 156, 797, 800–801, 807 Д и л т е й — 664 Диодор — 527 Диоклетиан — 522 Дионисий — 559 Дмитриев, М. А. — 607–612, 714, 779
Дмитриев И. И. — 607, 776 Добне р — 321 Добрович 688 Д о л г о р у к и й, П. В., кн. — 647— 618
Долгоруков, КН. — 648 Д о н д а с — 715
Донской, Дм. — 329, 399, 552 Д о р а т — 476 Доргобужинов — 581 Д о р о ш и н, П. П'. — 710 Дружинин, А. В. — 215–216, 234, 239, 511, 512 Дубенский — 746–747 Дюбуа — 184 Дюкло — 794, 807 Дюма, А- 639, 640 Дюмурье — 748 Д ю р-Л а с а л ь — 747, 748 Д ю с и с — 366, 866 Дядьковский — 666.
Елизавета Петровна — 625 628 ’ Ершов, П. П. — 444.
Ж
Ж янлис, Стефан-Фелисятэ—' 476 Жирарден, Эмиль — 714, 789 Ж о д е л ь — 452 Ж о л и, Виктор — 788—789
Жор ж,” Санд — 66,84, 209,800–801 Жуковский, В. А. — 11, 255–256, 292, 327, 383, 430, 432, 436, 441–442, 469, 471, 474, 491, 552–554, 609–611, 626, 635, 667, 672–673, 695, 714, 725–726, 777–778, 793
3
3 а б е л и н, И. Е. — 370, 381 Заблоцкий, А. П. — 710 Загоскин, М. Н. — 274, 383— 384
Закревский — 739 Захаров, И. — 637–638 Зернин — 739 Зернов — 625 Зибольд — 592 Зосимский. К. — 713 Зотов, Р. М. — 274 Зубрицкий — 318 Зуев, А. — 731
И
Иван III — 123, 369, 400, 673 Иван IV — 374, 739 Ивановский, И. И. — 763 И в а н ч и н-П и с а р е в, Н. Д. — 607
Ивашинцев — 587 Иевлев А. — 606–697, 655 Измайлов — 607 Иноземцев, Ф. И. — 666 Иоаннов, А. — 733 Иосиф II —180, 293 Иосиф Флавий — 522, 524 И о х е р, А. — 731—732
Е
Егунов, А. Н.:—760–762 Екатерина II — 588, 590, 628, 633, 645, 754, 759, 792–793, 806, 867
Елецкий, кн. — 648 934
К
Кавелин, К. Д. — 666, 735 К а д м — 639 Каванский, П. — 697 К а й д а н о в, И. К. — 423
п лл е о л о г — Ник. — великий
Ксенофонт — 205 Ксеркс — 291
Кудрявцев, П. Н. — 544–545, 578–579, 626, 751 Кузмичев, Ф. — 257 Кукольник, Н. В. — 699–700 Кук, Джемс — 619 Купер, Джемс Фенимор — 85 Кур-де-Жебелен — 686 К у т о р г а, С. С. — 544–545, 567— 574
Кювье, Жорж — 371 Кюнер — боб
Л а б о Л а б р Лавр Лавр 690
Лавр
Лаву
Лага
Лаже
Лаза
Лаки
Лала
Лама
712
Л а р о Лафа
Калайдович, К. Ф. — 626, 667 Калачов, В. В. — 745–747 Калачов, Н. В. — 333, 367–370, 377, 381, 675–676, 735, 733–739, 751
Калашников, И. Т. — 383 Калигула, Кай — 559–560, 561 Калиновский, Г. — 381, 667 Калита, Иван— 399, 689 Калугин — 739 Каменский, П. П. — 755 Кампе — 269 Канова, Антонио — 55 Кант, Иммінуил — 20, 120, 122, 124–125, 128, 137, 269, 284, 293, 616
Кантемир, Антиох. Д. — 610, 776
Капустин — 381 Караджич, Вук Стефанович — 309
Карамзин, Н. М. — 204, 264, 292, 321, 330, 369, 370, 406, 441, 469, 473, 486, 602, 607, 626, 636, 663 Ы4, 675–678, 725, 777, 793 Карл Великий — 28, 180, 322, 392, 404, 570–571 Карл V — 545 Карл XII —699 Катенин, П. А. — 485, 509 Катина — 748
Катков, М. Н. — 414, 552–553, 556–557, 697 Катон, младший — 17 Катулл — 205
Каченовский, М. Т. — 667 Кашин, А. Т. — 781 Кайсаров — 676, 677 К ё н — 562
К е п п е н, П. И. — 318 Керштенс — 664 Киреевский, П. В. — 431 Классовский, В. — 680, 686, 693 Клеопатра — 453, 579 Клисфен — 567–569, 571–574 Клокачев — 633 К л о п ш т о к, Ф. Г. — 493 Клот —528
К н я ж е в и ч, М. Д. — 709 Княжнин, Я. Б. — 216, 476, 866, 867
Козлов, И. И, — 214, 714, 723, 725—727
К о л а р, Ян — 319, 323 Кольцов, А. В. — 236–237, 472, 501, 714, 743.
Кольцов-Масальский, кн. — 648
Конде, Луи-Бурбон — 748
Константин 604–605 Константин князь — 580, 699
К °Л НоЛ ь> пПьеР — 5°. 72, 293, 520, 674, 866, 897
Корнилов — 620 К о р с а к о в, Н. С. — 710 Костров, Е. И. — 626, 666 К о р ф, М. А. — 785 Котляревский, А. — 214 К о т о ш и х и н, Г. К. — 653–654 Кочубей, П. — 638 К о ш а н с к и й, Н. Ф. — 408 Коши — 680
Красовский, В. — 234, S85 Кревиер — 545 Крез —28, 180
К р е ш е в, И. — 368–369 Кромвель, Оливер — 180 Круз, А. И. — 583 Крылов, Н. И. — 666 Крылов, И. А. — 139, 492 К р ю й с — 590
Крюков, Д. А. — 574—578t 6t6— 667
мель — 794 ю е р — 794, 807 о в, П. Л. — 589 о в с к и й, Н. А. — 686, 689—
о в с к и й, П. А. — 734 а з ь е, Ант 'чн-Лоран 350 р п, Жан-Фр нсуа — 263 ч н и к о в, И. И. 325 рев — 585
е р, А.-652-654, 739
нд, Жозеф-Жером— 680
некий Е. И. — 709, 711
шфуко—794, 807 тер, Иоганн-Каспар — 344 935
е в ш и н, А. И. — 709 е д р ю — Роллен — 789 é й б н и ц, Готфрид-Вильгельм — 165
Л е й с и с — 715
Леонтьев, П. М, — 544–545, 549–551, 557, 561, 563–567, 572, 574, 579, 666–667, 751 Лепсиус — 371, 538 Лермонтов, М. Ю. — 68, 96, 134, 145, 155, 188, 211–215, 248, 292–291, 466, 467, 500, 502, 505, 509, 510, 513, 515, 714. 744, 780 Л é с а ж, Ален-Рске — 208 Лессинг, Готтгольд-Эфраим —
266, 278, 283–284, 293–294, 322, 344, 793
Лстронн — 527
Л е ш к о в — 329–330, 626, 751–752 Лжедимитрий — 330–331, 450, 451, 795
Либих, Юстус — 638, 689, 723, 731—732
Лизи п п — 49, 278 Ликург — 549, 564–566, 639 Линевич — 561 Линней — 364 Линовский, Я. А. — 574, 666 Литвин, Михалон — 370, 381 Лихонин — 484 Л о, Джон — 349 Логёнштейн — 776 Ломоносов, М. В. — ЮЗ, 204, 320–321, 469, 473, 476, 607, 610, 621, 625, 724, 753, 780, 793 Лоренц, Ф. К, — 544, 790–791 Луи-Наполеон — 714–716, 789 Лукан, Марк Анней — 205 Лукиан — 375 Лукреций — 285 Лукулл, Л.ЮЦИЙ Люциний — 285 Лунин — 574 Луцилий — 692 Львов, А. — 388–389, 392, 397— 398
Любим ов, Н. А. — 626, 751, 753 Людовик XIV — 29, 72, 563 Л ю д о в и к-Филипп — 183 Люксембург, Е., принц — 748 Лютер, Мартин — 28, 322 Лялин — 625
М
Магницкий, М. Л. — 406, 666, 752
Майер — 711 936
Майков, А. — 510, 643–645, 647» 792
Максимович, М. А. — 485,667, 672 М а л е р б — 451–452, 776 Мальборо, Джон — 748 Мальтус, Роберт — 395, 752 Малышевич — 688 М а н о л е й, Томас Бабингтон — 548 Мансвстов, К. — 780–781 Мансуров — 581, 590 Марий, Кай — 20, 26, 167, 180 Марлинский (псевдоним А А. Бестужева)— 248,255–256, 384, 714
Мармонтель, Жан-Франсуа —
476
М а р т в н, Арни — 264 Мартын ов, И. И. — 288 Марченко, А. Я. — 243 М а с у д и — араб, географ — 542 М а т т е й — 665
М е г е м е т-Али — 329,523, 528. 533 М е д о в и ков, П. — 405, 408–411, 675–676, 680 М е в и й — 692 М е ж о в, В. И. — 574 Мейер, Д. — 782, 783 Мендельсон, Моисей — 343–344 Менишков — 558 Меньшиков, А. Д. — 653 Мерзляков, А. Ф. — 216, 263, 610, 626, 666–667, 672, 673, 714, 776, 867
Меццофанти — 365 Миклошич — 201, 686 Микуцкий — 381 Миллер, Иоанн — 72, 663 Миллер, Орест — 712 Миллер, Ф. — 744 Милорадович — 333 Милютин, Н. А. — 709, 711 Мильтиад — 544 Мильтон, Джон — 688 М и н ь е — 591
Митриад Великий — 285 Михаил Федорович — царь— 638
Михайлов, Д. — 764 Мишелет — 119 Мишо — 520, 544–545 Мишуков — 590 Мольер, Жан-Батист-Покелен — 293, 556, 674, 800–803, 807, 810— 812
Монтекукулн — 748 М о н т э н ь, Мишель — 460 Монферран — 562 Моро — 748
Морошкин — 625, 667, 672
Мори — 586–587 Мордвинов, Н. С. — 449 Мотёнебб — 205
Моцарт, Вольфгані-51
Му дров, М. Я, — 667–671, 754 Муравьев, А. Н. — 520 Муравьев, М. Н. — 668, 709 Муххамед, П. — 602–605, 641, 642
Мызников, В. — 348–844 Мюллер, Эдуард — 267
Орлеанский — герцог — 183 Орлов, А. А. — 256–257, 612–613 Орнатский — 626, 751, 753 Ортенберг, Н. — 717 Основьяненко (Грыцько— псевдоним Г. ф. Квитки) — 233 О с с и а н — 205
Островский, А. Н. — 232–240 246—251, 256, 259, 277 Остроградский — 739–741 О х о т и н, А. И. — 421—423
Н
Надеждин, Н. И. — 460, 478, 482 487, 491–496, 498, 666. 710 Наполеон I — 29, 180, 528, 545 Наполеон — принц — 714–715, 788–789.
Н а р е ж н ы й, В. Т. — 626, 666 Нахимов, П. С. — 588 Небольсин — 701–708 Небуласар — 524 Неволин, К. А. — 676, 709 Н е л е д ински й-Меле цки й, Ю. — 714, 776 Нелей — 285 Нейкирх — 204–209 Некрасов, Н. А. — 472, 742 Н ё р о н, Люций-Домяций — 453, 545
Нестор — 653, 734 Нибур — 371–373, 551, 566, 568–569, 573, 575, 601 Низами — 205 Николай I — 459, 585, 747 Н и ф о н т — епископ Новгородский— 517
Новиков, Н. И. — 626, 665, 669 Норов, А. С. — 517, 520, 521, 530, 532, 667
Н о т а р, Лука — 604
О
Оболенский —318, 330–331, 648 Оболенский, И. — 742 О в е р, А. И. — 666 Овидий, Назон — 37–38, 479, 558 Оводов, А. — 612 Одоевский, В. Ф. — 667, 688 О ж і> е, Эмиль — 368, 361 Озеров, В. А. — 666, 866, 367
Ознобишин — 667 Октавиан — 579 О п и ц — 776
О р Д ы н с к й, В. И. — 263, 267, 276, 284, 237—290
П
Павлов — 666–667 Павский — 696 Пакин, Н. Ив. — 794 Палаузов — 688 Панаев, И. И. — 246 Панаева, А. Я. — 243 П а с с е к — 667 П а х м а н, С. — 787–788 П е л о п с — 639 Перевлесский — 686 Перевощиков, Д. М. — 620–622, 666
Пётр 1—28, 103, 180, 332, 380, 411, 473, 585, 628, 652, 674, 675, 679, 687, 696, 730, 759 Петр III —590 Петров, В. П. — 449, 626 Петров, П. Я. — 666 Петроний, Арбитр — 453 Пирогов, Н. Н. — 667 Писемский, А. Ф. — 246, 470 Пифагор — 556 Пишегрю — 748 Плавильщиков, П. А. — 666 Плавт — 5л5, 556 Платон — 80, 104, 135, 205, 265 267–275, 278–280, 284, 324, 540, 541, 558, 565
Плетнев, П. А. — 714 Плещеев, К. С. — 518 Плотин — 280 Плиний — 278, 542, 559, 577 Плутарх — 523, 565, 577 Погодин, М. П. — 318, 442, 486,
544, 666–667, 672–673, 687–638,
735 „
Погорельский, А. — 255 256,
381—384, 387
Подшивало в, В. С. 475, 666 П о л е ж а ё в, А. И. — 667, 725 I о л ё й е й — 24, 28, 167, 168,180 Полевой, Н. А. — 255, 384, 405, 437, 478, 480, 481, 484–486, 490,
545, 607
Полевой, К. А — 482 Поленов — 688 Полибий — 565 Полуденский — 334 Пом и и л и й, Нума — 28,180, 327— 328
Попов, А. Н. — 635–636 Попов — 370, 380 Поп, А, — 366 Поповский, Н. Н. — 637 Посошков, Я. — 751–752, 755 Потемкин, Г. А. — 332–333, 519 Потт — 199
Потехин — 234, 247, 261 П р е й с, П. И. — 574 Присниц — 680 Протагор — 616 Прянишников — 688 Птоломей — 285 Пуассон — 680 П у ж у л а — 520 П у с с э н — 135 Пушкевич — 746 Пушкин, А. С. — 67–68, 72, 102, 211, 215, 220, 256, 267, 294, 305, 307, 311, 323, 327, 337, 384, 336, 407, 422–449, 450–516, 610—
612, 654, 695–696, 714, 724–725, 742–744, 752, 776, 778, 795, 780, 785.
Пушкин, В. Л. — 603, 609, 775— 779
Пушкин, С. Л. — 428—429
Р
Р а б л э, Франсуа — 187, 188, 293 Р а г л а н, Фицрой — 715 Радищев, А. Н. — 612 Раевский, Н. Н. — 454 Равумовский, Л. Г. — 519 Р а и ч, С. Е. — 478 Рамвес 11 — 526 Ранке, Леопольд — 545, 548 Расин Жан-Батист — 50, 72, 84, 450, 487, 866
Ратманов, М. И. — 588' Рафаэль, Санцио — 32, 38, 50, 51, 158, 630
Рахманный — 220 Р е б о, Луи — 209 Рикардо, Давид — 393, 395–398 Р я т т е р, Карл — 619—'620, 622 Ришелье, Арман-Жан-Дюплес-си — 180, 748
Робертсон, Пьер — 544–545 Робинсон, Эдуард — 529—532
535
Розенкампф — 318 Роллень — 545 Р о н с а р, Пьер — 451–452, 776 Росси — 392 Россини — 350 Ростислав, кн. — 649 Ростовцев, Я. И. — 709 Рубан, В. Г. — 520 Р у л ь ё, Калр Францевич — 666— 667
Ру мор, Карл-Фридрих — 35 Румянцев, А. П. — 332–333, 748 Руссо, Жан-Жак — 269 Рылеев, К. Ф. — 479 Рюрик — 320, 374, 404, 648, 653654, 675
С
Сабуров, П. — 784–785 Савельев, П. С. — 702–704, 781—782
С а в и к о в, В. Н. — 631–633 С а в и ч, Ю. — 592 С а л о в, И. А. — 612 Сальвиан — 571 Самчевский — 739 Сандунов — 666 Сарториус — 698 Сафо — 51, 205 Сахаров, И. П. — 378 Сбоев, В. — 786 Свёдерус — 747 С в и н ь и н, П. П. — 381, 667 Сезострис — египетск. царь — 527
Сенковский, О. И. — 386, 757 Сен т-А р н о, Жак-Леруа — 715–716, 789
С е н я в и н, Д. Н. — 588–589 Сервантес, Сааведра Мигуэль— 28, 187–188 С и л л а — 285
Сисмонди, Жан-Шарль-Леонард —
396
Скотт, Вальтер — 452 Смит, Адам — 752 Смотрицкий, Мелетий — 752 Смарагадов — 205, 602 С м и р д и н, А. Ф. — 381, 444, 453, 611, 723, 755–757, 775, 814 Смит, Сидней — 529–533 Снегирев, И. М. — 370,377–378, 381, 405, 666, 676, 678 Соболевский, А. И. — 46 °Cоколов — 587 Соколовский, А. — 763 Сократ — 104, 268, 279
Салиман-паша — 528 Тираннион — 285
Соловьев, Я. А. — 765–775 Титов — 688
Соловьев, С. М. — 399–405,625— Тиханович— 558
628, 667, 675–676, 739, 751 Тихонравов, Н. С. — 667
Соллогуб, В. А. — 718–719, 722, Т и х с е н — 703
755 Толстой, Д. Ф. — 593
С о м а д е в а-Батта — 205 Толстой, Л. Н. — 247
С о м о в, Орест — 483, 485, 488 Тредьяковский, В. К._321
Со ути, Роберт — 474 482, 545, 603 ’
Софокл — 23, 51, 167, 176–177, Триптолем — 572 279,283,320,324,452,867 Тур, Евг. — 222–231, 243-249
Сохацкий —475 251–253, 258–259, 261,655,657
Спасский — 318, 626, 751, 753 Тургенев, А. И. — 667
Спиноза, Бенедикт — 104 Тургенев, И. ГТ. — 666, 669
Срезневский, И. И. — 693, 696, Тургенев, И. С. — 234, 246
710—711, 739 Тьер, Адольф — 545, 548
Станкевич, Н. В. — 667 Тьерри, Огюстен — 544—545
Старчевский А. В. — 345, 346, Тюрго — 180 359 Т ю р е л ь — 748
Стасюлевич, М. М. — 600–606, Тютчев, Ф. И. — 667
639, 640—643
Стефан, Генрих— 570 у
С т о ю н и н, В. Я. — 693—697
Страбон — 524 ѵ л г1
Страхов- 626, 667, 751, 754 S с о%, Д«'н — Ш
Стренцель — 589 Уманов — 747
т р е ш н е в а, Ь. Л. — о?» ѵ ~ ~ Ä „m лл*
Сугерий — 544
С у л л а, Люцпй Корнелий — 28, Фаворский — 302 167, 180 Фалес —556
Сумароков, А. П. — 233, 321— Фан-Дим—755 322, 439, 476, 607–603, 610, 786, Фарадей, Михаил — 639 800–801, 810 Ф а г е р — 686
Сумароков, П. — 387 Федоров, Б. М. — 479
С ф е р о с — 565 Фейербах, Людвиг — 80, 94,
С э, Жан-Баттист — 392, 752 119–126, 265
С ю л л и, Максимилиан де Бетюн — Феокрит — 484 29 Феофраст — 235
Ферри — 209 Ф е с у н — 599
Т Ф е т, А. А. — 243
Фирдуоси — 298
Т а п п е, Дидрих — 85, 686 Фихте, Иоганн-Готлиб — 322
Тарквиний — 577 Фишер, Иоганн-Фридрих — 7–9,
Татищев, В. Н, — 321, 406, 411, 13–15, 20–24, 29–35, 42–43,45,
679, 734 47–49, 76, 107, 121–122, 270
Т еккерей, Вильям — 51, 156, 266 Фишингер — 552 Темный, В. В. кн. — 399–400, 675 Ф л о р и а н, Жан-Пьер — 476 Т еокрит — 484 Фонвизин, Д. И. — 232, 277,476,
Т ертуллиан — 577 607, 611, '626, 665–666, 669, 759,
Тиберий, Клавдий — 559 792—814
Тибулл — 205 Фосс, Иоганн-Генрих — 206, 208
Тидорский, Симон — 519 Францы, виззнтийск. — 603—601
Тик, Людвиг —293 Ф р е н, Христиан Данилович —
Тимковский — 667 702—704
Фридрих 11–28, 180, 293, 563 208, 232–233, 239, 283, 460, 498,
Фролов, Н. — 614–615, 620, 624 506, 612, 674–675, 722, 797
Фукидид — 277, 555 Шеллинг, Фридрих-Вильгельм —
Фуко — 753 125, 170
ф У к С _ 440 Ш е н ь е, А. — 488, 501, 508
Шестаков — 370, 381, 555–556,
X 589
А Шидловский—755
ѵ тт d тот Шиллер, Фридрих — 68, 140,188,
Ханы ков, Н В, — 782 206, 266> 269, 283,293, 305, 323
Хвостов, Д И — 603–610 335 340 370 452 473–474 49^'
Хемнице р, И. И. — 776 507 сщ
X и л к о в, А. Я. - 406, 676–677 Шишков, А. С. - 442, 624–625.
776—777
Ц Шлегель — 293
Шлецер, Август-Людвиг — 411, Цезарь, Юлий —17, 20, 24, 28, 666, 67б
168, 172, 180, 320, 562, 748 Ш_л оссер, Фридрих-Христофор —
Чеботарев — 665, 667
Ч е в к и н, К. В. — 709 Щелкало в, А. — 553,
Челлини, Бенвенуто — 139 Щербатов — 406, 648, 676, 679
Ч е р н е р — 715 ' Щуровский — 620, 622, 623, 625,
Чертков — 319, 326–329 667
Чистяков — 421
Ч у л к о в, Мих. Д. — 676 3
Пі Эверс — 318, 406, 676
Эвклид — 740
Ш а д е н, Иоганн-Матиас — 667 Э в п о м п — 278
Шаликов, П. И. — 478, 520, 609 Эврипид —283, 325–326, 329
Шамиль — 719–722 452
Шампольйон, Франсуа — 371, Э д д е — 205 521, 524–526, 538, 544–545, 601 Эзоп — 205 Шанц 585 Эленшлегер, Адам-Готлиб—>
Шатобриан, Рене — 237, 520 204
Ш а ф а р и к, П. И. 648 Эль-Бируни — арабск. писа-
Ш а ф и р о в, П. П. — 653 Тель — 542
Шафранов — 686 Э н в, Фарнгаген — 473
Шаховской, А. А. кн. — 666 Энний — 692
Швабе —585 Э с х и л — 51, 279, 452
Ш в а р ц, Л, А. — 665, 667, 711
Швейцер, К. Г. — 626, 666, 751,
753 Я
Шевалье, Мишель — 266, 392
Ш е в ы р е в, С. П. — 323, 625–626, Языков, Д. — 667, 725 628, 636, 662–663, 666–667 Якимовская — 734
Шекспир, Виллиам — 20, 23,29— Якоби, Фридрих-Генрих — 344 31, 38, 50–52, 68, 72, 114, 152, Яковлев, В. Д. — 628, 630, 631 166–168, 172,180,188,190–191, Я р ц е в а, Л. — 624, 625
1
* Я говорю о том, что прекрасно по своей сущности, а не по тому только, что прекрасно изображено искусством; о прекрасных предметах и явлениях,
(обратно)2
не о прекрасном их изображении в произведениях искусства: художественное произведение, пробуждая эстетическое наслаждение своими художественными достоинствами, может возбуждать тоску, даже отвращение сущностью изображаемого.
(обратно)3
Подобный подобному радуется.
(обратно)4
Злое не забыто ни одним эстетиком; но 'его относят вообще к возвышенному, как «возвышенное злой воли», а не к трагическому в частности. Нам кажется, что впечатление, производимое возвышенным злой воли, в сущности имеет характер трагического. Если необходимо нужно в трагическом страдание, и необходимо, чтобы трагическое возбуждало сострадание, печаль, то страдающим лицом в трагическом злого является нам общество и нравственный закон; печаль и сострадание к обществу, оскверняемому, заражаемому личностью с пагубным направлением, также непременно возбуждаются в нас при таком зрелище. Часто мы жалеем о нравственном уничтожении, о нравственной погибели самого человека, в котором гнушаемся пагубным направлением, тем более, что в нем, конечно, было много благородного, высокого, если даже на гнусной дороге порока он успел сохранить отвращение от явного злодейства, если даже в упоении порока он боится пробудить голос своей совести и старается избежать в пороке всего гнусного, чего можно избежать, наслаждаясь пороком. Еще достойнее сожаления будет он, если не добровольно, не сознательно погряз в пороке, а вырос в пороке, приучен к нему тогда, когда еще ие понимал всей его гнусности. Да и вообще каждый человек с истинно высокой душою чувствует «ненависть к пороку, сожаление к порочному, ненависть к злодейству, сожа; ение к элодею». Проклинайте болезнь, жалейте и лечите больных.
(обратно)5
Считаем почти за излишнее замечать, как очевидное для каждого знакомого с предметом, что почти исключительно мы пользовались при этом изложении греческих эстетических понятий прекрасным сочинением Э. Мюллера «Geschichte der Theprie der Kunst bei den Alten». 2. Bde. Breslau 1834–1837.
(обратно)6
«Об эствтич. воспитан, человека». Письмо 15 и след.12.
(обратно)7
Для объяснения последних слов надобно заметить, что Платон напа-ѵ дает не на «вдохновение», а на то, что очень многие поэты (не говорим уж о других художниках), к величайшему вреду искусства полагаясь на одни силы «творческого гения, инстинктом прозирающеію в тайпы природы и жизни», пренебрегают наукою, которая избавляет от пустоты и ребяческой отсталости содержания:
«Ich singe wie der Vogel singt» 15
говорят они; зато их пение, подобно соловьиной песне, остается годным только для забавы от нечего делать, очень скоро надоедающей, как и слушание соловьиной песни. Прекрасное учение, что поэт пишет по вдохновению, чуждому всякой рассчитапности, и что произведения придумывающего, рассчитывающего поэта холодны, непоэтичны, — господствовало в Греции со времен гениального Демокрита. У Аристотеля вдохновение стоит уже на втором плане: он учит писать трагедии, подбирать эффектные завязки и развязки по рецепту. Из этого даже видно, что Аристотель, как эстетик, принадлежит временам падения искусства: вместо живого духа, у него ученые правила, холодный формализм. От Горация и Буало 17, от всех последующих составителей «реторик» и «пиитик», отличается он только, как гениальный учитель от ограниченных учеников: различие здесь не в сущности понятий, а в степени ума, их развивающего. '
(обратно)8
Звездочкой мы отмечаем статьи, перепечатанные целиком.
(обратно)9
Старинная шутливая поэма. 28 Н. Г. Чернышевский, т. II
(обратно)10
Амфибрахические: 1) «Черная шаль», 2) «Песнь о вещем Олеге», 3) «Подражание корану» (И путник усталый на бога роптал), 4) «Узник» (Сижу за решеткой в темнице сырой), 5) «Кавказ» (Кавказ подо мною. Один в вышине). Только 6) «Вакхическая песня» (Что смолкнул веселия глас) быть может почтена исключением. Единственное стихотворение, написанное анапестом: Пью за здравие Мери.
(обратно)11
Не приводим примеров, чтобы убедиться в справедливости наших слов, стоит развернуть первую попавшуюся в руки немецкую кнщ;у (конечно, мы говорим о прозе) и сосчитать на нескольких строках количество ударений сравнительно с количеством слогов, остающихся без ударения; надобно только помнить, что в немецком произношении на сложных словак делается по два ударения, мелкие частицы также очень часто имеют на себе ударение и т. д.
(обратно)12
Спешим заметить, что из наших слов не следует, чтобы гекзаметр (по преимуществу дактилический стих) был сроден русской версификации. Он решительно нейдет к ней по многим причинам30. Точно так же заметим, что если в ямбических и хореических стихах принято разрешение некоторые стопы оставлять без ударений, то это признавалось «вольностью», которой по мере возможности старались избегать; следовательно, затруднительность размера не отстранялась этим. Кроме того, допускаясь без всяких определенных правил, эта вольность разрушает стройность стиха: в наших, так называемых четырехстопных ямбах, собственно читаемых с двумя ударениями как двустопные стихи (двустопные пеонические), беспрестанно встречается необходимость считать и три ударения, а иногда н все четыре; этот беспорядок не оскорбляет нас только потому, что слишком привычен нам.
(обратно)13
Главные причины этого в немецком языке (которого версификация удерживается у нас доселе без всяких изменений и качества которого мы должны поэтому иметь в виду): однообразие в расположении ударений, близость ударений к концу (в немецком ударение бывает не далее предпоследнего слога; если оно на третьем от конца слоге, то последний ѵже приобретает свое особенное ударение, достаточное для рифмы, напр., Ewigkeit, Wissenschaft); наконец, самая краткость слов. Много есть, кроме того, причин второстепенных.
(обратно)14
Заполняет все. — Ред,
(обратно)15
Явные намеки на пооизведения Пушкина.
(обратно)16
Столь же явные намеки на барона Дельвига.
(обратно)17
«Тел.» 1832, ч. 44, Камера-обскура, № 8, стр. 133.
31 Н. Г. Чернышевский, т. II
(обратно)18
Мы поместили этот список Для того, чтобы понятны были суждения о Пушкине, являвшиеся в последнее время его жизни. Но еще интереснее обозреть хронологическую последовательность, в которой были написаны важнейшие произведения Пушкина. Этот список — самое верное свидетельство о развитии его поэтической деятельности.
Годы:
1820. Руслан и Людмила.
1821. Кавказский пленник.
1823, 1824, 1825. Первые шесть глав Онегина. — Борис Годуноз.
1825. (Борис Годунов.)
1826. Сцена из Фауста.
1827. Арап Петра Великого.
1828. Полтава.
1829. Галуб.
1830. Скупой рыцарь. — Моцарт и Сальери. — Каменный гость. — Пир во время чумы.
1832. Русалка. — Дубровский.
1833. Медный всадник. — Капитанская дочка. — Пиковая дама. — Египетские ночи.
(обратно)19
Плещеев, Сергей Иванович, написал «Обозрение Российской империи в нынешнем ее новоустроенном состоянии», сочинение, имевшее ие менее трех изданий, и перевел «Путешествие английского лорда Балтимура из Константинополя через Румелию, Болгарию, Молдавию и пр. в Лондон» — книга, также имевшая два издания.
(обратно)20
«Путевые записки во святый град Иерусалим и в окрестности оного. Калужской губернии дворян Вешняковых (Ивана и Василия) и мядынского купца Новикова в 1804 и 1805 годах». Москва, 1813. — «Путешествие к святым местам, находящимся в Европе, Азии и Африке, совершенное в 1820 и 1821 годах села Павлова жителем Киром Бронниковым». Москва, 1824.
(обратно)21
«Пешеходца Василия Григорьевича Барского Плаки-Альбова, уроженца киевского, монаха Антиохийского, путешествие к святым местам, в Европе, Азии и Африке находящимся, предпринятое в 1723 и оконченное в 1747 году». Две части. Первое издание, С.-Петербург, 1778 года; 6-е издание, С.-Петербург, 1819. В 1847 году было напечатано извлечение, под заглавием: «Путешествие в Иерусалим Василья Григорьевича Барского».
Москва, в тнпогр. Евреинова.
(обратно)22
Священником Иоанном Грацианским, три части: С.-Петербург, 1815–1817; и князем Шаликовым, три части, Москва, 1815–1816.
(обратно)23
Вот, например, стопы первых стихов «Одиссеи»:
дактиль, дактиль, дактиль, дактиль, дактиль, спондей, дактиль, спондей, дактиль, дактиль, дактиль, спондей, спондей, спондей, дактиль, дактиль, дактиль, спондей.
Продолжив разбор, мы увидим, что разнообразие все увеличивается. В каждых пяти стихах мы найдем, по крайней мере, четыре различных размера. Одинаковых к ряду почти не бывает.
(обратно)24
Вот, например, начало «Одиссеи» в переводе Жуковского (мы берем «Одиссею», а не отрывки «Илиады», теперь изданные, потому что Жуковский успел, по справедливому замечанию издателя, придать окончательную отделку только начальным стихам своего последнего труда): отмечаем курсивом хорей:
Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который,
Странствуя долго со дня, как святой Илион им разрушен.
Многих людей города посетил и обычаи видел,
Много и сердцем скорбел на морях, о спасеньи заботясь Жизни своей и возврате в отчизну сопутников; тщетны Были однако заботы, не спас он сопутников; сами Гибель они на себя навлекли святотатством, безумцы,
Съевши быков Гелиоса, над нами ходящего бога,—
День возврата у ннх он похитил. Скажи же об этом Что-нибудь, о Зевесова дочь, благосклонная Муза.
Затем опять начинаются бесконечным рядом чистые дактили. Вообще, на целую сотню стихов едва приходится в «Одиссее» у Жуковского восемь или девять, в которых попадается хорей, да и те опять часто стоят рядом, производя новую монотонность.
(обратно)25
Впрочем, не только русскому, но точно так же и немецкому.
(обратно)26
Вид сей вещицы представлен на верхней доске переплета у книжки: «Слово о благочестии и нравственных качествах Гиппократова врача». Москва# 1814 г. На исподней доске того же переплета изображен краеугольный (кубический) камень эмблема земли; на нем горящая лампада: — это огонь; на лампаде ползет пиявица и сидит бабочка; это будто бы вода и воздух; мысль такой эмблемы четырех стихий принадлежала Мудрову отцу, а Мудров сын исполнил ее на печати. К сожалению, резчик слишком пересолил свою стряпню, приделав пиявице усики и какую-то щетинку по спине.
(обратно)27
Я вижу весь собор безграмотных Славян,
Которыми здесь вкус к изяществу попран.
Против меня теперь рыкающий ужасно,
К дружине вопиет наш Балдус велегласно:
«О, братие мои, зову на помощь вас!
Ударим на него, и первый буду аз.
Кто нам грамматике советует учиться,
Во тьму кромешную, в геенну погрузится;
И аще смеет кто Карамзина хвалить,
Наш долг, о людне, злодея истребить.»
В славянском языі^е и сам я пользу вижу,
Но вкус я варварский гоню и ненавижу,
В душе своей ношу к изящному любовь;
Творенье без идей мою волнует кровь.
Слов много затвердить не есть еще ученье;
Нам нужны не слова, нам нужно просвещенье.
(Послание к Жуковскому.)
(обратно)28
В тексте у Чернышевского, очевидно ошибочно, вместо слов» «Советница» стоит «Бригадирша», — Ред.
(обратно)29
См. запись в дневнике 7 сентября 1848 года — Н. Г. Чернышевский Поли. собр. соч., т. I, Гос. издательство художественной литературы,
М. 1939, стр. 108. _
(обратно)30
Имеется в виду цикл популярных статей по вопросам эстетики, который Чернышевский намеревался напечатать в «Отечественных записках». Сохранились лишь две статьи из этого цикла (см. 127, 159 стр. наст. тома).
(обратно)31
Это не совсем точно: Чернышевский приводит в диссертации большую цитату, представляющую перевод нескольких страниц из «Эстетики31 Фр. Фишера, а также две выписки из «Эстетики» Гегеля.
(обратно)32
В статье «Критический взгляд…» (см. стр. 158 наст, тома) Чер-вышевскнй, говоря о «реформе в эстетике», указывает, что теоретические источники его исследования «можно отыскать не далее, как, например, в «Отечественных записках».
(обратно)33
См. письмо отцу 13 января 1859 г.:
«Вчера узнал я неожиданную новость о деле, про которое забыл думать, но которое, вервятно, интереснее для Вас. Вот уже четыре года, как я держал экзамен на магистра. По окончании всех формальностей решение университетского совета было, как обыкновенно, представлено на утверждение министру народного просвещения. Министром в то время был Норов, который не мог слышать моего имени, — почему? бог его знает, я никогда его в глаза не видел, но были у меня доброприятели, которые потрудились над этим. Отвергнуть представление университета он не решился, потому что это было бы нарушением обычных правил, но положил бумаги под сукно. Университетские очень обиделись и года два приставали ко мне, чтобы я подал в университет вопрос о моем магистерстве, — тогда университет имел бы формальное основание васти дело. Я отвечал, что мне в этом нет надобности, что если они обижены, то могут поступать как угодно, а что я даже рад… потому что, слава богу, имею некоторую репутацию, не нуждающуюся в министерских утверждениях, а это дело придавало ей больше эффекта. Наконец, сменился Норов. Университетские опять приставали ко мие, чтобы я дал им нужную бумагу. Я опять сказал, что не имею в том надобности. Наконец, вчера, не знаю как, получается утверждение министра. Я улыбнулся-.» («Литературное наследие», т. II, стр. 281).
(обратно)34
Тургенев имел в виду рецензию самого Чернышевского на «Эстетические отношения искусства к действительности», подписанную буквами Н. П — ъ (см. 93 стр. наст. тома). Тургенев полагал, что рецензия эта написана Пыпиыым.
(обратно)35
Рукопись «Добавление к § 1-му глабы IV. С какой стороны подходил Н. Г. Чернышевский к критике кантианства?» была послана Лениным А. И. Елизаровой во второй половине марта 1909 года, когда книга («Материализм н эмпириокритицизм») была уже в печати. «Посылаю добавление, — пирал Ленин А. И. Елизаровой 23 или 24 марта (и. ст.) 1909 года. — Задерживать из-за него не стоит. Но если время есть, пусти в самом конце книги, после заключения, особым шрифтом, петитом, например. Я считаю крайне важным противопоставить махистам Чернышевского» (Соч., т. XIV, нзд. 4-е, стр. 357).
(обратно)36
Согласие Пантелеева переиздать диссертацию Чернышевский расценивает, как услугу, в силу того, что после ссылки он как литератор был поставлен в особые условия.
(обратно)37
В архиве Пантелеева находится следующая записка Чернышевского Пантелееву: «Милостивый государь Лонгин Федорович, представляю в полное Ваше распоряжение третье издание моей книги «Эстетические отношения искусства к действительности». Глубоко благодарный Вам Н. Чернышевский, 20 апреля 1888» (Л. Пантелеев, «Из воспоминаний прошлого», «Acaclemia», 1934, стр. 742).
(обратно)38
Перевод этот был неполон. Ордынский перевел только 18 глав, а остальные дал отчасти в переводе, отчасти в изложении. Раньше: Ордынского в России была переведена А. Глаголевым только одна 25-я глава «Поэтики» («Труды общества любителей российской словесности при Московском университете», 1829, ч. 10, стр. 160 и сл.).
(обратно)
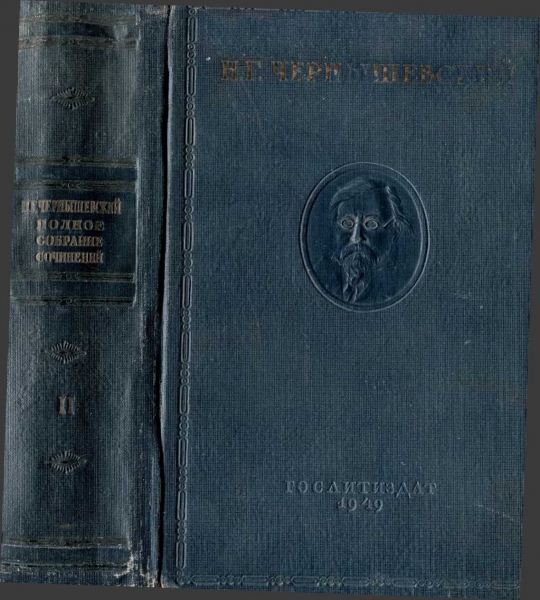


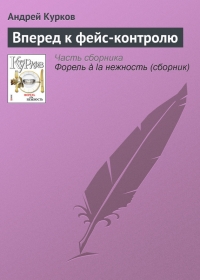
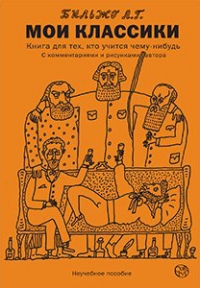


Комментарии к книге «Том II», Николай Гаврилович Чернышевский
Всего 0 комментариев