Куба Снопек Беляево навсегда. Cохранение непримечательного
Ты будешь там, где даже если бы и восхотел по зрелому размышлению — не оказался бы.
Дмитрий Александрович Пригов. Максимы чистейшего избегания беляевского мудреца Дмитрия Александровича
Введение
Беляево. Спальный район, который на первый взгляд ничем не отличается от любого другого района Москвы. Простые силуэты бетонных домов разбросаны в бесконечном пространстве. В промежутках между гигантскими прямоугольниками — буйство зелени, хотя вроде мы и не в парке. Немногочисленные асфальтированные переулки соединены паутиной тропинок. То там, то сям попадаются детские площадки странноватого вида: дети играют сами по себе, за ними присматривают бабушки. Рядом на скамейках пьют пиво. На одинаковых бетонных фасадах глаз то и дело замечает следы человеческого присутствия: здесь подкрашено, там незаконно построен какой-то сарайчик, тут — балкон, тут — антенна, там — кондиционер. Все асфальтированные участки забиты машинами, а на каждом перекрестке расположился ларек или маленький магазин. Беляево, как и любой другой «спальник», – пространство ничем не примечательное и слегка хаотичное. Безликое. Пресное. Скучное.
Но был один день, когда Беляево совершенно преобразилось, — 2 ноября 2003 года [1] . Хотя было уже по-зимнему холодно, что обычно только усугубляет скуку, тем утром людям в Беляеве вдруг стало приятно, интересно и тепло. В тот день великий русский поэт Дмитрий Александрович Пригов — сам обитатель этого района — провел экскурсию по своему Беляеву. Прогулка с Приговым превратилась в необычный перформанс, во время которого поэт рассказывал историю того Беляева, которое знал он сам. Иногда он останавливался и читал вслух одно из своих стихотворений. В прогулке с Приговым (известном в том числе и как герцог Беляевский) участвовало более 70 человек, и у них на глазах он вдыхал в это непримечательное, стандартизированное пространство жизнь, наполняя его стихами, историями и анекдотами.
В процессе перформанса выяснялось, что когда-то в Беляеве жили многие известные люди, по преимуществу связанные с миром искусства. И Пригов показывал, где именно они жили. В их число входили писатель Евгений Попов, художник Борис Орлов, философ Евгений Шифферс и многие другие. Назвав какое-то имя, Пригов обязательно рассказывал какую-нибудь историю, связанную или с определенной частью района, или с определенным временем, или с текстом. Герцог приоткрывал завесу над славным, но, похоже, забытым прошлым некоторых мест. В маленьком выставочном зале на Профсоюзной улице (сейчас здесь находится районная художественная галерея «Беляево») в 1987 году располагалось Творческое объединение «Эрмитаж», основанное известным куратором и художественным критиком Леонидом Бажановым, в то время — одно из самых оживленных мест на карте столичной художественной жизни. В случае беляевского кинотеатра «Витязь» ситуация даже сложнее — тут переплетаются реальная жизнь и местная мифология. Согласно легенде, «Витязь» в 1970-е годы был чуть ли не пристанищем альтернативного кинематографа, в этот кинотеатр съезжались люди не только из центра Москвы, но и, возможно, с разных концов Советского Союза. Но доказательств нет — документы, связанные с работой кинотеатра в то время, недоступны, а воспоминания современников слишком туманны.
Во время прогулки с Приговым скучная архитектура неожиданно обрастала смыслами, поскольку оказывалась связана с местной историей, местными героями и культурными событиями. Городской пустырь, к которому Пригов не раз возвращался в своих стихотворениях, становился значимым пространством. Благодаря мощной культурной инъекции безликий ландшафт приобретал смысл, одинаковые дома превращались в уникальные, а пространственные пустоты наполнялись значением. В тот день Пригов полностью изменил восприятие этого места, он погрузил его в новый контекст, заставил почувствовать глубину, скрытую под монотонным архитектурным ландшафтом.
На первый взгляд перформанс Пригова имел отношение только к искусству, но на самом деле неменьшее значение он имел и для понимания архитектуры. Слова великого поэта вступали во взаимодействие с пространством и наделяли его новой ценностью. Прогулка с Приговым, организованная группой «Москультпрог», заставляла задуматься о том, какая связь существует между модернистской архитектурой и концептуализмом[2] . Для меня как архитектора, изучающего модернистскую архитектуру и разрабатывающего новые методы ее сохранения, этот вопрос имеет ключевое значение. Среди прочего в этой связи мне кажется существенным понять отношение Пригова к той стандартизированной, геометричной архитектурной среде, в которой он жил: как и архитектор, поэт и художник Пригов по-своему перерабатывает городскую ткань, и возможность дополнить традиционный подход к архитектуре художественной оптикой кажется очень заманчивой. И еще один важный вопрос: можно ли сделать так, чтобы связь между архитектурой и культурой — то есть материальной оболочкой и нематериальным содержанием — приобрела более устойчивый характер?
Начавшаяся в XX веке индустриализация строительной отрасли приводит к тому, что города в разных частях света становятся все более похожими друг на друга. Сегодня архитектура первых районов, построенных исключительно промышленным способом, празднует свое 50-летие. Достойна ли эта архитектура того, чтобы мы ее сохранили? и если да, то в каких случаях? Архитектура нового типа требует новых охранных методик — старый подход, прежде всего ориентированный на сохранение уникального, оказывается здесь недейственным.
Архитектура позднего модернизма обладает большим значением для архитекторов, но обычная публика ее недооценивает. Эта архитектура принципиально однообразна, эстетически непритязательна, часто ее считают скучной и даже уродливой. Способно ли культурное наполнение этой архитектуры улучшить ее репутацию в глазах обычных людей? Если между искусством и архитектурной средой, в которой оно сформировалось, существует некая связь, то способно ли это искусство передать архитектуре часть своей ценности?
Эрик Булатов. Не прислоняться, 1987. Композиция, составленная из букв, очень напоминает вид советского спального района
1. Новые Черемушки: научный эксперимент
Пожалуй, первое знакомство иностранца с Москвой происходит в Google Earth. Виртуальный тур по российской столице начинается с панорамного взгляда на радиально-концентрический план города: кольца дорог и бульваров, опоясывающие Кремль, прорезают прямые линии проспектов и улиц, ведущих из центра к окраинам. Такой генеральный план хорошо знаком каждому европейскому архитектору — по тому же принципу устроено множество городов. Однако, увеличив картинку, чтобы увидеть устройство Москвы во всех деталях, мы обнаружим, что ее ДНК разительно отличается от ДНК европейского города. Десятки одинаковых жилых зданий, которые группируются вокруг идеальных прямоугольников школ, детских садов и прочих социальных объектов, больше похожи на микросхемы, напаянные на материнскую плату, чем на привычный городской пейзаж. И хотя все эти «микросхемные» микрорайоны имеют разную геометрическую композицию (дома выстраиваются в линию, группируются вокруг общественных зданий, образуют зигзаги или имеют более свободную расстановку), логика планировки везде остается одной и той же.
Базовой единицей всего советского градостроения был микрорайон — стандартизированный блок жилых домов, который в 1950-е годы посредством копирования начинает распространяться, в частности, по территории Москвы. Простые сборные здания, свободная расстановка, наличие школы и детского сада — все это входило в обязательный композиционно-функциональный набор микрорайонной застройки. В центре располагалось общественное здание, чаще всего — кинотеатр или клуб[3] . На первый взгляд микрорайон — типичное порождение модернизма, и для Запада архитектура такого рода — общее место. Однако есть некоторые черты, которые отличают советский микрорайон от его французских или голландских аналогов: это степень единообразия и повторяемости структур, а также широта распространения. Микрорайон стал базовой единицей всего советского градостроения, а не только удаленных спальных окраин.
Образцовая планировка района из пособия для архитекторов 1960-х годов. Блоки жилых строений размещаются на равных расстояниях от объектов социального значения и озелененных территорий
Микрорайонный принцип застройки начинается почти в самом центре Москвы, распространяется в сторону МКАД и охватывает пригороды. Его ландшафт однообразен и неизменен; если что-то в нем и меняется, так это высотность застройки и ее плотность. Подобно тому как мы можем определить возраст дерева по числу колец на его срезе, масштабность домов и их удаленность от Кремля позволяет нам точно определить время их постройки — относятся ли они к эпохе Хрущева, Брежнева или раннего Лужкова. Ничем прочим эти районы друг от друга не отличаются: они имеют одинаковую планировку и состоят из одних и тех же элементов (школы, жилые дома, зеленые насаждения). И, глядя на них, можно подумать, что все они спроектированы по единому образцу.
Сразу несколько московских архитекторов подтвердили мои подозрения — все микрорайоны действительно имеют конкретный прототип. Тот первый микрорайон сохранился до наших дней, и называется он 9-й квартал Черемушек. Именно по его лекалам практически без изменений развивалось городское строительство целой страны на протяжении почти пятидесяти лет.
9-й квартал расположен в четырех километрах к северо-востоку от Беляева. Он был построен между 1956 и 1958 годом группой архитекторов под руководством Натана Остермана[4] . Десятки пятиэтажных четырехсекционных жилых домов, между которыми время от времени вырастают девятиэтажные башни, занимают участок 12 гектаров и образуют простую геометрическую композицию. Дома располагаются свободно, но образуют три относительно замкнутых общественных пространства с зелеными насаждениями, скамейками и фонтанами. Помимо жилых домов, здесь есть школа, кинотеатр «Улан-Батор» и памятник Ленину. На первый взгляд фасады домов кажутся одинаковыми, но при более внимательном рассмотрении в них обнаруживается множество элементов, которые отличают эти фасады друг от друга. Они имеют разное членение, в них используются разные архитектурные элементы и материалы. Некоторые из этих домов кирпичные, некоторые — крупноблочные, а некоторые — панельные. Все дело в том, что 9-й квартал носил принципиально экспериментальный характер. В разных зданиях применялись разные технологии и архитектурные решения, использовались разные планировки квартир: задача состояла в том, чтобы опробовать множество вариантов и выбрать лучший. Разработчики стремились найти самый оптимальный, экономный, простой и быстрый способ строительства. Результат их усилий был признан удовлетворительным: стоимость строительства в Черемушках оказалась на 30 процентов меньше, чем стоимость предыдущих строек такого же масштаба[5] ; район был построен всего за 22 месяца.
9-й квартал Новых Черемушек. Вид со спутника
Самые оптимальные варианты пяти– и девятиэтажных домов были пущены в ход, а вся строительная индустрия была переориентирована на производство панельных домов. Уже всего через несколько лет в стране будет налажена работа целых домостроительных комбинатов — они будут работать круглосуточно, в три смены, чтобы в кратчайший срок ликвидировать дефицит жилья. а дефицит был очень внушительным: за три десятилетия — с 1923 по 1953 год — средняя жилая площадь, приходящаяся на одного жителя СССР, уменьшилась с 6,3 квадратных метра до 5,6. Однако благодаря индустриализации строительства уже в 1961 году СССР удалось преодолеть минимум тогдашней «санитарной нормы жилой площади на человека» — 9 квадратных метров[6] . Если оценивать архитектуру по количественным показателям, то 12 черемушкинских гектаров, пожалуй, можно признать самыми влиятельными в истории человечества: застройка этого участка определила архитектурное развитие самой большой мировой державы на десятилетия вперед.
Экспериментальный характер этого подхода, более свойственный научной сфере, нежели архитектурной, не имеет исторических аналогов. Конечно, экспериментальные поселки строились и до этого (например, поселки Немецкого Веркбунда), но они никогда не использовались только как испытательный полигон для промышленных технологий. Именно в СССР — государстве, где вся промышленность управлялась из единого центра, – оказалось возможным такого рода тестирование различных рабочих решений с их последующим немедленным внедрением в производство.
Что же москвичи думают о Черемушках сегодня? Деревья, посаженные полвека назад, выросли, Москва стремительно расширяется, и этот район уже слился с центральной частью города. Кроме того, Черемушки уже успели стать частью московской культуры — в советские годы здесь было снято множество фильмов, включая, например, одноименный культовый мюзикл Герберта Раппапорта (1962; в его основе — оперетта Д.Д. Шостаковича «Москва, Черемушки»). Все это создает у нас впечатление, что Черемушки — это часть «старой Москвы», неотъемлемый элемент ее городской ткани и памяти. Но любая организация, которая занимается охраной исторических памятников, скажет вам, что все это полная ерунда: практически все их нормативы предполагают, что должно пройти не менее полувека, чтобы можно было говорить о присвоении тому или иному объекту охранного статуса.
Попытки поставить вопрос о сохранении Черемушек, впрочем, уже предпринимались. В 2008 году группа краеведов выступила с инициативой внести 9-й квартал в список объектов культурного наследия Москвы. В качестве самой весомой причины его сохранения выдвигалась его уникальность: экспериментальное поселение, самое первое, послужившее моделью для всех прочих. По иронии судьбы заявка была отклонена именно на том основании, что все строения являются серийными и никакой уникальностью не обладают. Но историки не сдаются, и в следующем году они предпримут новую попытку.
Дискуссия вокруг понятия «уникальности» чрезвычайно интересна, но в спорах о сохранении Черемушек есть еще много занятного. Из разговоров с архитекторами, краеведами и жителями я вынес впечатление, что экспериментальный характер 9-го квартала — лишь одна из причин, по которой они считают его достойным сохранения. Вторая причина, которую они называют и по которой этот кусочек «старой» Москвы нужно сохранить, – это цельность ансамбля, примечательность его малых архитектурных форм. Это наводит на мысль, что, будь для этого юридическая возможность, они бы объявили 9-й квартал памятником, основываясь только на его архитектурных достоинствах. Мне показалось, что экспериментальный характер района во многом используется здесь как уловка, позволяющая избежать идеологических споров о ценности позднего модернизма, столь презираемого большинством городского населения. Заодно местные жители надеялись придать охранный статус и озелененной территории, расположенной в центре района и так полюбившейся москвичам.
Однако даже если краеведы выиграют битву за сохранение 9-го квартала, это будет первый и последний случай, когда подобная стратегия сработает. Поскольку это первый район, построенный с применением новых промышленных технологий, он и останется единственным районом, сохраненным на основании этой своей специфической уникальности. Последующие районы — пятый, третий и даже второй — точно не будут иметь этого преимущества. Даже если последующие архитектурные решения были лучше — даже если планировка этого пятого, третьего или второго района и старые деревья образуют здесь качественно новую атмосферу, даже если культура, развившаяся в этой атмосфере, имеет большое значение для художников, архитекторов и музыкантов — никаких инструментов для защиты такого района у нас нет.
Новый тип визуально стандартизированной архитектуры возник полвека назад. Соответственно, уже совсем скоро парадигма охраны архитектурных памятников, основанная на критерии уникальности, окажется совершенно недейственной. Именно поэтому дискуссии о новой методологии сохранения исторического наследия сегодня приобретают такое огромное значение.
2. Хрущев-архитектор, Хрущев-художник
В истории 9-го квартала Черемушек остается много неясного. Почему этот экспериментальный, «научно-промышленный» подход к архитектуре именно здесь находит свое применение? Каким образом удалось провести столь стремительную индустриализацию домостроения? Откуда у архитекторов столь холодное, рациональное отношение к архитектуре? и наконец, почему советская архитектура в своем развитии так разошлась, например, с архитектурой Франции или Великобритании — стран, которые тоже заигрывали с блочным строительством, но не смогли развить его в тех же масштабах, что Советский Союз?
Чтобы ответить на эти вопросы, нужно учесть особенности того времени и специфику места. У советской жилищной программы было двое родителей. Во-первых, она была продуктом своей эпохи, то есть эпохи modernity, эпохи расцвета современного города, преклонения перед возможностями промышленности, эпохи рациональности и веры в прогресс.
К середине ХХ века промышленные методы строительства уже имели долгую историю. На протяжении всего XIX столетия (столетия индустриализации в Западной Европе) все большее количество строительных элементов изготавливалось на фабриках и в готовом виде доставлялось на стройку. Существенным шагом к стандартизации было появление промышленно изготавливаемого кирпича. Затем получают распространение каталоги готовых образцов фасадного дизайна, готовые лестницы, двери и пр. Уже в 1914 году Ле Корбюзье представляет проект дома-домино — это была теоретическая разработка сборного дома, который состоял исключительно из промышленно изготовленных модулей. За последующие сорок лет подобные строительные технологии были тщательно отработаны и проверены на практике — но почему же в таком случае микрорайонная застройка появляется только в 1950-е годы?
Ответ на этот вопрос связан с тем, что подобный проект мог в полной мере осуществиться только в Советском Союзе — централизованном тоталитарном государстве, политическое руководство которого имело практически неограниченные возможности. И именно политический режим СССР является вторым родителем советской жилищной программы.
Выдающийся социолог Зигмунт Бауман большую часть своей профессиональной деятельности посвятил исследованию тоталитарных государств, которые, с его точки зрения, являются самым радикальным выражением, квинтэссенцией Нового времени. Пытаясь объяснить феномен Холокоста, Бауман писал: «Мыслимым Холокост сделал именно рациональный мир современной цивилизации… <он> стал не только технологическим достижением индустриального общества, но и организационным достижением бюрократического общества»[7] .
Советский жилищный проект следовал схожей модернистской логике, делая ставку на рациональность, промышленные способы производства и веру в прогресс. Логика модернизма укрепляла и без того всемогущее государство и давала простор его безграничным бюрократическим и организационным возможностям. В архитектурной сфере она реализовалась в самом масштабном жилищном проекте модернизма.
Вдохновителем проекта был Никита Хрущев, лидер Советского государства. Сегодня в нашем сознании его жилищную реформу затмевают другие грандиозные проекты той же эпохи — освоение космоса, изобретение «царь-бомбы», экологическая катастрофа Аральского моря… а жаль, потому что хрущевские нововведения произвели в советской архитектуре настоящую революцию: их можно сравнить с землетрясением, потрясшим самые основы городского планирования. Хрущев кардинально изменил его принципы. Произведенная им революция распространилась на всю территорию СССР (и некоторых его союзников) и продолжает влиять на жизни миллионов людей и по сей день.
7 декабря 1954 года Хрущев выступил на совещании, которое имело очень сложное название — Всесоюзное совещание строителей, архитекторов и работников промышленности строительных материалов, строительного и дорожного машиностроения, проектных и научно-исследовательских организаций [8] . Речь Хрущева называлась «О широком внедрении индустриальных методов, улучшении качества и снижении стоимости строительства». Я убежден, что именно в этот день свершилась революция в советской архитектуре и городском планировании. По этой причине, а также для экономии места дальше я буду называть эту речь манифестом. Слово «манифест» также прекрасно передает ту страстность, с которой эта речь написана.
Манифест появился всего через год после прихода Хрущева к власти, что свидетельствует о чрезвычайном значении жилищной политики в тот период. Пышная и невероятно дорогостоящая сталинская архитектура определяла пространственное устройство центра Москвы, его ясный композиционный облик. Но она не могла решить проблему жилищного дефицита, с которой СССР столкнулся в период стремительной индустриализации (и, соответственно, урбанизации). Европа XIX века знала массовые перемещения населения из деревень в города, но в Советском Союзе ситуация обострялась в связи с некоторыми особыми обстоятельствами. Во-первых, многие советские города либо сильно пострадали, либо были полностью разрушены во время Второй мировой войны. Во-вторых, после смерти Сталина по амнистии из лагерей вышло около двух миллионов человек, и очереди на квартиры стали еще длиннее. Хрущев был просто обязан заняться решением жилищной проблемы — она стала его главным приоритетом. Решить ее можно было только новыми методами. Речь шла о полной индустриализации строительной отрасли и максимальной автоматизации строительного процесса. Хрущев очень ясно указывает на это в своем манифесте: «Мы обязаны резко повысить темпы, улучшить качество и снизить стоимость строительства. Для решения данной задачи есть лишь один путь — это путь самой широкой индустриализации строительства».
На практике это означало немедленное создание необходимой домостроительной инфраструктуры. В разных частях Москвы стремительно вырастают так называемые ДСК (домостроительные комбинаты). Их задача состояла в максимальном увеличении выпуска сборных строительных конструкций. Первый такой комбинат, ДСК-1, открылся в 1961 году. В день он должен был производить полный комплект деталей для сборки 60-квартирного жилого дома серии К-7. Дома этой серии, кстати, одни из самых популярных в советской истории. В народе они получили название «хрущевка».
Промышленный способ производства сборных железобетонных конструкций открывал возможности для стандартизации проектных решений, как того требовал Хрущев: «Надо отобрать ограниченное количество типовых проектов жилых домов, школ, больниц, зданий детских садов, детских яслей, магазинов и других зданий и сооружений и проводить массовое строительство только по этим проектам, допустим, в течение 5 лет».
Стандартизация и серийность домостроения позволяли максимально увеличить темп производства: чем меньше номенклатура проектов, тем меньше перестроек требуется на производственной линии и тем дешевле и быстрее становится производство. Соответственно, нужно было строго ограничить количество стандартных проектов и максимально их упростить. Так, например, дома упомянутой серии К-7 собирались всего из двух дюжин элементов! Результатом хрущевской политики стало то, что все советское (а впоследствии и российское) жилищное строительство полностью перешло на серийный принцип. С этих пор жилые дома получают стандартную планировку. Они предельно просты, и сотни их копий распространяются по Москве и другим городам СССР.
Одна из самых популярных серий Беляева — 1605. Она выглядит проще всех остальных: белые стены, маленькие квадратные окна. Секции дома соединяются посредством балконов. На боковом фасаде элегантно располагаются прямоугольные лоджии. Серия 1605 была разработана в трех версиях: 5-, 9– и 12-этажной высотности (1605/5, 1605/9, 1605/12). Первые пятиэтажки из серии 1605 появились уже в 1958 году. Последние 12-этажные здания перестали выпускаться лишь в 1985-м. Иными словами, они начали производиться еще в хрущевские годы, не претерпев почти никаких изменений, пережили правление Брежнева и Андропова и дожили до самой перестройки!
Другая исключительно популярная серия — II-49 — визуально особо не отличается от серии 1605. Ее главная особенность — выступающие балконы на боковых фасадах. Эта серия выпускалась на протяжении двадцати лет (1965–1985). Дома этой серии строились не только на территории всей Москвы, но и, например, в Тольятти и Крыму.
Дома серии П-3 — с протяженной линией фасада и поворотным угловым элементом между секциями — выпускались с 1970 по 1998 год. Такие дома можно встретить почти в каждом московском районе наряду с домами серии П-44 — пожалуй, самой популярной серии в истории архитектуры. Она была запущена в 1979 году и выпускается до сих пор. Впрочем, сборными должны были стать не только жилые дома, тот же принцип внедрялся и в строительство общественных зданий.
Чертежи самых популярных домостроительных серий. Фасады, планировка, различные варианты межсекционных соединений и статистический подсчет квадратных метров
Одновременно с революционными переменами в проектировании зданий кардинально менялись и принципы городского планирования. Консервативная сталинская эпоха (которая оперировала кварталами, площадями и бульварами) заканчивается, и советские урбанисты стремительно осваивают более абстрактную градостроительную логику модернизма. В новой доктрине приоритетом становится доступность социальных услуг. Школы, детские сады и станции метро должны располагаться в центре жилых массивов. Все расстояния до этих объектов четко определяются нормативными документами. Вопрос о необходимости того или иного социального объекта (будь то школа, кинотеатр или магазин) решается на основании точного расчета, который учитывает количество людей, проживающих в пешей доступности от данного места. Если раньше городское планирование руководствовалось некими пространственно-композиционными соображениями, то теперь оно подчинилось строгим алгоритмам, призванным оптимизировать траекторию ежедневных перемещений среднестатистического человека.
План идеального микрорайона из учебного пособия по архитектуре. Расположение жилых зданий основано на расчете оптимальных расстояний до детских садов, школ и других объектов социального значения
Соответственно, городское планирование перестает следовать логике визуальной целостности. Теперь оно руководствуется логикой концептуальной — и в результате мы получаем новый ландшафт, совершенно не похожий на ландшафт архетипического города. Кажется, что в микрорайонной застройке дома расположены хаотично, они перестают восприниматься как элементы, которые складываются в общий упорядоченный образ улицы или городского ансамбля. Больше того, новые жесткие нормативы городского проектирования в сочетании с упомянутой стандартизацией жилых и общественных зданий приводят к типизации более крупных участков городского плана. В результате московские окраины стремительно покрываются странноватыми, однообразными и абсолютно предсказуемыми архитектурными ландшафтами.
Однако, чтобы претворить все эти нововведения в жизнь, была необходима радикальная организационная перестройка строительной отрасли, включая консолидацию строительных предприятий. И об этом тот же Хрущев подробно говорит в своем манифесте: «Весьма поучителен в этом отношении опыт сокращения строительных организаций в Москве, где на базе 56 строительных трестов Моссовета, а также министерств и ведомств создана единая организация — Главмосстрой».
Таким образом, прежде всего решалась задача мобилизации строительных предприятий, необходимой для быстрого претворения в жизнь амбициозного жилищного проекта Хрущева. Однако у этих организационных решений были и некоторые интересные побочные эффекты. Приведем простой пример: проектирование серийных жилых домов было поручено научным институтам (главный из них — не раз менявший название Московский институт типового проектирования). Конечно, в этих институтах тоже трудились архитекторы — например, Виталий Лагутенко, который разработал серию К-7, пресловутую «хрущевку», – однако их специфической задачей было разрабатывать лишь оптимальные жилые пространства, экстрагированные из всякого контекста. Потом эти здания производились десятилетиями. Подавляющее большинство советских архитекторов, наоборот, работало только с городским контекстом и занималось лишь жилой средой. Таким образом, проектирование самих жилых зданий практически полностью выводилось из-под контроля архитекторов!
И это организационное новшество резко меняло статус самой профессии архитектора: «художника», проектировавшего дома, формы и фасады, неожиданно заменяет «ученый», который занимается оптимизацией городского плана, рассчитывает человекопотоки и оперирует изохронами.
И, наконец, последнее по порядку, но не по значимости. Манифест Хрущева также закладывал основы нового стилистического курса в архитектуре: «Мы не против красоты, но мы против излишеств».
Хрущев критикует сталинскую архитектуру не только за дороговизну, но и за пышность, никчемную роскошь — и предлагает новую эстетику, основанную на честности, скромности и простоте. Интересно, кстати, как сам Хрущев защищает одно из проявлений этой честности, а именно шов между панельными блоками фасада, от которого никуда не деться; Хрущев говорит о том, что этот шов нельзя считать некрасивым, потому что он лишь свидетельствует о честности этой архитектуры.
Хрущевский подход к архитектуре в действии: простые фасадные элементы, соединенные «честными» швами
В своем манифесте Хрущев активно использует язык и доводы, которые свидетельствуют о его симпатиях к довоенной авангардной архитектуре. Простота, честность, промышленный способ производства, технологический прорыв, разрыв с традицией, современность — подобной лексикой пользовались архитекторы CIAM (Международного конгресса современной архитектуры) и русского авангарда, и именно она, подобно эху, отзывается в речи Хрущева самым отчетливым образом. Это обстоятельство, а также решимость, с которой Хрущев настаивает на необходимости тотальных перемен, позволяет мне считать манифест подлинным документом авангарда, а самого Хрущева — самым влиятельным советским архитектором эпохи модернизма.
Являясь страстным поборником модернистской архитектуры, Хрущев вместе с тем — и парадоксальным образом — был непримиримым врагом прогрессивного искусства. И для искусства хрущевская политика имела такое же судьбоносное значение, какое его жилищная программа имела для советской архитектуры. 1 декабря 1962 года Хрущев посетил выставку студии «Новая реальность» в выставочном зале Манеж. Он не был готов к восприятию абстрактного искусства и раскритиковал художников в самых резких выражениях. Сразу после этого в СССР разворачивается кампания против формализма и абстракции. Эпоха «оттепели» в искусстве подходит к концу. Художники, чьи работы не следуют канонам соцреализма, изгоняются из государственных выставочных залов.
Реакцией на эти запреты стала консолидация неофициального искусства. Это подпольное движение набирает такую силу, что у него появляются собственные организационные структуры, смоделированные по образцу официальных. У неофициальных художников складывается своя иерархия, они сами занимаются архивированием своей деятельности, изобретают собственные способы книгоиздания («самиздат») и даже устраивают выставки.
Образец самиздата: «Литературные портреты современников» Дмитрия Пригова, 1983
Самая значительная выставка неофициального искусства состоялась уже после смерти Хрущева, 15 сентября 1974 года. Два художника андеграунда, Евгений Рухин и Оскар Рабин, решили организовать ее под открытым небом и выбрали для этого один из пустырей Беляева — микрорайона в юго-западной части Москвы. Реакция властей на этот акт неповиновения была мгновенной: милиция разрушила выставку с помощью бульдозеров и брандспойтов. Но так как на выставке присутствовали западные журналисты, весть об этом событии мгновенно распространилась по всему миру вместе с фотографиями бульдозеров, которые крушили произведения искусства. Эта история сильно ударила по репутации СССР за рубежом, «международная общественность» требовала, чтобы Советский Союз пошел на уступки. Следующая выставка неофициального искусства прошла в Измайлове всего две недели спустя — ее власти уже разрешили. В искусстве снова началась «оттепель».
Художники на «бульдозерной выставке». Беляево, 1974. Справа налево: М. Тупицына, В. Немухин, В. Тупицын, С. Бордачев
Пустырь на пересечении Профсоюзной улицы и улицы Островитянова, где проходила «бульдозерная выставка», – исключительно важное место для сохранения исторической памяти города. Именно здесь художники, притесняемые властями, развернули свое скромное сражение с тоталитарной системой и — в известном смысле — одержали в нем победу. Однако для меня место, где состоялась «бульдозерная выставка», не просто достойно мемориальной таблички или памятника. На несколько часов, которые эта выставка продолжалась, Беляево стало местом символического пересечения двух политических проектов Хрущева. Каждый из них имел совершенно непредсказуемые последствия — для искусства, архитектуры, для городского планирования и, наконец, для повседневной жизни. В результате жилищной политики Хрущева мы получили городское пространство с совершенно новой текстурой — в нем много пустот, пустырей, бесконечных никому не подконтрольных территорий. Они с легкостью принимают на себя функции выставочного пространства, но могут служить и любым другим целям. В свою очередь политика Хрущева в художественной сфере спровоцировала бунт художников, которые среагировали и на это пространство, и на политический контекст именно посредством искусства — мощно и решительно.
Таким образом, Беляево — пространство, в котором нематериальные эффекты культурной политики Хрущева соединились с результатами его политики в архитектурной сфере, – становится памятником, который напоминает и будет напоминать нам о том, как идеология вторгается в жизнь человека. Еще раз подчеркнем, что и материальное, и нематериальное является в этом случае порождением одной тоталитарной политической воли. Для меня же все это служит доказательством того, что микрорайон — это набор строений, а комплексное, многомерное пространство, где за кажущейся простотой архитектуры скрывается некая сложная, наполненная самыми разными деталями история.
Благодаря «бульдозерной выставке» я понял, что незримое культурное наследие Беляева — это ключ к созданию той методики, которая может использоваться для сохранения подобных районов.
3. Дмитрий Александрович Пригов — герцог Беляевский
Беляево попало в поле моего зрения лишь потому, что неофициальные художники наспех выбрали его для проведения своей выставки. И сразу в моей голове стало появляться множество разных вопросов. Было ли само это культурное событие случайностью? Был ли всплеск недовольства и неповиновения, который произошел в Беляеве, единичным — или таких выступлений здесь было много? и наконец, может быть, это место обладало каким-то особым потенциалом, представляло для художников особый интерес?
Изучив хронику художественной жизни начиная с 1960-х годов, когда этот район строился, и заканчивая сегодняшним днем, я убедился, что многие художники действительно были связаны с Беляевом.
Однако самым важным обитателем Беляева был для меня Дмитрий Александрович Пригов — поэт, художник, скульптор, один из основателей и наиболее известных представителей московского концептуализма. В тексте «Беляево 99 и навсегда», написанном уже в 1990-е годы, он перечисляет тех, кто когда-то жил здесь, но потом уехал. В своей характерной манере Пригов ставит в один ряд реальных людей и выдуманных персонажей и путает читателя, смешивая факты с вымыслом и включая в свой перечень и тех, кто явно не имел к Беляеву никого отношения: «…Аверинцев, пока не съехал в Вену, Гройс, пока не съехал в Кельн, Парщиков, пока в тот же Кельн не съехал, Ерофеев, пока не съехал под руку центральных властей на Плющиху. Съехал отсюда и Попов. И Янкилевский, но в Париж. И Ростропович, и Рушди. Но еще живут Кибиров и Сорокин. Но съехали Кабаков с Булатовым. Но еще живут Инсайтбаталло и Стайнломато. Но съехали Шнитке, Пярт и Кончелли». Так Беляево превращается в настоящее мифологическое урочище, особую культурную зону. Но почему?
Краткое знакомство с историей этой части города позволило мне выдвинуть следующую гипотезу. В беляевской жизни должно было быть нечто особенное, что выделяло этот район из числа прочих «спальников». Беляево проектировалось архитектором Яковом Белопольским и строилось как часть огромного градостроительного проекта на юго-западе Москвы в 1952–1966 годы. Этот проект особенно интересен своей социальной составляющей. Одной из главных его задач было вывести научные и образовательные институции за пределы городского центра. Новые научные институты и образовательные учреждения располагались здесь рядом с жилыми массивами. Впрочем, тенденция к децентрализации науки появилась еще до Хрущева — этот тренд уже задала сталинская высотка Московского университета, расположенная к юго-западу от центра города. Здесь стоит упомянуть и другую идею Хрущева — вывести из центра главные административные здания и построить новый правительственный район к юго-западу от столицы. Однако этот план реализован не был.
Расположение Беляево на Генеральном плане Москвы, 1971
Весь этот контекст имел огромное значение для социальной жизни Беляева. Институт космических исследований соседствовал здесь с Институтом русского языка имени Пушкина. Университет дружбы народов, основанный, чтобы поддержать постколониальные страны Азии и Африки, создавал здесь такую мультикультурную атмосферу, которой едва ли могли похвастаться другие части столицы. В отличие от северных и восточных районов юго-запад Москвы, как магнит, притягивал интеллигенцию своей академичностью и культурностью. Возможно, по той же причине позже этот район также стал средоточием художественной жизни.
Эта нематериальная компонента разительно отличает Беляево от прочих спальных районов, хотя внешне они очень похожи. В Беляеве была другая атмосфера, оно имело другую репутацию, здесь жили другие люди. В этом, кстати, состоит одна из московских особенностей: при всем визуальном однообразии микрорайонных ландшафтов здесь существует огромное культурное многообразие, неразличимое и даже отсутствующее в общепринятых представлениях об этом городе. Два соседних и внешне совершенно одинаковых микрорайона могут разительно отличаться друг от друга уровнем безопасности, культурной жизни и даже тем, как люди используют идентичные общественные пространства.
Художники, которые жили в Беляеве, были на поколение моложе участников «бульдозерной выставки». Пригов родился в 1940 году и вырос в центре Москвы. В те годы Беляево было лишь деревней на столичной окраине. Когда Хрущев закладывал основы своей архитектурной революции, Пригов был еще подростком. Став молодым человеком, он мог наблюдать последствия хрущевского архитектурного наступления. В книге «Живите в Москве!» он описал свои ощущения от того времени, опять же смешивая реальность и вымысел: «После вернулись мы в Москву, а там — Хрущев… а тут вдруг небольшие пятиэтажные дома как бросились вширь на огромные незастроенные территории, как заполонили все собой. Москва стала расти непомерно. Буквально за год расползлась по территории ближайших городов, захватив их полностью. Потом, заполняя все этими мобильными, неприхотливыми, легко воздвигаемыми, питающимися любым подножным кормом постройками, она с легкими боями вышла к Волге, форсировала ее в районе Сталинграда, перевалила за Урал, хлынула в Сибирь».
Именно в такую пятиэтажку в только что построенном Беляеве Пригов переехал со своей женой в 1965 году. а еще через пять лет — в 1970-м — они переехали еще раз, через пару улиц, в девятиэтажный дом на улице Волгина, и прожили там до самой смерти Пригова. Таким образом, с двумя самыми популярными домостроительными моделями Пригов был знаком не понаслышке. С высоты своего этажа дома на улице Волгина он мог видеть восхитительную панораму всего района — коробки домов, перемежающиеся с деревьями.
Эта перспектива, безусловно, повлияла на искусство Пригова. Его творческий метод состоял в постоянном исследовании того, что его окружало. К миру вокруг Пригов всегда относился с любопытством и всегда был открыт к новому. Городской ландшафт вызывал у него искренний интерес, и он работал с ним и в своих текстах, и в графике. Для Пригова не существовало ценностного различия между типологически разными урбанистическими ландшафтами: он уделял равное внимание и «старой Москве», и новым окраинам. В романе «Живите в Москве!», который я цитировал ранее, вновь и вновь описываются фантастические городские сценки — некоторые из них происходят в центре, а некоторые в микрорайонной застройке.
Беляево заняло в искусстве Пригова особое место. Это и стихи из так называемых беляевских сборников, и текст «Беляево 99 и навсегда», и цикл «Родимое Беляево», и многое другое — отсылки к своему месту жительства рассеяны по самым разным приговским текстам и появляются там в самые неожиданные моменты.
Каким же предстает родной район Пригова в его искусстве? Его образ микрорайонной архитектуры точно не следует стереотипам — это не унылое, серое пространство, подавляющее человеческое достоинство; не безликая бетонная архитектура, которая лишает человека всякой надежды. Напротив, из текстов Пригова возникает образ местности довольно симпатичной. Он часто обращает внимание читателя на обилие зелени, садов и прудов. Он замечательно чуток к архитектуре, и эта чуткость проявляется в его графических работах. Они полны аллюзий на имманентные черты модернистской архитектуры: в его графических сериях много прямоугольных, повторяющихся элементов и форм, сходных с коробками. Пространства, формы и пропорции, которые мы находим в рисунках Пригова, часто похожи друг на друга до полной неразличимости — и это черта именно хрущевской архитектуры.
Стоит упомянуть, что в 1966–1973 годах Пригов работал в Московском архитектурном управлении в должности инспектора по внешней отделке и окраске зданий. а это значит, что его отношение к окружающей архитектуре имело двоякую природу. С одной стороны, он исследовал эту архитектуру с позиции ее обитателя. С другой стороны, он — пусть в незначительной мере — сам формировал пространство микрорайона! Или, по меньшей мере, понимал логику его формирования.
Возможно, именно благодаря этому опыту он принялся анализировать отличия микрорайона от архетипического города и давать им оценку. Тема, которая часто повторяется в стихах и графике Пригова, – это избыток пространства между домами, бесконечная пустота. Вчитываясь в строки известного стихотворения о «милицанере», мы видим его именно на фоне микрорайона — между земным простором и небом.
Когда здесь на посту стоит Милицанер
Ему до Внуково простор весь открывается
На Запад и Восток глядит Милицанер
И пустота за ними открывается
И центр, где стоит Милицанер —
Взгляд на него отвсюду открывается
Отвсюду виден Милиционер
С Востока виден Милиционер
И с Юга виден Милиционер
И с моря виден Милиционер
И с неба виден Милиционер
И с-под земли…
да он и не скрывается
Пригов никогда явно не порицал просторность того нового архитектурного ландшафта, в котором он жил, – скорее он задавался вопросом о смысловом наполнении этой пустоты. Например, способна ли она — в потенциале — стать пространством свободы и новых возможностей? в «Родимом Беляево» Пригов то и дело (в свойственной ему ироничной манере) говорит о том, что современный просторный город обладает социальной ценностью:
Захожу в бар
Беру большую кружку пива
Долго и упрямо
Почти яростно гляжу на нее
И ухожу не тронув
Думаю, в Беляево меня не осудили бы за это
На его раскинутом пространстве
Полно места
Для любого проявления
Неоднозначнои? человеческои? натуры.
Одним из проявлений «неоднозначной человеческой натуры», в существовании которой Пригов убежден, является искусство. Пригов полагает, что поэзия имеет право существовать не только в местах прекрасных и знаменитых, но и на безликой блочной окраине. В стихотворении «Банальное рассуждение на тему: поэзия вольна как птица» утверждается, что Беляево ничем не хуже Переделкина, которое славится своими поэтами: в конце концов, муза выбирает себе пристанище не из-за славы — она является там, где захочет. У этого, казалось бы, тривиального заявления есть более глубокий смысл: допуская существование поэзии в микрорайоне (по общему мнению — второсортном архитектурном пространстве), Пригов повышает ценность самих этих пространств, поднимает их на один уровень с архитектурой архетипического города.
В Переделкино поэты
Разнобразные живут
И значительно поэтому
Меньше их в других местах
Видно так оно и надо
Но поэзия — она
Где получится живет
Скажем, у меня в Беляево
Место в Москве такое.
Беляево появляется и в мире приговской графики. У Пригова есть явные отсылки к микрорайонной, изготовленной заводским способом архитектуре; прямоугольную геометрию этих жилых домов, словно нарисованных по линейке, он часто использует как фон в целых графических сериях. Рассматривая изображенные в них истории, невозможно понять, происходит их действие в одной и той же квартире или квартиры разные, но очень похожие друг на друга. И в этих квартирах снова и снова появляются объекты с символическим значением — фантастические чудовища. Точно так же и в приговских текстах реальность постоянно переплетается с вымыслом. В его стихах возможен знаменитый битцевский маньяк, с балкона на улице Волгина может открываться вид на Гималаи, а на самой улице время от времени появляется лев. Зачем художнику нужны эти и прочие дополнительные элементы, почему он старается добавить к образу микрорайона новые, вымышленные черты? Марк Липовецкий, который занимается исследованием приговских текстов уже много лет, считает, что таким образом Пригов получал возможность создавать новую мифологию этой местности: «Москва и Беляево — для Пригова это были взаимосвязанные мифологемы. Москва, с одной стороны, и Беляево, с другой, – как его локус. Он мыслил Беляево именно как свою территорию. Это входит в логику: есть мифология Москвы, которая существовала до него, и он ее переосмысливает. а мифология Беляева до него не существовала — и он ее создает. То есть работа с мифологией Москвы связана скорее с его ранним периодом, когда он работал с существующими мифологиями, а работа с Беляевом характерна для его более позднего периода, когда он сам порождает, производит мифологии»[9] .
Одинаковые очертания комнаты, которые повторяются на всех графических листах этой серии, отсылают к повторяемости интерьеров в микрорайонной застройке
В этой стратегии действительно была своя логика: только что построенное Беляево должно было казаться местом чужим и холодным. Это был совершенно новый тип архитектуры: огромное пустое пространство, в котором тогда еще не было никакой зелени и которое заполняли только абстрактные формы безликих строений, пока еще непривычных ни для Пригова, ни для кого-либо из его современников. Чтобы стать более комфортным, микрорайон срочно нуждался в поддержке художников; хотя эти пространства отчасти заполнялись политическими смыслами, определенная идентичность у них отсутствовала. Пригов как художник приручал и апроприировал чужое пространство, ставшее местом его обитания, – именно это и стало его главным приоритетом.
По мнению Липовецкого, самым радикальным (а в контексте присвоения и одомашнивания — наиболее важным) художественным жестом Пригова стал проект «Обращения к гражданам». Он относится к 1987 году, и из-за него Пригов даже ненадолго угодил в психушку. Сотни обращений — коротких текстов, адресованных безвестным соседям Пригова, – были отпечатаны им на машинке на небольших листках бумаги. Некоторые «обращения» Пригов раздавал людям на улице, но большую часть расклеил по району — на стенах и деревьях. Липовецкий считает, что Беляево стало для Пригова холстом в буквальном смысле этого слова: «Для Пригова, который, конечно, всегда мыслил пространственно, как художник, Беляево буквально становится частью его текста, он вписывает свой текст в Беляево, он включает его в Беляево, включает в пейзажи. Эта вовлеченность пространства в его собственный текст мне кажется крайне интересной!»
Что же составляло непосредственное содержание этих обращений? На что обращал внимание своих соседей Пригов? Таких обращений были сотни — и все они были очень разными: некоторые представляли собой краткие философские сентенции, некоторые — риторические вопросы. Здесь находилось место и для тривиальных размышлений о повседневной жизни, и для настоящей задумчивости. а иногда в них содержались отсылки к тому самому месту, где эти обращения размещались, – к архитектуре, пустотности, тишине, зелени…
Граждане!
Оглянитесь окрест себя! – сколько всего трогательного
и доверчивого распространено вокруг нас!
Дмитрий Алексаныч
Граждане!
Есть неизъяснимая милость в вертикальном
стоянии стен этих квартирных, в прозрачности стекол
оконных, в теплоте отопления!
Дмитрий Алексаныч
Граждане!
Каждая точка пространства нас окружающего
чревата чудом неземным!
Дмитрий Алексаныч
Граждане!
Мы зажигаем свет в своей квартире, и она озаряет
соседние —
это замечательно!
Дмитрий Алексаныч
Граждане!
Вот мы видим след льва на улице Волгина,
он еще дымится!
Дмитрий Алексаныч
Пригов перебрал много ролей, относясь к самому своему присутствию в Беляеве как к перформансу. Он называл себя Беляевским Мудрецом, подписывал свои обращения небрежным «Дмитрий Алексаныч». Однако роль Герцога Беляевского стала именно тем, что позволило ему включить в этот перформанс все окрестное пространство целиком. Почему титул герцога? Из-за просторных пустых пространств, по которым Пригов мог долго гулять пешком — как по своим владениям. «Герцогство Беляево ограничено часом моей пешеходной прогулки. Там, куда могу дойти за час, пролегает граница».
Читая поэзию и прозу Пригова, рассматривая его графику, мы понимаем, с каким интересом он занимался изучением своего герцогства — и что он действительно стал его герцогом. Микрорайон — эта типовая среда обитания, которую большинство людей считает в лучшем случае нейтральной, а в худшем — отвратительной, становится для Пригова одним из главных объектов внимания, неотторжимой частью созданных им миров и историй, а может быть — даже источником вдохновения? Непритязательность модернистской эстетики, пустоты, в которых плавают абстрактные объекты, грубый бетон и рядом — дикие заросли, тщательная спланированность повседневной жизни — все это находит свое отражение в строках приговских стихотворений, в его рисунках и перформансах.
Стоит задаться вопросом: какую же ценность обнаружил в своих владениях Герцог Беляевский? Он работал в Московском архитектурном управлении, долгое время жил среди модернистской архитектуры — и поэтому понимал ее лучше, чем кто-либо из его современников. Увидел ли он в ней ценность пространственную или архитектурную, достойную того, чтобы увековечить ее в искусстве? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно проанализировать изначальный проект Беляева 1960-х годов.
4. Яков Белопольский: творец нового мира
Беляево было спроектировано Яковом Белопольским, одним из самых талантливых и влиятельных (хотя по сей день не очень широко известных) российских архитекторов[10] . Раньше я этого имени не слышал, хотя ходил мимо домов, которые он спроектировал, видел их на открытках и фотографиях. И они неизменно привлекали мое внимание необычностью своих архитектурных решений, амбициозностью плана и глубиной понимания урбанистического контекста.
Свою профессиональную карьеру Белопольский начал еще при Сталине (он был учеником великого архитектора-конструктивиста Бориса Иофана), а закончил после перестройки. Он был свидетелем всех важнейших эпох в советской истории, и в его проектах в той или иной мере отразились почти все важнейшие архитектурные тренды и модные тенденции этого времени. Наследие Белопольского огромно — это и памятники, и общественные здания, и жилые районы. Интересно наблюдать, как его архитектура менялась во времени — по мере того как менялся мир и Советский Союз, – но некоторые ее черты оставались неизменными и складывались в его личный архитекторский почерк.
В портфолио Белопольского входят проекты разных стилей, он участвовал в формировании большей части стилистических течений советской эпохи. Его карьера началась с проектирования сталинской высотки — Дворца Советов (совместно с Иофаном, 1937–1941). Этот небоскреб — гигантский, богато украшенный постамент для статуи Ленина — должен был расположиться в самом центре Москвы и стать «восьмой сестрой» сталинских высоток. Дворец Советов — одно из самых ярких выражений сталинской архитектурной мечты, хотя он так и не был построен. Другой проект Белопольского — огромный иконический монумент «Родина-мать зовет», построенный в Волгограде (1959–1967).
В 1960-е годы Белопольский, как и весь Советский Союз, разворачивается к модернизму. Его конкурсный проект московской Всемирной выставки 1967 года поражает своим размахом и проработанностью композиции. Вся территория выставки организована как единая суперструктура, вписанная в идеальный круг, – метафора круглого стола, за которым заседают все нации. Она изящно включала в себя множество разнообразных объектов разных масштабов и функционального назначения. Этот проект осуществлен не был, но на счету Белопольского есть и реализованные, хотя и менее масштабные проекты, выполненные в том же архитектурном стиле. Они позволяют составить представление о таланте и мастерстве этого архитектора. Московский государственный цирк на проспекте Вернадского (1965–1971) по сей день производит сильное впечатление своим светлым прозрачным фасадом, на котором покоится тяжелый купол прекрасных пропорций и тектоники. Динамичный памятник первому космонавту, установленный на площади Гагарина (1975–1980), является одним из самых запоминающихся памятников Москвы и примером того, как традиционная фигуративность в изображении советского героя может сочетаться с более современным языком.
В конце жизни Белопольский проектирует несколько зданий в уже совершенно иных экономических, политических и социальных условиях. Многие архитекторы, которые в советские годы были авторами величественных проектов, потерялись в эпоху лихорадочных перемен. Большинство зданий, которые строятся в постсоветское время, представляют собой дешевые версии коммерческого постмодернизма. Удивительным образом те несколько проектов, которые Белопольскому удалось выполнить до 1993 года — года своей смерти, обладают очень высоким качеством. Многофункциональный комплекс «Парк Плейс» на Ленинском проспекте (1989–1992) – жилой дом, в котором также есть офисные помещения, рестораны и спортивный центр, – для своего времени является проектом исключительным. Динамичное расположение окон, стен, балконов, великолепный внутренний двор и поразительное внимание к деталям выгодно выделяют это здание из ряда его современников.
Стилистический диапазон Белопольского был очень велик, но некоторые элементы присущи всем его проектам и формируют его личный стиль. Прежде всего это масштабность. И богато декорированный Дворец Советов, и проект ЭКСПО-67, который, напротив, отличается своей простотой, и даже памятники, которые проектировал Белопольский, – все их объединяет масштабность и амбициозность замысла. Они не стараются вписаться в контекст — они сами хотят стать главным пространственным ориентиром. Еще одна черта, которая, на мой взгляд, является общей для всех проектов этого архитектора, – это качество его архитектурных решений. Белопольский экспериментирует с разными стилями, но приоритетом для него всегда остается качество архитектурной разработки и оригинальность решения. Такие здания, как Институт информации, Фундаментальная библиотека социальных наук РАН СССР (1960–1974), Дворец молодежи на Комсомольском проспекте (1972–1982), формально отличаются друг от друга, но в равной мере привлекают внимание поклонников позднего модернизма.
Своим рассказом о Белопольском я только хочу подчеркнуть, что в случае с Беляевом мы имеем дело с архитектором большого таланта, мастерства и амбиций. Но на что же Белопольский направил свою творческую энергию, работая над этим проектом? На первый взгляд может показаться, что типовой микрорайон, который образуют типовые сборные коробки, — последнее, что могло бы заинтересовать этого амбициозного архитектора. Однако парадоксальным образом Беляево прекрасно вписывается в общий контекст его деятельности. В 1951 году Белопольского переводят в Моспроект, и он приступает к работе над проектом «большого» Юго-Запада. В этой части Москвы им спроектировано множество жилых районов. К концу карьеры на его счету было более 18 миллионов квадратных метров жилья! Работая над такими масштабными проектами, как Коньково-Деревлево, Беляево-Богородское, Теплый Стан или Бутово, Белопольский экспериментировал с планом, композицией и масштабом.
«Беляево-Коньковский жилой массив», как он официально назывался, был спроектирован и построен между 1964 и 1970 годом. Он занимает участок 400 гектаров, имеющий почти идеальную квадратную форму и расположенный вдоль оси Профсоюзной улицы — одного из радиусов, ведущих из центра к юго-западным окраинам города. Участок разделен на четыре почти равные части, в центре расположена станция метро. Каждая из этих четырех крупных частей, в свою очередь, делится на более мелкие. Отсюда происхождение слова «микрорайон». В описании изначального проекта вся территория в целом называется районом; четыре крупных участка, на которые она делится, – подрайоном. Микрорайон же является базовой градостроительной единицей: он представляет собой группу жилых домов, расположенных вокруг важнейших общественных зданий (школы, детского сада и пр.). Позже этот особый и узкоспециальный термин («микрорайон») получает широкое распространение и в разговорном языке служит для обозначения такого рода ландшафтов в целом. Иерархичность структуры — район, подрайон и микрорайон — позволяла наилучшим образом распределить социальные услуги между оптимальным числом граждан. Так, школа должна была быть в каждом микрорайоне, а вот кинотеатр мог быть только один на весь район и т. д.
Макет Беляево из первоначального проекта Якова Белопольского, общий план: один район, четыре подрайона, 12 микрорайонов, соединенные «зеленым поясом»
Различные варианты пространственной организации подрайона. Композиция северо-восточного подрайона (№ 1) основана на расчете оптимальных расстояний между объектами. Южные подрайоны (№ 2–3) организованы вокруг сада и прудов
12 микрорайонов Беляева (по три в каждом подрайоне) расположены таким образом, что все они соединяются друг с другом кольцом зеленых насаждений и маршрутами общественного транспорта — с таким расчетом, чтобы человеку не нужно было пересекать большие улицы. Кроме того, вдоль оси «восток — запад», параллельно улице Миклухо-Маклая, Белопольский расположил протяженный зеленый пояс: здесь, согласно проекту, должны были разместиться спортивные и развлекательные сооружения. Вся эта система благоустроенных территорий примыкала к Битцевскому лесопарку, расположенному к востоку от Беляева.
В целом план Белопольского строго следовал проектным нормам того времени, регулирующим плотность застройки и расстояния между объектами. На 150 тысяч человек — ровно 400 гектаров земли, иерархичное деление на под– и микрорайоны, 5– и 15-минутная пешеходная доступность объектов «соцкультбыта» — все эти рациональные правила действовали в то время, когда Белопольский проектировал этот район. Характерно, что в те годы существовал некий идеальный образ архитектурной среды: в советских учебниках по градостроительному проектированию даже помещались образцы идеальных геометрических композиций, которые обеспечивают пешеходную доступность общественного транспорта и прочих общественных услуг для всех жителей района.
Работа архитектора, «сверху» ограниченного строгими правилами советского градостроительного проектирования, а «снизу» — типовым характером домостроения, по большей части состояла в том, чтобы как можно более творчески распределить жилые блоки в пространстве.
Так в чем же, собственно, это творчество проявлялось? Если говорить о визуальной стороне дела — о внешнем облике района, – то здесь у архитектора было очень мало свободы. Общая атмосфера, дух района всегда предопределялся так называемыми СНИПами (строительными нормами и правилами), правилами городского планирования, ограниченным набором типовых домов, равно как и стилистической парадигмой модернизма как такового. Но зато архитектор мог определять ритм застройки, играть с высотностью, предусматривать внутренние дворы, открытые пространства, использовать особенности конкретной местности. И архитекторы пользовались этими возможностями: если сравнить с упомянутыми выше идеальными учебными образцами реальные московские микрорайоны, то в них мы обнаружим большое многообразие композиционных решений. Так, у каждого из 12 микрорайонов Беляева были своя идея и свое функциональное назначение.
Макет Беляево из первоначального проекта Якова Белопольского: пространственная композиция, составленная из готовых объектов
Архитекторы были ограничены в своих возможностях влиять на визуальную сторону архитектуры больше, чем в возможностях определять качественный уровень жизни советских граждан. Нередко архитекторам удавалось выжать максимум из имеющихся природных, топографических особенностей участка для создания благоустроенных территорий. Так, например, беляевский парк Белопольский создал на основе уже существовавшего там сада. Парковая территория расположилась посередине между тремя микрорайонами — таким образом, она находилась в пешеходной доступности для всех жителей, и они искренне полюбили это «зеленое сердце» юго-западного подрайона. Большие пруды, расположенные поблизости, стали композиционным центром нового средового пространства, образованного окружающими домами. Вода естественным образом расширяет перспективу, в ней отражаются дома, зелень, небо. Вокруг водоема выстраиваются прочие пространственные решения — ритмика, вариативность высотности, использование домов различных типов. Добавляя водный элемент в это неоднородное пространство, архитектор создавал новый, интересный городской ландшафт.
Архитекторы старались улучшить качество жилой среды всеми доступными средствами. Юго-восточный подрайон Беляева, например, был спроектирован таким образом, чтобы высокие здания с протяженными линями фасадов ограждали территорию от сильных южных ветров[11] . а тщательно спланированное распределение функциональных объектов позволило почти полностью исключить пересечение пешеходного и транспортного потоков.
Таким образом, влияние архитектора и его решений на повседневную жизнь горожан было огромным. И хотя архитекторов практически отстранили от проектирования зданий, именно они определяли, как будут устроены обширные пространства между домами, занимались городским планированием, прокладывали удобные улицы и дорожки. На первый взгляд значение этой работы неочевидно. Все эти отвлеченные технические решения действительно не так-то просто оценить — и даже осознать, – если только вы не живете в таком районе. Архитектор также мог проявить себя в создании интересных городских сред — с неожиданным композиционным устройством, ритмом, открытыми пространствами. Хотя микрорайонная эстетика кардинально отличается от эстетики архетипического города, она, безусловно, обладает своей ценностью: просто она оперирует не улицами, площадями и кварталами, а макрообъектами, которые больше всего походят на абстрактные геометрические фигуры разных цветов (зеленые, голубые, белые).
Сейчас Беляеву исполняется пятьдесят лет — самое время провести некоторую инвентаризацию. Много ли модернистских идей выдержало испытание временем и доказало свою жизнеспособность? На середину этого временн?го отрезка приходится распад Советского Союза. Беляево, как и все прочие микрорайоны, оказалось в новой реальности — не той, для которой оно проектировалось: рыночная экономика, индивидуализм, растущее число личных автомобилей, коммерциализация пространства… Список этих изменений можно было бы продолжать.
Сильнее всего от этих перемен пострадал «зеленый пояс». Обширная зеленая зона (где граждане должны были проводить свой досуг), похоже, с самого начала казалась слишком обширной. Даже в условиях социалистической экономики, когда земля не имела денежной стоимости, такой огромный и прекрасно расположенный свободный участок был чем-то немыслимым, и уже к 1970-м годам он заполняется жилыми постройками, не предусмотренными первоначальным проектом. С приходом «капитализма» этот процесс только ускорился (земля рядом с метро стремительно подорожала), и вскоре от «зеленого пояса» осталось одно лишь воспоминание. На его территории беспорядочно расположились ларьки, будки и торговые центры.
В отличие от «зеленого пояса», находившегося в центральной части района, жилые комплексы, расположенные на его окраинах, остались такими же, какими и были. Только деревья выросли, и прямо на территории города образовался лес, через который то и дело проглядывает белый прямоугольник дома и в котором можно набрести на открытую поляну с прудом посередине. Отправиться весной на прогулку по пешеходному кольцу Беляева — все равно что отправиться на прогулку в парк. Быть может, эта архитектура уже устарела морально, вышла из моды; пешеходные зоны скукожились; нет удобных подъездов для автотранспорта; там и тут выросли заборы, которые разделяют пространство бессмысленно, без всякой логики. Но, несмотря на все это, район еще сохраняет черты, которые были особенно дороги его проектировщику. Системе удается сохранять свою целостность и функциональность, поскольку в нем сохранилось кольцо, соединяющее группы строений с важнейшими объектами транспортной и сервисной инфраструктуры.
Гуляя по этому району, вы чувствуете ритмичность в расположении заросших зеленых участков. Та же ритмичность ощущается в просветах между домами, через которые открываются интересные виды на модернистский ландшафт, и в открытых пространствах со спортивными объектами. Можно подумать, что это прогулочное кольцо задумывалось специально для того, чтобы здесь можно было составить полное представление о городской среде нового типа. В отличие от более ранней и очень плотной застройки здесь много зелени, простора и света. Сад, расположенный в юго-западном подрайоне, и пруды, расположенные по соседству, образуют зону отдыха, которая в центральной части города просто немыслима. Судя по количеству людей, которые приходят сюда летом, это место заменяет жителям соседних домов дачу — не нужно никуда ехать, все под боком. И, наконец, последнее, но не менее важное обстоятельство: весь этот ансамбль, спроектированный для проживания 150 тысяч человек, обладает пространственной целостностью. Часто такие районы считают скучными. Но неужели мы, утомленные городом, который больше всего напоминает огромное лоскутное одеяло и пестрит разными случайными элементами, – неужели мы и теперь не сможем оценить визуальную простоту микрорайона?
Беляево было построено полвека назад, но до сих пор сохраняет черты, заложенные в изначальном проекте: здесь по-прежнему много зелени, общественные пространства организованы вокруг водоемов и т. п. Фотография Макса Авдеева
Думаю, что в Беляеве, как и в других похожих районах, можно обнаружить множество очень качественных проектных решений. Вопреки распространенному мнению микрорайон не является бездумной и бездушной «машиной для жилья». Архитекторы того времени работали в тисках строжайших ограничений, которые накладывали на них СНИПы, фабричный способ производства и серийность — но, несмотря на все эти ограничения, им удавалось находить блистательные пространственные решения. Собирая микрорайон из ограниченного набора готовых блоков, они демонстрировали невероятную чуткость к формированию городских сред, сохраняли особенности природного ландшафта и творчески их использовали. Они создавали непритязательные, скромные, но максимально комфортные для проживания сре́ды. В принципе, в чем разница между архитектором, который проектирует фасад, и архитектором, который использует свой творческий потенциал для создания некоей идеальной среды? Он не перестает быть архитектором от того, что не занимается проектированием отдельных зданий. Белопольский и его современники создавали архитектуру совершенно иного уровня. Хотя ее масштабность трудна для восприятия, а сегодняшняя репутация микрорайонов однозначно негативна, я считаю, что талант и творческие усилия этих архитекторов не пропали даром — они достигли поставленных целей и создали качественную архитектурную среду вопреки всем существовавшим тогда формальным ограничениям.
5. Концептуальный микрорайон
Когда я впервые познакомился с творчеством Дмитрия Александровича Пригова, с его художественным методом, у меня возникло ощущение, что московский концептуализм и советская версия модернистской архитектуры имеют некие общие черты. Более подробное знакомство с идейной основой советского модернизма убедило меня в том, что между работами архитекторов и художников тех лет существует и философское, и эстетическое родство.
Какой же природы были эти отношения? С чем мы имеем дело в произведениях художников-концептуалистов — с восхищением модернистской архитектурой или, напротив, с ее жесткой критикой? Насколько глубока была эта связь архитектуры и искусства — обращаются ли художники только к внешней стороне произведений, созданных архитекторами, или исследуют философские основы образа мысли, свойственного Новому времени, то есть образа мысли этих архитекторов? И, наконец, мог ли советский микрорайон быть источником вдохновения для концептуалистов — или он служил им только рабочим материалом, который они деконструировали или подвергали творческой трансформации?
Концептуалисты появились после того, как строительство первых микрорайонов было уже закончено. Хрущевский эксперимент начался в середине 1950-х. Первая его фаза длилась примерно десятилетие — до момента, когда Хрущева сменил Брежнев. Если учесть еще и инертность, свойственную архитектуре (годы, которые отделяют первые разработки от окончания строительства), то получится, что волна архитектуры, инспирированная хрущевскими идеями, полностью материализовалась до конца 1960-х. Художник Юрий Альберт датирует возникновение московского концептуализма примерно 1971–1972 годами, когда были созданы первые работы Ильи Кабакова и Комара и Меламида. К этому времени абстрактные идеи Хрущева уже приняли очень конкретные очертания в виде первых крупных микрорайонов. Архитекторы, руками которых они строились, были на поколение старше концептуалистов. Так, например, Яков Белопольский родился в 1916 году, Дмитрий Александрович Пригов — в 1940-м. Московские концептуалисты были ровесниками тех архитекторов, которые либо открыто критиковали современную архитектуру, либо — по меньшей мере — видели ее недостатки и предпринимали попытки ее реформирования.
Как же выглядела микрорайонная застройка в этой временно́й перспективе? Ее стремительное появление на обширных территориях, которые еще недавно были пригородами, на месте полей и деревень, безусловно было темой актуальной и важной: микрорайоны можно было презирать или любить, но их нельзя было игнорировать. В 1970-е годы абстрактная природа модернистской архитектуры еще оставалась прекрасно зримой и ощутимой. Белым коробкам домов еще не нанесло ущерба ни время, ни беспорядочное размещение рекламы — она появится позже, с наступлением капитализма. Однако более важно то, что в те годы безымянная, простая, однообразная архитектура соответствовала общему восприятию жизни в СССР. Однообразие жилья для многих могло символизировать однообразие товаров, мест и ситуаций, которые ежедневно потребляли и в которых ежедневно оказывались жители этого государства. Пуританские фасады домов могли восприниматься как воплощение тех спартанских условий, в которых жил каждый. В этой ситуации модернистская архитектура в целом и микрорайонная застройка в частности с легкостью превращались в физическое воплощение — или метафору — жизни в Советском Союзе и, соответственно, становились очень уязвимой для критики, пародии и иронии.
Художники-концептуалисты, безусловно, предпринимали попытки эту архитектуру критиковать или высмеивать. Главным инструментом их критики был абсурд. Архитекторы стремились создавать идеальные жилые пространства, руководствуясь принципами рациональности, законами геометрии и организационной целесообразностью. Но столкновения с реальностью — непредсказуемой и полной несовершенств, – равно как и столкновения с советской политической системой часто порождали абсурдные ситуации. Художники осмысливали это в своей концептуалистской манере. В работах «Коллективных действий» абсурд часто становился способом осмеяния политической ситуации. Художники писали смешные высказывания на транспарантах, очень похожих на те, что использовались в официальной пропаганде. Но развешивали они их не в публичном месте, не в центре города, а посреди леса, где никто не мог их увидеть.
Абсурдный лозунг группы «Коллективные действия», написанный на транспаранте — классическом носителе советской государственной пропаганды
Однако абсурдность этой новой архитектуры не всегда выявлялась художниками для того, чтобы ее раскритиковать. Работа Эрика Булатов «Не прислоняться» — хороший пример более тонкого подхода. На этой картине массивная, прямоугольная надпись «Не прислоняться» (прекрасно знакомая каждому пассажиру московского метро) визуально сливается с пейзажем на линии горизонта и зависает между небом, полем и лесом — то ли буквы, то ли дома удаленного района. Что это, критика тотальной унификации, благодаря которой все элементы (даже столь разные, как надпись на стекле или жилые новостройки) кажутся похожими? Или же это скорее восхищение новыми интерпретационными возможностями, которые открываются в новом, модернистском мире?
«Проект биографии одинокого человека», «Проект жилого помещения для одинокого человека» и «Режим дня одинокого человека» Виктора Пивоварова
Габариты для типовых проектов, которые использовались в советской архитектуре. Чертежи архитектора Лазаря Чериковера
Критика «героического модернизма», которую можно было слышать от постмодернистских архитекторов (современников концептуалистов), обычно была куда более резкой — по сравнению с ней позиция художников-концептуалистов кажется сложной и неоднозначной. Кажется, что художники скорее деконструируют окружающий модернистский ландшафт и используют отдельные его элементы в своих художественных целях, нежели полностью его осуждают. Некоторые его компоненты полностью инкорпорировались в произведения искусства, а некоторые отзывались в них лишь эхом. Какие же компоненты замечали и использовали концептуалисты? Прежде всего — модернистскую рациональность. Художников-концептуалистов она, видимо, восхищала. Часто язык их произведений включает геометрические фигуры и числа. В перформансах «Коллективных действий» число зачастую играет особую роль, а само действие нередко должно быть повторено определенное количество раз. «Элементарная поэзия» Андрея Монастырского пестрит цифрами, графиками и диаграммами — и больше похожа на работу по физике, чем на поэзию. Газеты — этот логически и иерархически организованный инструмент для распространения информации — часто используются в графике Пригова как фон.
Сравнение фрагмента «Элементарной поэзии» Андрея Монастырского и эскиза района Беляево, выполненного Яковом Белопольским, обнаруживает поразительные переклички между поэзией и архитектурой
Еще одна черта современной советской архитектуры, которая нашла свое отражение в концептуализме, – это тотальность подхода. Одним из столпов советского модернизма была так называемая комплексная застройка. Это подразумевало, что микрорайон проектировался по некоему целостному, всеобъемлющему плану и что все его компоненты — дома, школы, детские сады, дороги, парки и пр. – строились одновременно. Со всей очевидностью это значило, что его единственный инвестор — государство — сохранял тотальный контроль над проектированием жилой среды граждан. Тотальность, которая в архитектуре выражала себя как тотальность нормированности и стандартизации, также имеет параллель в искусстве того времени. Инсталляции, которые художники начинают создавать в начале 1980-х годов, служат тому наилучшей иллюстрацией. Поскольку художникам-концептуалистам было сложно получить доступ к официальным выставочным залам, они организовывали выставки у себя дома. В 1983 году Ирина Нахова раскрасила в своей квартире стены и пол. Таким образом она создала новый объект — образ, внутрь которого можно было зайти. «Комнаты» Наховой стали предтечами «тотальных» инсталляций Ильи Кабакова. Для Кабакова тотальная инсталляция является материализацией иллюзии проникновения вглубь картины. «…Он <зритель> одновременно и „жертва“, и зритель, который, с одной стороны, обозревает и оценивает инсталляцию, а с другой — следит за теми ассоциациями, мыслями и воспоминаниями, которые возникают в нем самом, охваченном интенсивной атмосферой тотальной инсталляции»[12] . «Искусство инсталляции — невероятно эффективный инструмент погружения зрителя в тот объект, который он наблюдает»[13] ).
Инсталляция Ирины Наховой «Комната № 2», 1984
Тотальность — характерная черта кабаковского творчества. Достаточно посмотреть, как устроен его проект «Альтернативная история искусства». Кабаков строит в музее тотальную инсталляцию музея: он придумывает несуществующих художников, сочиняет им биографии, создает их произведения и даже музейную архитектуру. Рациональность и тотальность — в архитектуре и в искусстве — естественно вела к оперированию реди-мейдами, серийности и повторяемости. Архитекторы того времени располагали каталогами готовых архитектурных решений, которые они компоновали в пространстве. Художники-концептуалисты — например, Пригов или Булатов — опредмечивали язык, превращая слова в объекты. «Стихограммы» Пригова представляются мне переходной формой между поэзией и графикой — их можно и читать, и рассматривать. С помощью печатной машинки Пригов мог создавать совершенно новые композиции, используя слова в качестве предметов.
Сравнение графики Пригова и фрагментов Генплана различных московских микрорайонов позволяет обнаружить общую для искусства и архитектуры тех лет логику создания цельной композиции из готовых объектов
Бесконечное повторение этих слов-предметов Пригов использовал много раз. Использование печатной машинки позволяло ему повторять одни и те же слова — подобно тому, как архитекторы благодаря заводскому способу производства могли повторять здания. Подобную повторяемость можно было на самом деле обнаружить повсюду. В стихах Пригов много раз повторял одни и те же слова (например, в уже упомянутой поэме о «милицанере»). Иногда эти повторения обретали форму серийного метода работы, хорошо известного из архитектуры. Большая часть приговской графики образует именно серии — в них повторяется фон, они выдержаны в одной эстетике, во многих графических сериях присутствуют одни и те же ключевые элементы.
Однако для того чтобы создать полноценный портрет микрорайона, недостаточно обратить внимание только на серийность жилых домов (сродни реди-мейдам), на заводской способ изготовления его компонентов и однообразие фасадов — потому что все это окружает и наполняет избыточное пустое пространство. Эту вездесущую пустоту — имманентную черту микрорайона, которая отличала его от западных аналогов, – также замечали и использовали в своих произведениях художники-концептуалисты. Группа «Коллективные действия» превратила пустынные пригороды в составную часть своих перформансов, живописцы инкорпорировали ее в свои картины, а поэты — в стихи.
На первый взгляд черта, которая заметно отличает концептуалистов от модернистов, – это язык, которым они пользовались. Язык модернистов был нарочито простым, монотонным и однообразным. Чтобы рассказывать свои истории, московские концептуалисты, напротив, могли пользоваться любым языком. Они писали, рисовали, устраивали перформансы; позже они не боялись использовать видео, еще позже — интернет. В своих текстах они задействовали и высокий, и низкий стилевой регистр, использовали любые слова, если те подходили для достижения их целей. Парадоксальным образом именно благодаря такой открытости к разным языкам концептуалисты не боялись исследовать — и использовать — и язык модернистской архитектуры.
Кроме того, разница между языком концептуалистов и модернистов является в значительной мере иллюзорной. Эстетика хрущевской архитектуры была сурова, она была очищена от всего, что не является абсолютно необходимым. И здания, и квартиры были спроектированы минималистично, в них отсутствовали какие-либо отличительные черты — они просто выполняли свою первичную функцию. То же можно сказать и о концептуальном искусстве, несмотря на все разнообразие его средств выражения: это искусство ориентировано на то, чтобы транслировать свои смыслы, на репрезентацию своего концепта — его не интересует поверхностно понятая красота.
Было ли обращение концептуалистов ко всем этим компонентам модернистской архитектуры осознанным или нет? Во всяком случае, в результате возникла очень изощренная конструкция, в которой архитектура и культура усиливали друг друга. Сначала художники использовали микрорайон как материал для своей творческой работы. И даже если микрорайон отчасти подвергался их критике, он действительно стал органичной частью этого направления в искусстве. Концептуализм, в свою очередь, действительно стал «новым уровнем» модернистской архитектуры, которая до этого оставалась безымянной и лишенной какой-либо культурной идентичности. Вследствие этих процессов и Беляево смогло обрести собственную мифологию и зачатки собственной идентичности.
История знает и другие периоды, когда искусство и архитектура подпитывали друг друга, но здесь следует избегать поверхностных аналогий. Беляево следует сравнивать не со сходными архитектурными объектами, а с пространствами, которые без своего нематериального наполнения не имели бы никакой ценности. В связи с этим интересным примером мне представляется деревня Живерни — источник вдохновения Клода Моне. Эта деревня очень красива, но она бы никогда не привлекла к себе столько внимания, если бы здесь не жил этот знаменитый художник и если бы он не запечатлел ее в своей живописи. Без Моне она не имела бы культурной ценности.
Живерни расположена в Нормандии, в 75 километрах к северо-западу от Парижа. Моне открыл ее для себя в 1883 году. Он сразу влюбился в эту деревню, окруженную прекрасными идиллическими ландшафтами, и сразу решил купить здесь домик с садом. В этом домике он жил до самой своей смерти.
Довольно скоро Живерни и сад, который Моне обустроил по своему вкусу, стали появляться в его картинах. Поначалу он писал окрестные сельские пейзажи, но потом в основном стал рисовать именно сад. Моне был не единственным импрессионистом, которого покорила эта деревня: это место стало популярным среди американских живописцев, в поисках вдохновения они приезжали сюда десятками.
Значит ли это, что Беляево благодаря тесной связи с искусством тоже могло бы занять свое место в списке охраняемых памятников? Я считаю, что его следовало бы туда включить. Этот микрорайон — часть интересного и важного явления, связующее звено между концептуальным искусством и модернистской архитектурой. а связь между ними была многосторонней, неоднозначной и непростой. Случай Беляева и Дмитрия Александровича Пригова — лучшая иллюстрация взаимосвязи архитектуры и искусства того времени. Единственное отличие Беляева от Живерни состоит в следующем: в случае с Моне мы имеем дело с традиционным искусством, основанным на восхищении визуальным объектом, между тем как суть искусства, укорененного в Беляеве, состояла в концепциях, которые не являются непосредственно зримыми.
6. Миссия невыполнима: сохранение непримечательного
Я пытался показать, что Беляево обладает некой особой ценностью — ценностью, которая складывается из сочетания материальных и нематериальных элементов. Эта ценность неочевидна, показать и описать ее было для меня сложной задачей. Понять ее можно, только потратив время и приложив к этому усилия, – и такие же усилия требуются для понимания абстрактных сообщений и сложности концептуального искусства. Однако, убедившись в истинности и несомненности этой ценности, я задался следующим вопросом: что можно сделать для ее сохранения? Какие для этого существуют юридические инструменты (если они вообще существуют)? Каковы эти процедуры и методы?
В поисках ответов я обратился к опыту ЮНЕСКО, главной инстанции по сохранению мирового наследия, главному «тренд-сеттеру» в этой области и разработчику соответствующих нормативных документов. С точки зрения ЮНЕСКО, философской основой для сохранения того или иного памятника служит набор парадигм, который включает в себя уникальность, подлинность и целостность. Важными факторами также являются возраст памятника и его нынешнее состояние сохранности. Эти парадигмы никто не подвергает сомнению — они отвечают здравому смыслу и существующей практике. Иногда в список ЮНЕСКО в виде исключения попадает объект, который не отвечает этим парадигматическим требованиям (например, полностью отстроенный заново и, следовательно, лишенный аутентичности исторический центр Варшавы, разрушенный во время Варшавского восстания 1944 года). Но в таких случаях включение в список маркируется именно как исключение, и ЮНЕСКО объясняет причины, по которым это было сделано.
Особый интерес для меня представляли правила, действующие в отношении нематериального наследия. ЮНЕСКО не только признает его существование, но даже предлагает обширную программу по его защите. Однако эта программа существует совершенно отдельно от Списка Всемирного наследия, в который входят материальные памятники архитектуры. Больше того, нематериальное наследие, в понимании ЮНЕСКО, – это прежде всего живые традиции, культурные ритуалы и т. п., то есть нечто с архитектурой совершенно не связанное.
Критерии сохранения всемирного наследия (то есть наследия материального, архитектурного) включают некоторые пункты, в которых хотя бы упомянута культурная или нематериальная ценность объекта как обстоятельство, возможно, имеющее значение для архитектуры. Однако имеющиеся критерии со всей очевидностью недостаточны для того, чтобы по справедливости оценить значимость Беляева — иными словами, подавать в ЮНЕСКО заявку на включение Беляева в их список практически бессмысленно. Например, первый критерий («объект представляет собой шедевр человеческого созидательного гения») к архитектуре Беляева точно неприменим: мы имеем дело с очень непритязательной архитектурой, и апелляция к этому критерию была бы похожа на шутку. Третий («объект является уникальным или по крайней мере исключительным для культурной традиции…») и в особенности шестой критерий («объект напрямую или вещественно связан с событиями или существующими традициями, с идеями, верованиями, с художественными или литературными произведениями и имеет исключительную мировую важность») теоретически могли бы подойти для описания уникального нематериального содержания этого района. Однако они применимы только к отдельным его аспектам и не описывают ситуацию в целом.
Ни один из этих критериев по сути не схватывает той ценности, которой обладает Беляево. Это сложная ситуация — мы имеем дело с взаимным влиянием и воздействием разных благоприятствующих факторов. С одной стороны, модернистская — и, казалось бы, столь недружелюбная — архитектурная среда стимулировала художественную деятельность. С другой стороны, художественное содержание наделяет своей ценностью непримечательную архитектуру. Соответственно, я предлагаю ввести новый критерий, согласно которому основанием для придания охранного статуса тому или иному объекту станет не его архитектурное качество, а неразрывная связь этой архитектуры с ее нематериальным содержанием.
Я бы сформулировал этот новый критерий следующим образом: «Являть собой пример симбиоза архитектурной среды и ее нематериального содержания (к нематериальному содержанию могут относиться события и живые традиции, идеи и верования, художественные и литературные произведения выдающегося мирового значения), существенно повышающего ценность самой архитектурной среды».
Сегодня у нас нет инструментов, чтобы работать со смешанной, материально-нематериальной формой наследия, поэтому введение нового критерия или создание совершенно новой программы защиты такого наследия представляется мне неизбежным. Как уже говорилось, сейчас самым ранним образцам массовой, типовой архитектуры исполняется пятьдесят лет — это психологический рубеж, и мы начинаем задумываться о ее сохранении. В связи с этим возникает необходимость некоторых методологических сдвигов — в пользу более комплексного подхода, в котором архитектура рассматривалась бы как часть некоего целого, а не сама по себе. Комплексность подхода подразумевает прежде всего внимание к нематериальным ценностям — процессам, которые происходили в этом месте, культурному контексту и пр.
Изменим существующий подход к нуждам сохранения памятников!
Какие последствия будет иметь изменение нашего образа мысли? Во-первых, я думаю, изменятся сами философские основания охранной методологии. Эта методология по сей день ориентируется именно на защиту уникальных зданий. При этом сами охранные методы, которые к этим памятникам применяются, совершенно не уникальны. Для сохранения, скажем, Мачу-Пикчу (Перу) и Зала столетия во Вроцлаве (Польша) использовалась почти одинаковая методика. Согласно этой методике, подлинные элементы подлежат выявлению, реставрации (они приводятся в изначальный вид) и сохранению. Новые элементы (например, поддерживающие конструкции или дополнительные функциональные элементы) должны иметь подчеркнуто современный вид, чтобы не сбивать посетителя с толку — и это действительно важно. К объектам всемирного наследия должен быть обеспечен доступ людей, то есть эти объекты должны быть достоянием общественности. При этом, однако, памятники архитектуры полностью изолируются от своего первоначального контекста — вокруг них строят заборы и создают буферные зоны, чтобы регулировать доступ посетителей. Эти объекты защищают от физических повреждений, но сразу же превращают их в мертвые пространства. В них возможна только одна форма жизни — туризм.
Будем надеяться, что новая разновидность архитектуры, которая возникла пятьдесят лет назад благодаря индустриализации строительной отрасли, изменит существующее положение дел. Эти здания тоже будут признаны ценными, хотя они и не уникальны. Типовые методы защиты придется заменить индивидуальными. В этом новом мире мы будем сохранять неуникальные здания в силу их нематериальной ценности. В каждом отдельном случае эту дополнительную ценность нужно будет выявлять, исследовать, понимать, в чем она состоит. И методы ее сохранения, наверное, будут определяться именно исходя из местной нематериальной специфики. Мне кажется, что это путь к преодолению кризиса уникальности: нехватка уникальности в архитектуре будет компенсирована уникальностью тактических решений в области сохранения памятников, и эти решения будут основываться на глубоком понимании нематериальной ценности того или иного места.
При этом возникнут некоторые проблемы, связанные со строительными технологиями. В середине ХХ века они претерпевают существенные изменения, и это приводит к возникновению нового типа архитектуры. Во-первых, речь идет о промышленном производстве строительных конструкций, благодаря чему строительство приобретает совершенно новый масштаб. Во-вторых, появляются новые методы строительства и новые материалы: сборные фасадные панели, навесные наружные стены и пр. Подход к сохранению домов массового производства должен отличаться от подхода к сохранению единичных, уникальных зданий. Методы сохранения навесной наружной стены не могут — и не должны — быть такими же, как методы сохранения кирпичной стены XVI века. И наконец, вместе с изменением характера охраняемых объектов изменится и сама дисциплина, которая занимается их охраной. Стремление сохранить не только архитектуру, но и ее нематериальную составляющую сделает неприемлемой изоляцию архитектурного объекта от его физического и социального контекста (между тем сейчас происходит именно это). Сохранить нематериальную ценность можно, лишь поддерживая в ней жизнь, сохраняя ее причастность к событиям современности. Соответственно, в будущем защита памятников будет состоять не только в их физическом сохранении, но и в том, чтобы поддерживать их жизнеспособность. Пассивный подход будет заменен инициативным.
Россия, как мне кажется, – самая благодатная почва для опробования этих новых подходов к сохранению модернистской архитектуры. Именно здесь, в условиях тоталитарного государства, модернистский эксперимент получил принципиально новый масштаб и осуществился с беспрецедентной полнотой. В результате промышленной оптимизации строительства возникли сотни новых городов — крупных и маленьких, – и тысячи городских районов с типовым архитектурным ландшафтом, однообразным и лишенным всякой индивидуальности. Непреложный перфекционизм мысли реализовался в далеких от совершенства архитектурных средах. С другой стороны, Россия ХХ века — это страна с пульсирующей, разнообразной и глубокой культурой, которая невероятно усиливает значимость самой модернистской архитектуры. Сюда можно отнести и концептуальное искусство, и кинематограф, и даже явления повседневной жизни.
То, что именно в России следует опробовать новые подходы к охране памятников, кажется мне справедливым во всех отношениях. В силу политических факторов модернистский архитектурный проект в Советском Союзе реализовался в гораздо более радикальной и бескомпромиссной форме, чем где бы то ни было, и оказался гораздо более долговечным. В России эти районы оказываются перед лицом тех же проблем, что и на Западе, но масштаб этих проблем существенно больше. Радикальность нового подхода к сохранению наследия радикального модернистского проекта будет способствовать производству знания и позволит нам найти более разнообразные решения для этой проблемы, чем умеренный компромисс.
Москва в этом отношении особенно важна. В своем архитектурном развитии советские города ориентировались на столицу как на образец, и она может стать прекрасным полигоном для опробования тех решений, которые потом будут применены повсеместно. Пятьдесят лет назад гигантская волна новой архитектуры поднялась в Черемушках и захлестнула всю территорию советской империи. Сейчас пришло время, чтобы то же произошло и с новыми методами сохранения памятников. И, пожалуй, начать стоит в 4 километрах к юго-востоку от Черемушек — в Беляеве.
Эпилог: Беляево навсегда?
Но что мы должны предпринять, чтобы сохранить Беляево? Какая тут возможна стратегия? Какие для этого есть инструменты? Существующие критерии, по которым объекту присваивается охранный статус, не подходят для типовой, однообразной современной архитектуры. Ни один из этих критериев не годится для работы со смешанным культурным наследием — материальным и нематериальным одновременно. а если бы какой-то критерий и подошел, никаким инструментарием для сохранения нематериального наследия мы все равно не располагаем. Мы бы могли превратить Беляево в зону эксперимента — подобно тому, как Черемушки полвека назад стали испытательным полигоном новых строительных технологий. Именно в Беляеве мы бы могли опробовать новые методы охраны памятников и оценить их перспективность.
Район Беляево в сравнении с застройкой центральной части Москвы (внутри Бульварного кольца)
Представим себе, что мы добились своего, и ЮНЕСКО включила Беляево в Список Всемирного наследия. Что будет происходить дальше? Прежде всего, специально для этого типа наследия будет разработана особая стратегия сохранения. При разработке этой стратегии нужно будет учитывать то обстоятельство, что ценность Беляева лишь отчасти состоит в его внешнем облике. Я совершенно уверен, что в тех случаях, когда существует неразрывная связь между архитектурой и неким культурным событием, то именно эта культурная составляющая должна помочь нам определить, какой архитектурный элемент нуждается в сохранении или, по меньшей мере, должен быть отмечен мемориальной табличкой.
Должны ли мы рассматривать Беляево как архитектурный объект или как архитектурный ансамбль? При всей протяженности этой территории (Беляево занимает площадь 400 гектаров) она обладает композиционной цельностью. По своему устройству он больше напоминает дом, чем дифференцированный урбанистический ансамбль. В самом деле, Беляево проектировалось как цельный объект — единолично и единовременно. Именно так проектируется отдельное здание. При этом цельность района видна только сверху, при многократном удалении от него — когда вы рассматриваете его на чертеже или со спутника. Находясь в самом Беляеве, осматривая его с близкого расстояния, стоя среди домов, зелени и водоемов, вы можете подумать, что их расположение беспорядочно и даже хаотично. Стоя на земле, мы можем вообще не чувствовать, что это пространство (со всеми его пустотами, длинными аллеями и россыпями однообразных типовых объектов) как-то специально организовано. Но тем не менее именно это пространство повлияло на формирование московского концептуализма, стало местом жительства и источником вдохновения для выдающихся художников. Поэтому я считаю, что в случае с Беляевом предметом сохранения должны стать не дома, как это принято в отношении архитектурных шедевров, а, наоборот, пространство между домами.
Чтобы лучше понять, как это сделать, нужно подробнее изучить те особенности микрорайона, которые привлекали самих художников-концептуалистов.
Одна из этих особенностей — это, конечно, его тотальный характер. В связи с этим сразу возникает вопрос: как подступиться к сохранению этой целостности? Частичное сохранение такого цельного организма, как советский микрорайон, вряд ли возможно. Да и вряд ли необходимо. В этом отношении у Беляева много типологических родственников — так выглядит застройка 80 процентов Москвы, и репутация у нее не очень хорошая, поскольку условия жизни в подобных районах средние, а квартиры маленькие. Продолжительность жизни этих домов, заложенная при их проектировании, составляет пятьдесят лет, и сейчас они приближаются к этому рубежу. Особенности промышленного изготовления этих зданий делают их сохранение делом сложным и дорогостоящим. Кроме того, демографическая ситуация в России, а именно снижение численности населения позволяет предположить, что вряд ли мы можем ждать новой волны урбанизации, которая сметет микрорайоны. Они будут доминировать в архитектурном облике Москвы еще многие годы. И наконец, советская домостроительная индустрия продолжает работать и по сей день — она производит дома из тех же модулей, что и раньше, и, таким образом, обеспечивает естественное воспроизводство микрорайонов. Старые дома просто заменяются новыми из той же серии. Все это приводит нас к выводу, что нет нужды сохранять микрорайон во всей его целостности. Когда мы имеем дело с архитектурой такого масштаба и такого уровня стандартизации, более целесообразным представляется сосредоточить наше внимание лишь на некоторых ее ключевых элементах (и, соответственно, сохранять именно их).
Вместо тотального сохранения я бы предпочел сохранять элементы, которые обеспечивают целостность микрорайона. Объектом сохранения должны стать не отдельные здания, а такие системообразующие элементы, как зеленое пешеходное кольцо и шаговая доступность объектов социального значения. Определяя объект сохранения, мы должны сделать кинематографический «отъезд», сменить масштаб, потому что ценность представляет именно общий план Беляева, а не его отдельные составляющие.
В связи с этим возникает вопрос: что в таком случае делать со зданиями? Одна из особенностей, которая присутствует и в архитектуре Беляева, и в искусстве, которое здесь возникло, – это использование готовых объектов. Если мы посмотри, как устроен этот микрорайон, то увидим, что он по преимуществу составлен из неких готовых и распределенных в пространстве блоков. Сами здания по большей части являются лишь воспроизводимыми элементами серии — модульными заготовками, разработанными с целью оптимизации расходов и повышения эффективности. Во внешнем облике этих домов не проявляется индивидуальность архитектора, который их спроектировал. Задача архитектора состояла лишь в том, чтобы расположить эти объекты наилучшим образом. В Беляеве, однако, эти композиционные решения обнаруживают большое разнообразие. Это позволяет сделать вывод, что сами объекты служили архитекторам чем-то вроде разменной монеты. Блоки, которыми они оперировали, были абсолютно заменяемыми — значение имели только неизменность их внешнего контура и объема и цельность общего плана застройки.
Повторяемость как базовый принцип организации района Беляево на градостроительном и архитектурном уровнях. Фотографии Макса Авдеева
Разумеется, стратегия, направленная на сохранение общего контура, а не конкретного здания, ставит нас перед новыми дилеммами. Что делать с теми зданиями, которые обладают исторической или культурной ценностью? Я считаю, что в случае с типовой архитектурой объектом сохранения должно стать место, а не обязательно само здание. Так, после смерти Пригова в 2007 году семья превратила его квартиру в музей. В случае сноса здания и возведения на его месте нового, но точно такого же, музей просто восстанавливается точно в том виде, в котором он был — на том же этаже и в том же месте.
Еще один прием, которым часто пользовались концептуалисты, – это повтор. Объект или слово, воспроизведенные десятки, сотни и тысячи раз, отличается по смыслу от единично использованного слова или объекта. В архитектуре повторяемость имеет негативный оттенок: такая архитектура считается монотонной, скучной и некрасивой. При этом повторяемость составляет имманентную характеристику микрорайона. И здесь возникает соблазн обратить принципиальную повторяемость, присущую микрорайону, на его благо — и посмотреть, что она добавляет к его ценности. Заводы, например, могли бы заняться производством запчастей для таких зданий или неких дополнительных элементов (например, приставных балконов), которые бы сделали их облик более индивидуальным.
Совершенно не умаляя мемориальные достоинства микрорайона, присущая ему повторяемость могла бы использоваться как раз для сохранения исторической памяти. Например, существует распространенная практика сохранять дома, в которых жили выдающиеся люди. Но что, если память об этом человеке связана с целым рядом домов? в таком случае недостаточно просто повесить на дом табличку: «Здесь жил Дмитрий Александрович Пригов», «Этот вид Дмитрий Александрович Пригов наблюдал из своего окна». Следует сделать выпуск таких табличек серийным и размещать их на фасадах домов той же серии: «Точно в таком же доме жил Дмитрий Александрович Пригов», «Такой же вид открывался из окна Дмитрия Александровича Пригова». Обращая внимание на неуникальность этого вида и на неуникальность окна, из которого этот вид открывался, мы расширяем границы беляевского опыта за физические пределы этого района.
В Юго-Западном районе есть панельный дом, ставший одним из героев знаменитого фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Молодой врач напился и вместо своей московской квартиры попал в такую же квартиру на такой же улице в Ленинграде и открыл дверь таким же ключом. Таким образом, фильм обыгрывает именно одинаковость советской архитектуры.
Мемориальная табличка на доме в Юго-Западном районе Москвы
Долгое время рядом с подъездом этого дома висела мемориальная табличка, которая сообщала, что здесь снималась «Ирония судьбы». Но такие таблички могли бы разместить у своих подъездов жители многих других домов — тем самым они воплотили бы в жизнь абсурдистский сюжетный ход самого фильма.
Если мы хотим сохранить логику общего плана района, то мы должны сохранить и присущую ему пустотность. Пустотность — одна из главных черт микрорайонной застройки. Когда эти огромные пространства между домами проектировались на бумаге, предполагалось, что здесь расположатся замечательные зеленые насаждения, но в реальности на этих участках образовались пустыри. Они не имеют никакой функциональной нагрузки, за них никто не отвечает. Это — «ничейные территории» нашего времени. Но бесполезными их назвать все же нельзя. Они оставили свой след в искусстве советского времени — будь то пустотность перформансов группы «Коллективные действия» или проведение именно в этих местах «бульдозерной выставки» (если брать практический аспект их использования).
Какие бы действия предприняла в этом случае классическая организация по охране памятников? Она бы взяла под охрану то самое место, где проходила «бульдозерная выставка», и разместила здесь мемориальную табличку. Но этого недостаточно. То обстоятельство, что «бульдозерная выставка» прошла именно здесь, имеет более глубокий смысл: архитекторы, проектировавшие этот микрорайон, хотели, чтобы пустоты между домами стали чем-то вроде городских парков — благоустроенных территорий, где бы могли отдыхать и развлекаться местные жители. Но реальная жизнь распорядилась иначе. Парк не пользовался у жителей особым успехом, потому что он был слишком огромен и за ним было трудно ухаживать. В результате на этой территории развилось нечто совершенно иное, и архитекторы были не в силах это предугадать, – интенсивная и непредсказуемая культурная жизнь. Так, может, у этих пустотных пространств должен появиться куратор, который организовывал бы здесь разные культурные события?
Внедрение в этот район фигуры куратора потребует критической реконструкции институций. Сама идея критической реконструкции была сформулирована в Берлине в 1990-е годы, когда архитекторы поставили перед собой задачу воссоздать Берлин в планировке XIX века, используя для этого подчеркнуто современную застройку. В нашем случае эту идею стоит перевести на более абстрактный уровень. В соответствии с первоначальным проектом на территории Беляева было построено несколько культурных учреждений: кинотеатр, выставочный зал и клуб. Со временем они или закрылись, или коммерциализировались. Поскольку они имеют ключевое значение для сохранения культурной жизни района, я возродил бы эти учреждения и вменил им в обязанность курирование различных некоммерческих культурных программ на этой территории.
Изначально нематериальная ценность Беляева определялась его художественной культурой. Восстановить эту культуру, со всей очевидностью, невозможно, поэтому задача скорее состоит в том, чтобы создать здесь условия для возникновения новой формы культуры. Для нее, как и для самого Беляева, можно было бы предложить альтернативное название — «Герцогство Пригова». «Герцогство Пригова» могло бы стать хорошей платформой для формирования местной идентичности и, как магнит, притягивало бы сюда культурные проекты из других частей Москвы.
Эта инициатива могла бы иметь самые разнообразные последствия. Я могу представить себе такую картину. Жители герцогства проникаются чувством гордости за свой район. Они начинают собирать разные связанные с ним истории и документируют свои исследования в интернете. У жителей соседних районов это вызывает легкую зависть, и они разворачивают такую же исследовательскую работу вокруг собственных культурных феноменов. Наконец, к герцогству начинают проявлять интерес культурные институции. В кинотеатре «Витязь», который представляет собой образец модернистской архитектуры, проводится фестиваль экспериментального фильма. К 50-летнему юбилею «бульдозерной выставки» пустырь, на котором она проходила, официально передается Московской биеннале в качестве одной из ее официальных площадок.
Таким образом, у Беляева появится два названия. Официальное название будет относиться к его внешней оболочке — модернистской архитектуре, прямоугольникам домов, школам, детским садам и пр. Оно будет фигурировать на карте города, указывая на местоположение этого района в физическом пространстве. Неофициальное же название будет использоваться для обозначения богатой культурной истории Беляева — его нематериальной составляющей. Сохранить Беляево — задача невыполнимая, но архитектурный комплекс «Беляево — Герцогство Пригова» могло бы стать первым объектом смешанной материально-нематериальной ценности, который бы вошел в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Если бы Беляево действительно попало в Список ЮНЕСКО, какие бы это имело последствия для теории и практики охраны памятников? Несомненно, в них должны будут произойти некоторые изменения.
Во-первых, мы будем вынуждены уточнить трактовку таких понятий, как «подлинность» и «уникальность». Когда мы имеем дело с архитектурой эпох, предшествующих модернизму, уникальным мы называем здание, которое визуально отличается от остальных, то есть имеет уникальную архитектурную оболочку. То же касается подлинности: подлинным мы называем объект, на материальный состав которого не повлияло ничего, кроме времени. Кирпич, который остался тем же кирпичом, которым был изначально.
Когда мы имеем дело с типовой архитектурой, лишенной какой-либо индивидуальности, то понятие уникальности и подлинности должно учитывать нематериальные элементы, связанные с материальной архитектурой. Например, если некое типовое здание имеет прямое отношение к какому-то событию, истории или ритуалу и это выделяет его из общего ряда, такой архитектурный объект нужно признать уникальным. Или, например, перед нами здание, которое столько раз перестраивалось и подновлялось, что в нем не осталось никаких аутентичных элементов. При этом, однако, сама заменяемость его элементов является имманентным свойством данного типа архитектуры — соответственно, их замена представляет собой подлинный, аутентичный процесс (как это, например, происходит с синтоистскими храмами). Такое здание тоже следует считать подлинным.
Во-вторых, мы вынуждены будем признать существование совершенно нового типа культурного наследия. Наряду с материальным (Список Всемирного наследия) и нематериальным наследием появится третий, смешанный тип. К этому третьему типу мы отнесем случаи симбиоза архитектурной среды и ее нематериального содержания (к нематериальному содержанию могут относиться события и живые традиции, идеи и верования, художественные и литературные произведения выдающегося мирового значения), существенно повышающего ценность самой архитектурной среды.
Признание этого третьего типа наследия, безусловно, будет иметь обширные последствия. Оно будет стимулировать разработку новых методик, способствовать появлению нового инструментария и созданию новых институций. Появится новый тип профессионалов, которые должны будут дать ответы на новые вопросы — и философские (как оценить нематериальное наследие?), и технические (как сохранить бетонную стеновую панель?).
А как же мы поступим с другими микрорайонами? На постсоветской территории существует слишком много микрорайонов, чтобы мы могли придать им охранный статус. Даже если взять одно только Беляево, оно станет одним из самым крупных охраняемых архитектурных ансамблей в мире. а между тем это лишь малая часть российского микрорайонного ландшафта. На территории бывшего СССР таких районов десятки тысяч. Если мы захотим присвоить охранный статус хотя бы некоторым из них, это немедленно обернется кризисом охранной деятельности: эти районы слишком огромны, и многочисленность охраняемых объектов сразу приведет к их обесценению.
Впрочем, этот сценарий кажется мне маловероятным. Более правдоподобным мне представляется то, что — даже с введением новых правил — большинство микрорайонов просто не получит охранного статуса. Даже с расширением понятий уникальности и подлинности лишь немногие микрорайоны будут признаны уникальными, подлинными и достойными сохранения. Подавляющее большинство микрорайонов с течением времени просто исчезнет. Некоторые из них пойдут под снос, некоторые будут реконструированы. Большая часть утратит свои первоначальные черты и превратится в нечто новое. В тех микрорайонах, которые находятся ближе к транспортным магистралям и центру города, будет расти численность населения, и они будут уплотняться. Периферийные микрорайоны будут реконструированы, в них будет появляться новая необходимая инфраструктура, чтобы жизнь в этих «спальниках» стала более комфортабельной и соответствующей современным стандартам.
Но, несмотря на все это, некоторые из микрорайонов, несомненно, будут сохранены — именно в силу их нематериальной ценности. Именно она имеет ключевое значение и должна оставаться в памяти города. С уничтожением микрорайонной застройки из коллективной памяти москвичей была бы стерта эпоха позднего модернизма — с его историей, культурой и его героями, – мы бы разрушили логическую целостность истории.
В каждом отдельном случае сохранение того или иного микрорайона будет иметь свои рациональные основания. В случае с Беляевом таким основанием является его связь с московским концептуализмом, в других случаях это может быть связь с неким важным историческим или культурным событием, выдающейся личностью, особой кулинарной традицией, уникальным обычаем и пр. Можно предположить, что оценка нематериальной ценности будет вызывать бурные споры. Действительно ли это событие имеет такое большое значение? Можно ли назвать этого человека героем? Точно ли это наш обычай — или, может, он был принесен к нам из каких-то других мест?
Для каждого микрорайона будет разработана своя стратегия сохранения, учитывающая специфику его нематериальной ценности. В результате каждый из этих микрорайонов действительно станет уникальным памятником своей эпохи. В каждом случае мы будем решать почти нерешаемую задачу — пытаться сохранить атмосферу, дух этого места, некий genius loci. И каждый раз наш подход будет иным, ориентированным на конкретную ситуацию. И в какой-то момент мы заметим, что между типовыми коробками домов есть некоторые различия — нюансы, имеющие отношение к их культурной значимости. Они станут носителями наших воспоминаний и ценностей прошлого, памятниками совершенно иного рода, нежели те, которые мы привыкли называть памятниками архитектуры. В каждом отдельном случае речь будет идти лишь о частичном сохранении архитектуры — о сохранении именно тех ее элементов, которые напоминают нам о том, что некогда было важным или сохраняет свою важность и по сей день. Однако наряду с этим мы будем заниматься сохранением живой культуры. Вместо того, чтобы изолировать архитектуру от ее социального и культурного контекста, как это происходило раньше, мы будем стараться сохранить саму эту связь и наиболее значимые явления этого контекста.
Наконец, задумаемся о том, как к идее сохранения этих микрорайонов отнесутся местные жители? Даже выбрав стратегию частичного сохранения, мы затронем интересы очень многих людей, вторгнемся в их жизнь и столкнемся с их убеждениями. Присвоить охранный статус микрорайону, в котором живет 150 тысяччеловек, – не то же самое, что объявить памятником архитектуры старый заброшенный замок. Понравится ли местным жителям, что их район войдет в Список ЮНЕСКО? Будут ли они этим гордиться? Или, может, воспримут эту новость скептически? Или просто ее проигнорируют? а может, они будут протестовать?
В 2011 году я прочитал в галерее «Беляево» (той самой, в которой 25 лет назад располагалось Творческое объединение «Эрмитаж») лекцию, которая называлась «Беляево навсегда». Через год я повторил свое выступление. И в том и в другом случае я начинал с разъяснения не столь очевидной ценности этого района, а заканчивал провокативным предложением внести Беляево в Список ЮНЕСКО. И каждый раз большинство моих слушателей составляли мои же студенты — местных жителей почти не было, а те, что приходили, никогда не задавали вопросов и никак не комментировали содержание моей лекции. И вот два года спустя моя идея, похоже, была воспринята ими всерьез: они решили, что я излагаю реальный план своих действий. Местные жители начали обсуждать его на интернет-форумах и даже объединились в группу протеста. Позже мне рассказали, что эта группа написала жалобу в префектуру. Жители Беляева были обеспокоены тем, что присвоение их району охранного статуса остановит полезные инвестиции, помешает сделать здесь необходимые усовершенствования — и район законсервируется в своем нынешнем состоянии. а они этого не хотят.
Мы вновь убеждаемся в том, что Беляево — это не только здания, но и люди. Мои действия вызвали противодействие: местные жители решили взять дело в свои руки и принять участие в определении будущего своего района. И это дает мне надежду. Беляево не превратится в очередной музей под открытым небом, поскольку его жители не считают себя музейными экспонатами. И я надеюсь, что их энергия и их идеи послужат переосмыслению нашего подхода к вопросам сохранения культурного наследия.
Благодарности
Эта статья основана на исследовании, которым я занимался в студии «Сохранение» Института «Стрелка» в 2010–2011 годах под руководством Рема Колхаса, Анастасии Смирновой и Никиты Токарева.
Я бы хотел поблагодарить всех, кто повлиял на эту работу — помог мне разобраться в вопросах русской культуры, сложностях московского концептуализма, познакомил меня с советской архитектурой и помог мне развить мои мысли. Я благодарен за это Кириллу Ассу, Максу Авдееву, Борису Гройсу, Марине Хрусталевой, Анатолию Ковалеву, Алине Квирквелия, Кате Мельниковой, Наталье Никитиной, Сергею Никитину, Дмитрию Озеркову, Владимиру Паперному, Даше Парамоновой, Андрею Пригову, Денису Ромодину, Сергею Ситару, Михаилу Сметане, Михаилу Ямпольскому, Дмитрию Задорину, Марку Липовецкому, Михаилу Шиянову и выставочному залу «Галерея Беляево».
Об авторе
Куба Снопек — архитектор, выпускник и преподаватель Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».
О «Стрелке»
Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» — международный образовательный проект, созданный в 2009 году. Помимо постдипломной образовательной программы с преподавателями мирового уровня, «Стрелка» организует публичные лекции, семинары и воркшопы, консультирует в области городского развития и издает лучшие книги по урбанистике, дизайну и архитектуре.
Примечания
1
«Владения Пригова». ()
(обратно)2
«Владения Пригова». ()
(обратно)3
Чамаева Н. Микрорайон (определение) // Microrayon Factbook. Strelka Educational Program 2010/2011. М., 2011. С. 8.
(обратно)4
9-й квартал Черемушек, 1956–1958, архитекторы Н. Остерман, С. Лященко, Г. Павлов, В. Свирский, В. Калафанов, М. Фрадин, Е. Дихтер, В. Нидельман.
(обратно)5
«Экспериментальный 9-й квартал Новых Черемушек». ()
(обратно)6
Чамаева Н. Postwar housing conditions // Microrayon Factbook, Strelka Educational Program 2010/2011. М., 2011. С. 67.
(обратно)7
Bauman Z. Modernity and the Holocaust. Ithaca, N.Y., 1989. P. 13.
(обратно)8
Здесь и далее речь Хрущева цитируется по: Хрущев Н.С. О широком внедрении индустриальных методов, улучшении качества и снижении стоимости строительства // Проект Россия. 2002. № 3 (март). С. 12–17.
(обратно)9
Здесь и далее приводятся фрагменты интервью с Марком Липовецким, записанным мною 14 ноября 2013 года.
(обратно)10
Новиков А. Яков Белопольский // Microrayon Factbook, Strelka Educational Program 2010/2011. М., 2011. С. 84.
(обратно)11
Беляево-Коньковский жилой массив // Строительство и архитектура Москвы. 1996. Сентябрь.
(обратно)12
Кабаков И. О тотальной инсталляции. 15 лекций // Кабаков И. О тотальной инсталляции. М., 2008. С. 20.
(обратно)13
().
(обратно)



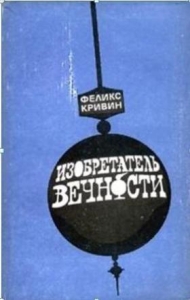
Комментарии к книге «Беляево навсегда: сохранение непримечательного», Куба Снопек
Всего 0 комментариев