Земовит Щерек Придет Мордор и нас съест, или Тайная история славян
Прошу прощения у вас, господа,
сильно прошу извинить.
Так не должно было случиться.
Йозеф Пилсудский украинцам, обманутым Речью Посполитой. Лагерь для интернированных в Щипёрне, 15 мая 1921 года1 О, йа-а-а
Пограничник в фуражке размером с крышку канализационного люка глядел на мой паспорт.
— Лукаш Пончыньский, — прочитал он.
— Ну да, — ответил я, — ничего не поделать.
— Наркотиков нет? — спросил он у меня на польском языке, совершенно без акцента, и это отсутствие акцента не соответствовало его неуклюжему мундиру, этой фуражке диаметром с велосипедное колесо, прикрепленный к которой тризуб тоже, в общем-то, не соответствовал, потому что тризуб вообще-то соответствует кепи австрийского образца, но никак не советскому аэродрому.
— Чего? — спросил я, пялясь на фуражку. — Наркотиков? А что это такое?
Тот усмехнулся и на какое-то мгновение в этой своей усмешке был похож на Эугениуша Бодо[1] с довоенных плакатов. Потом засадил мне печать в паспорт.
— А на Украину зачем? — еще спросил Бодо.
— Перецеловать кости предков, — ответил я, хотя особых предков на Украине у меня и не было. Пограничник рассмеялся.
— Иди, — сказал он, передвигая паспорт в мою сторону по столешнице, с которой облазил лак, — целуй.
Микроавтобусы назывались здесь «маршрутками». Так мне сообщил Гавран, который на Украине уже был раньше. Сейчас мы вдвоем шли через запыленную, неровную площадь. Я разглядывался по сторонам. Впервые в жизни я видел это постсоветское пространство — мир, который до сих пор я мог лишь вообразить, набирал форму, да еще и какую. Некоторые типы ходили по нему в домашних клетчатых шлепанцах. Намалеванный на стене церкви Иисус был смуглым, что твой кавказец. Отражаясь от жестяных куполов, солнце било по глазам.
Еще я украдкой пялился на русских бойчиков[2] в черных штанах и мокасинах. Впервые я увидел их в их собственном натуральном окружении. От бойчиков исходило бандитское спокойствие, но было видно, что достаточно секунды, импульса, половинки импульса, чтобы они мигом встали на дыбы. Я это чувствовал. Они стояли, харкали под ноги и что-то оговаривали вполголоса, стреляя по сторонам белками глаз.
А маршрутками были старые «мерседесы спринтеры», «фиаты дукато» или же «фольксвагены транспортеры». Они были ну прямо как тяговые волы: здоровенные, запыленные, широко расползшиеся от вечной перегрузки. У некоторых на боках было чего-то написано по-немецки: то KREUZBERG KEBAB MUSTAFA, то WURST UND SCHINKEN GmBH. Выглядели автобусики так, словно их продали в ясырь. Похоже, они давно забыли о своей давней, счастливой жизни на Западе, о ровненьких шоссе и автоматических мойках, о гаражах и чистке обшивки мягкими ладонями. Здесь их запрягли в воловью пахоту в грязи и тяготах до самой смерти. Рабская судьбина. Их металлические кости должны были навечно впитаться в эту грязищу, но так ничего и не удобрить. «Мерседесам спринтерам» и «фольксвагенам транспортерам» уже не дано было увидеть вылизанный фатерланд, аллес ист ферлорен, аллес ист капут[3]. И теперь вот стояли они, капутные, в этой желтой жарище, заливавшей западный краешек Украины.
Капот нашей маршрутки, на панели которой лежала картонка с надписью «ЛЬВIВ», была раскалена словно противень на старой плите. К нему невозможно было прикоснуться. Я поглощал всю эту новую реальность, сгустившуюся на жаре словно кисель.
Мы как-то всунули свои рюкзаки в багажную сетку и уселись сами. В разогретом, еще пустом интерьере танцевали пылинки. Пахло пластиком сидений, смазкой и бензином. Запах был приятный.
Предплечья водителя полностью были покрыты зелеными татуировками. Там была какая-то акула, какая-то сирена. Я высматривал, а есть ли там Ленин, но его не было. Хорошо еще, что имелась звезда. Он даже не пошевелился, пока всю маршрутку, от стенки до стенки и от пола до потолка, не заполнило розовое людское мясо в стираной хлопчатобумажной ткани. Только лишь тогда у него пошевелились мышцы под зелеными каракулями. Он врубил первую скорость, и маршрутка тронулась. Первую минуту казалось, что этот перегруженный раз в пять микроавтобус перевернется на размягченный асфальт, но через миг он удержал равновесие и каким-то чудом выкатился с майдана на шоссе.
Было жарко и душно, но окон открыть не разрешали. Как только я попробовал, тут же половина маршрутки развопилась на меня, чтобы я закрыл, а то всех их продует, и все умрут. На меня кричали бабули, вопили молодые парни в остроносых туфлях, пищали девоньки с повешенными на шеях мобилками, из которых было слышно жужжащее русское диско.
— Оставь, — сказал Гавран со скучающей миной знатока, — это ничего не даст. Здесь нельзя открывать окна. В автобусах, в поездах. Вот нельзя — и точка. Запрещено! У нас молоком не запивают мяса, а водой — фрукты, а здесь не открывают окна во время поездки. Так что падай на задницу и уважь.
Как я говорил, Гавран когда-то уже был в Украине и по этой причине строил теперь из себя гуру-гида.
С этой Украины он вернулся словно траппер из диких гор, и так долго рассказывал в Кракове о чудесах и ужасах путешествия, что, в конце концов, я поехал с ним — увидеть собственными глазами. И вот я тут.
За грязными занавесками тянулась Галичина. Теперь уже украинская, а не польская. И выглядело все это так, словно я въехал на территорию альтернативной истории собственной страны. Но ведь именно так оно на самом деле и было.
А потом начался Львов.
Этот город не должен существовать, — думал я, глядя через окно. Польский миф его потери настолько силен, что никакого Львова не должно и быть. А он стоял, ни на кого не обращая внимания, да к тому же еще нагло выглядел, более-менее, так, как выглядел перед собственным региональным апокалипсисом.
И сразу, как только мы вышли из маршрутки на львовской земле, Гавран помчался в аптеку, купить тот легендарный бальзам «Вигор»[4], о котором я уже столько успел от него услышать.
— Этот самый «Вигор», — говорил Гавран — он формально вроде как и лекарство, поэтому его можно купить только в аптеке. Не знаю, от чего там это лекарство, от чего-то там, вытяжка из двенадцати трав, дюжины украинских воинов, men, а действует что твой балтийский чаек из Пелевина, кокаин с водкой. Все поляки, которые приезжают во Львов, здесь его пьют.
Мы присели на какой-то кошмарной детской площадке, где под ногами было полно окурков и разбитых бутылок. Тут же рядом стоял памятник Степану Бандере. Памятник был в галстуке и развевающемся, расстегнутом плаще-пыльнике, и у него была такая мина, как будто бы лишь на трамвайной остановке до него дошло, что дома оставил не выключенный утюг. Бандера был отчаянно громадный и, прежде всего, пробуждал умиление своей перерослостью и затерянностью.
Мы сели, и Гавран развел бальзам «Вигор» хлебным квасом. Мы пили и глядели, как по площади медленно прогуливаются люди. Вся площадь идеально вписывалась в окружающую среду. Как и та, площадь едва-едва собирала свои формы в единое целое.
Ребята, но бальзам и вправду действовал. Я пил его и — честное слово — чувствовал, как в мои жилы вступает сила, энергия и эйфория[5], которых я не чувствовал уже ой с каких времен.
И чем больше я пил, тем больше мне здесь нравилось. Потому что все здесь было вывернуто на полную катушку. До упора.
Советские автомобили гнали по этим чудовищным выбоинам, словно им под хвост перцу насыпали, теряя какие-то проржавевшие детали. Словно живые мертвецы в фильмах про зомби-апокалипсис. Из стен старых каменных домов торчали. На крышах росли тонюсенькие деревца. На газоне, где-то на Жолкевском Предместье, лежала старушка. Мы побежали, чтобы ей помочь, но тут почуяли исходящую от нее вонь спиртного. Мы бросились ставить ее на ноги, только бабуля в нашей помощи не нуждалась. Она валялась себе на солнышке, изрыгала из себя запах водки, и ей было на свете хорошо, словно Диогену, который вылеживался себе перед бочкой. Ласковым голосом она попросила нас отъебаться, так что, в конце концов, мы оставили ее на том газоне и отправились бухать. Бухать все, что только было можно.
С неба лился жар, и продавщицы, выходящие перекурить перед магазином, прятались в пятнышках тени, отбрасываемой навесами домов. Ну совершенно, как будто прятались от дождя. Улица выглядела так, будто бы последние сто лет мир занимался одним лишь старением, расползанием и ничем более. Брусчатка мостовой расшатывалась и грязла в грязи. Тротуары же походили на застывшую в бетоне норовистую речку. Кое-где зияли провалами открытые канализационные люки. Сами же дома истекали старостью, грязью и разрухой.
А я не мог понять, почему себя так здорово чувствую.
По Рынку ковыляли пожилые поляки: местные и приезжие. Кто есть кто, можно было различить сразу же. Приезжие перемещались медленно, благоговейно, несколько торжественным шагом и вполголоса жаловались. Высказать все это громко они как бы и боялись. У них имелись претензии, что все разъебанное, заброшенное, что УПА, что Бандера. Еще постанывали, что Ялта и Сталин. Бухтели про Щепцьо и Тоньцьо[6].
Зато местные поляки крутились живчиками, стреляя глазками то в одну, то в другую сторону, словно люди, вынюхивающие выгодное дельце. Они безошибочно вылущивали в толпе туристов из Польши, подходили и спрашивали, а не нужна ли квартирка внаем или карта с польскими названиями улиц. Для заманухи подкидывали пару словечек о злых украинцах и о величии давней Речи Посполитой.
А эти поляки из Польши покупались на все эти россказни поляков с Украины словно молодые. Достаточно было, чтобы подошел такой львовский поляк, порассказывал о довоенном Львове, запел под нос «W dzień deszowy i ponury»[7], сказал: «а чуйци як у сибе в дому, бо то и ваше място, та йой», и поляки из Польши все были зареванные, уже расклеенные, уже бескостные, словно их грузовик переехал, уже хлюпали под носом и за бумажники хватались, они покупали маленькие карты и путеводители, снимали квартиры.
И вот как раз именно такой львовский поляк к нам и подошел. Звали его Юрием. И хотя по-польски говорил он не ахти, но клялся-божился, что поляк до последней капельки крови. Что на нас как раз никакого впечатления не производило, потому что польскость была самой распоследней вещью, которую мы во Львове искали.
— Это хорошо, что Львов не польский, — говорил я как раз Гаврану, несомый словесным поносом после «Вигора». — Ведь никакой радости приехать в польский Львов и не было бы. Все равно, что в Познань поехать. Или во Вроцлав[8]. А так — прошу пожалста… Ведь что тут деется. Ведь, ну, старик… Оглянись. И отпадаешь. И ты на сраке.
И делал глоток бальзама «Вигор», после которого окружающий мир был уже не тем, чем был раньше.
Ага, но тут подошел тот самый Юрий. С усами под носом, с печальными глазами и картой Львова на продажу. И сказал, что жилье дешевое. Карты мы не желали, а вот какая-нибудь крыша над головой пригодилась бы — оценил Гавран, и с ним трудно было не согласиться, поскольку вечер близился, а мы были уже замечательно на бровях, нор, скорее, без планов на будущее. Тогда мы спросили, где эта его квартира, на что тот: недалеко и расслабьтесь.
— Добро, — ответил Гавран, — можно будет сбросить рюкзаки и покемарить. Ну и, понимаешь, — тут он снизил голос, конспиративно поглядывая на меня, — у нас имеется местный. Врубился.
Я кивнул в знак того, что «да». Но, подумав, сказал, что «не врубаюсь».
— Ну, — вздохнул Гавран, как будто обращался к идиоту, — у нас имеется местный для бухла. Что это за Украина, что за хардкор[9], если с местными не бухаешь. У русских обязательно ты должен с русскими забухать. Иначе не считается.
— Так ведь этот же говорит, что он поляк.
— Да какой он, курва, поляк, — ответил на это Гавран. — Впрочем, даже если и поляк, то все равно — русский. А ты как прикидываешь — жить тут все время и не быть русским?
— Пошли, пошли, — нетерпеливо подгонял пан Юрий, разглядываясь по сторонам как-то неуверенно.
А вот близко ну никак не было. Мы шли вдоль трамвайных рельсов, лезущих из мостовой, словно вырезанные из руки жилы, а потом свернули направо, в проход между карликовыми домами.
И мы попали совершенно в другой мир.
— Где это мы? — спросил Гавран, разглядываясь по сторонам, а глаза у него были с монету в пять злотых.
— Замарштынив, — ответил поляк Юра. — То есть, Замарштынув[10], — тут же поправился он.
— Ынув, ынув, не унив, — похлопал я Гаврана по спине.
Эта округа не была похожа на что-либо, что я видел до сих пор. Это был район, доказывающий, что людские обиталища способны разрастаться и, будто сорняки и леса, распространяться самостоятельно. Достаточно вовремя не пропалывать. Он же доказывал, что все, созданное человеком, ничем от природы не отличается, и точно так же, как лес обрастает непроходимым кустарником, мхом, омелой, так и тут все, все дома обросли какими-то сараюшками, какими-то ДСП и даже кусками бигбордов, которые устанавливали вместо стен и крыш сараев. Эта реальность творилась сама, без какого-либо плана, направляемая лишь собственной потребностью и возможностью самоисполнения. Форма и эстетика были отброшены как вещи совершенно второстепенные. Как прихоти.
И все это было погружено в зеленой воде с пеной. Деревья с кустами здесь попросту сошли с ума. Орды трав нападали на все, что было на их пути, а натура мертвая сливалась с натурой живой: пучки проводов свисали словно лианы, кучи ржавеющих железок и, говоря по правде, всего что угодно, беспорядочно валяющегося по дворикам, напоминали нечто органическое, что вот-вот начнет выпускать ростки и ветви.
И при всем при этом все общее, все публичное пространство — попросту не существовало. Дороги не было, поскольку разъезженное, дырявое пространство дорогой назвать было трудно. Не говоря уже о таком импортном изобретении, как тротуары.
И во всем этом, в том всем чуде ужасно пахло свежеподжаренным кофе.
— Кофейная фабрика, — сказал Юрий, увидав, как мы дергаем носами, словно кролики, и указал на кирпичное здание, стоящее за рядом домов. — Там кофе делают.
В доме Юрия проживала его жена — вечно обиженная на все и вся пани с острым, словно карандаш, носом. И пожилые родственники: веселый, будто щенок, дедуля и прелестная бабулечка. Сам дом походил на несколько сдвинутых вместе и объединенных в единый организм дачных халуп. Каждая комната была совершенно иной песней. Самыми трогательными были попытки украсить эту бесформицу. Грядочки на дворике были огорожены псевдостеночкой из выложенных на траве обломков кирпичей, и вся эта вроде-как-стеночка со всей серьезностью была выкрашена белой краской. На стенах висели гипсовые отливки, которые когда-то отвалились от чьего-то чужого дома.
Со стариками поговорить не удалось. На все вопросы они отвечали, к примеру: «Езус Хрыстус круль Польски аллилуя, аллилуя, аминь» или же «Кто ты естеш? Пóляк малы, большевика гонь, гонь, гонь»[11]. Складывалось впечатление, что они до конца не понимают, что говорят.
Мы сбросили рюкзаки в комнате, похожей на каюту какой-то лайбы, расплатились с Юрием и вышли во двор.
— И что? — спросил Гавран с кривой улыбочкой, с еще не подкуренной сигаретой во рту.
— Ну… — должен был признать я. — Ничего.
Мы уселись за поставленным под черешней столиком. Тот был застелен клеенкой, прикрепленной к столешнице кнопками, чтобы покрытие не улетело. Я подал Гаврану огонь. Бабулечка пришла с двумя чашками чая. Вышел и дедуля. Вынул сигарету и прикурил ее спичкой.
Гавран кашлянул.
— Прошу пана, — запел он по-восточному[12], глядя на деда, — а где тут водки можно купить?
Я фыркнул от смеха. Дедуля тоже широко ослабился и ответил на ломаном польском:
— Еще Польска не згинела, дай нам, Боже, здрове.
— У него Альцгеймер, — пояснил появившийся в дверях пан Юра. — Идете, панове, еще в город погулять? А то скоро темно будет[13].
— А… э…, — не сдавался Гавран. — Может, какую рюмашку на дорожку? На коня, что ли?
— Какую-какую? — делал вид, будто не понимает, пан Юра, поскольку видно было, что идею рюмашки он воспринимает без особого энтузиазма.
— Ну так может, — щелкнул Гавран по горлу, — чего-нибудь булькнем?
Пан Юра мрачно поглядел на Гаврана, потом на меня, вздохнул и пошел в дом. Вернулся он с водкой и двумя рюмками. Налил нам.
— А пан? — спросил явно разочарованный Гавран.
— А я не пью, — ответил пан Юрий. Мы молча выпили, поблагодарили и вышли.
Гавран чувствовал себя обманутым.
— И что это за квартира у русского, который не пьет, — ворчал он. — Сразу мог бы сказать, мы бы поискали кого-нибудь другого. Ну, блин, курва-мать…
— Ну, — отвечал я ему как-то не в жилу. — Гляди. Там вон лавка. Пошли, пива какого-нибудь себе возьмем.
А там имелось кое-чего лучшего, чем пиво. Штука называлась «джин-тоник» и продавалась в маленьких бутылочках по 0,33 л. Женщина за прилавком пользовалась счетами. Еще мы купили — из чистого интереса — несколько пачек сушеных анчоусов и вышли в благоухающий кофе вечер. В дверях мы разминулись с десантником. Парень был высоченный, что твой морской маяк. У него был черный берет и гигантские, жесткие погоны, выступающие далеко за края плеч. К нам он приглядывался с таким любопытством, как будто бы мы представляли собой новый, никому не известный человеческий вид.
Точно так же глядела на нас и контролерша в трамвае. Она съежилась на пластмассовом сидении — в синем халате, домашних шлепанцах и с подвешенным на шее роликом билетов — и украдкой поглядывала на нас. А мы наблюдали за ней.
И вновь мы были на львовском Рынке, только становилось уже темно. Мы кружили по разбитым улочкам, попивая «джин-тоник» попеременно с «Вигором», и в головах у нас гудело уже хорошенько.
Мы уже здорово пошатывались перед самым Армянским собором, когда к нам подошла баба с розовыми локонами, восславила Иисуса по-польски и спросила, а не ищем ли мы квартиру, потому что у нее как раз таковая имеется.
— У нас уже есть, — сказал Гавран, — спасибо.
— А у кого? — спросила та, прищурившись.
— У одного такого Юрия, — отвечал Гавран.
— А где? — не сдавалась тетка. — Юрий… Юрий… — вспоминала она.
— На Замарштынуве. На Цветочной. То есть, Квитовой. То есть, Квятовой. Ну… значит…
— Да вы что, пан! — развопилась баба, догадавшись уже, что за Юрий. — У того вора?!
— Э… э… много он не взял, — сообщил ей Гавран. — Но водки пить не захотел, — пожаловался он.
— Так он же и не поляк даже. Только притворяется! — размахивала тетка руками — Он неконцессионный, ненастоящий поляк, только польских туристов во искушение вводит!
— И чего тут сделаешь, — буркнул я. — Так уж случилось.
— Выезжайте! — решительно заявила баба. Выглядела она как типичная русская, золотые зубы, румяна на впавших щеках. Русская тетка, которую кто-то неудачно дублирует на польский. — Вам к настоящим полякам нужно идти жить! Поляки к полякам!
— Ну, следующим разом, — пообещал Гавран, — это уже на все сто. Поляки к полякам и так далее, а сейчас, пани, извините…
— У нас здесь имеется такое товарищество, — больно ткнула та меня розовым ногтем прямо в солнечное сплетение. — Товарищество Польских Владельцев Польских Квартир Для Сдачи Польским Туристам, Приезжающим На Польскую Землю, сокращенно, эСПэВуПэЭмПэВуДэПэТээНЭлЗэт[14], вы повторите и запомните…
— Попокатепетль, — послушно повторил я.
— Ну да, и только мы являемся имеющей концессию польской организацией, держащей монополию найма жилищ поляками для поляков…
— А кто выдает концессии? — заинтересовался Гавран. Тетка его проигнорировала.
— Мы просим заявлять нам каждый случай злоупотреблений, и вообще, ну, о каждом случае, когда не-поляк выдает себя за поляка, и будет лучше поехать к Юрию уже сейчас, забрать вещи, и, проше паньства, тут у меня такая прелестная квартирка, недалеко, на Доро… Сикстуской[15], так что давайте, паедем…
— Спасибо, спасибо, Господь пани благослови, вот как снова приедем осмотреть город Львов, semper fidelis, lis Witalis[16], — отбояривался Гавран, выгибаясь в поклонах и отступая раком. Я быстро врубился в его стратегию и начал делать то же самое. Похоже, выглядели мы довольно странно, отбивая поклоны перед завитой фурией с когтищами словно у стриги[17], потому что люди останавливались посмотреть, что из всего этого выйдет — может это уличный театр? Только мы повернулись и пошли дальше. По улице Армянской.
После десяти вечера город уже закрывался. Так было тогда, в две тысячи втором году. В двадцать два ноль-ноль жизнь прекращалась, а Львов — впрочем, как и Варшава в те времена — превращался в спальню. Хорошо поддатые мы шли по улочкам и искали чего угодно, что могло быть открытым и продать нам градусы.
И наконец, где-то неподалеку от улицы Леси Украинки, мы услышали знакомые звуки. Очень знакомые. То был «Бал у ветеранов»[18]. Заведение размещалось на первом этаже, так что в окне были видны музыканты: и выглядели они как приличные батяры[19] — фуражки клетчатые, пиджачки, шейные платочки — все имелось. Мы вошли, уселись за столиком, а вокалист — засушенный дедок с такой внешностью, что Химильсбах[20] сразу же обеспокоился, как только бы его увидел — захрипел:
— Опивночи си зъявили якис два цивили. Морды обдрапанэ, космы як бадыли…[21]
— Ты-ы… — произнес озадаченный Гавран.
— Ну, именно, — отвечал я, заслушавшись.
— Нич никомуку нэ вмовили, тылдьки морды били… — пел дедок.
— Ой, курва, — задумчиво произнес Гавран.
— Ну, — ответил ему я.
— Пиво или водка? — спросил официант.
— Водка, — ответили мы оба хором.
— А шо, — сказал официант, внимательно глядя на нас и усмехаясь под оченно официантскими усиками, — вы думали шо сэрэд бацярив украинцив нэ було, чы шо?
— Сам ты нэбуло чышо, — буркнул себе под нос Гавран, когда официант уходил с заказом.
2 Самоубийство Брунона Шульца
Мы вроде как отправились в Дрогобыч разыскивать Шульца, но так, по правде, искали востока. Искали той восточной, постсоветской экзотики. Русскости.
Водитель маршрутки был похож на маньяка. Тот еще был хуя кусок, а еще порявкивал на всех вокруг. И на меня с Гавраном тоже.
Один глаз у него был зеленый, а второй — голубой. Я заметил это, когда платил ему за проезд, когда бросил перед ним на панель двух синих Ярославов Мудрых[22]. Тот посмотрел на меня своим взглядом психа, и я уже знал, что поездка будет еще та. Такой она и была, потому что маньяк шуровал по средине шоссе, точнехонько посреди того места, в котором должна была быть нарисована осевая (только ее не было), и ничего не боялся. Это я боялся за него. Гавран, я это знал, тоже побаивался, но хвост держал пистолетом, как будто бы ничего не боялся, что ему все это не впервой, что с востоком он уже знаком.
Маньяк все время кого-то обгонял. Было похоже, что именно таково его жизненное кредо. Обогнать в течение жизни как можно больше автомобилей. Столкновений он избегал буквально на миллиметры, но все время обгонял машину за машиной, разваливающихся обитателей постсоветского дорожного зверинца. Ведь то, что творилось на дороге, иначе как праздником живых трупов назвать было невозможно. Подыхающие жигули, полумертвые запорожцы, оживленные, похоже, исключительно какой-то магией; волги, вымаливающие легкую смерть и завершение страданий.
Стоял полдень и чудовищная жара, тянувшееся за горизонт поле, казалось, пылало зеленью.
— А тебе не кажется, будто бы здесь горизонт подальше, чем у нас? — мечтательно спросил я у Гаврана.
— Не, — буркнул Гавран, даже не выглядывая в окно. Он кипел от злости, просматривая фотки на аппарате. Сделал он их вчера вечером и сегодня утром во Львове, в основном, там были развалины, трещины и еще раз развалины. Ну и разные любопытные хохмы: англоязычное меню из львовского ресторана, в котором куриное бедрышко было вписано как «chicken foot», а цыпленок по-китайски — «chicken on People's Republic of China». Или переодетый в свинью мужик на улице, рекламирующий какой-то мясной магазин, владелец которого слишком близко к сердцу воспринял принципы западного маркетинга. Ну и еще сделанное украдкой фото мента, отливающего на колесо собственной патрульной машины марки «лада самара» на одной из незаасфальтированных улочек Замарштынова. То есть — Гаврану лишь казалось, что он делает фотку украдкой. Потому что мент — молодой говнюк, выглядящий будто бы только-только вышедший из средней школы — засек и начал на Гаврана орать. Я вмешался, тогда он начал орать и на меня. Он требовал предъявить ему наши паспорта, которых мы ему не отдали — дашь такому уроду документы, а потом придется выкупать их за большие бабки. Но было видно, что именно бабки ему и были нужны. А что еще? За оскорбление при исполнении он желал 100 баксов. Гавран расхохотался ему в лицо. Тогда милиционер, довольно неожиданно, толкнул его и схватил за руку. Не успел я отреагировать, а ничего не понимающий Гавран уже стоял лицом к ограде, опирая руки на штакетник, широко расставив ноги, а молодой обыскивал его карманы. Сначала нашел шнурок и отбросил в сторону, а потом — перочинный ножик. Моднячий, швейцарский, в котором всяких лезвий было с полсотни: для рыбы, для филе, консервный нож, а еще какие-то отмычки, даже фонарик имелся, не хватало лишь дрели. Говнюк какое-то время поигрался им, после чего подсунул Гаврану лезвие под нос и сообщил, что это холодное оружие, а это уже серьезное преступление, потому что подобного рода оружие в Украину провозить контрабандой запрещено, и что это закончится для нас тюрьмой.
— Ну ладно, коллега, — сказал по-польски Гавран, — не пизди. Сколько?
— Сто, — ответил говнюк, вроде бы занятый открыванием и закрыванием ножа. Гавран вытащил бумажник и вынул сто гривен. Мусор рассмеялся.
— Дол-ла-ров. Я же говорил.
— Да ты ебанулся, — буркнул Гавран.
— А сколько дашь? — торговался милиционер.
— Пять могу дать.
— Гони паспорт.
— Так сколько?
— Семьдесят.
— Слушай, — Гавран пытался спасти остатки достоинства, и потому ворчал на собеседника, словно пес, — могу тебе дать, максимум, двадцатку, и ни, курва, центом больше.
Мусор прищурил глазки, светло-голубые, ну прям тебе платье Девы Марии.
— Ладно, — кивнул он. — Давай двадцатку.
Гавран вытащил две десятки из внутреннего кармана брюк. Видимо, у него уже было приготовлено на подобного рода случаи. Мусор накрыл его ладонь своей, и бабки — прямо как на выступлениях Гудини — исчезли.
— Давай нож, — протянул руку Гавран. Мусор сунул ему под нос закрытого «швейцарца».
— Конфисковано, — сообщил он, — это очень опасное орудие.
Мент сунул нож себе в карман, подошел, раскачиваясь, что твой ковбой, к своей «ладе самаре», сел в нее и уехал. Про фотку уже забыл. Или с самого начала ему было на это плевать. Гавран запустил за ним такую связку мата, что даже тетки из соседних домов вышли на веранды.
Так что теперь Гавран чувствовал себя униженным и взбешенным.
На автовокзале в Дрогобыче печальные бабули продавали, что только могли. Какие-то надувные шарики, ножики, полотенца. Сейчас они поочередно избавлялись от всего того, что им удалось накопить за жизнь, чтобы хоть как-то протянуть те несколько оставшихся годков. Никто ничего не покупал, потому что их жизни никому нафиг не были нужны. У каждого имелось достаточно собственных проблем, чтобы найти обоснование для собственной жизни.
Мужики в привокзальной пивной согласно утверждали, что при Союзе оно было лучше, и нужно было просто быть слепым, чтобы — хочешь, не хочешь — не понимать, что они были правы.
— Тут вся штука в том, — объяснял один тип с прической а-ля семидесятые годы, похожий на Казимежа Дейну[23], - что за коммунизм брались не те, что следует. А именно — москали. Они чего не начнут, все похерят, — утверждал он, попивая свое пиво со спокойствием, так странно не соответствующим творящемуся вокруг апокалипсическому блядству.
Это его спокойствие могло ассоциироваться только лишь с затишьем перед бурей, и казалось, что прямо сейчас мужик вытащит из-под стола пэпэша и разхренячит всю эту пивнушку вдребезги пополам. Честное слово, расхерячит все вокруг: бар, бармена, те несколько бутылок, что стояли на полках, маленький телевизор на холодильнике, посетителей, ну и нас, естественно. Но не только, поскольку расхерячению еще подлежал толстяк с шеей будто окорок, который чесал свои яйца автомобильными ключиками, какой-то неопределенный дедок, который в прошлом мог быть кем угодно — от жулика до генерала, еще несколько молодых, коротко обстриженных типов с лицами хищников. Это висело в воздухе, какое-то напряжение, что-то выглядело на то, будто бы вот-вот собирается начаться — а Дейна в отношении всего этого был уж слишком спокоен. Потому-то и ассоциировался со спусковым крючком, который сейчас все и запустит.
— Если бы за коммунизм взялись немцы, а еще лучше — шведы, — продолжал Дейна, — то весь свет выглядел бы иначе. Все бы поняли, что это самая лучшая общественная система, которая только может быть. Ведь оно как, — Дейна начал загибать пальцы, — работу имеешь, дом имеешь, спокойную голову имеешь, отпуск имеешь, все имеешь. — Вот только, — тут он перестал загибать пальцы и стряхнул пепел с взятой с пепельницы сигареты, — за дело взялись кацапы. И похерили, как и все остальное. Такую замечательную идею похерить! — вздохнул он с неподдельной печалью, объединяя таким образом свою галичанскую прозападность с сознанием, от которого отделиться просто никак не мог: что при Союзе было лучше.
Мы допили пиво и стали собираться к выходу. Не хотелось, чтобы именно при нас взорвалась вся та энергия, которая здесь улетучивалась, словно газ из печки.
— Ошибаешься, Богдан, — сказал тем временем неопределенного вида дедок, бычкуя чинарик в здоровенной и тяжеленной пепельнице, которой спокойно можно было бы разбить кому-нибудь голову. — Если бы немцы или французы творили мировой коммунизм, то вновь нужно было бы иметь в их отношении комплексы. А в Союзе это москали имели комплексы в отношении нас, потому что у нас всегда было более культурно, чем у них.
— А у эстонцев больше, чем у вас. Хуй вам всем в рот, бандеровцы ёбаные, — очень громко и по-русски сказал толстяк, который к этому времени перестал чесать яйца, одним глотком допил пиво, затушил сигарету и вышел, хлопнув дверью. В окно мы видели, как он садится в подержанную ауди-сотку и так газанул с писком шин, что бабуля, торговавшая неподалеку яйцами, чуть в обморок не грохнулась.
Советские хрущобы захватили галичанские холмы словно армия, овладевающая стратегическими высотами. В сторону центра мы шли по долгой, скучной дороге, ведущей через скопления пятиэтажек. Между домами стояла старая церквушка, последний след того, что было здесь раньше. Блочные дома скучились над ней словно гопники над жертвой, которую желают трахнуть. На балконах хрущевок хранились дрова на отопление, а из окон торчали трубы печей-буржуек.
Под церквушкой мы встретили молодого поляка с рюкзаком. Совершенно по нашему образу и подобию. Он прятался за оградкой и пытался сфотографировать трех старичков, сидящих на лавочке под домом, аппаратом с гигантским объективом. Бальзамом «Вигор» от него несло за километр.
— Вот поглядите на тех стариков, — сказал он, когда мы подошли. — Вот есть в них что-то такое, — продолжил он, закурив, — такое… благолепное. Какая-то извечная мудрость выписана, понимаете… на лицах. Такое вот… спокойное согласие с судьбой, ну… просветление вроде как.
— Ну да, — ответил ему Гавран, которому явно нужно было на кого-то наехать, — от безработицы и нихренанеделания получается самое обалденное просветление.
Паренек поглядел на нас как на варваров.
— Ничего вы не рубите, — заметил он.
Из церквушки вышла девушка. Короткие волосы, вьетнамки, с красивыми ступнями и ногами, выраставшими из джинсов, обрезанных чуть ли не в паху. У нее были черные, очень черные глаза. Как будто бы кто-то прострелил ей две дырки в голове. А сразу же за нею вышел поп. Они разговаривали по-украински. У попа была такая мина, как будто бы он размышлял над тем, ну куда бы ее затащить, чтобы трахнуть. И он был явно разочарован, когда девица подошла к пареньку с фотоаппаратом и обняла его. Поляк и украинка. Фотограф наблюдал за взглядами, которыми мы обклеивали коротковолосую девчонку, после чего насадил на себя улыбочку, характерную для парней невообразимо красивых девчонок — вынужденной снисходительности и деланной иронии.
— Вы к Шульцу[24]? — спросил он. — Место, где его убили, узнаете по лампадке. Это я зажег ее, — похвалился он.
— Родина тебе этого не забудет, — Гавран похлопал его по плечу, а ножкам подмигнул. Девица поглядела на моего приятеля с презрением. Теми своими простреленными дырочками.
А лампадка таки была, имелась. Она стояла под ступеньками небольшой пекарни, вывеска которой гласила «Свіжий хліб». И она, то есть лампадка, даже горела. Именно в этом месте труп Шульца лежал целый день, потому что немцы по какой-то причине не позволили его оттуда забирать. Я пытался все это себе представить. Его, лежащего, маленького, чернявого, в тяжелом зимнем пальто — только ничего из этого не вышло. Точно так же, как не мог себе здесь представить всех тех эротических хороводов из «Языческой Книги». Вот это должно было бы выглядеть по-настоящему глупо. Впрочем, в Дрогобыче вообще трудно было представить что-либо, происходящее перед советскими временами. Даже Галичину. Советский Союз привалил Галичину своей неуклюжей тушей, и туша эта до сих пор здесь лежала, хотя тело и издохло, но вот похоронить его пока что не удавалось.
Бруно Шульц
Дрогобыч, место гибели Бруно Шульца
В связи с этим я отправился в аптеку за бальзамом «Вигор», а Гавран в продовольственный магазин — за хлебным квасом. Как всегда, когда я покупал бальзам «Вигор», аптекарша усмехалась себе под нос. А меня это смущало.
— Ну что такого смешного в бальзаме «Вигор»? — спросил я.
— Да ничего, ничего, — ответила та.
— Но я ведь вижу, — настаивал я. Та покачала головой и сказала, чтобы я не брал себе в голову, и что все нормально. Я пожал плечами, взял две бутылки и вернулся на ступеньки. Гавран там уже сидел. Лампадка, зажженная перед фотографией, горела у него между ногами. Мы выпивали и глядели на дрогобычский базар.
— Лампадку зажгли? Как хорошо, — услышали мы вдруг польские слова. Рядом с нами стояли две девушки. У одной на футболке имелась надпись «Бруно Шульц», у другой было — «Франц Кафка». У обеих волосы были выкрашены черной краской, но у одной они были короткими, а у второй — длинные, до лопаток. Обе держали в руках по черной свечке.
Девицы учились на польской филологии. В Варшаве. Та, что с короткими волосами, звалась Марженой. С длинными — Боженой. Приехали, как утверждали сами, «отдать честь великому польско-еврейскому писателю, мастеру польского языка». Именно так они это выражали. Отдать честь и обязательно найти улицу Крокодилов.
Девицы зажгли свои черные свечи (наверняка купленные в каком-то дизайнерском бутике еще в Варшаве), поставили под лестницей и присели рядом с нами. Мы пустили по кругу «Вигор».
— Боже, какая же это бедная, но вместе с тем насколько же увлекательная страна, ведь так? — говорила Божена, а голос у нее вызывал раздражение. Она как-то скрежетала, чего тут уже говорить, и неприятно разделяла высказывания на слоги. — Я бы охотно здесь какое-то время пожила. Здесь я чувствую себя как будто в сказке. Как-то успокоительно, так? Все меня здесь успокаивает. Все эти разрушения, которые мы здесь видим, в них, в самой своей сути, ведь есть нечто шульцевское, так? — Разговаривая, Божена немного размахивала руками. На запястье у нее были вытатуированы знаки инь и янь. Это означало, что после учебы она еще не скоро очутится на рынке труда. И, скорее всего, ничего делать и не станет. — Меня это по-настоящему околдовывает. Именно тут. Все здесь — ммм — разъебано, как у Шульца. Все недоделано. Все такое — манекенное, так? Оно утратило форму. И ме это ужасно нравится.
— «Ме»? — Гавран был уже хорошенько поддатый. — Ты чего говоришь: «ме»?
— О, это старая, красивая форма склонения, — от имени соратницы пояснила столь же накачанная «Вигором» Маржена, — ею пользовались Болеслав Лесьмян[25] и Брунон Шульц, потому что склонять нужно не «Бруно», а «Брунон», не знаю, вам это известно или нет, но вообще-то когда-то так говорилось. Это когда все было лучше и умнее, а в газетах писали шикарным языком, а не то, что Дода[26] и сиськи, а в кафе беседовали об умных и небанальных вещах. Потому что в кафешках сидел Виткаций[27].
— А почему ты в конце каждого предложения прибавляешь «так»? — спросил я у Божены.
Та злобно глянула на меня.
— Так ведь не у каждого же предложения, так? — ответила она вопросом на вопрос. — Вообще-то, не знаю. А что, тебе это мешает?
Вообще-то нам следовало их там оставить, на тех ступеньках, но гормоны взяли верх: Маржена и вправду могла закрутить. Божена уже не так, а вот Маржена, ого-го… Было что-то лукавое в ее губах, в том, как она складывала их, немножко по-птичьи, и было похоже, что Гавран тоже не прочь с ней… Хорошо, посоревнуемся, подумал я. Спорт — это здоровье. Так что мы еще прикупили хлебного кваса, смешали его с «Вигором» и отправились с девчонками искать эту их улицу Крокодилов.
Мы шастали по улицам Дрогобыча, и я делал открытия, что Божена, возможно, и говорит «ме» и «так», но во многом права. Форма здесь существовала исключительно как памятка. Вся цивилизационная накидка, которые принесли Дрогобычу последние несколько десятков лет, это была дешевка. Все на «авось» и на часок. Какое-то, блин, пост-кочевничество. Точно так же, как и в Польше, только в большей концентрации. «Псевдоамериканизм, — скрежещущим голосом читала Божена, ибо — а как иначе — с собой у нее был томик „Коричных лавок“, — пересаженный на старосветскую трухлявую почву города, взметнулся пышной, но пустой и тусклой расхожей вегетацией убогой базарной претенциозности»[28].
Только на самом деле было намного хуже, чем это напророчил Шульц.
«Тут можно было видеть дешевые, скверно строенные дома с карикатурными фасадами, облепленные ужасающей штукатуркой из потрескавшегося гипса. Старые, кособокие слободские постройки обзавелись наскоро сколоченными порталами, и только взгляд вблизи разоблачал эти жалкие подражания нормальным городским строениям».
Вся штука была в том, что с близкого расстояния приглядываться не надо было. Все это, дешевку и обманку видать было с первого же взгляда. Эта красота была даже не деланной, красота здесь была чисто условной. Наличие красоты только сигнализировалось. Заключалось это в том, что если — к примеру — какой-нибудь торговец, арендующий лавку на рынке, поставил перед этой самой лавкой старый цветочный горшок, в этот горшок напихал земли, а в землю посадил фиг его знает откуда подобранные цветочки, то это никакой, курва, красотой не было. Но это было сигналом, что данный торговец очень желал, чтобы остальные поняли, что в данном месте он хотел разместить нечто красивое, и что делал все возможное.
«Так они и тянулись одно за другим — заведения портных, конфекционы, склады фарфора, аптечные торговли, парикмахерские заведения. Витринные их большие серые стекла глядели косыми или полукружьем идущими надписями из золотых витиеватых литер: CONFISERIE, MANUCURE, KING OF ENGLAND».
«Бог мой», — размышлял я, уже слегка пошатываясь. «Наш упадок», — размышлял я, — «абсолютен. Ведь то, что он презирал, мы считаем вершинами элегантности и фасона. Шульц не выжил бы в нынешнем Дрогобыче ни минуты. Он не стал бы ждать гестаповцев, а сам бы выстрелил себе эти два раза в затылок».
Тем временем, мы реализовывали классический tour de Schulz. Сначала нашли место, где стоял дом, в котором отец Шульца имел свой прославленный мануфактурный склад. Потом подошли к тому дому, где писатель жил. Маржена с Боженой настаивали на том, чтобы войти вовнутрь, но нынешняя обитательница дома — полная тетка с львиной гривой выкрашенных в оранжевый цвет волос — сказала нам валить к чертовой матери, а не то натравит собаку. Божена с Марженой посчитали это элементом местного колорита и сильно этому радовались. У них были маленькие такие блокнотики, в которые они записывали подобного рода вещи. Так что и сейчас они уселись на высоком, побеленном бордюре и начали чего-то записывать.
Божена уже совершенно закосела. Она бегала по улицам то в одну, то в другую сторону и визжала, что любит Украину, и что желает поселиться здесь во веки веков. Пообещала, что займет один из этих раздолбаных домов или, к примеру, чердак, оттуда станет пялиться на город Дрогобыч, будет читать книжки и писать красивые стихи — и так вот, — говорила она, — жизнь у нее и пройдет. Маржена, правда, была не такой пьяной, но настроение Божены уловила. Они обе сидели на бордюре, передавали одна другой бутылку с бальзамом и договаривались, что как только закончат учебу, то сразу же мчат в Дрогобыч. Наймут чего-нибудь вместе, возьмут дотацию из ЕС и откроют какой-нибудь дрогобычский дом культуры, в котором все будет про Шульца, а в силу разгона — и про Налковскую[29], которая его открыла, и вообще — о межвоенной эпохе. И прежде всего — о Виткации. Вообще, они попали в какую-то тотальную виткациеманечку, все время говорили: Стасё то, Стасё это, а под конец начали рассуждать, какой у него был. Я сидел рядом с ними, курил сигареты одну за другой и глядел, как песик величиной с крысу покрупнее облаивает грузовик. Водитель делал все возможное, чтобы шавку переехать, и в конце концов это ему удалось. Песик перепугано хрюкнул и блеванул собственными кишочками.
Божена с Марженой прервали свои мечтания на полуслове. Глаза у них были величиной с куриное яйцо. Через мгновение они и сами начали блевать.
И кто знает, как бы оно все закончилось, если бы не нужно было возвращаться во Львов. Последний поезд отъезжал через полчаса. Мы взяли такси до вокзала, тщательно отбирая самое раздолбанное.
Привокзальная пивная, в которой еще утром пан Богдан предлагал видения шведского СССР, была черной от гари. Стекол в окнах не было, дверей тоже не было. Пожарные сворачивали свои манатки.
— Газ взорвался, — шепнула бабуля, торгующая яйцами перед вокзалом и все видевшая. — Ужасная трагедия.
Касса была закрыта. На ней висела табличка с надписью «ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ». Чтобы сесть на поезд, пришлось сунуть проводнику в лапу, что наши филологини тщательно отметили в своих блокнотиках в качестве очередного элемента местного колорита. Вагоны были широкие, намного шире, чем у нас. Это тоже было зафиксировано.
— Я ебу, чего в этой стране творится, — переживала Маржена. — Отпад полнейший.
— Ну, — скрежетала Божена, — это же нормально никто и не поверит, когда вернемся на факультет и расскажем, так?
— Третий мир, ну, третий же мир, — прибавляла Маржена. — Бля, они пытаются подражать Европе, только из этого подражания получается какая-то пародия на Европу. Иисусе Христе единорожденный… я, конечно, знаю, что Польша она такая, какая есть, но как только вернусь, я вот возьму и поцелую землю, как какой-нибудь Иоанн-Павел!
Они вытащили «джин-тоники» и стали пробовать открыть пробки зубами. Открывание это закончилось воплем Маржены — она сломала себе семерку. Не знаю, как это она сразу врубилась, что это семерка, но уже через полсекунды после несчастья на весь вагон начала орать: «Семерку сломала! Семерку сломала!». Гавран, сукин сын, отреагировал быстрее меня и тут же бросился ее утешать. А через пару секунд они уже начали целоваться. И где там та обломанная семерка. Божена ожидающе глядела на меня. Я избегал ее взгляда, как только мог, делая вид, что меня ужасно интересует, как там, за окном, убегает зеленая Галичина.
Мимо моего места прошла коротковолосая девица. Та самая, с длинными ногами и замечательными стопами во вьетнамках. Две черные дыры в голове. Девица фотографа. Но сейчас она была сама. Она пошла в сторону перехода между вагонами. Закрыла дверь, и через мгновение из тамбура повеяло сигаретным дымом.
Я вытащил из кармана пачку и — извиняясь, глянув на товарища филолога женского рода, умевшую, как никто другой в свете, склонять Бруно по падежам — поднялся с места и пошел за черноглазой.
Она стояла в тамбуре и курила, опершись о стенку. Сразу же, как только я открыл двери, она уставилась в меня этими своими черными дырами. Меня это сбило с толку. Тогда я сделал вид, будто она меня ну совершенно не волнует. Я вытащил сигарету и закурил, вновь с деланным вниманием глядя на зеленые галичанские поля.
— Зачем вы сюда приезжаете? — неожиданно спросила дыроглазая по-польски, с сильным украинским акцентом.
— Не понял? — удивился я.
— Зачем вы сюда приезжаете, вы, поляки? — спросила она. — Я прислушиваюсь к вам с тех пор, как вы сели в поезд. Ведь похоже на то, что вам здесь ужасно не нравится.
— А откуда ты так хорошо знаешь польский? — пытался я сменить тему, поскольку не собирался краснеть за Маржену с Боженой. То есть — тогда мне казалось, что речь идет исключительно о Маржене с Боженой.
— Тогда я скажу тебе, зачем вы сюда приезжаете, — проигнорировала она мой вопрос. Вы приезжаете сюда, потому что в других странах над вами смеются. И считают вас тем, чем вы считаете нас: отсталым захолустьем, над которым можно постебаться, и в отношении которого можно испытывать превосходство.
— «В отношении», «постебаться», «захолустье»[30], — пытался я держать марку. — А… знаю, ты училась в Польше. Наверняка, в Кракове.
— Потому что все считают вас нищей босотой с Востока, — продолжала тем временем девушка, глядя теми своими черными дырами мне прямо в глаза, — не только немцы, но и чехи, даже словаки и венгры. Ведь вам только кажется, будто бы венгры — это такие ваши заебательские дружки. На самом же деле, они стебутся над вами, как все другие. Не говоря уже о сербах с хорватами. И даже, коллега, литовцы. Все считаю вас чуточку другой версией России. Третьим миром. Только лишь в отношении нас вы можете побыть покровительственными. И компенсировать то, что вами повсюду подтирают себе задницу.
Она не спускала взгляда с моего лица. Я пытался выдержать, но, в конце концов, сдался. Зеленые галичанские поля как мелькали за окном, так и мелькали.
— А вы? — сказал я, выдувая дым, — куда вы ездите, чтобы почувствовать себя лучше? Я знаю, в Узбекистан? Ведь куда-то же вы наверняка ездите.
— А вот скажи мне, зачем, — спросила девушка, подбородком указывая на бутылку бальзама «Вигор», которую я держал в руке, — вот так, при всех, ты демонстративно пьешь жидкость для поднятия потенции?
Совершенно растерянный, я поднес этикетку к глазам, после чего посчитал, что этот жест слишком унизителен, потому что в нем было что-то от дурацкого отпирательства, в связи с чем поднял ее к глазам еще раз. И действительно: маленькими буквочками там было что-то про «дисфункцию эрекции».
— Вот, блин, — вырвалось у меня. Мне вспомнилось, как в последний раз мы ужирались «Вигором» на львовском рынке, прямо из горла, считая, что выглядим ужасно заебательски и что все нас снимают своими мобилками. Теперь-то я понимаю, почему нас снимали. Пара рослых поляков публично хлещущих из горла лекарство для поднятия эрекции — видок должен был быть еще тот.
Дыроглазая щелчком отправила сигарету в противоположную стенку, где-то в полуметре у меня над головой. Меня осыпал сноп искр. После чего отклеилась от стены и, пройдя мимо меня, возвратилась в вагон.
Я тоже вернулся на место. Я выглядывал дыроглазую, но в вагоне ее не было. Божена, к счастью, уже дрыхла. Или делала вид, будто заснула. Гавран лапал Маржену. Весь вагон делал вид, что не глядит. Наконец, они поднялись и отправились в сторону туалетов. Я же развалился на своем месте, попивая жидкость от дисфункции эрекции и глядел через выбитое стекло в двери вагона, как они открывают дверь сортира, как с недоверием пялятся на то, что находится за нею, после чего ее закрывают и с унылыми рожами возвращаются на месте.
— Что, — спросил я, — элементы местного колорита?
Они еще пытались улыбаться, но у них не вышло.
— Держите, — подал я им «Вигор». — Сделайте глоточек.
3 Бит
И мы все ездили в сторону того востока, ездили и ездили. Маршрутками, поездами, отслужившими свое «ладами». Чем только удавалось.
Вместо бензедрина у нас был бальзам «Вигор». Вместо деревенской Америки и Мексики пятидесятых годов[31] — у нас имелась Украина. Но речь шла об одном и том же. Мы брали рюкзаки и отправлялись в дорогу. Керуака мы не читали, потому что читать это было невозможно. Слишком много там было выскакивающих в любую сторону запутавшихся кишок. А еще немного и потому, что мы чувствовали себя несколько глупо, ведь в нашем случае, в отличие от Керуака, никаких ведущих мыслей и не было. Что ни говори, Керуак с компанией совершали какую-то там революцию, а мы попросту пробегали с совершенно пустой головой сквозь уже открытую настежь дверь. Если мы и бухали, прожигали время, принимали наркотики, искали дешевых потрясений и копеечных эмоций, то вовсе не затем, чтобы против кого-либо бунтовать; и даже не затем, чтобы пережить нечто новое, ибо все это уже было, было, было — но лишь затем, чтобы хот что-нибудь делать. Чтобы хоть на мгновение придать собственной жизни какую-то цель. А точнее: эрзац цели, что и сами прекрасно понимали, но считали, что все другое, по сути своей, тоже было эрзацем цели.
И вечно было одно и то же. Чужой город, темный вокзал, по которому шастали какие-то темные личности, проститутки и мусора, вызывающе пялящиеся тебе в глаза. И охранники всяких мастей, вечно в мундирах и с оружием, ведь в Украине все находилось под охраной, за всем следили и все стерегли. Шагу нельзя было ступить, чтобы не наткнуться на охранника, вечно профессионально мрачного и пытающегося делать впечатление, будто вся страна лежит на его плечах — и в то же самое время, какого-то затерянного, прибитого пыльным мешком из-за угла, выглядящего так, будто единственным его желанием было передать всю эту охрану кому-нибудь другому, чтобы самому спрятаться в какой-нибудь дыре.
А потом негостеприимные кишки городских улиц, раздраженные бомбилы, запах интерьеров их «лад» и «волг», потому что мы садились исключительно в «лады» и «волги», поскольку нам вечно казалось, будто бы «лады» с «волгами» в качестве такси дешевле, а их водители — не такие наглые и более честные.
Отсюда и весь этот запах тавота и бензина, запах тел водителей, запах предыдущих пассажиров, запах застоявшегося табачного дыма, запах запаховых фигурок, свисающих с засиженных зеркал заднего вида. При погрузке рюкзаков в багажники следовало быть осторожным, потому что у всех у них машины ходили на газу. И атмосфера вечно была какой-то густой и тяжелой, потому что водила немного молчал, немного ворчал и вез нас по улицам тех украинских городов, которые выглядели так, словно вели к каким-то абсолютно бессмысленным расположениям, таким, куда вообще нет никакого смысла везти, вот нас и везли куда глаза глядят, лишь бы отъебаться. К каким-то разваленным фабричным останкам, которые когда-то по необходимости заселил.
И те съемные квартиры, в которых мы ночевали. Вечно они находились на улицах, которые совершенно не были похожи на улицы, только на какие-то зады, нечто среднее между местом, где выбивают коврики и мусорными площадками; какие-то узкие проходы между двумя глухими стенками, поскольку в постсоветском пространстве классическое городское устройство «площадь — улица» было сильно порушено. По сути своей, это были трущобы, но мы их так не называли, поскольку так их никто не называл, может быть, потому что здесь ведь трущоб никто увидеть не ожидал, ведь трущобы — они ведь в Индии или Латинской Америке, но не в бывшем Советском Союзе. Тем не менее, это были трущобы. Сконструированные из чего угодно; как-то раз я сам видел сворованную доску объявлений вместо стенки, в другом месте — дверцу от «камаза» вместо калитки.
А внутри вечно было полно семейных памяток и фигурочек, какая-то мелкая фарфоровая и раскрашенная мелочевка, которая должна была делать жилищами сбитые из досок пространства; те души, представляющие собой торчащие из потолка трубки, из которых вода стекала не в мелкую ванночку-лягушатник, а попросту на пол; те двери — высотой и шириной с человека; те столы, за которыми мы едва-едва помещались.
Иногда до меня доходило, что туда мы ездили попросту увидеть нищету, и то, что это было не совсем честно, ибо именно таким образом хотели сами почувствовать себя не такими нищими, и тогда я убеждал сам себя, что нищета ведь никуда бы не исчезла, если бы мы туда не поехали, и что помимо всей этой нужды имеется богатый культурный, социологический, исторический, политологический и всякий иной контекст, и на какое-то время совесть меня переставала мучить. И снова можно было покупать водку, покупать пиво, покупать сушеные анчоусы и кальмары, покупать чипсы со вкусом крабов; папиросы «беломор», годящиеся исключительно для самокруток с травкой, и рассказывать самому себе все те русские хардкоровые истории: как, к примеру, ехали мы на какой-то лайбе, так пришлось ее толкать, да еще на дожде; как во время езды на маршрутке люди высовывали головы в люки на крыше, столько туда набилось; как однажды мусора нас арестовали по какой-то из задницы вытянутой причины и требовали заплатить штраф, а потом пришел толстый, ужранный до невозможности сержант, по причине пьянки настроенный положительно ко всему свету, настолько положительно, что он всех нас начал обнимать как славянских братьев и отпустил, а печальные менты стояли под стенкой и тихо нудели: «а штраф?».
Честное слово, я и вправду любил эту страну.
Иногда я попросту брал рюкзак и ехал. Ни с кем не созванивался, только садился в поезд до Перемышля, потом в автобус до Медыки, обходил какие-то муравьиные очереди на переходе и входил в Украину. Пару минут я разглядывался и обдумывал реальность, которая еще недавно была обычным, самым нормальным продолжением моей собственной реальности, а потом та реальность за Медыкой расходилась с моей действительностью и шла собственной дорогой.
И я вкушал это различие, пробовал на вкус тот восточный осадок, который покрыл старую добрую Галичину, всматривался в эти лица, которые — если бы у Сталина перышко дрогнуло на миллиметр — стояли бы сейчас в очередях в польские продовольственные магазины, в польские учреждения, ездили бы в автомобилях с польскими номерами, они были бы своими, миллионнократно знакомыми и — в качестве таковых — были бы недостойны чьего-либо внимания, кроме журналистов программ-исследований, занимающихся общественными проблемами польской провинции.
А потом я ловил тачку или садился в первую попавшуюся маршрутку, стоявшую у пограничного перехода, и ехал. Все равно — куда. Куда угодно. Иногда даже не глядел на табличку, выставленную у лобового стекла, попросту бросал не слишком тяжелый рюкзак на полку в сине-белую клетку, и мы ехали. Иногда до самого конца трассы, иногда — нет. Я глядел, как за окнами перемещается зеленая до боли Украина, которая — чем дальше на восток и юг — делается желто-коричневой. Как перемещаются за окном беленные бордюры. Иногда беленные, а иногда покрашенные попеременно, то белой, то черной краской. Но всегда облезшие. Все это опустошение консервировалось этим белым и черным цветом. Краска же эта сигнализировала: что так все и останется, так все и должно быть. Что ничего уже здесь не изменится. Каким-то образом это меня успокаивало. Впрочем, все оно так и консервировалось. Проржавевшие ворота, погнутые барьеры, выгнутые жестяные ограждения. Все это было закрашено толстым слоем краски, чаще всего желтой и голубой. Таким образом Украина прибирала к рукам свое собственное пространство. После стольких лет ей это полагалось. А потом я засыпал, а солнышко через стекло лизало мне лицо словно собака.
Как-то раз я вышел на остановке маршруток в Мункачеве[32], куда добрался — насколько помню — через Стрый и, похоже, каким-то совершенно кружным путем через Ивано-Франковск; как раз кончил падать дождь, покрытие автовокзала, если только это разнесенную грязь можно было назвать покрытием, было все в дырах, в которых стояла вода. Я вышел из автобуса и несколько минут наблюдал за тем, как небо над Мукачевом, над всей карпатской Русью разъясняется и становится украинским, желто-голубым: только Солнце и синева. Не всем эти синева и золото на Руси нравились, я это знал и даже их, русинов, в чем-то понимал — их Родиной была самая настоящая Центральная Европа, зеленые холмы, виноградники, развалины замков, спокойное многоязычие. Но в тот момент меня это не интересовало. Я хотел ехать дальше, только понятия не имел — куда. Но уж наверняка не в Словакию или Венгрию. Те страны были теплыми и уютными, только меня тогда больше притягивала украинская мультипотенциальность, никак не теплые европейские галушки.
Центр Мукачево
То же самое, но до войны
Я, собственно, и не знал, зачем приехал именно в Мукачево, в этот украинский закуток, вонзающийся в Европу. Сам город мне, в принципе, был скучен. Единственное, что в нем было интересного, это как Восток пытается подражать Центральное Европе. В чем-то мне это напомнило Польшу, хотя я и убалтывл сам себя, что не до конца. Я пил кофе со сливками в какой-то кафешке, неудачно стилизованной под Вену и глядел на людей, пытающихся здесь жить жизнь европейцев.
Я разговаривал с официантом, который желал отсюда выехать. Сам он был венгром, так что желал в Венгрию. Он показывал мне «карту венгра». Говорил, что уже вскоре получит венгерский паспорт и, давай-давай, jo napot kivanok, Magyarorszag (Добрый день, Венгрия! — венг.). Там он планировал заниматься ремонтом крыш. Как говорил, у него была родня в Токае. Там он был еще ребенком и называл тот городишко из одной улицы красивейшим городом на свете. Помимо Токая он бывал лишь во Львове и в отпуске в Одессе. Ага, еще в Крыму.
В пять минут он устроил мне травку от знакомых цыган. Цыгане подъехали на горных велосипедах. Одеты они были словно латиноамериканские альфонсы. Но при этом использовали естественные возможности. У одного даже имелись старательно ухоженные тонюсенькие усики над верхней губой. Выглядело все вместе просто по-идиотски: белые мокасины, расстегнутые рубашки с жесткими воротничками, золотые цепочки, прически словно из фильмов Скорцезе — и горные велосипеды. Но травка у них была классная. Я отправился на вокзал, покуривая ее, утоптанную в папиросу, чтобы никто не врубился.
Но один чувак врубился. У него тоже имелся рюкзак, и был он из Польши. И он тоже ездил один. Звали его Михалом, с курчавыми волосами, родом он был из Гданьска, и парень любил Украину. Во всяком случае, так он говорил. Я здорово здесь себя чувствую, — говорил он, когда мы сидели на тротуаре под халабудой вокзала с паскудными гамбургерами, — когда-нибудь мне захочется здесь жить.
И жить ему хотелось исключительно в селе. В украинском селе. И только в селе, — говорил. Здешние города ни на хрена не годятся. Все города, — говорил, — могут идти в задницу. Вот давай, — говорил он, — поездим по украинским селам. — Ладно, — ответил я ему, уже совершенно никакой, — поездим по украинским селам. Чего уж там. Всё равно. — И вот мы поднялись и отправились на стоянку такси. Попросили одного мужика, чтобы он отвез нас в село. Мужик несколько удивился и спросил, в какое конкретно. Карты у нас не было, так что мы сказали, что где-нибудь — скажем — на румынской границе. Таксист пожал плечами и назвал сумму. Мы еще немного поторговались и покатили. Это были еще те времена, когда такси в Украине были по-настоящему дешевыми. Старые, паршивые времена.
Ехали мы довольно долго, а знаки с названиями местностей мелькали на самых разных языках: по-словацки, по-русински, по-венгерски и по-румынски. Мужик, что нас вез, как и все, рассказывал, что при Союзе было лучше. Мы курили себе на заднем сидении, потому что ему это никак не мешало. Михал собирался стать гданьским нотариусом, как и его отец. Я не спрашивал, и как все это связано с его планами поселиться в украинском селе. Я и сам тогда закончил тогда юриспруденцию, но нотариусом быть не желал. Впрочем, я и так бы им не стал, поскольку нотариус — это наследственная профессия. Я не знал, кем хочу быть, и в тот момент это меня ну никак не интересовало. А вот интересовало меня, что в паре километрах дальше находятся румынские Марамуреш и Чиметуруль Весель, но нас разделяет от всех тех чудес межгосударственная граница. Которая вполне серьезно охраняется ребятами с винтовками и в единого покроя одежках. Тогда все это казалось мне абсурдным и забавным.
Мужик высадил нас в селе, название которого я забыл сразу же после того, как прочитал его на дорожном знаке, и мы отправились искать ночлег, поскольку уже близился вечер. Михал утверждал, что селяне на востоке сами приглашают домой путников с рюкзаками. Так ему рассказывали коллеги в Гданьске, которые на востоке уже были. Что приглашают, самогоном угощают и есть накладывают. Ну а потом сзывают всех родичей, и что сходится все село, и праздник в самом разгаре, с музыкантами и так далее. И с танцующим медведем, — прибавил я, но он меня проигнорировал. Нужно только показаться в селе, сообщил Михал, щурясь. Позволить себя увидеть. И для этого, командовал он, нам следует пройтись посреди села с рюкзаками. Чего, и сколько раз? — спросил я. Если будет нужно, то и несколько раз, — очень серьезно ответил на это Михал.
Ну мы и лазили: с одного конца села в другой, и снова из конца в конец, словно какой-то почетный караул с рюкзаками — отдающий честь павшим польским туристам с рюкзаками или что-то в этом роде. Но никто нами не заинтересовался. Никто даже к забору не подошел. В конце концов, Михал сдался, разочарованный тем, что ему наболтали дружки. Он начал ходить от одного дома к другому и спрашивать. Я же, скалясь во весь рот, заявил, что в жопу, никого спрашивать не стану. И так я уже чувствовал себя по-дурацки, словно кретин дефилируя по главной улице то туда, то сюда. Что касается меня, сказал я, то можно переночевать и на земле. У меня был спальный мешок и каримат. Я был самодостаточен. Но Михал уперся на том, чтобы выпить с местными.
Блин, эта мания бухалова с местными. Тем временем, местные глядели нас как на лесные деревья. Они никак не могли понять, по кой хрен мы вообще к ним приехали, к тому же под самую ночь… Все уже ложились спать и с Михолом говорить не желали. В конце концов, мы согласились с тем, что нужно ехать дальше. Мы выкурили по самокрутке и запили пивком, которое нам удалось купить в магазине после его закрытия лишь потому, что продавщица делала учет. Она с лаской перекидывала косточки счет, словно то были бусины четок.
Было уже очень темно. Звезд на небе не было. Луна была багровой. Никто брать нас на шармака не собирался. Буковые леса пахли свободой и сыростью. Нас же остановили лишь милиционеры. Тут мы серьезно струхнули. При нас было по грамм пять марихуаны на брата, опять же мы были совершенно пьяные. Ну и вообще… Но мужики были нормальные. Сказали нам садиться и сообщили, что подкинут нас на милицейский пост в Рахове, поскольку направлялись как раз туда. Ну а дальше, как сами говорили, как Господь Бог даст. Менты были приблизительно нашего возраста и тоже мечтали о приключениях. Они нас спрашивали, как отнеслась бы польская полиция, если бы вот они шастали с рюкзаками в пограничной зоне в Бещадах. Мы не скрывали, что их наверняка бы записали и отвезли в КПЗ. А они смеялись и страшно гордились тем, что они вот намного лучше польской полиции.
И вот тогда-то этот кретин Михал предложил им пыхнуть. Повисло молчание, ребята-милиционеры глядели друг на друга. Похоже, они не совсем доверяли один другому. Мне казалось, что вообще-то они с охотой бы курнули, но не знали, а не донесет ли другой на него.
— Что ты говорил, Миша? — сделал вид, как будто бы чего-то не расслышал, один из них, похожий на филина из детских сказок. Я прекрасно видел, что им ужасно не хотелось нас садить.
— Папиросу, — сказал я быстро, бросив Михалу взбешенный взгляд. — Можно у вас в машине закурить?
— Нельзя, — отрезал филин, и разговор на этом закончился.
Как только нас высадили в Рахове и уехали, я тут же дал Михалу в торец. Тот этого никак не ожидал. Была полночь, а он лежал на своем рюкзаке и перебирал ногами, словно жук, который не может перевернуться. Из носа лилась кровь. Михал сучил ногами и обещал, что как только встанет, так мне вхуярит, но так уж складывалось, что встать он как раз и не мог, лишь вращался вокруг собственной оси. Я оставил его так и ушел в темноту. Темнота в Рахове — это вам темнота! Ничего не было видно. Даже не было видно местечка, в котором можно было бы разложить каримат и спальник.
Всю ночь я крутился по городку, избегая Михала, который тоже крутился, поскольку ничего другого поделать было нельзя. Впрочем, меня он тоже сторонился. Иногда, в вылете улицы я его видел. Он тоже меня видел и сразу же сворачивал в другую сторону. В конце концов, уже под самое утро, он ко мне подошел. Сказал, что я был прав. Что все нормалек, и что все понятно. Все потому, что он был ужранный и не знал, чего говорит. Утром ехала маршрутка на Ивано-Франковск. Мы уселись в нее и сразу же заснули. Все Карпаты продрыхли, никаких пейзажей не видели. Водитель не мог нас добудиться.
Во Франковске нам встретилась туристическая группа поляков, возвращавшихся после того, как хорошенько полазили по горам. На них были горные ботинки и толстые носки. И громадные фотоаппараты. И кучи снимков на карточках памяти, которые обязательно хотели нам показать. Ребята были сбиты в единую кучу и сплетены теми своими карпатскими историями. Все время они вспоминали какую-нибудь из них и громко ее переживали. Общались они, в принципе, на своем языке, на внутреннем коде. Я совершенно не мог врубиться, на кой ляд мы с Михалом им вообще нужны, но отпускать нас они не желали. Мне казалось, что перед нами они разыгрывают какое-то представление, что они актеры, а мы — зрители, и что мы просто обязаны глядеть на них и восхищаться. Туристы забрали нас в какую-то пивную в обновленном (покрашенном толстенным слоем краски) центре, где все мы ели солянку и вареники. Я не спал в постели уже два дня и просто валился с ног. В конце концов, в самой средине показа фоток на макинтоше, который один из них по какой-то причине затащил, курва, в те горы, я поднялся с места, попрощался, забрал Михала, и мы отправились в гостиницу.
Похоже, выглядели мы как тридцать три несчастья, поскольку тетка-администраторша была для нас словно родная мать. Она дала нам двойной номер с видом на город. Мы сразу же задрыхли. Разбудила меня боль и странные вспышки в голове. Михал стоял надо мной и обкладывал ударами по всему телу: по лицу, по рукам. Я съежился в кровати, а он, уже одетый, в полной готовности, с рюкзаком за спиной, бросил в мой адрес парочку оскорблений и выбежал из номера. Я же начал смеяться. Еще я услышал, как он в коридоре вопит «курва мать!» и сверзается с лестницы. Равновесия ему удержать ене удалось. Я оттер кровь с губы и попытался заснуть. Не смог. Тогда я оделся, натянул рюкзак и спустился вниз. Было около шести вечера. Оказалось, что Михал в администрации честно заплатил свою половину счета. Порядочный парень. На вокзале я снова его увидел. Он садился в ту же электричку, что и я. До Львова. Хлопец делал вид, будто бы меня не видит. Он ехал в другом вагоне и читал книжку Гуго Бадера[33].
4 Орлята
Под кладбищем на Лычакове[34] стояли белые автобусы с польскими номерными знаками.
Номера краковские, вроцлавские, катовицкие, любельские, варшавские. Эти автобусы для меня ассоциировались с громадными, белыми личинками, оккупировавшими эту улицу-развалюху. Они выглядели, словно бы выползли из щелей, из трещин в асфальте и теперь, эти толстенные личинки развалились, тяжело и тупо заняв все свободное место.
Разрушенный мемориал «орлят» (фото 1997 г.)
Мемориал «орлят» сейчас
Из личинок выдавливалась цветастая толпа. В сандалиях, в коротких штанах с накладными карманами сбоку, с фотоаппаратами. Сразу же подходили украинские дети. «Дый, пан, дый, пан, злоты, польски злоты». А эти, из автобусов, просто кормились этим «дый, пан». Теперь они чувствовали себя великими господами. Большинство, наверняка, впервые в жизни. Раз давали, раз — нет: показывая господский каприз. Они надувались этим господским капризом, один говорил: дам, пускай, бедняжки, мороженое купят, наверняка ведь и не знают, что оно такое; а другой говорил: а не дам, потом еще и спасибо скажут, что не дал, что к нищенству не приучил. Нищенством ни до чего не дойдешь, удочка нужна, а не рыба.
Но тут же кто-нибудь из пацанов выдавал старый номер: «дый, пан, дый, пан, я — поляк, поляк, папа-мама — поляки, украинцы — лохи», и кормежка польских экскурсий тут же прекращалась, словно кто косой срезал.
— Это же польский ребенок, польский ребенок! — сказала трубным, но сдавленным от волнения голосом какая-то женщина с грудью вперед, с большим номером бюста и таким же размером носа, и еще с явной склонностью к доминированию. Она говорила это тем же образом, как в голливудских фильмах герои в сложных ситуациях заявляют всему миру: «I'm an American citizen!».
— Это польский ребенок! Скажи, детка, где твоя мама? — уже вытаскивала она из сумки портмоне.
— Нет ее в живых, побили, украинцы, убили, — выло «польское дитя», львовский орленок, и уже через мгновение все эти молодые нищие хором заводили: «мы поля-а-аки, мы поля-а-аки, Украина — плохо, Польша — хорошо, Матерь Божья, Матка Боска», а вся экскурсия щедро, глотая слезы волнения и всхлипывая: «ах, это же польские дети, польские дети», искупала свое волнение банкнотами в десять, а то и двадцать злотых, ассигнаций в 50 злотых, правда, никто уже не совал.
— Пиздуй отсюда, — сказал Гавран пацанчику, который, вытирая грязный нос, подошел к нему со своим выученным: «дый, пан, я поляк».
— Сам пиздуй, ёбаный в рот пшек, — заявило дитя и предусмотрительно смылось, зыркая лишь, а не собирается Гавран его в задницу пнуть.
А Лычаковское Кладбище красивое было. Я пил средство для усиления потенции с хлебным квасом и думал о том, что чего-либо столь же красивого не видел нигде на свете.
Каждая гробница была словно из готического фильма ужасов, и все вместе — погружено в сочнейшую зелень, в желтизну жары, разрезано карабкающимися вверх дорожками; это был сад, растянутый между землей, сном и миром иным.
Вырезанные в камне польские слова, литеры в завитушках, выполненные в маюскулах и минускулах, раздолбанные[35] гробницы, в которых — если заглянуть — видны черепа и берцовые кости; надгробные памятники епископов в богато изукрашенных одеяниях, и которым кто-то отбил руки и головы. Одному из них цементом присобачили к обезглавленному корпусу головку куклы. Самой обычной куклы с открывающимися глазами и привитыми в резину головки локонами. Результат был таким, что мне пришлось усесться.
А потом были орлята. Польские экскурсии искали могил самых младшеньких: лет двенадцати-тринадцати, погибших тогда, в двадцатом, именно эти могилы охотнее всего фотографировались мобилками. Я же глядел на архангела Михаила с конкурентного, украинского военного кладбища. Его здесь расположили затем, чтобы уравновесить голос орлят. Архангел стоял на высоком постаменте, жопой к полякам, лицом и грудью к городу. Следовало признать, что рассчитали все ловко.
— Ты бы пошел сражаться? — спросил Гавран неожиданно. — Тогда?
Я удивленно зыркнул на него. Непонятно было, спрашивает он серьезно или нет, но я предпочел не рисковать.
— Наверное — да, — ответил я. — За компанию. Как тот цыган, который за компанию дал себя повесить.
Гавран усмехнулся.
— А ты? — спросил его я.
— Я тоже за компанию, — ответил он. — К тому же я стар для орленка.
— А на орла у тебя не хватает характера.
— Тебе тоже.
Какое-то время мы еще пялились на поляков, прогуливающихся между белыми рядами крестов. Гавран как-то искусственно рассмеялся и сделал мобилкой снимок мужика, который снимал мобилкой свою жену, которая мобилкой делала снимок белого креста, под которым лежал самый молоденький орленок, которому было десять лет.
5 Бизнес
Этого мужичка я встретил совершенно случайно где-то на окраинах Львова. Где-то возле того микрорайона, в который заезжаешь с польской стороны. Хрущобы, кущари, дорожки раздолбанные. А мужичок — ну прямо как на парад — костюм, отглаженная беленькая рубашка, галстук. Усы, лет около сорока. Элегантные мокасины легко перепрыгивали лужи. В руке он держал красно-белый пластиковый пакет с надписью «Marlboro». Мне казалось, что пакет тоже был отглажен.
— Прошу прощения, — обратился он ко мне по-русски. — Я здесь новый, только что приехал.
— Да я, собственно, тоже, — ответил я, потому что только-только вылез из маршрутки. — Чем могу помочь?
— Я ищу деловых контрагентов, — заявил на это тот.
— Лично я могу лишь пожелать успеха, — сказал я.
— А вы, — мужик похлопал меня по спине, — не желали бы войти в долю?
— Я? — страшно удивился я. — Только не надо. Я вас не знаю и вообще понятия не имею, о чем…
— В этом вот пакете, — сказал мужчина, поднимая пакет с надписью «Marlboro», — у меня план. Бизнес-план. Ничего не нужно делать, только реализовывать. Предприятие — игровой салон. Представляете? В эпоху персональных компьютеров, все те машины, флипперы[36], совершенно все — пошло в утиль. Так что купить можно очень дешево. Ну, опять же, мода на ретро. Можно снять зал, поставить машины. Тут же ведь дело не только в том, чтобы пойти и сыграть, но еще и в том, чтобы с людьми встретиться, пива попить. Мы бы это пиво продавали, и вообще. Все бы было.
— Пан, — с трудом выдавил я из себя, — ведь я же вас не знаю. Вы только что меня на улице встретили…
— А, — разозлившийся мужик махнул рукой, — пошел ты нахуй. Вот и строй тут капитализм, блин. «Возьми жизнь в свои руки», говорили, хуй им в рот…
И пошел дальше. Через несколько сотен метров, я сам видел, он зацепил очередного прохожего, что-то объясняя и гордо показывая пакет с «Marlboro».
6 Кислота
У Удая с Кусаем[37] свои ходы во Львове имелись. Они знали, где можно купить травку. А план был такой: приезжаем на Украину, закупаем травку, курим и крутимся по стране без определенной цели. А в те времена ничего особенного нам было и не нужно. Едем в Крым — клёво. Направляемся в Донбасс — тоже нормально. В Гуляйполе — еще более зааебись. Всё равно и флаг в руки.
Удай с Кусаем и сами поехали на всю голову. Я удивлялся, что с ними поехал. Пацаны жрали все, что только давало в башку, а кислоту поглощали словно чипсы. Были они неразлучны. Нет, не геи, просто неразлучные. Бывает так иногда. Они вместе снимали хату, вместе квасили, маруху шмалили килограммами, а иногда, чтобы хоть как-то выдержать вертикаль, добирали чем-нибудь беленьким.
Вообще-то они были аудиофилами. Изучали звукоинженерию или чего-то там такое. В будущем собирались открыть студию звукозаписи. Пока же чего-то колупались в музыкальном производстве. Этим и зарабатывали на пропитание, но их аудиофильство заключалось не только в изучении инженерии звука и колупании в производстве, но еще и, к примеру, в том, что они полностью демпфировали комнату, в которой стояла воспроизводящая аппаратура, измеряли, в каком месте лучше слышно (с помощью каких-то таинственных устройств), рисовали мелом крест на полу, а потом садились в этом кресте и слушали, под абсолютно полным кайфом, какую-то странную музыку. Что это было, эмбиент, джангл, понятия не имею, может, электро[38]. Как-то раз я пришел к ним без предварительной договоренности. Квартира была открыта, я и зашел. Я кричал, мол, «привет», только никто не отвечал. Была слышна приглушенная музыка. Я направился в главную комнату и толкнул дверь: они сидели неподвижно, рядом друг с другом, на громадном кресте посреди пола. Музыка, которую они слушали, была такой, что мне казалось, будто она ползла по стенам. Глаза их были закрыты черными очками, а так они и не шевелились. Они настолько одеревянели от кислот и один Бог знает чего, что меня даже и не заметили. Я же, признаюсь, чуточку перепугался. Вышел, тихонько закрывая за собой дверь, а вздохнул полной грудью только на улице.
Потом это аудиофильство им вроде как поднадоело, и они начали искать новых впечатлений. Какое-то время интересовались прибацанными кинофильмами, но и это им тоже быстро осточертело. Ведь сколько раз можно пересматривать собрание сочинений Ходоровского[39] и Пазолини[40]. И как раз тогда они начали ездить на восток, где и познали просветление.
— О, я-а-а, — рассказывал Удай. — Старик, идем мы по киевскому парку, идем, нет, идем напрямик, потому что дорожку как-то потеряли (только лишь Удай с Кусаем были в состоянии потерять парковую дорожку), бредем в кущарях среди всего того дерьма и прокладок, и вдруг слышим, бли-ин, Полюшко-поле. Знаешь? Ну, сначала тыдым, тыдым, тыдым, а потом: «По-олюшко-по-о-оле, полюшко широ-о-око по-о-оле», врубаешься? Нет? Так прикинь. Мы слышим это «полюшко-поле», помпезная российская муза в полете, а мы посреди дерьма в кущарях, среди банок из-под бычков в томате и пустых бутылок, понимаешь…
— И чего? — разозлился я.
— Ну, так мы пиздуем через те кущари, пиздуем, а полюшко все ближе и громче, и тут мы выходим на такую заебись громадную площадь посреди парка, а на площади, мэн, военный хор в этих своих здоровенных фурах, и поют, блин, а-капелла. На полную катушку.
— Да ты чего, — не поверил я, — вот так запросто стояли посреди парка при полном параде и пели «Полюшко-поле»?
— Ну, стояли, — ответил на это Удай, — и слушающих даже особенно много не было. Пара каких-то дедков с орденами пило водку из кружек. А эти, ну как нищие в парке, поставленные в свои четыре ряда, хуярили «полюшко»…
— Может у них репетиция была… — не слишком уверенно сказал я.
— Хрен его знает, чего у них там было. Ага, и стояли они под Лениным. Господи Иисусе, какой же у них в этом их Киеве Ленин здоровенный! Блин, ты только представь, это же какой должен в Москве быть!…
— Блин, мэн, — прибавлял Кусай, — вот объясни мне, на кой ляд они вообще подписывают Ленина на пьедесталах? Оно ж сразу видно, что Ленин, а тут еще и написано — «Ленин». Причем, кириллицей, то есть, не для туристов, а только для самих себя. Это же точно так, как на каждой овце взять и написать «овца», чтобы кто-нибудь не перепутал и не принял за корову. Так скажи, есть в этом смысл или нет?
Удай с Кусаем считали, что украинская реальность — она исключительно кислотная и триповая[41]. Они были совершенно оторваны от действительности, и в связи с этим слегка придурковатые, но не настолько, чтобы перевозить собственные запасы через границу. Они знали, чем это грозит и не собирались проводить пары или сколько там лет в украинской тюряге. На это они были, как сами объясняли, «слишком впечатлительные».
Их дилерскими контактами были сквоттеры[42], захватившие гробницы на Лычаковском кладбище. Честное слово. Летом местные панки устраивали себе дачи из наиболее запущенных и отдаленных гробниц. Нужно было лишь знать, куда идти. И, вроде как, они выращивали и готовили ганджу где-то на месте.
И вот как-то раз — понятия не имею, что это мне стукнуло — поехал я с Удаем и Кусаем на Украину. На автобусе. Как только мы заехали на границу и появился украинский таможенник в этой своей фуре размерами с автобусную петлю в повятовом городе, эти двое тут же начали веселиться словно дети. Еще немного, и они бы с ним в шлепки начали бы играть. Таможенник глядел на них подозрительно, а они ему в ответ посылали самые сладенькие улыбочки. — С какой целью в Украину? — пролаял тот, а эти ему в ответ, что желают увидеть восточноевропейское пространство в июльском солнце. Потому что как раз стоял июль, и погода стояла превосходная. Таможенник только зубы сцепил и сразу же взял их на карандаш, а при случае — и меня. Нас обнюхал волкодав по борьбе с наркотиками, а пограничники с серьезными минами перетряхивали каждую нашу тряпку. При этом они криво усмехались и что-то упоминали о резиновых перчатках. Лично я кипел от злости, зато Кусай с Удаем веселились как дети и все время говорили «о йяаа».
В конце концов, пограничники поняли, что имеют дело с больными на всю голову и махнули на нас рукой, глянули, правда, на листки назначения (Удай с Кусаем разработали такую методу, что вписывали туда первый пришедший им на ум украинский город; и если город располагался на западе страны, то приписывали адрес: «Бандеры 69», а если на востоке, то: «Ленина 69») и нас отпустили.
Во Львове мы сразу же взяли курс на Лычаков. На трамвае подъехали под самое кладбище, прошли мимо взволнованных польских экскурсий, прошли мимо пана с полопавшимися сосудами на носу-картошке, который как раз декламировал известный стишок о водородной бомбе[43], мы прошли мимо лампадок и венков с бело-красными лентами на могиле Конопницкой[44], прошли мимо моей самой любимой гробницы, на которой Иисус выглядел так, словно брызгал перечным газом прямо в лица детям, которым — в соответствии с рекомендациями — разрешали приходить к нему, и углубились в задние аллейки кладбища.
Мы вскарабкались на кладбищенский склон и вступили на меньшее кладбище, подкладбище, на котором покоились январские повстанцы[45].
Эта часть кладбища заросла по шею мужчины, и из этой буйной зелени торчали одинаковые, металлические кресты. Мы продирались через эти кущари словно Индиана Джонс сквозь джунгли. На самом конце кладбища повстанцев стояло несколько крупных, магнатских гробниц, совершенно отрезанных от мира, с точки зрения габаритов эти гробницы с успехом могли служить дачными домиками.
Они и служили. На ступенях, на июльском солнышке грелось несколько хулипанков[46]. Здесь у них было все — стол, стулья, ящики пива. Воздух был тяжелый от маслянистого, сладковатого запаха марихуаны. Самокрутки из табачных листьев с травкой они курили толстенные, что твои гаванские сигары. Местные обитатели были босиком, без маек, заросшие как обезьяны, с волосами, слепленными грязью в нечто, напоминающее, скорее, полесские колтуны, а не порядочные дреды. Удай с Кусаем бросились к ним словно к братьям. Похлопываниям по спине не было конца. Как оказалось, они привезли для панков подарки: баночки с келецким майонезом, который они вручили хулипанкам, как когда-то отсталым народам вручали кумач и бисер. Хулипанки, как рассказал мне Кусай, просто обожали келецкий майонез с тех пор, как узнали данное изделие после какого-то концерта в Перемышле. Ведь когда-то они, когда головы у них еще были более-менее в порядке, имели собственную панк-рок-группу. А как вы смогли, спросил я, перевезти этот майонез через границу? Нас же перетряхивали, а продовольственные продукты перевозить запрещено. А, — махнул рукой Кусай, — просо я забыл взять к таможенникам сумку с майонезом, которую засунул на багажную полку над креслом, а им как-то не пришло в голову проверять.
Хулипанки лопали этот майонез, словно сладкие сырки — достали откуда-то ложки, и пошло-поехало. Здесь, было видно, гастрофаза или желание пожрать, никогда не проходит. Мы быстренько распили какое-то изготавливаемое хозяевами вино, после чего разговоры перешли на существенные вопросы, то есть, на наше снабжение на дорогу. Нам была нужна ганджа и кислота. С кислотой, — сообщили хулипанки, — может быть небольшая проблема, поскольку у них нечто вроде неурожая — имеются только лишь панорамиксы[47] двойного замачивания. В связи с чем, с ними необходимо быть поострожнее, потому что заход резкий и дергают не по-детски. Такие трипы не для каждого. А что касается ганджи, — тут самый старший в племени хулипанков, некий Борис с одним-единственным здоровенным дредом на голове и бородой, оформленной в фараоновский цилиндр, — обвел круг по могилам январских повстанцев. — А вот, — сказал он. И действительно: чуточку подальше от кущарей, сквозь которые мы продирались, в полном порядке росли кустики марихуаны. Из плантаций тоже торчали повстанческие кресты.
— Что? — был изумлен я, — прямо здесь? На повстанцах?
— Ну, здесь, — ответил мне великий вождь Борис. — А это что, ваши какие-то знакомые?
— Да вроде как да, — ответил я. — Хотя, — прибавил я тут, — лично ни с кем знаком не был.
— Так им тут приятно лежится, — сказал Борис, перекрестился и глубоко поклонился, — под кустиками. Соки, они в землю идут. Так что им весело.
Хулипанки весьма профессионально упаковали нам ганджу в пачки из-под зеленого чая и благословили на дорожку.
Ганджа и вправду была забористая. Сукины дети должны были ее перед сушкой мариновать в чем-то особенном. Только я предпочитал и не знать, в чем конкретно. Маруху мы скуривали в беломоринах. Это те самые папиросы, которые Волк курил в «Ну, погоди!». Выглядели они немного похожими на курево из «Пятого элемента», то самое, с очень длинным фильтром, только здесь вместо фильтра была длинная и пустая картонная трубка. Ее нужно было изогнуть в букву «S», и табак уже не летел в рот. Правда, вонял тот табак, что старые носки. Достаточно было смешать его с ганджей, чтобы он полностью забил ее запах. Таким макаром можно было курить самокрутки на улице и не дрожать, что органы чего-то вынюхают.
Тут пришла очередь очередного пункта программы. Этот пункт звался Тарас Кабат. Тарас был старинным дружком Удая. Познакомились они в Перемышле, где Удай родился, а Тарас какое-то время рос. Но самое главное — у Тараса имелась зарегистрированная на Украине тачка и желание провести кислотный трип «по власнiм краю».
«Своя страна» взята в кавычки специально. Потому что, если рассматривать происхождение Тараса, то дело было весьма непростым.
— Мой отец был львовским поляком, мать: наполовину полькой, наполовину украинкой, — рассказывал Тарас, когда мы встретились в пивной «Под зеленой бутылкой». У него было лицо ужасно породистого волкодава, так что выглядел он как хипстерская вариация восточного европейца в стиле Евгения Гудзя из «Гоголь Борделло»[48]. Он все время сильно гнулся вперед, осознавая собственную стилизацию, поскольку это было весьма естественным. На нем был пиджак из сэконд-хэнда с красной звездой на лацкане и тельняшка в голубую полоску. В ухе у него была цыганская серьга. Лицо поросло щетиной типа «five o'clock shadow», но из этой щетины несколько выбивались усы — они были где-то на миллиметр длиннее бороды. Но только на миллиметр. Эта хитроумная операция — с одной стороны — делали так, что усы были заметными, а с другой — аннулировали эффект селянской небрежности. Темные волосы у него были зачесаны назад, как у Ника Кейва, когда у него еще имелись волосы. Свободные, темно-коричневые отглаженные брюки опадали на тапки без шнурков.
— Когда я был маленький, мы выехали в Польшу. Вроде как поляки. В Перемышль… — рассказывал он.
— В Перемышль, — повторил я за ним, и последующая часть истории по причине того Перемышля блеснула своей очевидностью.
— Да иди ты со своим Перемышлем, — вкрутился Удай, который сам был из Перемышля.
— …и там старики нашли работу, там же я пошел в школу. В один класс с присутствующим здесь, хотя и едва-едва, Удаем. И ты знаешь, — оскалил он свои клыки, потому что клыки у него были, что у волкодава, — мои папики до сих пор надеются, что им удастся сделаться настоящими поляками в польском Перемышле.
— А ты, как я понимаю, уже и не надеешься.
— Нет, — ответил он на это. — Я так часто слышал, что я украинец, что мое место на Украине, среди резателей и убийц, что я все это принял очень близко к сердцу.
— Э-э-эей, лично я тебе ничего такого не говорил, — вмешался Удай.
— Скорее всего, потому, что не понимал, в чем тут дело. Короче, как только мне исполнилось восемнадцать, я вернулся во Львов, — продолжил Тарас. — Тут у меня дед с бабкой со стороны матери. И тут мне, курва, никто не гундосит, будто бы я полячок. Я тут родился. Бабка, вроде как полька, только что у нее за польскость. Только такие идиоты, как мои папики, могли спутать польскость людей, воспитанных при Советах, с польскостью поляков из Польши. Или польские политики. Ведь наша местная, так называемая полония прекрасно знает, что даже если они какими-то там поляками и являются, то это совершенно иной вид поляков, чем поляки из Польши. Если они к Польше и подлизываются, то из циничного расчета, а не по причине, какой-то там, курва, любви к утраченной родине. Карта поляка — это, парень, измеримые выгоды, а не, курва, «поля, расписанные колосьями цветными»[49].
— Впрочем, эти расписные поля теперь в Белоруссии, — заметил я. Тарас усмехнулся.
— А вот мой дед со стороны матери, — сказал он через какое-то время, — стопроцентный украинец, в УПА воевал. Это он, — прибавил он, — настоял на том, чтобы меня Тарасом назвать. По своему отцу.
— Ну, — заметил Удай, — имя у тебя поехавшее. Все равно, как если бы ты Верандой звался[50].
— В УПА воевал, — повторил я. — Так, может, он и в моего деда стрелял.
— Может и стрелял, — пожал плечами волкодав. — А твой — в моего.
— Хорошо, что они не поубивали друг друга.
— Друг друга — нет.
«Своя страна» была взята в кавычки еще по одной причине.
Потому что Тарас — ни в коей степени — не отождествлял себя со всей Украиной.
Тарас был журналистом, работал на влиятельном львовском интернет-сайте occidens.ua[51]. Как указывает само название, сайт был однозначно прозападный. Ну и, поскольку в Украине одно, скорее, вытекает из другого — противовосточный.
Восток моей страны, говорил Тарас, ничем не отличается от России. Российская, или, пускай уже будет: славянская цивилизация, говорил он, это цивилизация, которая превращает людей в чудовищ, а пространство — в срач. Эти недоделанные градища[52], выглядящие словно облезлые кубики, брошенные в грязевое пространство; эти села — как беспорядочное сборище досок. Отсутствие потребности в какой-либо эстетике, эстетика — как фанаберии в этом мире, больном элефантизмом[53] и паршой одновременно.
— Они все одинаковы: так называемые украинцы с востока, русские, белорусы. Вы, поляки, придумали себе, — говорил он, — стереотипы относительно постсоветских народов. Будто русские — это шовинистические задаваки, белорусы — это великое Княжество Литовское, а украинцы — это казаки. На самом же деле никаких различий нет. Одни мы отличаемся от этой серой русской массы, мы, украинцы с Галичины. Если хотите — из Галиции. А они — они все такие же самые. Все это один русский люд. Вы попались в ловушку собственных стереотипов, потому что попросту привыкли к разнообразию. И что каждый — он «какой-то»: немец — такой, итальянец — такой, чех — сякой. А здесь — нет. Постсоветский мир, по сути своей, он словно арабский мир. Все они там совершенно одинаковые. А самое паршивое это то, что все они ужасно тривиальные, циничные и нудные. Всем важна лишь личная выгода. Нет никакого общественного мышления. Потому-то все то и выглядит, как выглядит. Потому что никому не нужно, чтобы выглядело лучше.
— О, курва, — вмешался Кусай. — Men. Ну у тебя и приход!
— А у нас на Галичине, — продолжал свое Тарас, — тут, что ни говори, дело другое. У нас точно так же, как и в остальной части Европы. Нам что-то да нужно, у нас общественные рефлексы. Потому что мы, в Галичине, как народ воспитывались на габсбургском западе, и только лишь после сорок пятого нас забросило к этим серым варварам. То есть, Сталин нас бросил, хуй ему на могилу.
Одним словом: Тарас был западно-украинским сепаратистом. Галицийским. Галичанским. Галичина, считал он, хотя и была самой беднейшей и наиболее презираемой окраиной австро-венгерской империи, все равно представляла собой наиболее цивилизованным регионом, в котором когда-либо проживали украинцы. Наполовину Азия, говорил он, о'кей, может оно и так, но если так — то и наполовину Европа. В историческом плане, утверждал он, украинцы получили, будучи под австрийцами, и конец. Или же под немцами. И нечего плакать и рвать знамена, говорил он. Реальность — она такова, какова есть, и нужно делать выводы. Необходимо оторваться от зараженной российскостью и степью восточной Украины, и развивать здесь, на Галичине, все то, что связывает ее с миром Запада. И присоединиться к этому миру.
«Зеленый графинчик»[54] — пивная, в которой мы сидели, походила на порядочную центрально-европейскую пивную в одном из приятных центрально-европейских городов: в Праге, Кракове, Оломоуце, Братиславе, Будапеште, Новом Саде, Любляне или Загребе.
Над входом в пивную висела кованая вывеска. В средине царил романтичный полумрак. На столиках стояли свечи. На стене, как еще случается в Кракове (но весьма редко в Вене), висел старый император Франц-Иосиф с усами и бакенбардами, как когда-то было сказано, словно у орангутанга. Бармен был почтенным толстяком с благодушным, чешским чувством юмора. Пиво у них было хорошее. Львовское.
И все надписи были сделаны латиницей. То есть, язык-то был украинский, но записанный именно латиницей. С чешскими диакритическими знаками: č, š и ž.
И то, что с языком сделала латиница, было просто невообразимым.
Одни и те же выражения, записанные латинским алфавитом, переносили все из «русского», постсоветского контекста в контекст центрально-европейский. По сравнению с холодной и враждебной российскостью им, выражениям, было намного ближе к теплой и почтенной чешскости. Надпись «Пляшка червоного вина» выглядит совершенно иначе, чем когда записана как «pljaszka červonogo vina»[55].
Потом сюда пришли другие сепаратисты, коллеги Тараса. Когда опьянели, пели «Боже вспомож, Боже охронь»[56]. Я тоже пел, по-польски, а Тарас со своими коллегами — по-украински. Удай с Кусаем поначалу считали, что это «Deutschland, Deutschland uber alles», и именно ее начали петь, но их обложили хуями, так что хлопцы ограничились урчанием, хихиканием словно парочка хомячков из мультика и постоянным повторением «о яааа… о яааа…». Потом мы пели по-немецки, а уже потом — когда все нализались в стельку — бармен вытащил тексты гимна, распечатанные по-чешски, по-словацки, по-венгерски, по-румынски, по-хорватски, по-сербски и по-словенски. А еще даже по-итальянски и по-фриульски[57]. Их мы тоже пели, а чего…
Когда я уже едва-едва стоял на ногах, то заявил — в рамках тоста — что вся этот польско-украинский срач в отношении Львова просто жалок. Ибо мы, два славянских народа — нос картошкой, дерем друг другу чубы за брошенный нам австрияками объедок. Поскольку сами мы такой город построить были неспособны, объяснял я. Ни поляки, ни украинцы.
— Ваше здоровье! — поднял я свой стакашек.
— И это все? — спросил Тарас Кабат. — Весь тост? И за что тут пить, даже если ты и прав?
— За правду, которая нас освободит, — сказал я на это. — До дна!
Сепаратисты переглянулись и выпили.
— Ну и? — спросил Тарас, оттирая губы от томатного сока, потому что аил перцовку с помидором.
— Мы никогда не выстроили бы Львов, — продолжил я, — потому что мы народы сельские. У нас, поляков, имелась еще и шляхта, вот только она, ничего не поделаешь: исторической конкуренции не выдержала. Селяне, переодетые коммунистами, в конце концов с господами справились, — говорил я. Тысячу лет тянулось, пока их не изничтожили до одного. Ну что, господа магнаты, можете уходить. Но вообще-то жаль, поскольку единственная структура, которая в Польше существовала на полном серьезе, это система шляхетских подворий. А сейчас ее уже и нет, и потому все и сыплется.
— К делу, — прокашлял Тарас.
— Это и есть дело, поскольку в этом заключены причины того, почему у нас так никогда и не было приличной урбанистики и архитектуры, — продолжал я, — поскольку ни крестьяне, ни дворяне городов не строят. Шляхтура строила себе маленькие дворцы по итальянской лицензии, а мужики — чего только можно, лишь бы с крышей и стенками. У русских, по крайней мере, имеют свои кремли, луковицы церквей и так далее, а вершинное оригинальное достижение польской архитектуры — это деревянная, пускай и с каменным фундаментом, усадьба. Все остальное, — бухтел я, — это копия. Уж если требовалось строить города, то за нас это делали немцы. А уж если и мы, то мы попросту слизывали. Сначала у итальянцев, потом у захватчиков, а потом — от кого только было можно, лишь бы с запада.
— Ну, точно. Это важно, что с запада, — вмешался Тарас.
— Перед разделами[58], - продолжал я, — во Львове имелся лишь Рынок и окружающие его улочки. И все это было в таком состоянии, что Боже упаси. Нищета плюс пара улиц накрест. Знаешь, сколько лошадей был в состоянии выставить Львов, когда Речь Посполитая в них нуждалась? Цельных двадцать. Я серьезно. Поскольку, будучи народом, способным исключительно копировать, мы нее чувствовали городов, не имели ни малейшего понятия, как ими управлять. А прежде всего — как их содержать.
— Ну, ну, ну… Ну вот, пожалуйста, — усмехнулся Тарас. — Даже не верится, что это говорит поляк, в самокритике вы никогда сильны не были.
— Ты удивишься, — буркнул я, — но в самокритике мы всегда были сильны, вот только никому, кроме нас самих, никогда не хотелось ее слушать. Потому-то весь мир считает нас тупыми простофилями[59].
— Бедняжки, — ответил Тарас. — Но я тебя утешу: мир считает вас пустым местом, поскольку ему на вас попросту насрать. Точно так же, как и на нас. Но, если идти твоим путем, то через мгновение мы доберемся до того, что украинцы вообще ни одного города не построили, и уж наверняка — не Львов.
— Неумолимо дойдем, — согласился я.
— А Кыйив! — чуть ли не крикнул один из сепаратистов. — Цэ було мисто-мрия, вы б такого николы не побудувалы! Трэба було вашему Болэславу його завойовуваты[60]…
— А это было давно и неправда, — ответил к моему изумлению Тарас.
Спали мы у деда с бабкой Тараса. У них имелась квартира в старом доме на Бандеры, ранее — Сапеги. Проснулись мы с диким похмельем, но решили, что сразу и выедем: уж если хардкор, так хардкор. Тарас заявлял, что так уже много и не пил (хотя пил много) и что спокойно может вести машину.
За завтраком — чтобы его приготовить, бабка Тараса смоталась на базар — мы размышляли, а куда поехать. На север? К северу у нас охоты не было. Стояло лето. Опять же, Волынь у всех нас вызывала нехорошие ассоциации[61]. И однозначные. На восток? Можно и на восток, — говорил Тарас, — только не так сразу, поспокойней. На запад, ясен перец, не было смысла. Потому что именно оттуда мы и приехали. На юго-запад, в Закарпатье? Туда сильнее всего тянуло Тараса, но тут запротестовали Удай и Кусай, которым больше всего хотелось на восток, потому что там было «о йаа». Оставался юг, в отношении которого ни у кого особенных претензий не было. Так что, после того, как мы съели творог с редиской и запили черным кофе, все уселись в старую черную волгу Тараса (которая, в этом я был уверен, являлась дополнением его имиджа в стиле cool Eastern European) и выехали в сторону улицы Гвардейской — на выезд по направлению на Тернополь и Черновцы.
Тарас вел машину. Точно так же, как и все остальные на дороге, то есть, чуточку нервно и хамовато. Мы спокойно ехали, слушая странную, атональную музыку, предоставленную Удаем с Кусаем, шмалили беломорины с вкладышем от хулипанков и рассматривали пейзаж, который из заброшенного по вертикали превратился в заброшенный и превратившийся в пустырь по горизонтали, когда Удай, совершенно от нечего делать, спросил у Тараса:
— Ну, и как тебе кислота?
— Какая еще кислота, — глянул я на Тараса испуганно, — нажрался кислоты и за руль сел?
— Спокуха, — ответил тот, не отрывая глаз от дороги. — Тарас выпил с кислотой квас, квас с кислотой разъест Тараса[62]. Раз хардкор, так хардкор, раз уж Fear and Loathing[63], так Fear and Loathing, а разве не так? Пока что не проникся, жду, — прибавил он, отвечая Удаю.
— Э, только без шуточек, — серьезно перетрусил я, глядя на шоссе, по которому трупы автомашин гнали словно на пожар: посредине, сбоку, кто как. — Блин, в Неваде у них была пустая дорога через пустыню, а тут оно ведь…, — но потом заткнулся, видя наполненные презрением взгляды всей троицы, и лишь тяжело вздохнул. — Тарас, — обратился я к водителю, когда мы проезжали мимо аптеки. — Можешь на минуточку остановиться?
Я пошел туда и купил пять бутылок бальзама «Вигор», так как просто нуждался в стабильности. А спида у нас не было.
Бальзам «Вигор» успокоил меня настолько, что я и сам глотнул кислоты. Чес-слово. Гулять, так гулять. Ожидая приходя, я глядел на эту страну, которая напоминала мне Польшу, как никакая другая на свете. Точно так же замечательно отшлифованную природой, но и точно так же засранную деятельностью человека.
— Мне вас даже чуточку жалко. Вас, поляков, — рассуждал Тарас с ганджа-беломориной в зубах. Сейчас он был здорово похож на Волка из «Ну, погоди!». — Где-то в самой глубине ваших польских душ вы, должно быть, ужасно жалеете о том, что немцы вас порядочным образом не германизировали. А сейчас были бы вы счастливыми германцами, и вам и в голову бы не приходило обвинять немцев хоть в чем-то. И действительно, а в чем? А так вам приходится мучиться со своей польскостью.
— Ты и сам поляк, — ответил я. — Как бы там ни было, где-то там…
— «Где-то там, как бы там ни было», — скривился Тарас, видно было, что злость в нем закипала. — Когда я пробовал быть поляком, то твои уважаемые земляки на хую становились, чтобы отвадить меня от этого со всех сторон странного намерения и поясняли, что «не для украинского пса — колбаса», — накручивал себя он. — Так что ты, курва, не пытайся играть теперь в другую сторону. Вы уж решитесь, блин. А то у меня нервов, курва, не хватает, чтобы брать в голову, блин, ваши переменчивые польские настроения… Ты радуйся, что я вообще с тобой по-польски разговариваю…
— О'кей. То есть, если бы мы вас порядочным макаром полонизировали, = сказал я ему, — вы тоже бы, наверняка, ничего против этого не имели бы. Хотя я и не совсем уверен, что в другую сторону оно бы действовало. То есть: были бы мы счастливы, если бы нас украинизировали. И, курва, притормози чуточку. И не надо ехать по средине дороги, а не то нас, блин, всех нахрен поубиваешь.
Удай с Кусаем сидели на заднем сидении. Глаза у них были словно выключенные телевизоры. Они музыку слушали. Должно быть, выблядки, слопали кислоту еще вчера перед сном, а утром еще и добавили. Мой приход еще не наступил, хотя постепенно начинало делаться тепло, и ноги приятно так щекотало.
— Если бы твоих предков украинизировали, то украинскость сейчас была бы столь же очевидна, как польскость, — сказал Тарас и повернулся ко мне. — Кто знает, быть может ты был бы сейчас украинским шовинистом.
— Трюизм[64], - перебил я его, потому что я делался все легче. — Сверни-ка на правую сторону.
— Что, — рассмеялся тот, — украинской милиции боишься? Что нас тут сейчас заметут, посадят в тюрягу, а там: русский хардкор и полный пиздец? Ты, поляк с, о-го-го, запада, как вы сами хотели бы о себе думать, боишься украинской, восточной реальности?
Прозвучало это столь холодно, что все, во всем остальном теплое, настроение Fear and Loathing задрожало в своих основах.
— Нет, курва, — ответил я, хотя, ясное дело, боялся. — Лично я опасаюсь того, что сейчас все наши приключения закончатся на каком-нибудь из придорожных столбов.
— Это ты прав, что опасаешься, — сказал через минутку Тарас, все-таки сворачивая в сторону. — Потому что восток, оно и в сам деле: хардкор и полный пиздец.
— Я не о…
— Потому что для меня, понимаешь, важен некий выбор.
— Выбор? — икнул я, потому что бальзам «Вигор» просился наружу. — Выбор чего?
— Между европейским востоком и западом. Цивилизационный выбор. Ты такой фильм, Wristcutters[65], видел?
— Нет.
— Он про то место, куда попадают самоубийцы. В принципе, там точно так же, как и в нормальном мире, только все хуже. Все раздолбанное и без какой-либо надежды. Люди там не улыбаются. Везде полно запретов. А на небе нет звезд.
— Чистилище, — сказал на это я.
— Именно. Центральная Европа, та, что между Россией и Западом — это чистилище. Запад — это тот нормальный мир, откуда самоубийцы родом. Ну а чистилище — это мы. Никто не улыбается. Все раздолбанное, нет никаких надежд. И полно запретов.
— А где же небо? — спросил я.
Тарас пожал плечами.
— Я знаю, где ад.
Какое-то время мы ехали молча.
— Да не-е, я ебу, старик, — заговорил в этой тишине Удай. Пустые телевизоры, вмонтированные в его глазницы, неожиданно как бы замерцали, — таких крутых поворотов не надо, мэн.
— Ну а почему ты отсюда попросту не уедешь, Тарас? — спросил я.
— Потому что я украинец, а это не самая высоко котируемая на биржах марка. А ведь каждый должен кем-то быть: поляком, немцем, бля, французом. Мне и самому это не нравится, только что тут поделаешь.
Волга так слабо тянула, что какое-то мгновение я был уверен, что мы расхуяримся вдребезги пополам, столкнувшись с белорусским «газом», который мчался нам напротив.
— Так говори, что ты поляк, — ответил я.
Тарас глянул на меня с весельем в глазах.
— Думаешь, это так много меняет?
— Так оно мне, — продолжил я через момент, когда мы протиснулись в щель между капотом «газа» и крылом обгоняемой «лады», все народы до сраки.
— Большая же у тебя срака, — прокомментировал сзади Удай. Тарас с тем же весельем подмигнул отражению Удая в зеркале заднего вида.
— Вчера ты, Лукаш, страдал от того, — говорил Тарас, — что поляки копировали города из Германии и Италии. А на кой ляд было им выдумывать свое, если оно уже было придумано, причем — нормально? Чтобы создать свою, польскую версию? А на кой, прошу прощения, хуй? Что это еще за фетиш, чтобы все было свое?
— Ну, не знаю, ведь у каждого своя специфика, — пожал я плечами. — Ментальность.
— Херня, — Тарас открыл окно и выплюнул докуренную беломорину. — Эта вечная болтовня о народах стирает самое главное задание, стоящее перед государством. Вот на кой ляд нужна, скажем, Польша? Не для того, случаем, чтобы обеспечить полякам хорошую жизнь, а больше и ничего?
— Ну… ведь элементом этой хорошей жизни, — сказал я без особой уверенности, — является осознание того, что что-то было придумано у нас….
— А на кой хрен? — воскликнул Тарас. — Польша желает быть частью запада — и замечательно. Так что здесь не так с принятием западных решений? Разве в Малопольском[66] жалуются на то, что используют решения, родившиеся в Великопольском? Человечество всегда основывалось на том, что перенимало сделанные другими решения. Потому-то, курва, цивилизация и развилась. Можно адаптироваться к местным условиям, но на кой ляд выдумывать собственные? Что это за болезненная манечка мегаломанов? А после того, как были придуманы национальные государства, всем моча стукнула в голову, и теперь каждый стоит на том, что всякий просто обязан выдумать для себя собственную модель всег на свете. Это, блин, уже какое-то интеллектуальное вырождение! Западные общественные решения самые лучшие, и точка. Потому что на западе человечность индивидуума уважают сильнее всего. А человек требует уважения к себе. И такого государства, которое о нем заботится, а не издевается над ним же. Каждый, независимо от культуры. И так оно, курва, таким элементарным и остается.
— Men, — услышали мы сзади голос Удая. — Я уже не врубаюсь, то ли у тебя приход от кислоты не наступил, то ли как раз наступил, но ты в такие фазы заходишь, что я и не ебу.
— Удай, дорогуша, — заметил Тарас, поглядывая в зеркало заднего вида, — ты там соси себе свою кислоту и не вмешивайся, когда взрослые дяди разговаривают.
Тот вырубил телевизоры в своих глазах.
— Может быть то, что ты говоришь, как-то и соответствует нашей культуре, — сказал я. — Но вот уже мусульманам такое поглощение западных решений нравится уже меньше.
— А потому что мусульмане с самого рождения в голову трахнутые, — отрезал Тарас. — Точно так же, как те бедняги из Северной Кореи. Если, к примеру, мусульманкам всю жизнь талдычить, что выступать круглые сутки в футляре для мусульманки — это для нее привилегия, а не недоразвитость, то, в конце концов, они в это поверят. Точно так же, как и северокорейцы верят в то, что когда их Великий Чучхе идет по парку, то птицы ему чирикают Интернационал. Вся эта болтовня об уважении к культурному своеобразию — это бредни! Дай-ка лучше жидкости для поддержания потенции.
Я подал ему бутылку «Вигора». Тарас отпил глоток.
— Так что я, так называемый украинец, неудачный так называемый поляк, — объявил Тарас, — живу на границе двух цивилизаций. Обрусевшей степи и гуманитарного запада. И вот угадай, что я выбираю. Будьмо! — отдал он салют бутылкой бальзама.
— Но почему тогда вся Россия не выберет запад? — спросил я через какое-то время. — Если эта западная цивилизация настолько привлекательна?
Тарас очень медленно перевел взгляд на меня. Похоже, у него начался приход кислоты.
— А потому что Россия точно такая же трахнутая во всю голову, как мусульманки и северокорейцы. С той разницей, что мусульманок трахают в башку мусульмане, корейцев — Великий Чучхе и его дружки, а Россия трахает себя во всю голову сама.
— Эй, — сказал я ему, заметив, что мы едем к обочине, — ты, блин, на дорогу гляди. Если хочешь, я могу сесть за руль.
Тарас глянул на дорогу и выровнял руль.
— А от запада мы и так не можем, потому что это именно он нас сотворил, — сказал он через какое-то время, а машина подскакивала на выбоинах, в результате чего страдала серьезность его слов. — Цивилизация, под которую подписывается Центральная Европа, это, попросту, периферия германской цивилизации. Так что, Лукаш, ты был прав. Из Германии пришло все то, чем Центральная Европа гордится: архитектура городов и местечек, искусство, законодательство, философия и так далее. То есть, конечно же, их источник находится в Италии и Франции, но к нам все шло через Германию. Потому что здесь, на месте, действительно было придумано немного.
— Ведь чем на самом деле являются славяне? — продолжал он. — Славян уже и нет. То есть — они есть, но только то, что от них осталось, с их вечным бардаком и ментальностью неучей. И язык. То есть, нас со славянами объединяет ровно столько же, сколько и современных венгров со степными кочевниками. Или мексиканцев — с ацтеками. Славяне — это ископаемые останки. Это скансен[67]. Культура, которая сдохла и уже ничего не родит. А потому что и незачем. Потому что просрала конкурентам. Славянскость — это что-то такое же, как и ацтекскость. Или, курва, тотенготскость[68].
— И потому-то, — рассуждал он, объезжая самые крупные ямищи на шоссе, не обращая внимания на дыры и ямы поменьше, — чехи или там словенцы так гордятся собой. А гордятся они по той простой причине, что на фоне других славянских стран они гораздо более развиты. По западному образу и подобию. Не славянскому! И этим, по сути дела, они тоже гордятся, а не своей славянскостью. Ведь правда такова, что единственное, оставшееся у них от той самой славянскости — это язык. Все остальное — это уже вариант германской культуры.
— Только я не вижу в таком онемечивании ничего плохого, — тянул Тарас свой кислотный монолог. — Совсем даже наоборот. — Цивилизация, — акцентировал он, — должна служить человеку. Для того она и существует. А не человек — цивилизации, как в стране, которая считается образцом[69] для всех славян — в России. Для людей, живущих в этой части света, было бы лучше, — прибавил он, — если бы так, как сделали это Чехия со Словенией, цивилизовались бы и другие страны. Как славянские, так и неславянские.
— Но как в подобной ситуации сохранить уважение к себе? — спросил я.
— Погоди, а как это «уважение к себе»? — ответил на это Тарас. — Мы, европейцы с востока, не должны иметь каких-либо комплексов в отношении запада. Попросту, все пошло именно так, как и должно было пойти, по-другому пойти и не могло. Дело ведь в том, — рассуждал он, — чтобы быть страной, столь высоко стоящей в культурном и цивилизационном отношении, как, допустим, Голландия или Франция, мы должны были бы соответствовать определенным историческим или геополитическим требованиям, которые голландцам с французами позволили добиться нынешнего их статуса, более того, которые вообще сделали их голландцами или французами. А если так, то от нашего общего, индоевропейского корня, располагающегося, кстати, на территории нынешней Украины, мы должны были бы оторваться раньше, чем мы оторвались, забраться на запад дальше, смешаться с праиндоевропейцами, сталкиваться с Римом, принимать участие в колонизации мира и так далее. Если бы мы это сделали, если бы это мы повторили их историю, тогда как раз мы назывались бы голландцами или французами. Но погляди: голландцы с французами существуют. То есть, как раз это и случилось. К сожалению, ни мои, ни твои пращуры не были среди тех особей, которые сотворили голландцев или там французов. Впрочем, какие-то ведь наверняка были, только они рассеяли свои гены по всему востоку на протяжении полторы тысячи лет. И в принципе, дело именно в этом. Но по этой причине сложно иметь какие-либо комплексы.
— А помимо того, — разглагольствовал Тарас в воцарившейся тишине, — если бы история пошла иначе, чем она пошла — мы бы попросту не существовал. Потому что не существовали бы даже и тогда бы, если бы нашим уважаемым папашам захотелось бы переспать с нашими уважаемыми мамашами в какое-то другое время. Существовал бы кто-то другой. Потому-то я предпочитаю существовать именно так, как существую, чем не существовать вообще.
— Ну тебя и поплющило, Тарас, — произнес я, чувствуя, что «волга», в которой ехал, становится мягкой и прозрачной, и вот-вот расплывется в воздухе, — а клевая эта кислота.
— Панорамикс двойного замачивания, — сообщил сзади Кусай. — Вы уже закончили?
А потом кислота вдарила со всей дури. Я начал хохотать и ловить в воздухе пиксели — потому что реальность для меня начала раскалываться на пиксели. Тараса же зацепило в каком-то селе, приблизительно на четверти трассы на Тернополь, и он — без каких-либо объяснений — свернул с шоссе в какую-то дыру, называющуюся, кажется, Куровичи. Здесь асфальтовой дороги не было. Тарас гнал где-то под семьдесят-восемьдесят по грунтовке с дикими выбоинами и пугал кур.
— Лот зэ фак творишь, мэн! — гыгыкал Удай что твоя малая обезьянка. — Что это, курва, такое, не ваше же долбанное шоссе, а?
— Ваши не лучше, — буркнул Тарас, дожимая газу. Какой-то мужик захотел выйти со своего двора, но пришлось отскочить, потому что Тарас мигнул черной «волгой» перед глазами.
— А я не мог ехать той дорогой, — пояснил он через какое-то время, правда, чуточку притормозив.
— Это же почему, старик? — допытывался Кусай.
— А мне стало казаться, что она вся полита маслом, — с неохотой признался Тарас. — И что мы в любой момент пойдем юзом. Опять же, что-то я себя как-то не очень чувствую. Контроль теряю… или как-то так…
— Гы, — оскалился я, — ведь должен был быть хардкор, или как?
— Да? — Тарас бросил на меня взгляд волкодава, было видно, что кислота начала его хорошенько разбирать. — Если ты такой умный, садись за руль.
— А завсегда пожалуйста, коллега, — заявил я.
Тарас вдарил по тормозам и вышел из машины. Я тоже открыл дверь. Он обошел «волжану» со стороны капота, я — со стороны хвоста и уселся за руль. Понадобилось какое-то время, чтобы врубиться, что где и как. В конце концов — тронулся. Управлялось машиной топорно, шла она как корова на бойню, и все же, было в «волге» что-то возбуждающее. «Волжана» — тачка массивная и мощная, ну да, плагиат, но ведь крейсера шоссе. Я ехал посреди грунтовки, и мне казалось — будто шпарю по мягенькой перине. И вообще, мир казался мне каким-то добрым и теплым.
— А дай-ка мне, браток, — протянул я руку в направлении Тараса, — бальзамчику.
Я отпил, потом подал бутылку назад, Удаю с Кусаем. Те выставляли головы из окон, словно собачки. Пейзаж очень даже напоминал наш, даже был более гармоничным, так как здесь не было тех исконно польских параллелепипедищ из пустотелого кирпича. Здесь, в селе подо Львовом, сохранилось зеленое пространство и пасущиеся по нему коровы. Совершенно пастушеский пейзаж. Аграрная идиллия. Руритания[70].
Где-то через полчаса мы въехали в очередное село. Называлось оно Антынивка[71].
Дома были деревянными, стояли рядком при грунтовой дороге. Осенью здесь была просто грязевая река, и ничего более. Я остановил машину перед продовольственным магазином. Как и везде, как и на всем божьем свете, перед лавкой сидело несколько типов, которые не знали, чего с собой делать, в связи с чем, убивали время, как только могли.
— Ну вот, Тарас, — сказал я. — Все-таки славаянщина. Видишь? Существует.
Тарас перенес на меня взгляд человека, который понятия не имеет, что с ним происходит. Похоже, кислота устроила у него в башке офигительный погром.
— В этом селе, — ответил он, — славянской остается лишь форма. А точнее — ее отсутствие. То есть, все то распиздяйство, на которое здесь никто не обращает внимания. А все остальное — уже западное. Законы — из Рима. Система хозяйствования — с запада, ведь это, как бы там ни было, капитализм. Даже во времена коммунизма здесь был запад, потому что коммунизм не славяне придумали. А даже если бы и придумали, то, один черт, на основе западных решений.
— А культура? — спросил я.
— А что культура? — буркнул Тарас.
— Культура у них славянская.
— Это в каком плане? — не сдавался Тарас. — Даже если они и слушают русское диско, то диско все равно изобрели на западе. Здесь — это всего лишь вариант. Если они смотрят российские фильмы и сериалы, один черт, фильмы и сериалы были придуманы на западе. И даже если — предположим — они читают книжки, то и те не являются славянской придумкой. Славяне не существуют. А если и существуют, то от них осталось одно дерьмо. Существует один только Запад. Дай-ка мне еще бальзамчика для эрекции. Нужно, курва, эту кислоту запить.
Запить не удалось. Ни ему, ни мне, хотя я и пытался. Мы попали в заколдованный лабиринт сельских дорог без какого-либо следа асфальта. Мы ездили по нему и ездили, не имея возможности вырваться. Никакая карта нашему положению не соответствовала. И было похоже на то, что мы так навсегда между теми селами — какой-то Дупивкой, Задупивкой и Зазадупивкой[72] — и останемся. Везде было одно и то же: деревянные дома, хрен-знает-что из пустотелых кирпичей, зелени полно, коровы на лугах, шавки на высохшей грязи дорог и люди в чем-то, что было лохмотьями XXI века, то есть, в базарной дешевке и старье, которое напяливалось на себя — на первый взгляд — совершенно случайно.
Должно быть, они глядели на нашу бубнящую неритмичной музыкой «волгу» как на какое-то космическое чудо., которое без какой-либо причины появляется и исчезает, въезжая в село то с одной, то с другой стороны. Мы останавливались только лишь возле магазинов, покупая все новые и новые бутылки «джин-тоника» и пива «Львив». Я пил, крутил баранку, сражался с кислотой, превращающей мои мозги в разварную кашу, и размышлял о западе.
А размышлял я о том, как в девяностых годах, когда сам был еще пацаном, подсчитывал западные машины на польских дорогах, потому что хотел, чтобы у нас поскорее было, как в Германии, которую — с собственному счастью и несчастью — я знал, потому что там имелись родичи. Как рассуждал о том, а можем ли мы, поляки, вообще чувствовать себя равными в отношении людей с Запада — из мира совершенно иного качества всего на свете. Ведь сам я, как поляк, был частью этого ужаса, этого всего дерьма, распиздяйства, нищеты, неучености, невоспитанности, врожденного хамства — и никак не мог отстать от всего этого просто так. Так что я перемалывал этот свой комплекс детства в поздней ПНР и начала девяностых годов, о котором — казалось бы — давно и забыл, но который теперь, по причине болтовни Тараса — вернулся со всей силой.
Впрочем, — размышлял я, — Тарас западником не притворяется. Он знает, что это было бы смешно. Потому и надевает активную броню в виде своего имиджа а-ля «Гоголь Борделло»: задиристого варвара с востока, разговаривающего с хриплым, прямоугольным акцентом вампира из Трансильвании, пьющего водку и, быть может, временами и кровь, ездящего на «волге», но во всем этом держащимся очень даже круто. Но все это он делал лишь затем, чтобы как-то определиться в отношении мира. Поскольку ради собственного употребления уже осуществил полнейшую деструкцию всего, что его окружало, всего собственного контекста: культурного, цивилизационного — всяческого. И вот так я думал и размышлял, пока не почувствовал, что сейчас выблюю все то море выжранного спиртного. Так что я опустил стекло и блеванул — продолжая вести машину — на маленькую черную собачку, которая, как оказалось, все время бежала рядом с машиной и звонко лаяла.
— Дальше я не еду, — заявил я, придавив тормоз и вырубая двигатель. Обрыганная собачка, лая уже истерично, побежала назад в село. — Я ебу. Не могу.
Но говорил я, как оказалось, в пустоту. Тарас дрых с открытым ртом. Удай с Кусаем легли один на другом. И храпели. Я приглушил музыку, устроился получше на широком сидении «волжаны» — и тоже заснул.
Разбудили меня бьющие сквозь закрытые веки фары и громкое диско. Русское. Я открыл глаза. Какое-то время зрение приспосабливалось к коктейлю сияния и мрака (под аккомпанемент буханья прямо по башке), и только через пару минут я сориентировался, на что гляжу. И это было настолько странным, что поначалу я принял его за кислотные глюки. Но нет: рядом с нами, на грунтовой дороге, посреди ничего, и вправду стоял белый, вытянутый больше чем на десяток метров лимузин, из тех, которые новобрачные частенько арендуют на свадьбу. Это из него грохотало русское диско. Из люка на крыше выглядывали две размалеванные девицы в одних только лифчиках и размахивали в ритм руками. Удай с Кусаем, вместе с какими-то пьянючими мужиками, скакали в ритм того же дискача по траве. Тарас сидел на капоте и пил минералку. Не прошло и минуты этого всего грохота и хаоса, Улай с Кусаем расчеломкались с пьяными парнями, которые уселись в свой лимузин и поехали прямо перед собой, подскакивая на выбоинах. Из Дупивкы в Задупивку или там из Задупивкы в Зазадупивку. Лично я не имел ни малейшего понятия.
— И-шо-это-курва-было? — спросил я, вылезая из волги, а глаза у меня, должно быть, походили на два помидора, такие же громадные и напитанные кровью.
— Ну-у, — ответил мне Удай, — наверное, кадиллак. Я ебу, ты видал, какой громадный?
— Вот же ж пиздец, — подключился Кусай, — разве нет?
— Ну-у, — согласился я с ним, — а откуда оно вообще взялось?
— А я знаю? — пожал плечами Удай. — Приехало.
— Лично мне как-то похую, откуда оно взялось, — захихикал Кусай.
— И вот в этом и заключается твоя проблема, — покачал головой Тарас, всовывая минералку в мою протянутую руку.
Ночь мы провели возле машины, рано утром поднялись и тронулись. Кофе, который мы выпили в придорожной, воняющей прогорклым маслом тошниловке, был просто ужасен. Завтрак был еще хуже. Я все удивлялся, ну как можно так изгадить яичницу, но, оказывается — можно было. Впрочем, настроение и так было гадким. Розово-желтое солнце поднималось и выпивало утренний туман, и это было единственным, что тем утром вообще имело хоть какой-то смысл.
По дороге, наконец-то, нас остановили. Они стояли на обочине, бесформенные, похожие на мешки с картошкой в этих своих мундирах и кепи, с надписью «ДА!» на дверях тачки. Нам замахали черно-белым жезлом, мы и съехали. У них даже радара не было. Лично я побаивался, потому что товара у нас было выше крыши. Даже Удай с Кусаем неспокойно ерзали. Но похмельный Тарас лишь вздохнул, сказал, что все устроит. И вышел.
Я глядел на то, как они, склонившись друг к другу, о чем-то шепчутся, как Тарас вытягивает бумажник. Как меньший ростом гаишник протягивает руку, как за своими, и как они оба махают Тарасу на прощание. Тарас вернулся и сел за руль.
— Сколько? — спросил я.
— Успокойся ты, — до странности спокойно ответил наш приятель. — Вот ненавижу я этих хуёв, только дергаться с ними не желаю. Сил уже, курва, нет. Так что к ним я отношусь, словно к дождю. Льет — значит надо спрятаться.
— Так все-таки: сколько? Мы тебе отдадим.
— Проехали, — покачал тот головой. Выглядел он, словно из-за угла мешком прибитый. — Просто забудем об этом. Если бы мог, я бы их всех перестрелял. Но, блин, не могу. Так что я им сунул в лапу, а они мне за это сообщили, где посты дальше, по всей трассе, до самых Черновцов. В смысле, где надо поосторожней. И все.
— Но как поосторожней? — спросил я. — Они же останавливают не за превышение скорости, а просто так.
— Нужно принять какие-то критерии, — буркнул Тарас в ответ. — Хотя бы ради себя самого. Чтобы не съехать с катушек.
В Черновцах мы сразу же отправились в гостиницу. Самая дешевая, как сообщал путеводитель, располагалась при железнодорожном вокзале. Тетка-портье дала нам ключи от номера и по простынке с печатью украинских железных дорог. Эти простынки нас несколько напрягли, и удивление еще более усилилось, когда выяснилось, что в номере простыни тоже имеются. Только лишь когда я отправился в душевую и увидел там римлян в тогах — то врубился. Эти простынки представлял собой банные полотенца с халатами в одном флаконе. Я глядел на худющие тела «римлян», на их потрескавшиеся пятки, на не оперируемые варикозные вены на икрах, на зеленоватые татуировки у некоторых из них. На потрескавшиеся плитки пола в душевой, на грязные трубы, на импозантных размеров грибок на стене, на раздолбанные совершенно засранные унитазы и умывальники, и я знал, что если бы сам был на месте Тараса, то наверняка говорил точно то же, что и он.
Как Тарас утверждал, в Черновцах он себя чувствовал нормально. В конце концов, город был чем-то вроде мини-Львова. Город австрийский, веноидальный, как и все города в давней Какании[73] — от Тарнова и до Новы Сада, от Пльзня и до Тимишоары. Мы глядели на Венский сецессион[74], который либо распадался в пыль и прах, либо как-то еще держался, благодаря толстенному слою краски (что называлось восстановлением), и на обитателей Черновцов, которые походили на варваров в развалинах Рима, неотличимых, похоже от поляков, населяющих теперь жилые кварталы старого Вроцлава, либо же арабов, живущих теперь в старых французских кварталах Туниса. Это были люди, которые извечно жили в этих местах, где-то с самого боку, но это не они возвели эти города, эти дома. Этот весь сецессион не принадлежал им, потому-то они его и не понимали, не умели им пользоваться и — как правило — им было на него насрать, а если и не было, то все их попытки сохранить эту древность для потомков были совершенно бездарными и никудышными. Мне казалось, что они относятся к городу так, как будто бы тот был конструкцией, сотворенной не столько людьми по их образу и подобию, сколько данной им самой Природой, как леса, овраги и горы — а кому бы это приходило в голову ремонтировать овраг или восстанавливать гору. Городом они пользовались точно так же, как их предки пользовались всем иным: лесом, полем, лугом. Они брали все им нужное и слишком не беспокоились о результатах этого «забора» — само отрастет.
Черновцы. Улица
Бывшая хоральная синагога (Темпль), ставшая кинотеатром
Центр был помалёван довольно-таки истерически, на хип-хап, как будто бы здесь желали как можно быстрее иметь снова Австрию. Результат был таким, что тротуары были в пятнах краски, а замалёванные, потрескавшиеся пласты штукатурки держались лишь на толстенном слое окрашенного раствора.
Впрочем, город закончился очень неожиданно. Старые каменные дома превратились в село столь неожиданно, как будто со строителями одновременно случился сердечный приступ, в связи с чем дальше достроить они не успели. Мы стояли в ступоре и глядели на возвышенности, идиллические долины и неожиданно появившиеся перед глазами деревушки. Все это были виды, слайды с которыми необходимо показывать нервнобольным людям ради их успокоения.
Так что мы сделали разворот на 180° и вернулись в город. Но после того, как мы вышли из окружающих нас старых каменных домов, на нас, абсолютно неожиданно, словно банда разбойников, выскочили девятиэтажки. Между ними стояли какие-то здания, о которых невозможно было сказать определенно: то ли их возводят, то ли разбирают. А уже среди них торчал деревянный сарай, очень похожий на склад для сельхозорудий. На его крыше торчал православный крест. Мы зашли вовнутрь. Это была церковь. Нормальная такая церковь. Выглядела она времянка — времянкой, но явно стояла здесь уже долго. Женщина в платке на голове мыла пол. Грязную воду она выливала за иконостас, в сферу святая святых.
— О, йа-а, — обменялись впечатлениями Удай с Кусаем.
А потом началась промышленная часть города. Я чувствовал себя словно в социалистическом научно-фантастическом фильме, в котором заржавевшие машины советской тяжелой промышленности захватили власть над миром. Автобусная остановка выглядела здесь совершенно абсурдно, поскольку, похоже было на то, что выходить здесь могли исключительно какие-то соцроботы. В подобного рода месте казалось, а самокрутки с травкой это впечатление лишь усиливали, будто бы мы единственные живые существа во вселенной.
И сразу же потом был Прут, который пёр так, что если бы в него сунуть голову, то она бы оторвалась нафиг.
А за Прутом было вообще что-то сумасшедшее. Самый большой базар, который я когда-либо видел. Тянулся он на несколько километров. Продавали там все — от автомобилей и курей, до тряпок на вес. Живущие тут же селяне сдавали места для стоянки машин на собственных дворах. Один из них сидел в шлепанцах у ограды, на табуретке. Одной рукой он кормил кур, а второй получал бабки за выезд. Желающих было полно. Люди клубились, словно на карнавале. Где-то посреди этого коммерческого безумия начало зарождаться что-то вроде города. То была истинная Улица Крокодилов. Здесь зарождались «псевдо-дома» — из пустотелого кирпича, из стекла, вроде как и временные, но вечные. Немного это походило на городок из вестерна: с главной улицей, с наскоро поставленными деревянными домишками, которые — в пустой прерии — должны были изображать городское пространство. И рядом со всем этим стояла небольшая церквушка. Выглядела она как очередная торговая палатка. А что? Все выставляли торговые точки, вот и Иисус тоже.
А потом, уже вернувшись в город, мы обнаружили тот бар.
Еще пару недель назад там наверняка можно было бы съесть солянку и котлету по-киевски с жареной картошкой, но сейчас это уже был «суши-бар». А что вы хотите? Смена брендов и направлений. Толстенная, типичная молочно-барная[75] тетка за стойкой сейчас была упакована в кимоно (слишком маленькое для нее по размеру), из-под которого выглядывал вязаный свитерок. Взгляд у нее был уставший, на лице — выражение вечного разочарования. Волосы ее заставили поднять в кок, и в этот кок вонзили две палочки для еды. Интерьер предприятия общественного питания еще не был переделан, так что стены все так же украшали деревянные панели. Сидели здесь на привычных, деревянных лавках. У входа располагался праславянский и добродушный медведь с толстеньким пузиком. Его тоже упаковали в кимоно. А вот на стенах — вместо картинок с издающим брачный рев маралом[76] — висели гейши и битвы самураев.
— О йаа! — завизжали Удай и Кусай и бросились фотографировать. Медведя, отсутствующего марала, тетку за барной стойкой, хотя та начала визжать, что вроде как нельзя. Только Удай с Кусаем где-то ее видели. Они вопили «о йаа» и фотографировали, фотографировали. Пока в конце концов Тарас не вырвал аппарат из рук Удая и, взбешенный, не вышел из заведения.
Удай с Кусаем удивленно переглянулись и двинулись за ним.
Я тоже. А что мне еще оставалось делать? Тем более, что тетка за стойкой глядела на меня с холодной ненавистью.
Тарас нервно курил и орал на Удая с Кусаем:
— Вы вообще, блядь, к нам как к людям относитесь, — орал он, — или словно к какому-то, блядь, экзотическому племени? Или словно к зверям в зоопарке?…
— Уже сам факт того, что ты сопоставил племя и зверей, — удивительно скоро и разумно заметил Удай, — свидетельствует о том, что не можешь, как это говорится, бросить камнем…
Кусай захихикал, и Тарас, повернувшись к нему, рявкнул:
— А ты, курва, чего ржешь? За кого вы нас считаете? Или вы считаете, будто бы мы тут, курва, живем здесь для того, чтобы вас забавлять?
— Нуу, ста-арик, — пытался успокоить его Удай, — отстранись немного от всего этого, ведь это… — и заткнулся. — Все оно не так, как ты считаешь, — буркнул он через какое-то время.
— Ебу я вас, — удивительно спокойным голосом сказал Тарас. — Нехрен мне было с вами куда-либо ехать. А вы самые обычные сволочи, вот что. Обычные, банальные сволочи.
Он бросил Удаю фотоаппарат, окурок щелчком отправил в сторону Кусая.
— Сами возвращайтесь, — бросил он. — В свою Польшу.
И он ушел, а мы остались. Когда мы вернулись в гостиницу, черной «волги» уже не было. Рюкзака Тараса в номере тоже не было. Зато на стенках моей зубной пастой было намазюкано: «PIGS» и «HELTER SKELTER»[77].
7 Сыробржицские
Хотя я и обещал, что больше с Удаем и Кусаем никуда не поеду, второй раз все же был.
Кусай узнал от матери, что в селе под Коломыей живут его родственники. Фамилия их Сыробржицские[78], — говорил Кусай, — из старой польской шляхты. В 1939 году они не предали народ и не съебались в Румынию, хотя им и было близко. Люди чести.
Меня вечно заставляло задуматься: вот как случается, что такие переполненные наркотой, разболтанные придурки как Кусай, как только приходится говорить об истории, начинают выступать точно тем же языком, как одурманенные своей миссией правые. Измена, честь… Ну да ладно, подумал я. Оно может быть и любопытно.
В Коломые мы взяли мотор и поехали в село под названием Ропушинец[79]. Следует признать, что уже сама тачка выглядела импозантно. Это был единственный из виденных мною автомобилей, в котором задницу ко всему остальному пришпандорили клеящей лентой. Скотчем! На дело пошло где-то с полтора десятка рулончиков, и, возможно, дешевле было бы все приварить, но таксист — пан Мыкола — выглядел человеком крайне апатичным, так что вся операция по сварке его, видно, попросту перерастала. И тогда по наименьшей линии сопротивления, вместо автомастерской он отправился в писчебумажную лавку за углом.
Ропушинець не нашелся, зато вот часовенка в с. Малый Гвоздец
Костёл в с. Гвоздец (может, тот самый)
В Ропушинце никто Сыробржицких, родичей Кусая, как-то вспомнить не мог, потому что довоенных жителей тут практически что и не было. Зато все показывали нам дорогу к польскому ксендзу, который хозяйничал в католическом приходе. Уже сам дом священника среди здешних нищенских, восточно-галичанских домишек походил на виллу диктатора из банановой республики. Жаль только, что не было пальм. Территорию охранял амстафф[80], а орошающее устройство орошало тщательно постриженный газон. Рядом располагался абсолютно разваленный костел. Я понимаю, что все это выглядит словно фотография с антиклерикальной листовки, но именно так все и было. Ксёндз — высокий, молодой, в дорогих сандалетах и шортах — выглядел здесь ну словно английский колонизатор в Индии, не хватало разве что пробкового шлема. Он отличался буйной растительностью и говорил басом. Плакался, что нищета, что нет средств на восстановление костела. Тут же, лишь только увидав нас, появились любопытствующие монашки — в этой всеми забытой провинции мы представляли собой необычное зрелище. Монашки походили на хихикающих маппетов[81]. Они толпились вокруг ксендза, возвышавшегося над ними словно поросший шерстью мраморный памятник, и подтверждали: ну да, все плохо и нищета. На этом фоне оросительная установка замечательно орошала газон, и пес с удовольствием качался по орошенной травке. Ксендз ничем не мог нам помочь в плане родичей Кусая. Приходские книги, как утверждал, спалили большевики. Опять же, у него обед стынет. Действительно, чувствовался запах котлеток. Лично я просто не мог во все это поверить. Я не верил, что мужик может быть настолько стереотипным катабасом[82], причем, не в плане иронии, а вот так, в жизни. Лично я подозревал, что перед нами ксёндз-хипстер[83]. В связи с этим, я спросил, а нельзя ли нам будет свернуть папироску с травкой в тени липы, что росла у ксёндза во дворе. Ксендз осенил нас знаком святого креста и приказал сваливать.
Тем не менее, мы свернули, сразу же за оградой дома священника. Жара была сумасшедшая. Дома зияли распахнутыми хавалами окон. Одна из женщин, с которой мы заговорили на улице, вспомнила, что когда-то, и правда, Сыробржицские здесь жили. И одна из представительниц семьи проживает до сих пор, но фамилия у нее уже другая. По мужу потому что. Но тоже поляка, — покачала женщина головой. — Никто их тут не любит, — прибавила она.
Дом бывшей Сыробржецкой был сельской развалюхой, расположенной посреди старого сада. Чуть подальше высились какие-то колхозные постройки. Сама пани Быковская — вот как звали ее теперь — была бойкой старушонкой с золотыми зубами и волосами, зачесанными в высокий кок. Увидав Кусая, она обрадовалась. Перед тем, правда, они никогда его не видела и даже ничего не слышала о его существовании, но обнимала, словно собственного сына. И пригласила нас войти.
Перед телевизором сидел пан Быковский. Он смотрел какой-то российский телесериал, действие которого разыгрывалось в среде милицейских кадетов. Мужичок был прелестным дохлячком, нас приветствовал с радостью и какой-то долей бесшабашности. На настенном ковре висела старая, проржавевшая сабля. Над ней — рынграф[84] с Марией.
Но уже к столу пригласили только Кусая. Семейство Быковских ужасно перед нами извинялось, но, — говорили, — к столу в их семье приглашают исключительно шляхтичей. Всех остальных попросили присесть перед телевизором. Я просто поверить не мог. Как они прожили с подобными фанабериями пятьдесят лет в отчизне трудового народа? Зато хоть сделалось понятно, почему здесь их никто не любит.
Так что мы сидели с Удаем перед телевизором, смотрели сериал о русских кадетах, пока что невинных и переполненных замечательными идеалами, словно Эраст Петрович Фандорин, но уже очень скоро должных сделаться жирными, льстивыми и сволочными.
А за столом пан Быковский и пани Быковская — primo voto Сыробржицкая, показывали Кусаю какие-то старинные дворянские бумаги, вытащенные из тайника под досками пола.
Кусай глядел на это все, осматривал, даже пробовал читать и обнюхивать, только ничего не понимал. Он лишь покачивал головой и был город тем, что его предки не изменили и были людьми чести.
8 Гонзо
И вот так оно и пошло, что я начал профессионально заниматься тем, что гнал туфту. Попросту — врал. Если говорить о деле более профессиональными терминами — я фиксировал национальные стереотипы. Чаще всего — гадкие.
В денежном плане, это выгодно. Потому что ничто в Польше не продается лучше, чем Schadenfreude[85]. Я это прекрасно знаю. Хватило того, чтобы я написал несколько текстов на тему Украины в гонзо-тоне[86] — и у меня тут же появились заказы. В тех первых текстах я эпатировал украинским распиздяйством и растасканностью. Все должно было быть грязным, крутым, жестоким. В этом и заключается суть гонзо. В гонзо имеется водяра, бычки, наркота и телки. Обязательно включение вульгаризмов. Так я писал, и было здорово.
Самый лучший постоянный заказ я получил от одного недавно родившихся в Кракове Интернет-порталов. Еженедельно я должен был отсылать им очередную порцию украинского мяса. Они ожидали хардкор, так что хардкор и получали.
Но перед тем я должен был придумать себе псевдоним. Под собственной фамилией публиковать всю эту хрень мне не хотелось. Так что подписывался как Павел Понцкий[87]. Мне это показалось круто. Библейские псевдонимы всегда звучат классно. Как Джизес из Лебовского или Крис Понтиус из Чудаков.
Во всяком случае, они платили. И спонсировали очередные выезды на Украину. Так что я врал на всю катушкуи придумывал истории настолько хардкорные, что они в нормальной голове никак не умещались. Из Украины я творил сумасшедший дом на колесиках, преисподнюю а-ля Кустурица[88], в которой все может случиться, и в которой все случается. Дикий, дикий восток. Полякам это нравилось, они кликали и читали. А чем охотнее они кликали, тем охотнее и больше платили рекламодатели. Продажа отрицательных стереотипов в отношении соседей приносило в Польше вполне конкретные бабки.
Но здесь дело было даже не в том, будто бы я что-то имел к Украине. Совершенно не имел. Все это вышло как-то само по себе. И, как оно всегда бывает, поначалу у меня были самые лучшие добрые намерения. Или, что точнее — у меня не было плохих. Ребята, не думайте, я знаю, чем дорога в ад вымощена.
Короче, я ездил по Украине и искал темы. А они имелись повсюду, достаточно было осмотреться.
К примеру, как-то раз Мачек, мой шеф, пожелал получить гонзо по трогательной общественно-важной теме. Понятия не имею, откуда мне в голову пришел алкоголизм. И я сделал лже-репортаж про бабку-травницу, колдунью, которая лечила от зависимости к водке. Про нее я услышал, когда развлекался во Львове. Сейчас я уже и не помню, где в этой истории кончается правда, а начинаются враки. Все связи я затираю очень даже хорошо.
В моем гонзо-репортаже все это излагалось так: в результате процесса урбанизации СССР моя бабка-травница пару десятков лет назад перебралась из села в город, и уже не жила, как типичная колдунья, в деревянной избушке, завешанной гирляндами чеснока и пучками лечебных трав, а в львовской хрущевке на улице Лыпыньского. Лечебные травы и чеснок висели теперь на балконе, а декокты изготавливались в ванной[89].
К бабке-травнице приходили женщины с мужиками-аликами и вопили во всю Ивановскую: помогите, баба Леся, помогите, нет с этим иродом жизни, пьет все, что горит — а мужики стояли у них за спинами, пошатываясь на ногах и разглядываясь по сторонам, словно недоразвитые дети. Баба Леся окуривала нарушителей семейной идиллии травками, давала пить какую-то дрянь, сжигала какие-то нитки и брала приличные бабки. Ясен перец, ничего это не помогало, плацебо — оно плацебо и есть, но с рекламациями мало кто приходил, точно так же, как мало кто приходит с рекламациями в церковь, что молитвы, видишь ли, не действуют.
Но в моей версии лечение бабы Леси все же помогало, по крайней мере, на какое-то время. Потому что в той гадости, которую давали выпить алкоголику, находилось растворимое средство для прочистки труб, так что у мужика-пьяндылыги пищеварительный тракт расхерячивало так, что он не мог глотнуть не только спиртного, но и котлеты по-киевски. Жены, понятное дело, воспринимали это как божью кару, а когда после длительного лечения пациент приходил в себя, гортань была настолько разрушена, что любой глоток чего-либо кроме молока вызывал такую боль, словно бы в горло заливали растопленный металл. Микстура бабы Леси — врал я напропалую — распространилась по всей Украине. Сама же баба Леся размышляет о том, как поставить виллу в районе для элиты Санта Барбара под самим Львовом и покупает «хаммер». Понятное дело, с водилой, потому что прав у нее нет.
Главный редактор Мачек прочитал, сказал, что нормально, но — спросил — а что если наши бабы тоже станут делать подобное своим мужьям-пьяницам? И что будет, когда люди потравятся, а на нас начнут приходить судебные иски, поскольку это заебательское know-how пошло именно от нас?
Тогда я дописал в своей статье, что долгосрочно терапия бабы Леси не сработала. Мужики с сожженными гортанями теперь садятся голыми задницами в наполненные спиртом тазики, так что слизистая оболочка в прямой кишке поглощает испарения алкоголя. И вот как выглядят теперь их пьянки: шесть мужиков сидят кружком со спущенным исподним, шмалят самокрутки, и постепенно мужики делаются все более готовенькими. Так что, мало того, что эффектов от лечения ноль целых шиш десятых, так еще же и лажа в плане эмстетики, так что собственные бабы на мужей уже и глядеть не могут. Хуже того, посиделки в тазиках с наступлением весны переносятся на пленер, так что алкоголики с гортанями, сожженными микстурами бабы Леси, становятся постоянным элементом украинского пейзажа.
Короче, я ездил и разыскивал темы. Паспорт уже весь был запечатан украинскими штемпелями, как у приграничной мурашки. Иногда из одной поездки удавалось вычесать с полтора десятка гонзо и обеспечить публикации на несколько месяцев. Вот, к примеру, как-то раз я отправился в поездку на Буджак.
Буджак[90] — это самый конец света. Слепая кишка Украины, которую засунули между Черным морем, Румынией, Молдавией и Приднестровьем. Край, который не существует. Одним словом — трудно представить себе в Европе жопу более черную, чем Буджак.
Сначала нужно было доехать поездом из Львова в Одессу. Билетов уже, вроде как, не было, но достаточно было пройти через первый перрон в «ВИП-кассу» на втором этаже вокзала, чтобы оказалось, что билеты таки есть. В ВИП-кассу пройти мог каждый. И достаточно было доплатить несколько гривен. И уже было готово гонзо о коррупции на железных дорогах, о мафии кассирш, которые продавали билеты налево и снимали дань с теток, убиравших туалеты.
Я взял билет в купейный вагон. Плацкарт уже надоел. Вообще, плацкартные вагоны походили на мясные магазины с человечиной на полках. К тому же по ним шатались ужранные польские «турысты» в поисках «русского» для совместной попойки: слависты, россиеведы, украинисты. Не дай Боже, чтобы кто-то из пассажиров вскрыл пиво — ему на голову тут же садилось с пару десятков поляков, изучающих восточнославянскую филологию и дышащих водярой, и начинало петь песни по-русски. Как правило — более всего «по-русски» вели себя в плацкартных вагонах именно поляки, ищущие восточного хардкора. Из этой ситуации тоже родилось не одно гонзо.
Место напротив принадлежало — как оказалось — канадцу по фамилии Ригамонте. Как только он узнал, что я из Польши, то тут же начал восхищаться тем, что это страна, не тронутая цивилизацией, что по деревням бабули в платочках, что соседские общности у нас еще те, что были до современности, что традиции с обрядами, что если кто умрет, то приходят соседи, жгут свечи и поют; что — если брать вообще — общество у нас не тронуто гадостью нынешнего времени, но сохранило старинную, добрую, аграрную идиллию. Сплошная тебе Руритания[91].
Задалбывал он меня капитально, в связи с чем я ходил курить в тамбур. При этом я проходил мимо купе проводников. В нем сидела проводница с проводником[92] из другого вагона. Пили водку. Похоже было на то, что проводница весьма скоро проводником будет трахнута. Вона я, проводница государственных железных дорог, пущай со мной что станется, то и станется. И трах, похоже, таки стался, потому что на протяжении пары десятков километров купе проводников было закрыто. Потом оно опять было открыто, а проводники все так же пили водку, правда, теперь они были какие-то более распоясанные. А потом к ним пришел еще и охранник. Он сел с ними, ел с ними, и запанибрата выпивал. Толстый он был, что твоя бочка. На поясе у него была кобура с пистолетом. Может быть, и газовым, но я так не считаю. Через какое-то время он был уже совершенно пьяным, морда багровая, но кобуры он не отстегивал.
Я возвращался после перекура в купе, а там уже ждал тот дебил Ригамонте. И мне приходилось выслушивать, какой там у нас в Польше здоровый, крепкий примитивизм, какое это у нас счастливое общество, и — клянусь — страшно хотелось набить ему рожу. Далеко за Жмеринкой, в какой-то Дупивци Стэповий или какой-то другой, столь же завлекательной местности, поезд остановился. Я как раз шел покурить. Вот Ригамонте и попросил меня при случае спросить у проводников, как долго поезд будет стоять, а то он заметил, сказал он, на перроне открытую лавку, так что желал выскочить купить какого-нибудь пивка.
Толстый охранник уже снял рубашку и сидел в купе проводников полуголый. Мокасины, брюки; жир выливался на пояс с кобурой. Я спросил, через сколько поезд тронется. Мне ответили, что минуты через три и налили рюмку водки. Я выпил, поблагодарил и возвратился в купе. Ригамонте я сказал, чтобы летел пулей, потому что у него имеется с полчаса. Тот обрадовался и пошел. Через минуту поезд тронулся. Задумавшись о своем, я глядел, как перепуганный Ригамонте бежит за уезжающими вагонами, за своим рюкзаком, документами и шмотками, в одних только вьетнамках и шортах, как он размахивает руками и чего-то кричит.
Уже из одной этой ситуации родилась парочка гонзо, которые я, не отходя от места, настукал в вагоне, на ноуте, который беру с собой в поездки. Первый гонзик был о том, как натрахавшийся в три жопы охранник в одних трусах и заткнутым в них громадным смит-энд-вессоном терроризирует вагон. Второй — о несчастном канадце, от которого сбежал поезд, и который остался сам на перроне, посреди ночи — без бабок, паспорта и рюкзака. Я представлял, а вот что подобный Ригамонте мог бы в подобной ситуации сделать. И я выдумал, как он идет в ближайшее отделение милиции и пытается чего-то объяснять пузатым мусорам сначала по-английски, а потом по-французски, что он — гражданин Канады и подданный Ее Королевского Величества, и что он желает незамедлительно связаться с консульством. В отделении на него пялятся широко раскрытыми глазами, принимают за нарика и бросают в обезьянник, где его неоднократно насилуют сокамерники.
Это к примеру.
Одесса, Одесса, Одесса. Я любил этот город. Тогда еще любил. Любил даже тот советский одесский бетон, в котором — вместо гравия — были раскрошенные ракушки. Я любил этих золотозубых наглых бабищ, которые широкими задами восседали на ступеньках украшенного звездой вокзала города-героя СССР и орали на всю ивановскую, что у них имеются квартиры для приезжих, а когда кто-нибудь к одной такой подходил, все остальные тетки бросались на несчастного вырывая его одна у другой выкрашенными ярко-красным цветом когтями.
Я любил этот город. Мне казалось, что именно так должна выглядеть Гавана, разве что по Одессе, вместо старых паккардов, двигались ржавые волги. Но, если принять во внимание, что «волги» — это советские версии американских крейсеров шоссе, то, в принципе, выходило одно на другое. Впрочем, именно так тогда строились все города в теплых странах — то ли на Карибах, то ли на Индийском океане, то ли на Черном море. Первая, XIX-вековая глобализация. И это доказательство того, что Россия никогда не задумывалась над тем, выбирать ей евроазиатскую степь или Европу. Степь пришла к ним вместе с татарами, и время тогда было недоброе. Европу же русские копировали всегда и издавна у себя устраивали. Во всяком случае — пытались. Одесса была замечательным тому примером. Петербург — тоже. Да и все остальное: администрацию, философию. Иногда по причине подобного копирования у них выходила пародия. Об этом еще де Кюстен писал. Но иногда и нечто гениальное — к примеру, литература. Сквозь тень платанов золотыми пятнышками чирикало солнце; старики в коричневых брюках, рубашках с коротким рукавом и в соломенных шляпах играли в шашки, шахматы и трик-трак[93]. Штукатурка весело слетала со стен, а волнообразные тротуары выглядели сошедшими с ума от счастья и скалились дырами во все стороны. Если даже это было всего лишь копией средиземноморья — то копией удачной.
Я любил Одессу.
Гонзо из Одессы было несколько. К примеру, про бабку, сдающую квартиру и убивающей своих квартирантов посредством газовой печки с утечкой. Бабка грабила у них все, что те имели, после чего — вместе с дедом, ведь что это за бабка без дедки — вытаскивала тела на крышу хрущевки, на которую никто никогда не выходил — и там и оставляла. Покойников обнаружили лишь после того, как сделался популярным Google Earth.
Вот какие бредни я писал, а люди это читали.
Та самая старая Одесса и незабвенная Малая Арнаутская, где делается вся контрабанда…
Пивные на Дерибасовской только-только появлялись. Только-только чего-то там нарождалось. Дизайн был совершенно ламерским[94], выглядел он так, как будто спецы по интерьеру пытались скопировать рекламные буклеты ИКЕА[95], как я сам прекрасно это знал по польским девяностым годам. А вот названия улиц звучали в ушах словно колокола: Екатерининская, Малая и Большая Арнаутская, Ланжероновская…
На Молдаванке, где я от нечего делать разыскивал следы еврейских гангстеров[96] Бабеля — не было практически ничего. Нет, по морде, понятное дело, получить было можно, но для этого еще нужно было очень даже постараться. Я постарался и получил, исключительно во имя искусства. Гонзо из случая получилось весьма даже ничего. С одесской лестницы открывался абсурдно гадкий вид на порт. В порту висели плакаты Юлии Тимошенко[97]. Здесь она выглядела словно оккупантка. И вообще, украинский язык, который кое-где таки здесь проблескивал, походил на язык оккупанта. На набережной стояла фигура молоденькой жены моряка, которая — вместе с детьми — прощалась с уплывающим далеко-далеко мужем. Статуя была невероятно кичевой, как и большинство современных статуй в этой стране, зато невероятно чувствительная. Я стоял и глядел на Черное море. К ограде подошел молодой отец с сыном, возраста плюс-минус детей с памятника. Отец закурил, а мальчишка схватился за прутья и вглядывался в горизонт.
— Папа, а что там, на той стороне? — спросил мальчик.
— Балканы, — ответил отец. — Там живут наши приятели. Болгары. Сербы.
— И турки, — сунул я свои пять копеек.
— Не надо пугать ребенка, — с мягким укором заметил мне отец.
Из Одессы я поехал в Аккерман[98].
— Субтропики, — сообщила мне шепотом расползшаяся женщина чиновного возраста, которая сидела рядом со мной в маршрутке. Я кивнул, потому что знаю, что у них тут имеются субтропики, которыми они хвалятся при каждой возможности. Они ужасно горды этими субтропиками, наконец-то получили их в результате тяжких трудов, но может показаться, что они все еще не могут поверить в свое счастье. Народ славянского севера, если говорить поэтическим языком: из стран тумана и дубрав, а если говорить языком более реалистическим: болот и грязного снега — добрался, прорвался, дорвался до страны субтропического счастья и — ничего не поделаешь — вырвался по этой причине из своего собственного контекста. И сделался чем-то иным, чем был раньше. А собственно, должен был сделаться, но как-то пока не делается.
— Субтропики, — повторила дама с наслаждением, растирая это слова по нёбу. — Вот человек и потеет. Так что нечего удивляться. Субтропики — это вам субтропики.
Тогда я начал придумывать про себя гонзо о жителях какого-то малюсенького приморского селеньица под названием Субтропическое, которые пожелали жить как итальянцы или греки — то есть беззаботно, на улице, в общем пространстве. Идея у меня была такая, что это им как-то не удалось, только мне никак не удавалось придумать, почему бы это у них не могло получиться. В связи с этим сюжет из головы выкинул.
Аккерман — это было что-то с чем-то. Я понятия не имел, как отреагировать на то, что увидел.
Это было ни городом, ни селом. На улицах, расположенных по-городскому, стояли сельские дома. И это был центр; вокруг деревни располагались нормальные постсоциалистические пригороды — крупноблочные дома, нечто универсамное и так далее. Вот только с этим «городским расположением улиц» — было упрощением. На самом деле, «городское расположение» было видно лишь на карте. В реальности все эти улицы сплетались с дворами, расцветали какими-то неофициальными переходами, перескоками на другие улицы, и эти перескоки и пешеходы, и автомобили — в том числе и милицейские — считались официальными коммуникациями. Нигде в Европе я не видал города, который до такой степени был лишен формы. Который самостоятельно бы формировался, пульсировал, изменялся. Здесь ничего не было постоянным. И ничто не было определенным. В окнах зданий, похожих на склады, висели занавесочки, а в некоторых старых, еще дореволюционных виллах сквозь стекла было видно нагромождение каких-то запыленных свертков. И все это тонуло в дикой зелени. Между двумя домишками на одну семью родом из деревни на конце света стоял высоченный жилой дом с мозаикой, изображавшей космонавтов. Перед ним сох пустой бассейн. И все это не имело никакого смысла, все было настолько абсурдным, что я сел на бортике того бассейна и совершенно потерялся. А потом пошел в аптеку и купил себе бальзам «Вигор». К счастью, там он имелся. Я развел его хлебным квасом начал пить небольшими глотками. Нет, умом этого города я охватить не мог. Впрочем, походило на то, что я был вообще единственным, кто это вообще пытался.
Я направился в сторону крепости. Ее построили турки, но кто бы сейчас вообще думал о турках. Трава здесь была такая, как будто сюда прибыла из степи. А степь здесь спускалась в море. Перед самыми крепостными стенами, на утоптанной земле была устроена дикая баскетбольная площадка. На доске возле корзины кто-то традиционно написал «NBA», а рядом, корявыми буквами: «MAIKEL DJORDAN».
Аккерман. Официально — Белгород-Днестровский. Перед войной здесь была Румыния. Тогда город назывался Четате Альба. Красивое название, хотя и не соответствующее. Про ту Румынию я спросил у одного деда, сидевшего на крыльце перед домом. Он сообщил, что румыны — то звери и едят сырое мясо. Что у них ужасная бедность, вонь и вообще все беды, и чтобы я, случаем, туда ни за что не ехал. Еще говорил, что помнит, как румыны оккупировали Одессу. Что были они — ну прям как дикие звери. И что немцы — к которым он попал в плен — по сравнению с румынами казались приличными людьми. Рассказывал, что румыны зверски мордовали евреев на скотобойнях, и что они охотились на людей прямо на улицах, словно на зайцев.
Никакое гонзо мне в голову не приходило. И вообще, как-то странно я себя здесь чувствовал, все меня перерастало. Нужно было поискать ночлега. Смеркалось, а городская атмосфера вообще густела. И я начал чувствовать, будто бы мне что-то угрожает. Во всей этой бесформенности. В этой всей неохватности. Для меня все вокруг ассоциировалось со всемирным распадом. С дюркгеймовским самоубийством[99].
Таксист отвез меня в пансионат.
— А другого я и не знаю, — ответил он мне. — Возможно, это вообще единственный в городе.
В пансионате как раз проводился ремонт, но я посчитал, что другого выхода у меня нет. Я звонил и звонил. Домофон был прикреплен к калитке. Кнопку кто-то оторвал, так что нужно было совать палец в какие-то проводки. Я опасался, что меня стукнет током, потому что само устройство выглядело весьма серьезно: металлическое, приличных размеров, тяжелое. Минут через пять дверь открылась, и изнутри выбежал здоровенный пес: совершенно гигантская тварь, помесь боксера с теленком. Гавкал он как нанятый. А за псом вышла Пэрис Хилтон. Или некто, очень и очень на нее похожая. На ногах у нее были желтые носки с розовыми вьетнамками, которые вдавливали носок между большим пальцем на ноге и всеми остальными. Девица была раза в три меньше собаки. Девица сообщила, что пансионат закрыт, а родителей нет. — Уехали, — пояснила она, — в Одессу. На вид ей было лет восемнадцать. Я попросил меня впустить, чтобы она могла подзаработать. Девица подумала минутку и сказала о'кей, после чего открыла калитку. Пес глядел на меня с выражением: «ну шо, сука, только попробуй войти», написанным на морде.
Слева: понятное дело, крепость, но баскетбольной площадки не видно;
а вот справа: типичная застройка Аккермана
— Не бойся, — сказала Пэрис Хилтон. — Собачка не кусается.
— Тогда на кой ляд тебе такая собачка? — буркнул я, но тихонько. Пэрис схватила пса за ошейник и мягко придавила к земле. Тот послушно поддался. Уселся, но меня с глаз не спускал. Я знал, что если бы он только мог, то разорвал бы меня на клочки, а еще он знал, что я это знаю.
Комната, которую я получил, походила на гроб с матрасом в средине. Большую часть площади занимала кровать. Она стояла в проходе. Чтобы попасть в комнату из коридора, нужно было ступать на нее в ботинках. По-другому никак не получалось. Через окно можно было вылезть на навес над дверью. Пэрис Хилтон пришла с постельным бельем.
— Только оно нестиранное, — сообщила она, крутя носиком, — мы не ожидали гостей.
— Да ладно, — ответил я. — У тебя водка какая-нибудь имеется?
Водка была. А к ней еще и кола. А еще подружка. По своему образу и подобию. Мы сидели на навесе над дверью ремонтируемого пансионата, пили водку с колой из детских чашек с волком и зайцем и глядели на крыши Аккермана, города, не имеющего формы.
Впрочем, у пансионата формы тоже не было. Он расстраивался сразу же по месту. Словно коралловый риф. Коридоры в средине не имели какого-либо порядка, они вели именно туда, куда именно сейчас вело ответвление. Иногда нужно было протискиваться в проходе настолько узеньком, что человек с рюкзаком едва-едва в нем помещался. Девчонки быстро ужрались и начали запускать с мобилки «Тату». Под песню «Я сошла с ума» они начали, поглядывая на меня, целоваться. Я вздохнул. А уже через минуту подружка Пэрис начала блевать. И только тут до меня дошло, что со мной они пить не начинали, что бухают они уже давно, похоже, с самого утра. А чего: стариков нет, хата свободна. Девица все блевала и чуть не слетела с навеса. Пес же выглядел так, как будто бы этого падения только и ожидал. Как крокодил в Джеймсе Бонде[100]. Мы вернулись в комнату. Девицы отправились спать, а я остался. Вскоре после их ухода я услышал сопение. Собачка пристроилась у меня под дверью. Я боялся выйти даже в сортир за водой, а пить хотелось ужасно. Во рту у меня была пустыня, в голове шумело, но единственное, что я мог — это возвратиться на навес и продолжать хлестать водку с пивом или бальзам с квасом, глядя на хаос аккерманских крыш, океаническое пространство из толи, жести и черт знает чего еще. Под звездами, которые выглядели, как будто бы кто-то обстрелял черное небо из калашникова. Когда-то здесь была Греция[101], но в это мне не хотелось верить. В конце концов, я улегся на каменном навесе — и заснул.
Когда я уезжал, Пэрис с подружкой (а знают ли родители, где ты находишься, детка?) сидели на лежаках, выставленных в огороде. Между грядками помидоров и капусты. Глаза их были закрыты темными очками. Рядом с лежаками стояли стаканы с темной жидкостью. Это могла быть и кола без водки, только мне как-то не хотелось в это верить. Пэрис расставила ноги. Трусов на ней не было. А у меня ни на что не было сил. Мне нужно было успеть на автобус до Измаила. В этом же месте мне не хотелось оставаться ни минутой дольше.
Автобус опаздывал. Я сидел в привокзальной пивной, которая — если бы не меню — точно так же могла бы находиться где-нибудь в Индии. Вместо двери — тряпка, на полу бетонный сток, пластмассовые столики. Я пил чай и кофе. Попеременно. Из совершенно одинаковых чашек. Ко мне пристал какой-то парниша. Приблизительно моего возраста и роста, но сложенный словно танкетка. Короче, здоровенный тип, но лицо было даже ничего, честное. Он мне рассказывал, что работает строителем и что прекрасно зарабатывает. Что уже вскоре у него накопится на первого мерина. Ну да, не целого, не нового, тем не менее. Я спросил у него, а как живется в Аккермане зимой. Тот задумался. — Темно, — сообщил он наконец. — И дубарь.
Ну, блин, подумал я, оригинально. Но попытался представить себе этот вроде-как-город-вроде-как-село без зелени, без света — и задрожал. Я увидел трясущуюся от холода преисподнюю. Людей, бредущих на ощупь через мрак, через бессмыслицу, через отсутствие формы. Все это должно было быть ужасным. Человек не должен жить в подобных местах.
В Измаил нужно было ехать через степь, но степь, покрытую налетом цивилизации. А точнее — ее остатками. Какими-то раскрошенными бетонными остатками чего-то неопределенного. В конце концов, начался город Зелень и домики. Сразу же возле вокзала начинался базар. Для меня он был похож на какую-то советскую Африку. Все торговали тем, что у них было. От кулечков с семечками и кучки яблок на разложенных бабулями жалких платочках, до продаваемых пучками индийских подделок «харлеев». Здесь имелось все, что помещалось между низкими, новороссийскими, колониальными домиками. В этой жарище, среди этих мух, среди людей, одетых в спешке в первые попавшиеся под руку тряпки. Я как будто бы находился в какой-то, блин, Киншасе. Но эта бесформенность мне даже начинала нравиться. А вот в Польше я ее ненавидел. Здесь же у меня не было выбора. Я всегда подозревал, что поездка на постсоветский восток — это поездка в глубины того, что ненавидим в собственной стране. И что как раз это и является основной причиной того, что поляки сюда приезжают. Потому что это путешествие в Schadenfreude, путешествие, в которое отправляешься затем, чтобы было к чему возвращаться. Потому что здесь, в принципе, все то же, что и у нас, только в большей концентрации. Свалка всего того, что мы пытаемся выкинуть от себя. Я всегда это подозревал, хотя написать это мог лишь журналист, пишущий гонзо. В противном случае его бы просто распяли.
В центре города на пьедесталах стояли Ленин и Суворов. Ленин был похож на Великого Электроника из «Пана Клякса в космосе»[102] — он был весь покрашен серебрянкой. Толстенный слой краски. На лице статуи были хорошо видны мазки кистью.
Говоря по правде, мне страшно хотелось отсюда выбраться. В конце концов, это был уже самый конец Украины. И я дошел до самого ее конца: до Килии, ответвления Дуная, за которой уже была Румыния. На румынской стороне рос лес. Из леса вышел мужик, достал свой перец и начал отливать в пограничную реку. Я ему помахал рукой. Что ни говори, земляк из Европейского Союза. Тот же показал мне средний парень и сильнее выгнул бедра, направляя струю мочи в мою сторону. Я вытащил фотоаппарат и сделал снимок. Тот прикрыл лицо, отвернулся, но ссать не перестал. Румыния, — думал я, — Европа. И мне захотелось попасть туда.
Неподалеку располагался «морвакзал». В моем путеводителе было написано, что отсюда на румынскую сторону ходили паромы. Я зашел вовнутрь. Окошко кассы было заставлено фикусом, но внутри кто-то был, поскольку я слышал голоса. Я постучал в дверь. Мне открыли. В помещении сидели три тетки, которые решали кроссворд и пили чай. Я спросил, можно ли купить билет до Румынии. Мне ответили, что уже несколько лет туда ничего не ходит. Тогда зачем здесь касса? — спросил я, а они обратили мое внимание на факт, что перед окошком стоит символический фикус. Он ее заслоняет. Что означает: касса не работает. Но тогда, — вырвалось у меня, — зачем вы здесь сидите? — А что, — спросила одна из теток, толстая, с химией на голове, — на пособие по безработице идти? Милостыню просить? — Либерал, — буркнула другая, похожая на цесарку, и вписала слово в кроссворд.
Я вышел, уселся на лавке спиной к Румынии и глядел прямо перед собой. Именно отсюда, — размышлял я, — начинается пространство, действующее отсюда, из этого вот начала, до самого Владивостока, по Сахалин, по Японию и Северную Корею. Всего пространства я представить не мог. Полностью. Если Россию невозможно понять умом, то ее тушу — тем более. Вот нельзя ее понять, и точка. Наше европейское мышление о пространстве здесь словно кукольный домик рядом с заводским цехом. У нас граница — это нечто естественное, а здесь — неестественное. В конце концов, я встал с той лавки, а что мне еще оставалось делать. И вернулся в данное пространство. Хлебного кваса я купил из цистерны на колесах. Я допивал его, когда приехал трактор. Он уже тащил за собой с пяток цистерн, как эта, соединенных одна с другой. Из трактора вышел шофер, по-доброму поздоровался с бабулей-продавщицей, развернулся и прицепил эту цистерну к своей последней. Он уехал, а бабуля сложила рыбацкий стульчик, сунула его в пластиковый пакет, где уже была газета, и на усталых ногах поковыляла к остановке маршруток.
И так оно все и выглядело. Одно и то же, одно и то же, одно и то же. До самого Владивостока.
Я присел в пивной. Там уже сидела парочка, лет за шестьдесят. Выглядели они словно анклав США на территории Украины. У обоих были настолько американские мины, что принять их за кого-либо другого было попросту невозможно: характерная самоуверенность, смешанная с потерянностью.
В границах их столика была Америка и точка. Никаких Измаилов, Буджаков, Украин. Америка была в их мимике, жестах, способе, с которым эта пара относилась к пространству. Она, выпрямленная, словно проглотила ручку от метлы — была чем-то взбешена, но это бешенство сдерживала, контролировала его; бешенство отражалось только лишь в ее упрямой мине и том, как она барабанила длинными, тонкими пальцами по клавишам ноутбука, а барабанила она так, словно капли проливного дождя. Он же не слишком знал, куда себя деть. У него было вытянутое лицо американского фрайера из голливудских фильмов. Он то читал газету, то поглядывал на экранчик мобилки, то на Килию, то на Румынию на другом берегу. Иногда он пытался заговаривать с женщиной, та же — худющая, длинная, с остроконечным носом, и вообще какая-то остроконечная — только шипела на него.
Я сел за столик рядом с ними. Женщина колотила по клавишам, как будто хотела разнести ноут. Мужичок с надеждой поглядывал на меня. На мой рюкзак, на мою одежду, выдающую чужестранца. Что-то прокручивал в голове. Он явно размышлял, как бы заговорить со мной. И было видно, что поговорить ему ужасно было нужно.
В конце концов, он поднялся из-за стола и подошел. И заговорил:
— А ничего ведь телки на этой Украине, а? — И прибавил потише, чтобы жена не услышала: — Феминизм им еще головы не вывернул.
Это было настолько глупо, жалко и отчаянно, что мне его даже жалко сделалось. Я пригласил его присесть. Он же — а что — уселся и начал свой плач, который можно было бы назвать блюзом сотрудника Корпуса Мира[103].
И раз, и два, и три, и четыре:
Зовут его Джеком. Жену — Рут. Родом Джек и Рут из Бостона. Еще недавно, когда они вели жизнь типичных членов американского среднего класса, то обещали себе, что на пенсии поездят по миру. Жена — oooh, Peace Corps worker's blues — мечтала, что станет помогать людям в других странах, о которых до сих пор имели лишь туманное представление.
И когда вышли на пенсию — и так сложилось, что, честное слово, в одном и том же году, то приняли решение: запишутся в Корпус Мира. Oooh, Peace Corps worker's blues.
Жена — как практически каждый в Америке в определенный момент собственной жизни, начала копаться в своем происхождении, любопытствуя, каковы ее европейские корни. Все следы предков были довольно скучными — они вели в Англию, Шотландию, Ирландию, Германию — кроме одного: ведущего в Украину. Oooh, Peace Corps worker's blues.
Контракт подписали на два года. Знали лишь то, что поедут куда-то в Украину. В Корпусе Мира оно всегда так — до конца точно не известно, куда тебя направят. Они мечтали об Одессе, а он — а анкете — написал, что работал в фирме, которая занималась логистикой загрузки судов. Потому хотел бы ехать вместе с женой в город на Черном море. В качестве консультанта или чего-то там. Он объяснит народам востока, как в Америке осуществляют fuckin' логистику загрузки судов. Так что они сидели на чемоданах и ожидали решения по Одессе. Oooh, Peace Corps worker's blues. Но коварная судьба в виде какого-то злорадного чинуши забросила их в Измаил.
— Все, что вы желали, — говорил чиновник. — Украина, море недалеко. Пожалуйста!…
Джек печально глядел мне в глаза, я же поглядывал на его жену, разносящую ноутбук в щепки.
— На два года? — спросил я.
— На два года, — ответил он, и какое-то время мы помолчали, слышно было лишь стук клавиатуры и русское диско.
— И сколько уже отхуярили?
— Две недели.
Oooh, Peace Corps worker's blues.
— Ну и как? — спросил я, закурив. — Как-то уже действовали? Чего-то с морем?
Мужик поглядел на стол, обнаружил лужицу разлитого пива, намочил в ней палец и начал вырисовывать каракули.
— Ну, скажи ему, Джек, — неожиданно отозвалась от ноута жена. — Расскажи.
— Оно т-так-к-к… — послушал Джек. — Пару дней назад… взяли детей из одного класса средней школы, поехали к морю. И убрали там пляж. От бутылок и такого прочего…
— Кондомов, — услышали мы от ноутбука.
— И от кондомов, — послушно подтвердил Джек. — И оно не так, будто бы нам не нравится, — тут же прибавил он оправдывающимся тоном. — Город он такой… милый. Он… спокойный. Здесь мало чего происходит, но это… в нашем возрасте… даже и козырь. Здесь… хмм… тепло. Приятно. И до Одессы недалеко… — рассказывал он, а его жена бухала в несчастный ноутбук так, словно желала его разнести по винтику.
— Это здорово, — сказал я. — А вы не можете возвратиться в Штаты… раньше? Ну, знаете, в крайне невероятном случае, если бы вам перестало это нравиться?
— Не можем, — покачал головой Джек. — Контракт. Но нет, ты слушай, слушай. Здесь по-настоящему неплохо, — быстро начал стрекотать он, накручивая машинку своего американского положительного подхода к проблеме.
Мне даже не нужно было придумывать какого-либо гонзо.
9 Каменецкий хардкор
И вот снова мы бухаем.
Человек думает, будто в путешествии у него будут хрен знает какие приключения, но вечно все заканчивается одинаково.
Как-то раз мы с Корваксом уселись в автобус до Каменца Подольского, увидеть кресовые[104] станы и границы, воскресить героическое времечко[105]…
На автовокзал в Каменец мы прибыли помятые и невыспавшиеся. На привокзальной площади, на выкрашенном белой краской бордюре стоял седой мужик; в руках у него была картонка с надписью по-польски «квартиры» и ламинированным листком, на котором было написано следующее: «JA PIERDOLE ZAJEBISTA MEJSCÓWA WBIJAJCIE ZIOMY JEST GIT»[106].
— Это рекомендации. Нам их написали, — сообщил нам хозяин квартиры, назвавшийся Иваном, — наши уважаемые гости из Польши, которые отдыхали здесь какое-то время тому назад. У меня домик с садиком, недорого… хотите?
— Ну, — ответил я, — если такие рекомендации… Идем? — спросил я у Корвакса, а тот спешно кивнул.
Корвакс был фотографом. Вместе с подобными ему дружбанами он шастал по Украине, навьюченный фотографическим оборудованием, словно армейские обозы: объективы с байонетными креплениями и длиной, что твои пушечные стволы; складные штативы, раскладываемые словно антенны полевых радиостанций; а еще бленды, фильтры, надстройки, подстройки, закрутки, накрутки и чего там бывает еще.
После чего они разворачивали всю свою фотографическую лавочку под валящимися хибарами, в грязи — под ногами всяких пьяниц, и щелкали этими своими пушками амбициозные портретные снимки. Они гнулись перед бабушками и сквозь фильтры вылавливали световые рефлексы на их золотых зубах. Они фотографировали раздолбанные «москвичи», играющихся в развалинах домов детей, собак без зубов, лап, глаз, ушей и хвостов. А вместе с тем: заржавевшие автоматы для газированной воды, толстые бочки с хлебным квасом, которым торговали женщины с выкрученными ревматизмом и огрубевшими ногами. Точно такие же ноги были у матерей Корвакса и его коллег, и уж наверняка — бабки, но это не имели никакого значения, поскольку здесь речь шла о так называемом расширенном культурном контексте.
Словом — они занимались тем же, что и я. Из Украины они творили сумасшедший дом на каникулах. Вот только они к этому не признавались.
Уже потом, в Кракове, они показывали те свои снимки знакомым, иногда кое-что удавалось где-то опубликовать; и при этом они говорили, что да, конечно: там, в постсоветии, все настолько ужасно и страшно, но эти несчастные и замечательные люди с Украины, герои востока, делают все возможное, чтобы жить достойно. Иногда устраивали показы снимков в забегаловках, где за деревянными столами усаживались студенты-культурологи. А вместе с ними, как правило, любители востока. Корвакс с коллегами проецировали снимки на экраны на всю стенку: метров шесть на, скажем, четыре с половиной.
Корвакс с коллегами говорили о достоинстве и чести обитателей этого бедного востока, тем временем собравшиеся кучей культурологи рассматривали на фотках детей, играющихся в грязи вместе со свиньями. Корвакс с дружками вещали, что на востоке проживают гордые и мужественные народы, и при этом: «щелк»: ужравшаяся старушка валяется под придорожной часовенкой, задрав ноги, а никакие тебе гордые и мужественные народы. Ведь это же красивые и достойные люди, заявляет Корвакс с коллегами, имеющие замечательные историю и традицию, и «щелк»: пьяный как свинья Вася-тракторист, морда загоревшая, во рту бычок, за ним — валящиеся деревянные совхозные хижины и группка детей-полузомби, ну прям словно с какого-то нацистского пропагандистского плаката.
И весь этот набитый культурологами клуб глядит на Васю, напитывается Васей, а потом, во время дискуссии, которую ведут Корвакс с дружбанами, гундосит о достоинстве Васи, о его истории и традициях. Молодые, хотя и не вскочившие в тренд девицы строчат заметки, цедят дринки за пятнадцать нуль-нуль, а потом так полируют губами и чем там еще палки Корваксу с коллегами, что пыль столбом.
Я, ясен перец, тоже глядел на Васю. И Вася увлекал меня точно так же, как и всех их. Ведь я же ничем от них не отличаюсь, вовсе даже нет. Кровь от крови, кость от кости. И точно так же — как и они — желаю хлеба и зрелищ.
Впрочем, они сами, Корвакс и все остальные фотографы, понимали, что здесь что-то не фурычит, и их мучило нечто, что с большой натяжкой можно было бы назвать внутренним конфликтом. Я же сочувствовал им в их драме.
Ну да, действительно, был домик, и был садик. Был еще и другой домик — собственно говоря, барак бараком, в котором размещались квартиранты.
Оконные стекла не были подогнаны к оконным рамам, а двери — к косякам. Понятное дело, что это нам нравилось. Впрочем, а на кой ляд нам было нужно что-то большее.
А за широким и длинным столом перед домом шла замечательная пьянка. Там уже сидело пятеро поляков. Все были в возрасте между двумя и тремя десятками лет. Три мужика и две девицы.
Пампалеон и Блюменблау (именно так представились и так просили себя называть) приехали сюда вместе. Они были студентами-славистами из Вроцлава, носили горные ботинки и куртки-полары, потому что на Украину приехали, чтобы поездить по Чорногоре[107], куда им — пока что — добраться не удалось.
В Каменец — говорили они — приехали вчера и тогда же присели, а как присели, так и водочку вынули — и вот со вчерашнего дня эту водочку и кушают. Вчера выпили, отправились спать, утром встали, на похмелье налили, и жизнь как-то так и идет. Без нервов. А они отдыхают, напитываются…
Как только мы, едва сбросив рюкзаки, уселись за столом, Пампалеон тут же налил нам до краев. Но самыми громкими аплодисментами было принято появление хозяина квартиры, которые собравшиеся здесь польские путешественники называли «дедушкой Иваном».
— Ну вот теперь, — разглагольствовал по-русски Блюменблау, самый крупный из из всей компании, бородатый и здоровенный, что твой царь Ирод из рождественского вертепа, — теперь уже дедуля, дедушка Иван, выпить не откажется! Теперь оно уже нужно! Теперь надо выпить за «Езус-Мария»!
Дед Иван чего-то там улыбался, чего-то заговаривал, что ему, вроде как, еще на работу, но Блюменблау вместе с Панталеоном, бесцеремонно гогоча, усалили того за стол.
А потом началась игра под названием «ужрать русского». Ужрать русского, чтобы добыть молодецкую славу в среде славистов. Ну а перепить русского! Это было уже вообще что-то запредельное!
Блюменблау с Пампалеоном[108] насели на деда Ивана словно две громадные славистские мухи. Водяру они подливали ему в стакан, хотя на столе имелись и рюмки, только как же пить с русским из рюмок. Сами себе они наливали тоже в стаканы. Мы с Корваксом пили «Вигор» с хлебным квасом, так как мешать не желали.
Тост провозгласил Блюменблау, который поначалу громко требовал назначить тамаду (он только-только прочитал репортажи Гурецкого[109] о Грузии), после чего никому ни единого слова сказать не давал. Он начал чего-то буровить о каменецком Гекторе[110] и защите Подолья перед совместной угрозой, но очень скоро во всем этом затерялся и совершенно утратил нить сюжета, потому что закончил спешным: «ну, чтобы мы были здоровы». И немедленно выпил[111].
Дед Иван даже и не пытался выпить весь стакан. Отпил где-то с четверть и закусил колбасой. Пампалеон с Блюменблау попробовали выпить все, но у них глаза вылезли из обит, они закашлялись. Дед подсунул им колбасу, но Пампалеон мужественно выпятил грудь и, кашляя и с трудом хватая воздух, заявил:
— Па первом не закушаю[112].
Но тут же схватил кусок колбасы и закусил.
Дедушка уже хотел понемножечку собираться, но слависты не знали жалости. Деду снова налили и начали расспрашивать: а служил ли он в армии, а, может случаем, не в ракетных ли войсках — и были страшно разочарованы, что не в ракетных. Так может, хотя бы на польской границе в восемьдесят первом? — надеялись они хоть на такое, и при этом вопросе оживился даже Феки из KUL[113], но оказалось, что опять-таки нет, поскольку, к сожалению, под Волгоградом, да и то — во вспомогательных подразделениях, где, в основном, латал асфальт во славу Родины Советов. Потом всем внезапно захотелось узнать, а нет ли у дедушки мундира с орденами и военной фуражки размером XXL, когда же дедушка сообщил, что нет, тогда все, довольно отчаянно, начали требовать, чтобы он им хотя бы сыграл на гармошке или балалайке. В ходе всего этого балагана, деду пришлось залить в себя где-то с полтора стакана, и его жена-бабуля со слезами на глазах приходила просить славистов сжалиться над стариком.
Все те бабкины стенания привели к тому, что слависты и ее усадили за стол. Правда, над ней сжалились хотя бы в том, что налили рюмочку, а не стакан. Слависты начали выпытывать у нее, а не знает ли она каких-нибудь веселых подольских песен, народных легенд, и не пожелала бы она чего-нибудь им рассказать. Или хотя бы какие-нибудь смешные колхозные истории.
Бабуля никаких историй не знала, так что слависты начали разглядываться, откуда бы вытащить ради пьянки каких-нибудь любопытных им русских. «А где сын?» — допытывались они у деда с бабкой, словно какие-то большевистские комиссары, а бабуся со слезами в глазах отвечала, что дома лежит, что больной, что-то там с почками, на больничном сейчас, и чтобы они сжалились над несчастным и ему не наливали. Но как только Блюменблау узнал, что под рукой имеется свеженький русский, налил полный стакан водки и — давай-давай! — помчался с этим стаканом в дом деда-бабки. Через мгновение он уже вышел оттуда с несколько разлохмаченным сыном, потому что разбуженным из дремоты, несущим в руке стакан водки. Уже наполовину отпитый.
— Он с нами! С нами будет веселиться! — орал Блюменблау еще от крыльца. — Валерой его зовут! Называйте его Валерой! Садитесь, Валера, холера! — гоготал он.
Дед Иван закрыл лицо руками, после чего взял бутылку, налил себе и выпил. Ему стало понятно, что выжить удастся только таким образом. Бабуля лишь бормотала молитвы. Пампалеон обнял Валеру как брата и вручил ему огурец. После чего все покатилось очень быстро. Блюменблау обязательно хотелось знать, нет ли поблизости, случаем, каких-нибудь соседей, потому что, если бы имелись, было бы неплохо вокруг них закрутить и привлечь на пьянку. Чтобы хардкор был, при этом он делал рукой жест, будто чего-то рубил, русский хардкор.
— Чтобы чего было? — не понял Валера, в связи с чем Блюменблау налил ему еще. И стал выпытывать, а как в округе с коррупцией, берут ли милиционеры взятки или только — к примеру — пьют водку, когда едут на патрульной машине, бьют ли они граждан дубинками и, вообще, а не злоупотребляют ли они властью как-нибудь зрелищно и эффектно, к примеру, не забрасывают ли воров гранатами.
Сын ответил, что брать — да — берут, но вот гранат не носят.
Слависты, это было заметно, это никак не удовлетворяло. Какими-то эти русские казались им мало русскими. Тогда они начали расспрашивать, а не танцует ли кто казачка, при этом вернулась тема гармошки, потом им обязательно возжелалось поговорить о духовности и православии; после четвертого же стакана они начали икать и качать головами над столом. Дед Иван курил папиросы что твой дракон, одну за другой, и тоже уже едва врубался в то, что тут происходит. Сын пошел отлить и не вернулся. Бабуля, пользуясь невниманием славистов, уже близящихся к состоянию белой горячки, вытащила деда Ивана из-за стола и, хотя тот еще чего-то возражал, потащила домой. И буквально через минуту слависты, один за другим, заблевали клеенку, заливая все: стаканы, селедку, рюмки, хлеб, огурцы, бутылки, собственные колени и руки.
В связи с чем мы с Корваксом отправились поглядеть старый город. Туда можно было попасть исключительно через мост: старый Каменец располагался на чем-то вроде острова посреди суши — его окружал глубокий каньон реки Смотрыч. Если бы город можно было увидеть среди бела дня, он был бы похож на что-то вроде сильно расползшегося замка на обрыве. Но стояла ночь, и видно было нихрена. Каменец был совершенно не освещен. В абсолютной, черной пустоте светился лишь циферблат часов на башне ратуши. А над часами висела полная Луна. Так что у Луны имелась коллега, и сейчас их было двое. И это было картинкой с иллюстрации в дешевой книжке типа героической фэнтези. Лично я чувствовал себя словно на какой-то чужой планете с двумя спутниками, словно на описанном Берроузом Марсе, под Деймосом и Фобосом.
А мост — мост! Вот он был, и правда, освещен, но только до половины. Это был полумост. И вел он попросту в черноту. В ничто. В пустоту. Через несколько десятков метров все видимое обрывалось. Дальше sunt dracones[114] и Ктулху.
Мы вошли на мост. Дальше мы шли сквозь абсолютную темноту, над которой висели лишь звезды. Мы подсвечивали себе экранчиками мобилок. Через какое-то время я почувствовал под ногами брусчатку старого города, но видать все так же было ничего. Через каждые несколько минут раздавалось рычание автомобиля, и фары вырывали из тьмы куски реальности, словно пласты мха. И мы столько же видели из той реальности, сколько вырывал свет фар. Какая-то раздолбанная брусчатка, какие-то стенки некрашеных домов, время от времени — какой-то навес. Я просто не мог во все это поверить. Ни кусочка уличного фонаря. Ни освещенного окна. Ни-че-го. Как будто бы все на Земле вымерло, а все построенное человеком сравнялось со всем остальным, возведенным — что ни говори — Природой. Наряду с брошенными термитниками, муравейниками, гнездами птиц и ос.
Вид Каменец-Подольского (понятное дело, днем) и памятник Михалу Володыевскому.
Мы ходили, словно слепцы в лабиринте, как вдруг услышали музыку. Дискотечное «тру-бу-бу-бу-бу», которое в обычных условиях нас от себя мгновенно бы отбросило, но, бродя в той смоле, среди всех тех черных развалин, мы пошли за ней инстинктивно, словно мыши за гаммельнским флейтистом[115]. Что ни говори, ведь это было манифестацией хоть какой-то цивилизации, какой годно, пускай и низкой. Мы чувствовали себя немного заблудившимися, словно путники в буше, которые — слыша человеческие голоса — идут к лагерю, даже если там их должны порубить и сварить в котле. Но мы шли.
10 Райская Советская Социалистическая Республика
В Симферополе я чувствовал себя словно в Индии. То же самое неумение управляться с пространством, поскольку оно было сотворено кем-то совершенно другим, чем те, которые пользовались им в настоящее время. И экзотика, которая била из каждого фрагмента этого места. И чувство рая. Я знал эту действительность из уже смазанной временем молодости, по временам, когда в понедельники по утрам в еще ПНР-овском телевизоре демонстрировали советские фильмы. Именно в них можно было видеть тех счастливых бомбил, сидящих на складных стульчиках рядом со своими москвичами и плюющих под ноги лузгой от семечек. Или тех социалистических интеллигентов, моих любимых представителей Совдепии[116] — худых, в рубашках с коротким рукавом, сунутых в коричневые брюки, в пенсионерских сандалиях, напяленных на бежевые носки, с очками в роговой оправе. Или тех продавщиц хлебного кваса, сидящих рядом со своими выкрашенными в желтый цвет цистернами с краниками и решающих кроссворды. Все это я уже где-то видел.
Воздух был желтым и густым, зелень — насыщенной, как будто бы кто-то подрихтовал ее в фотошопе. Вся эта реальность распадалась, осыпалась в прах, но все жили в этих руинах счастливо, во всяком случае — так это казалось. Как будто бы они черпали откуда-то некую чудаковатую уверенность, будто бы Некто, какое-то Высшее Существо все это когда-то за них исправит — отремонтирует дома, залатает дыры в мостовых и на тротуарах, замажет все трещины раствором. Это неправда, будто бы коммунизм был атеистической идеологией. Ну да, доктрина предполагала, что никакого бога на небе нет, но жители коммунистического мира в нечто вроде бога все же верили. Правда, бога земного, который регулирует все будничные дела и проблемы. То, что это божище было неспособным — дело другое. Но оно существовало. То есть — тогда существовало. Потому что, в конце концов, оно удавилось собственной же блевотиной, как Бон Скотт из AC/DC и Джимми Хендрикс. И умерло.
Ту поездку я помню как будто сквозь сон. В Симферополе купил билет на электричку до Бахчисарая. Я сидел на деревянной лавке и через окно глядел на замусоренную степь, которая через какое-то время сменилась складчатым пейзажем с небольшими горами. Те горы выглядели так, словно их кто-то разрезал ножом, так что все содержимое рассыпалось на землю.
В электричке какие-то ребята играли на гитарах. На каждой остановке стояли бабушки, торгующие чебураками[117], которые они жарили, полностью погружая их в отвратительное, старое масло. По поезду ходили бродячие продавцы пива. Сам я избегал групп польских «туристов», лазивших по всему составу, предварительно накачавшись «Вигором», и ищущих русских, которые желали бы с ними выпить. Меня они тоже избегали.
Билеты проверяла татарка в мундире и фуражке с логотипом украинских железных дорог. У нее были узенькие глазки и щечки словно булочки. Ее предки палили села, брали в ясырь, да что там в ясырь — ее предки на маленьких лошадках, с сырым мясом под седлами свергали цивилизации во имя Великой Степи, во имя Травного Ничего, а она — как будто ничего и не было — ходила по вагону и проверяла билеты у пассажиров электрички сообщением Симферополь — Бахчисарай. Sic, курва, transit gloria mundi, размышлял я, подавая билет, чтобы контролерша его закомпостировала.
Но татаркой она была лишь снаружи. Я это видел. В средине она была русской. Очень профессионально она обматерила какого-то типа, у которого при открытии бутылки на пол пролилось немного пива. И вообще, все время она выглядела оскорбленной и по вагону ходила так, словно желая кому-нибудь устроить головомойку. Все избегали ее взгляда и вежливо подавали билеты. Я ее всего лишь сфотографировал, и она въелась в меня словно в паршивого пса. Орала, что она государственная служащая, а фотографирование государственных служащих — это, по сути, то же самое, что и фотографирование публичных зданий, а это без каких-либо условий и строжайше запрещено как государственная измена и карается соответственно тяжести преступления. Я делал вид, будто ничего не понимаю и улыбался словно придурок. Как учил мастер Ричард[118].
В конце концов, орать она перестала; вот просто так, неожиданно успокоилась и пошла дальше.
Мой сосед, тот самый, что пролил пиво на пол, подмигнул мне и угостил глоточком. Пиво было теплое. Сам же он был худой, высокий и лысый, а звали его Димой. Когда-то, рассказывал, он был в Польше. Перегонял машины из Германии, так что наша прекрасная страна, рассказывал он, находилась у него на пути. Польские дороги и польская полиция так сильно надрали ему задницу, что долгое время он ненавидел все, что имело хоть какую-то связь с Польшей, в том числе и Анну Герман вместе с Четырьмя танкистами. Но потом это прошло. В конце концов, он был интернационалистом и коммунистом по убеждениям, и он признавал теорию, что обычный человек не виновен, что родился поляком, и что им правят такие курвы, которые берут в полицию других блядей, по собственному образу и подобию. И вообще, — вел свой рассказ Дима, — уже в самой институции польскости есть нечто невыразимо враждебное. Это нечто, которое ненавидит русских и Россию, которое ненавидит все славянское, а ведь, — продолжал доказывать Дима, — поляки — это тоже славянский мир, и выходит так, что Польша сама себя ненавидит. В польскости Дима видел яд и неискренность, постоянное желание подставить ножку и выкопать волчью яму. — Национализм, — вздыхал он и передавал бутылку, чтобы я сделал глоточек. Я брал и тоже вздыхал. Дима показал, где мне следует выйти, попрощался, словно с братом, и сказал, что дал бы мне оставшееся пиво на дорожку, но у него всего две бутылки, а до Севастополя ехать еще больше часа.
Как только я вышел в Бахчисарае, то сразу же получил жарой по морде. Как будто по мне кто горячей тряпкой прошелся. Но потрескавшийся бетон перрона и побеленные бордюры действовали на меня успокоительно. Мне хотелось громко кричать от счастья. Бабуля, что подошла с картонкой, извещавшей, что у нее сдается квартира, когда должна была быть красавицей. Было в ней что-то такое, трогательное. Я сказал, что пойду с ней даже на край света, она же спросила, сколько нас всего, и на сколько ночей. Я ответил, что нас всего раз, а что касается ночей, то не знаю, но, скорее всего, не на слишком долго. Тогда, не говоря ни слова, она меня бросила и подошла к стоявшей на перроне группе польских туристов с рюкзаками, которая как раз выгружалась из вагона.
Но очередная бабуля на меня решилась. Всю дорогу до квартиры она трындела, что все другие бабки, что сдают квартиры — люди плохие, потому что вечно забирают у нее клиентов, что все они устроили заговор против нее. И, наверняка, потому, — делала она вывод, — все это из-за того, что у нее самая лучшая квартира во всем Бахчисарае. Да что там в Бахчисарае — во всем Крыму! Я слушал ее вполуха, потому что рассматривал округу: покрытые пылью маршрутки, стоящие на площади зад к заду; гопники в трениках и вьетнамках, чешущие яйца перед интернет-кафешкой; дамочки, пытающиеся не поломать высокие каблуки на этом невероятном коктейле из битого камня, засохшей грязи и гравия, который уперся на том, что он и есть улицами вместе с тротуарами. Я спросил, далеко ли до центра, на что бабуля решительно ответила, что центр находится как раз там, где она проживает, точнехонько посередке между железнодорожным и автовокзалом. Она рассказывала об этом своем расположении между вокзалами, как будто бы речь шла о какой-то космической гармонии, о центре Вселенной, в которой царит извечный порядок и небесный покой. А там же, продолжала тарахтеть она, где все ошибочно располагают центр города то есть — в старом городе, ничего на самом деле и нет. Один только старый город. Потому, делала она вывод, во всех путеводителях по Крыму эта дурацкая ошибка только копируется и копируется. Будто бы центр не находится в центре. И если у меня когда-нибудь появится соответствующая возможность, чтобы я повлиял на соответствующих лиц и как-то изменил это ошибочное положение вещей. Чтобы я письмо написал или еще чего-нибудь.
Я получил комнату в доме бабули. Помимо нее, там жил еще дед. А еще — сын деда и бабули — Николай. Бабуля, как оказалось, была украинкой, так что дед называл ее «хахлачкой»[119]. Дед же был русским, так что бабуля называла его «кацапом». Их сыну собственная национальная принадлежность была до задницы. То есть, как он объяснял, вообще-то он русский, но не в том смысле, что россиянин, с Федерацией, кремлем, Москвой и так далее. Но и не украинец. А вот просто так, рассуждал он — русский я, и все. Как все остальные.
А было просто сказочно. В саду все заросло, как в джунглях. Перед домом росли помидоры и огурцы. На самом дворе было полно всего. Как на старом чердаке. Ржавые автомобильные детали, какие-то доски, железки и вообще один черт знает что. Выглядело все так, что можно было сконструировать армию ржавых роботов и с ней завоевать весь мир. И все это облазили и захватили в полное свое владение коты. По-настоящему захватили, словно лохматые и крайне подвижные личинки, потому что было их без счету!
Я оставил рюкзак, умылся в странной душеподобной конструкции, которую Николай с отцом поставили в саду, и вышел в звенящую тишину. Дом бабули — хахлачки, деда-кацапа и Николая стоял ну совершенно в сельской местности. Все соседские дома были похожи на их дом. Все были окружены похожими садами, вскипавшими зеленью и всяким мусором. Проезжей дороги не было, равно как и уличных фонарей. Вся в выбоинах дорожка между заборами вела в сторону асфальтовой дороги на Севастополь. Воздух дрожал от жары. И я погрузился в нем, словно в меду.
Это было нечто невообразимое. Бахчисарай был словно кусок Средней Азии, вырезанный из нее (CTRL+C) и вставленный (CTRL+V) в — что бы там ни было — европейскую действительность. Я стоял на краю обрыва и глядел на город, наежившийся там внизу минаретами, клубящийся узенькими улочками. Вот здесь, думал я, татары и заводились. Это отсюда выезжали они палить и грабить. Насиловать, наверняка, тоже. Хотя как они там справлялись с насилием после кучи дней в седле, я ни малейшего понятия не имел.
Вблизи старый город выглядел несколько иначе. Советскость здесь на полном ходу врезалась в исламскую эстетику и обнажила ее до живого мяса. Это была радостная, славянская разухабистость, наложенная на ориентальный скелет города. Дома обладали самыми различными формами — чего у кого имелось под рукой, когда он достраивал какую-то там комнату, пристройку или просто поднимал крышу. Строения напирали одно на другое, карабкались одно на другое, и все вместе — на окружающие холмы. По узенькой улице, увидал я, галопом мчал мужик на лошади. Охляпкой, без седла. На нем были только штаны. А так босиком и без рубашки. Выглядел он совершенно пьяным. Проскакал мимо меня и исчез за поворотом.
Перед ханским дворцом татарские и русские женщины продавали сладости. Они сидели тут в цветастых домашних халатах, различаясь лишь чертами лиц. Одна перебивала другую. Какие-то польки во вьетнамках сидели на ограде мавзолея Диляры Бикеч, которая, по мнению Пушкина и Мицкевича, была полькой, захваченной татарами в ясырь. Хан, якобы, влюбился в нее и взял в жены. Одна из приезжих женщин держала на коленях Крымские сонеты и дрожащим голоском декламировала: Среди густых садов, в расцвете юных лет, / Одна из лучших роз осыпалась, увяла! / Как стая мотыльков в дне золотом пропала, — / Так молодость прошла, оставив грусти след[120].
Вторая начала хлюпать под носом и поглаживать стенку, на которой сидела.
— На севере горит над Польшей гроздь планет, — продолжала декламировать готовая разрыдаться экзальтированная девица. — Откуда столько звезд так ярко засверкало? / Не твой ли это взор, который смерть украла, / Зажегся в небесах, преобразившись в свет?.
Я глядел и не мог поверить собственным глазам.
— О, полька! — завыла экзальтированная, а ее подружка продолжала демонстрировать собственные чувства на стенке. — Я, как ты, окончу жизни дни / От родины вдали… Найду я здесь забвенье, / И, может, кто-нибудь в кладбищенской тени / Беседой оживит немое запустенье: / Звучит родная речь — ты оживешь в ней…
Рядом сидел на корточках старый татарин и пас коз. Он с любопытством поглядывал на девиц. Рядом с ним на земле лежала раскрытая книжка. Это был Код Леонардо да Винчи Дэна Брауна.
На квартиру я шел окружной дорогой, все время теряясь. Стадион Дружбы Бахчисарай зарастал сорняками и трескался, точно так же, как в фильме Мир без нас. Все вместе выглядело какой-то социалистической и дико провинциальной версией античных развалин. Якобы, Шпеер с Гитлером, обдумывая свои нацистские гигастроения, принимали во внимание Ruinenwert, то есть то, как эти здания будут выглядеть через тысячу лет в виде руин. Вполне возможно, что социалистические архитекторы, которые — как и все в Центральной и Восточной Европе — в глубине души, каким-то извращенным образом восхищались немцами, тоже принимая это во внимание. Во всяком случае, так это выглядело. Сквозь щель в двух половинках ворот я вскользнул в средину и вышел на газон. Здесь трава доходила мне до пояса. Вот это, курва, были просторы сухопутного океана. Ну ладно, пускай будет пруд. На завалившихся трибунах парни жрали водку и пялились на меня, заслоняя глаза от солнца. Я им помахал, а они — неохотно, затягивая время — поднялись и начали спускаться в мою сторону, чтобы исполнить извечную обязанность и дать мне в кость. Я же отступил по протоптанной ранее дорожке. А за ворота стадиона парням выходить уже не хотелось.
Мы с Николаем сидели за поставленным во дворе столом и тихонечко употребляли виноградную самогонку, которую гнал сосед, пан Вася. Пан Вася, как я узнал, был инженером на здешней электростанции. И вообще, все здесь были инженерами. Немного как в Атомицах[121]. Дед кацап был инженером, бабуля хахлачка — тоже. Это был поселок инженеров. Я собственным глазам не верил. Вот эта вот дерёвня без асфальта, эти распиздяйские садики — это было инженерским поселком? — Да, — ответил мне Николай. — Здесь все инженеры. А дома мы получили от электростанции. Коммунизм был хорошей системой. Ты не заметил, что все такие же самые?
— З-заметил, — с изумлением дошло до меня. — И ты тоже инженер?
Николай вздохнул.
— Ну, не совсем, — признался он. — Родители подгоняли, только мне учиться не хотелось. Я в Ялте, — сказал он, — в гостинице работал. Золотые времена были когда-то. Лично я выдавал инвентарь для отдыха.
— И какие с того были бабки? — спросил я. — Что это был за инвентарь?
— Ну, нормальный, для отдыха, — ответил он. — Гостиничным клиентам выдавал. Покрывала, чтобы лежать на пляже, полотенца, лежаки, такие пенопластовые доски, чтобы учиться плавать, шапочки для бассейна. Вся штука была в том, — подмигнул он мне, — что все это было на шармака. А мы этого клиентам не говорили и брали бабки. И знаешь, сколько можно было выцыганить? Браток, оно только кажется, что мало, но если все одно к другому прибавить…
— И что, — спросил я, отпив глоток самогонки, — почему все кончилось?
— А, — махнул тот рукой, — «новые времена», бля. Новый шеф пришел и — сука — камеры установил, так что никакой жизни, хуй ломаный. Запретил, ну. Так я с работы ушел. За такую мизерную зарплату, так я предпочитаю вообще ничего не делать.
Луна выкатилась на небо настолько огромная, полная и круглая, как будто опухшая.
— Так с чего ты живешь? — спросил я.
— С тебя, — ответил он. — Ужасно много вас сюда приезжает. То есть, поляков. Вот скажи мне, — затянулся Николай сигаретой, — ну вот почему именно вас? Вот не немцев, не американцев, ну не знаю, бля, чехов — а только вас?
— Память материала, — ответил я.
— Чего? — спросил тот.
— Память материала. Расспроси у своих инженеров-родителей, так они тебе расскажут.
— Ты мне мозги не еби, — Николай долил стаканы. — Говори.
— О Польше «од можа до можа» слышал?
Николай похлопал ресницами над своей рюмкой, рассмеялся.
— Так что же выходит, — спросил он весело, — вы сюда на завоевание приезжаете, или как?
Я пожал плечами.
— Не знаю. Наверное, тут дело в том, что мы последний романтический народ в Европе.
— Ебанутый народ, — заметил на это Николай. — Я понимаю: приехать на море, посидеть в гостинице, покупаться, отдохнуть. Но вот, блин, ездить на тех поездах, без какого-либо смысла, с места на место, с теми тяжеленными рюкзаками, шастать по каким-то задам… Таким макаром, — сделал он вывод, — никакой Польши от моря до моря вы не вылазите. Твое здоровье.
На другой день я отправился в Чуфут-Кале, пещерный город, выковырянный хрен знает когда, хрен знает какой стародавней расой, в котором проживали — в течение всей его долгой истории, в том числе, татары и караимы. Я шел через жарищу, как словно через кипящее масло. Под Успенским монастырем на ступенях сидели церковники[122] с длинными бородами и шмалили самокрутки. А чуть подальше я увидел что-то совершенно невообразимое. Машину «зил», передние колеса которого стояли на древесных пнях. И дело даже было не в том, что под одним колесом был один пень: под каждым колесом было по нескольку стволов, и «зил» стоял под углом сорок пять градусов. На кузове был смонтирован подъемный кран. Вся штука была в том, чтобы кран доставал до горного склона, куда он выгружал товары. Вся эта конструкция была настолько рахитичной, держалась исключительно на честном слове, что я вытащил фотик и щелкнул фотку. Работники исподлобья лыбились Ты чё, — спросил один из них, бородатый, — первый раз видишь что-то такое? — А как вы, — спросил я, — подняли тот «зил», чтобы сунуть под него те дровеняки? — А краном, — ответил бородатый. — Как это, краном? — спросил я. — Ведь кран на «зиле». — И тогда бородатый потянул себя за волосы на голове. А как Мюнхгаузен из болота, Мюнгхаузена знаешь? — Знаю, — ответил я и отправился дальше.
Асфальт закончился и началась грунтовка. Туристки из России и Украины под острым углом поднимались вверх в шпильках. Словно на бал, с сумочками, в которых, возможно, мог поместиться надфиль для ногтей и несколько свернутых рулончиками банкнот. На некоторых были блузки из монет, у других на головах были прически, которые, так, на глаз, необходимо укладывать по несколько часов перед зеркалом. Мне казалось, чтобы их уложить, нужно было встать в полночь.
Неподалеку от входа в Чуфут-Кале стояла палатка. Перед ней расположилось — на глаз — с десяток студентов. Развалившись на траве, они пили пиво. В паре метрах зиял вход в какой-то грот.
— Коллега, — позвали меня студенты, — древности увидеть не желаешь?
— Какие древности? — заинтересовался я.
— Нуу, — сказал один из студентов, по виду — их атаман. — Древности. Старинная пещера, или я там знаю, что…
— И на кой хрен мне, — спросил я, — древняя пещера. Любая пещера уже сама по себе древняя.
— Как хочешь, — пожал атаман плечами. — Но там древние пиктограммы имеются, и вообще.
— А вы как, — хотелось мне знать, — сотрудники заповедника? Музея? Или кто там вашей пещерой занимается?
— Не-е, — отрицательно покачал головой предводитель, — мы студенты экономики из Симферополя.
При этих словах все остальные салютовали мне пивными бутылками.
— Ну как, коллега, — сказал студенческий лидер, — всего пять гривен. На пиво.
— Так, может, я вам покажу пещеру, — пожал плечами уже я. — За четыре гривны. Точно так же могу.
— А, пиздуй, — ответил атаман и направился в сторону студенческой братии, развалившейся в тени палатки.
— Ладно, — бросил я, удивляя самого себя. Атаман стоял и выжидающе глядел. — Покажите свои пиктограммы.
Я дал предводителю пятерку. Тот взял и повел меня за палатку. И правда, в скале имелась дыра.
— Влезай, — сказал студент.
— За тобой, — буркнул я, представляя себе трупы туристов, заполняющие старинную пещеру от сталактитов до сталагмитов. Атаман холодно глянул на меня, но влез, предварительно включив фонарик, который вытащил из кармана на шортах.
Пещера была как пещера. Ничего особенного я не замечал.
— Ну и? — спросил я у предводителя.
— А ничего, — ответил тот. — Древняя пещера, ты чего хотел?
— Ну, бля, старик, — взмахнул я рукой, — так что тут было, я не знаю, кто тут жил? Готы? Тавры? Или, бля, скифы?
— Готы, тавры и скифы вместе, — распалился тот. — Мне откуда, бля, знать? Я экономику изучаю, а не археологию. Индиана Джонс, блин, мне нашелся.
— Ну ладно, — уже разочарованно бросил я. — А где же эти пиктограммы?
— А, пиктограммы, — обрадовался атаман. — Вот, пожалуйста, имеются.
Он направил луч фонарика на потолок. В световом пятне я увидел коряво закопченные пламенем свечки знаки, которые в чем-то походили на руны очень пьяных викингов. В самом конце копченого ряда псевдо-рун гордо красовался признанный во всем мире графический знак мужского члена.
Москвички, ростовчанки, харьковчанки и другие дамочки в своих шпильках скакали по камням Чуфут-Кале что твои козочки. В объективы они выпячивали свои прелести, как будто бы каждая из них была порно-актрисой. Их мужчинки были по-гангстерски сдержанными и экономны в движениях. Понты есть понты. Я же ходил по этому скальному городу и просто балдел, потому что он был просто красивым. Кто бы там его не строил, вкус у них имелся. Перед караимской кенасой[123] стояла старая, потрескавшаяся мраморная плита. В тексте восхвалялся добрый царь Александр. Над кириллицей в завитушках виднелся двуглавый орел, усеянный гербами земель Империи. Польский орел присел на левом крыле двуглавого.
Бахчисарай. Ханский дворец.
А это большая (!) кенаса в Чуфут-Кале. Без девиц на шпильках.
— Это про нашего царя, — шепнула молоденькая мамаша в шпильках пацану лет десяти, которого держала за руку, — про царя Александра. Запомни.
Первый раз я услыхал, как кто-то говорит о царе «наш», и меня ужасно удивляло, насколько все это инстинктивно, естественно и невинно.
Возвращался я ночью, пьяный. Встретил каких-то поляков, и вместе мы ужрались в татарской пивнухе неподалеку от выезда на Севастополь. Ребята были из Гданьска, сюда приехали полазить по горам.
А потом я возвращался. Света не было. Луны не было. Видать не было ничего. Совершенно. Шел я по памяти. Иногда лишь маячили группки черных сидящих на корточках силуэтов. В такие — как эта — ночи я понимал, почему ночь пробуждала в людях такой страх. Почему они населяли неведомое чудовищами. Я шел сквозь черное ничто, сквозь космос — ведь этот мрак был частью мрака Космоса, от Бахчисарая до Альфы Центавра, Андромеды и дальше, и дальше, до самого конца Вселенной, за горизонт событий. И я понимал, что ничто никак не белое. Что этот долбаный листок бумаги нас всегда обманывал[124].
На следующий день, что удивительно, похмелья не было. Я попрощался с Николаем, кацапом и хахлачкой, после чего попилил на вокзал. Через окна электрички я глядел на то, как пейзаж превращается в средиземноморский. Итальянский. Оливково-зеленые не крутые холмы. Пинии. Это была Италия, но Италия советская. Постсоветская. То была Италия, застроенная жилмассивами из панелей и пустотелого кирпича. Альтернативная история во всем диапазонею Мы подъезжали к Севастополю.
В военном порту ржавел советский флот. Я осматривал его вместе с Хайке, немкой из Кёльна, которая планировала брести с рюкзаком за спиной из Германии до самого Владивостока. Ее я встретил на вокзале, где она безрезультатно пыталась разузнать дорогу до центра. Русского языка она не знала, а по-английски не говорил. И мы решили осмотреть город самостоятельно.
— Выходит, вот чего мы боялись все эти целые пятьдесят лет, — глядела Хайке на ржавый Черноморский флот, покачивающихся на ласковых волнах, и не могла этому надивиться, — этой кучи лома! Невероятно!
Она делала снимок за снимком. И никто ей и слова не говорил, что это нельзя или там запрещено. По порту шастали какие-то офицеры, глядели на иностранцев, фотографирующих жемчужину в короне Советской армии, и у меня сложилось такое впечатление, что на их лицах рисуется смущение, как будто они извинения просили. Рядовые матросы сидели рядком на лавке. Выглядели они словно ряженные, словно статисты, ожидающие своего тумака в видеоклипе для геев — эти черные клеша, белые форменки с морскими воротниками, бескозырки с надписью «Черноморский Флот» на околыше. Мы подошли, чтобы поговорить. То есть — это Хайке желала поболтать. Я согласился перевести. Лично я никогда не понимал этой навязчивой идеи разговаривать с местными. Нет, иногда, почему бы и нет, можно обменяться каким-то словом, вот только что они по сути могут сказать помимо того, что и так видно. И так понятно, что жизнь тяжелая, что денег нет, что с работой паршиво, что в стране бардак, и что до дома далеко, ведь все они бывшие русские. Моряки дали нам открытки для девушек и попросили их бросить в ящик, потому что им запрещено покидать территорию порта. Идя по направлению к почтовому ящику, мы читали эти открытки. То есть — читал я. Вслух. И были они до боли именно такими, какими должны быть открытки служащих в армии парней своим девчонкам. Что они скучают плюс несколько завуалированных эротических намеков. Всё.
В развалинах Херсонеса Таврического, там, где князь Владимир принимал крещение от греков, где началась история Третьего Рима, где началась православная Русь, где русское столкнулось с древним — пьянка гудела на все сто. Среди раздолбанных стен древнего города валялись разбитые бутылки «Шампанское Игристое»[125], сигаретные бычки, собачьи и человеческие какашки. Славянские парочки сидели в античных развалинах, обнимались и глядели в море.
Флот…
Херсонес с парочками и не только…
И Хайке, немка. Она была низенькой, черноволосой и была похожа, скорее, на венгерку, чем на немку. Ну ладно, чуточку на француженку. Мы прогуливались по этим крымским Помпеям, и я учил Хайке самым основным русским словам. Она игралась ними, утверждая, будто те замечательно крутятся вокруг ее языка. С любовью она повторяла словечки типа «канечна» и «как жывёш», но любимым ее выражением было «качьества». Я и сам любил эти словечки.
Задолго до славян здесь, в Крыму, имелись таинственные тавры, которые разбивали головы своих эллинских пленников дубинами, а потом те же самые головы отрезали и насаживали на колья, чтобы воткнуть перед домами, чтобы те стерегли их дома словно собаки.
Впоследствии здесь же были столь же таинственные киммерийцы, от которых Роберт Эрвин Говард вывел род Конана.
Впоследствии — а почему бы и нет — скифы, еще позднее: греки, римляне, хазары, снова греки, только теперь уже как ромеи, потому что из Византии. Потом итальянцы из Генуи, татары, а в самом конце — они. Славяне. Мы. Они. Ну, где-то вроде как бы — мы. И все же — не мы. Они. Я не знал, сам не знал. Но чувствовал, что все-таки — они.
— Скажи мне, — спросила в какой-то момент Хайке, — зачем вы сюда приезжаете?
Мы тоже, как и другие, сидели в тех развалинах, на древних камнях и тоже выпивали, глядя в море.
— Кто «вы»? — спросил я.
— Ну вы, поляки. Как встречу кого-нибудь с рюкзаком — так сразу и поляк.
— Го-о-осподи, — ответил я. — Совсем недавно я объяснял это твоей противоположности.
— А кто же это моя противоположность? — удивилась Хайке.
— Ты ведь немка, — сообщил я ей, — так что твоей противоположностью является русский. Все просто.
Хайке рассмеялась.
— Ах, вот оно как, — бросила оно. И все же, зачем вы сюда приезжаете? — спросила она через минутку. — Впрочем, — заметила она, — может я и понимаю, зачем. Но вот одного понять не могу.
— Чего?
— Вот вы, поляки, разумные люди, — очень осторожно начала девушка. Я подозрительно глянул на нее. — Ну… я так предполагаю. Тогда объясни мне, почему всякий раз, когда я встречаю поляка, он мне начинает рассказывать, какие видел здесь чудеса. Как тут все расхерячено, как ничего не работает. Каждый рассказывает какие-нибудь байки. Но ведь… — Хайке украдкой оценивала мою реакцию, — ведь вы обязаны понимать, что у вас точно так же. Ну не можете ведь вы быть настолько неразумными, чтобы этого не понимать. Правда?
Я вздохнул.
— Тогда объясни мне, — продолжала Хайке, — зачем вам весь этот театр? Что вы разыгрываете сами перед собой?
Я снова вздохнул и щелчком отправил бычок приблизительно в то место, где крестился князь Владимир.
И что, бля, я должен был разъяснять, что у нас, поляков, имеется странная теория, будто бы латинское дерьмо — это дело одно, а вот дерьмо православное — это дело совершенно другое?
— Умом вам Польши не понять[126], - а что еще мне оставалось отвечать. А ведь и правда: вот что я, блин, должен был ответить.
Не, чего там, Хайке была как раз в порядке. А Севастополь был очень даже приятным городом. В какой-то из церквей висела икона царя Николая. На ней царь выглядел приличным таким православным святым. В той же самой стилистике. Перед иконой молитвенно склонялись женщины в земных поклонах. Среди них имелась молодая девушка. Было ей лет восемнадцать, на ней были адидасы и розовая блузочка. Она тоже кланялась своему повелителю, вознесенному на алтарь до кончиков собственных сапог.
Мы поискали места на ночлег, потому что вместе было дешевле. Лифт в гостинице, и правда, имелся, но он не работал. Его двери, как и всю стену, оклеили фотообоями в осенние листья. На стенке висела батарея отопления, а поскольку ее обклеить было никак нельзя, то замалевали краской коричнево-оранжевого цвета. Двери плотно не закрывались. Сексом мы занялись, скорее, со скуки. Бухать нам уже не хотелось, а вечером тоже ведь следовало что-то делать.
Утром мы вместе выбрались в Алупку. На старой «волге», которой управлял грузин, таксист, рассказывающий, что он был героем Отечественной войны и кавалером посмертной медали Героя СССР[127]. «Волга» кашляла и тяжело дышала, пару раз глохла, так что ее нужно было подталкивать — но мы доехали.
В Алупке ничего интересного не было, но дальше нам ехать не хотелось. Мы сидели на бетонных плитах, заменявших здесь пляж, и глядели, как русские жарятся на солнце. К меня еще появилась мысль, что из следовало перевернуть, а то пригорят. Алупка, в основном, состояла из крошащегося бетона, и вообще, бетона здесь было даже слишком много. Отовсюду торчала какая-то арматура. Ржавчина и рассыпание, и на всем этом — голые, покрасневшие от солнца людские тела. А потом наступил вечер, и было бы неплохо, раздумывали мы, найти какое-то местечко, чтобы поспать. И так уж сложилось, что как только опала апельсиновая пыль, мы увидали широко лыбящегося нам типуса, похожего чем-то на грузина, а чем-то на цыгана.
И этот вот грузино-цыган начал развертывать перед нами видение охренительной квартиры, недалеко от моря, рядом с водочной лавкой. Всё есть, — говорил он. Магазин есть, — расхваливал, — правда, не круглосуточный, но хозяин живет этажом выше, так что, ежели чего, стучишь, и этот хозяин жаждущей душе поможет, никогда страдающего не бросит в беде. Ну а сама квартира — мед-малина! Там мы будем одни-одинешеньки на всю квартиру, и вообще: шик, пальчики оближешь. Всего лишь да девятьсот девяносто девять с носа, дешевка, случай, рекомендую от всего сердца.
И он был настолько ангажирован тем, что говорит, для него это было настолько важно, что мы пошли. Тип повел нас по улицам, которые затем превратились в улочки, а затем вообще — проулками между домами, настроенными совершенно без какого-либо плана или смысла.
Цыгано-грузин, похожий на какого-то худого птица с огромным адамовым яблоком на худой шее и носярой, словно клюв тукана, вел нас через какие-то ходы и дыры, мы же подавляли в себе, каждый по отдельности, опасение (как расистское), что раз это цыган, то риск, что нас наебут, выше обычного.
И вот так мы шли, погруженные в благородном подавлении и на всякий случай думали, что ежели чего, то с цыгано-грузином мы справимся, без всякого, разве что он нас заведет в место, где будет больше цыгано-грузин.
Но где-то через минут тридцать марша нашим глазам открылся массив хрущовок, с которых облезало все, что только с хрущевок способно облезать. И где-то в фоне блеснуло Черное море. В последних, чтобы было еще более дешево, лучах заходящего солнца.
Имелась и обещанная лавка со спиртным. Причем, в обещанной непосредственной близости от квартиры, потому что прямо под окном. Под магазином местная пацанва организовала для себя нечто вроде пивного садика, выставив на том, что при очень большой степени открытости миру можно было бы назвать тротуаром, какие-то ящики, старые стулья и столики. И они там весело выпивали друг с другом, один даже играл на гитаре, и им было очень даже хорошо жить.
Лестничная клетка припоминала мне все фильмы о постапокалиптическом мире, которые я только видел: люди живут в развалинах давних цивилизаций, но уже не знают, для чего все это служило, и все оно уже просто валится в распад, а сдвинутые в каменный век homo sapiens разбивают шатры из шкур в развалинах — ну, допустим — Sony Center на Потсдамер Платц в Берлине.
Здесь же было темно и липко. Воняло настолько интенсивно, что все попытки выделения отдельных запахов напоминали попытки описания дегустатором вкуса выпитого только что одним махом стакана спирта.
В трехкомнатной квартире на первом этаже нас ожидала бабушка: как оказалось, теща нашего цыгано-грузина. Владелица: хазяйка.
Цыгано-грузин попрощался и исчез, а хазяйка вручила нам ключи, оприходовала гривны, называя их рублями, показала, где горячая вода, а где холодная, честно предупредила, что с газовой колонкой следует быть поосторожнее, потому что может взорваться, пожелала приятного отдыха на море и ушла. Она только категорически запретила открывать двери в коридоре.
В лавке со спиртным мы накупили кучу маленьких бутылочек с джин-тоником и вернулись на квартиру. Мы пили, сидя на балконе и пялясь на море, поблескивающее между превратившимися в рассадники бедности хрущобами и гадали, что такое может находиться за той дверью. В конце концов мы не выдержали. Я повернул ручку. Дверь не была закрытой. Посреди пустой комнаты стоял гроб. Пустой, покрашенный черной краской гроб. И ничего более.
Когда я проснулся, Хайке уже не было. Ее рюкзака тоже. На столе лежал листок из дорожного блокнота с адресом ее электронной почты, но без телефонного номера. Девушка написала, чтобы я обозвался, и что нужно будет обязательно встретиться, когда она уже возвратится из Сибири. У нее, в Берлине, или у меня, в Кракове. Еще она писала, что ей было приятно, чтобы я так сильно не брал в голову все дела, связанные со славянскостью, германскостью, русскостью и польскостью, что — в конце концов — все это фигня на палочке. Внизу был e-mot поцелуя (:*), а еще она подписалась именем и фамилией. Я рассмеялся, завалился на кровать и закурил, хотя по утрам я никогда не курю. Солнце заглядывало в комнату, кося лучами: свежее и радостное.
В Ялте на главном проспекте стояли фотоателье с высшим светом. Можно было переодеться в члена царского семейства, в пирата или мушкетера.
Обязательным элементом всех тех интерьеров была роскошь. Без роскоши никакой забавы не было, никто бы не заплатил ломаной гривны или, как говорили здесь, рубля. Те, у кого не было средств на царские ателье, могли сделать фотку с небольшим крокодильчиком. Пасть у него была заклеена скотчем. «Эт чтобы не уебал[128]», — пояснил мне переодетый пиратом мужичок, сдававший крокодила в аренду. Половина зубов у пирата была замазана черным маркером, как будто бы их у него не было. Еще имелась хроменькая обезьянка и дофига попугаев. На самой вершине Ай-Петри в тумане стояли верблюды. Их туда завозили автобусами, чесслово. Изо всех окон торчали верблюжьи головы. И всего этого для меня начинало делаться уже слишком.
В Алуште длилось нечто вроде русского карнавала. Когда уже совершенно измученный автобус, которым управлял такой же измученный водитель, выблевал меня на автовокзале, я погрузился в этот весь карнавал по самые уши. Здесь каждая стенка пульсировала русским диско, это же диско лилось из каждой трещины, протискивалось между машинами, припаркованными в каждом месте, которое только можно было представить, между выгнутыми металлическими листами, выкрошившимся бетоном, вывесками из ДСП, кириллическими буквами, вырезанными из цветной пленки и налепленными на что только было можно.
Несколько отупевший, я отправился искать квартиру. Уже через несколько шагов меня догнала бабушка с картонной табличкой в руке. Бабушка обаятельно и обезоруживающе улыбалась, а на табличке было написано, что недалеко и недорого. Я пошел за ней. И вновь я погрузился в чрево антиурбанистики и антиархитектуры, и попали мы в рахитический дом, построенный непонятно из чего, потому что здесь было все: дерево, кирпич пустотелый и обычный; то там, то сям конструкция была облеплена еще и пластиковым сайдингом. Перед домом, на лавочке сидела очень белая, желеобразная дама. А рядом с ней — такой же белый и такой же желеобразный мальчик, явно ее сын. Выглядела эта парочка как черноморские медузы, из которых кто-то вылепил людей.
— Это пани Маша, — шепнула ведущая меня бабушка, — мать-одиночка с сыном Игорем. Приезжает сюда каждый год. Из Норильска.
— Из Норильска, — изумленно шепнул я. Я никак не мог представить себе Норильск — бетонный городище посреди ничего, в совершенной пустоте. Точно так же, — думал я, — Норильск мог бы кружиться по космической орбите. В окрестностях Норильска не было ничего такого, за что можно было зацепиться воображением. На том расстоянии, — думал я, на котором европейский человек имеет от себя Париж, Лондон, Прагу, Краков, Мюнхен, Цюрих или Рим, они там, в Норильске, имеют одну или две деревни — деревянные и погруженные в болото, грязные и наполовину животные, над которыми возносятся испарения водки и борща[129]. Несколько печальных, пугающих точек в небытии. И сам Норильск — покрытое сажей, мрачное поселение, навеки застрявшее в вечной мерзлоте, полгода дрожащее в полнейшей темноте, а вторые полгода — при вечной половине пятого под утро, при которой еще не известно, что лучше: то ли минус сорок, но на темную, то ли грязь до подмышек в бледном полусвете.
Я никак не мог себе этого вообразить. И потому поглядывал на семейство бледных медуз, у которой были две недели выходных от своей проклятой судьбины в проклятом городе, в проклятом месте, находящемся за пределами истории, реальности и всего света.
Пани медуза пила из рюмочки наливочку. Подливал ей хозяин квартиры — пан Илья. Сын медузы тоже получал — на самом донышке рюмки. Наливку он вылизывал словно сироп, длинным, розовым и похожим на щупальце языком. Пан Илья пригласил и меня присаживаться, налил. Мы ничего друг другу не говорили. Я только глядел, как некультурная зелень зарастает мусор на дворе. Вид был приятный. Мы пили и глядели. Иногда кто-то из нас вздыхал — один раз пан Илья, другой раз — пани медуза, а иногда даже сын медузы. Через какое-то время к нам подсела хозяйка и тоже начала вздыхать. Иногда кто-то чего-то говорил. Какое-то одно слово. Кто-то другой чего-нибудь добавлял. Чаще всего добавлял пан Илья. Русская дискотня слышна была как будто через слой ваты. А в какой-то момент я услыхал другой звук, весьма характерный. Поначалу мне показалось, будто бы я это себе выдумал, что просто допеваю мелодию, точно так же, как иногда человек подобрать мелодию к стуку паровозных колес — но нет. Это был самый настоящий призыв муэдзина.
Я спросил, откуда это.
— А это бисурманы[130], - ответил мне пан Илья, — не стоит. Сходите, — сказал он, — лучше в нашу церковь Всех Крымских Святых, а не в мечеть. Там ведь татары, а татары — они отчизну продали, с Гитлером на нас пошли. Сталин их, — тут пан Илья выполнил старческой рукой некий неопределенный жест, — уебал в Казахстан. Ну а теперь они вернулись. И — вот — поют.
Я поднялся. Прямо по азимуту. Я блуждал по старым улочкам этого советского Средиземноморья, того места, которое обнажало структуру средиземноморского города вообще. От настоящего Средиземноморья здесь осталась лишь путаница улочек. Точно так же, как в Бахчисарае от Востока. Крым был одновременно и «советской Италией», и «советским Ближним Востоком». Алушта же была доказательством, что и одно, и другое — по сути своей были одним и тем же, различались только орнаменты. Только Алушта ободрала орнаменты из Средиземноморья до самого скелета, до голого плана. Ободрала от обаяния до чистой функциональности. Правда, это тоже обладало собственным обаянием. Генуэзская стена, возведенная сотни лет назад, была понижена рангом до роли задней стенки ряда сараев, в которых местные жители держали подручные инструменты. Когда, в конце концов, я вскарабкался на самую вершину холма — то увидел два моря.
Одно — Черное.
А второе — золотое, из жестяных плоских крыш, в которых солнце плескалось словно радостный пес. Намного охотнее, чем в воде.
Мечеть выглядела словно барак, минарет был возведен из кирпича. В средине было пусто. Призывные вопли муэдзина шли в магнитофонной записи. Я чувствовал себя обманутым. Тогда я отправился искать ту самую церковь Всех Крымских Святых и вновь ворвался в структуру бетонной сказки.
В конце концов я ее нашел. Перед ней на стойках располагались цистерны со святой водой. В каждой из цистерн имелся краник. Задвижки были выполнены в виде небольших крестов. Перед цистернами толпились бабуленьки. Они набирали воду в пластмассовые бутылки, после чего заходили вовнутрь. А изнутри доносился нечеловеческий вой.
Я зашел и застыл на месте. Посреди церкви стоял стул. К стулу был привязан человек. Полуголый. На нем были только костюмные брюки и резиновые вьетнамки на босых ногах. Это он выл и ужасно дергался. Все было бы похоже на сцену пытки из какого-то фильма Тарантино, если бы не его мучители — потому что то были попы. Хотя, а разве бы это не соответствовало Тарантино? Попы в черных рясах, с бородами словно фарисеи[131], с волосами, связанными в хвостики. Они кружили вокруг связанного, словно змеи, а те окуривали его ладаном. Ежеминутно подходили бабули с пластмассовыми бутылками, наполненными святой водой, и выплескивали ее связанному в лицо. Тот фыркал, выл и вился в спазмах. Случалось, что он валился на пол церкви вместе со стулом — тогда попы его поднимали. У самого важного среди них кадила не было. Из-под рясы у него выглядывали сандалии. И выглядел он словно жрец какого-то экзотического культа, командующий какими-то шаманскими молениями. Иногда он клал привязанному руку на лицо и шипел прямо в лицо, иной раз слегка хлопал верхом ладони по щекам.
— Что тут происходит? — зашептал я на ухо одной из бабушек.
— Черта, — шепнула та мне в ответ, — изгоняем.
— Черта? — непослушными губами повторил я.
— Да, — ответила та, пытаясь сунуть мне в руку бутылку, — иди, плесни.
Я взял у нее бутылку, напился и сунул обратно, в когтистую, старческую ладонь.
Тут связанный настолько сильно дернул ногой, что его резиновый тапочек не удержался на ноге и полетел вверх. Все собравшиеся прослеживали его траекторию взглядами. Вьетнамка вычертила красивую дугу и упала за иконостас. Из сферы profanum она перенеслась в сферу sacrum, но никого это, похоже, не тронуло. Попа с его аколитами — тоже нет.
— А вы откуда? — спросила бабуля, отпив святой воды из бутылки.
— Не отсюда, — ответил я, засмотревшись на зрелище.
— А православная вера у вас имеется? — продолжала та.
— Наверняка имеется, — ответил я, — лично я не искал.
— Тогда вам следует, — похлопала она меня по локтю, — следует поискать.
Она подошла к припадочному, выплеснула ему воду в лицо, после чего еще прихуярила по голове пластиковой бутылкой.
Через какое-то время мужчина перестал дергаться. Лично я подозреваю, что он просто устал, но бабы тут же начали возносить молитвы. Один из помощников главного попа выбежал ненадолго из церкви, после чего возвратился с бутылкой водки и несколькими белыми пластиковыми стаканчиками. Один стаканчик он налил бесноватому. Тот, полуголый и полубосый, принял с благодарностью и немедленно выпил[132]. Выпили и попы, всякий раз выплескивая остатки на пол. Экзорцисты[133]. На священников они были не слишком похожи, скорее уж на отряд воинов после завершенного сражения.
Я спускался по улочкам вниз. Русское диско вздымалось над городом будто смог. На набережной, где как раз все только-только начали собираться, чтобы, как и каждый вечер, выпить, стоял телевизор с караоке. Истекающая водой пьяная парочка только лишь в купальных костюмах, стоя босиком на крошащемся бетоне, пела душещипательную песню, текст которой высвечивался на экране. Но кое-кто все еще пытался загорать в последних лучах солнца. Они валялись на том сыплющемся песком и гравием бетоне и выглядели так, будто их кто-то расстрелял.
В нескольких десятках шагов дальше худощавая девушка стояла у мангала, наполненного раскаленными докрасна углями. На нем жарились насаженные на палочки мидии. Девушка танцевала. Трудно было сказать, под что. Этих музык было слышно с десяток. Звуки приходили из каждого места, из каждого бара, из каждой лавки. Звуки слипались один с другим, образуя один громадный, вибрирующий и неряшливый музыкальный шар, музыку Алушты, и это под нее танцевала девушка, продающая жареные мидии. Она сбросила вьетнамки и босиком переступала по камням. На пальцах ее стоп, длинных и худощавых, словно бы у смерти, поблескивали дешевые колечки с камушками.
В Судак я поехал уже без настроения. Я пер через блядский городишко, в голову мне хренячило русское техно, и мне хотелось отсюда бежать. Я дошел до моря и вот тогда, когда повернул голову направо, увидал старинную генуэзскую крепость. На скале, похожей на женскую грудь. И тогда-то, когда я глядел на ту крепость, до меня дошло, что впервые, как я сюда приехал, я вижу что-то по-настоящему красивое. Красивое обычной, объективной красотой, хотя, вроде как, объективной красоты и нет. И все же — была. Это не была извращенная красота, это не была красота, которую еще следовало бы выискивать — это была самая обыкновенная красота, которую я так давно уже не видел, но которой столь жаждал, что сразу же отправился в ту сторону. И я был настолько взволнован и тронут, что на глаза у меня выступили слезы.
11 Путешествие в Мордор
Удая с Кусаем засосали вихри истории. Они выехали в Лондон, где от них пропал всяческий след. Я подозревал, что там они завели себе колечки в носу, контактные линзы с черепами на месте зрачков, апельсинового цвета волосы и добились статуса славянских звезд английской клубной сцены. Я был уверен, что они стали какими-то отвязными ди-джеями или, как минимум, звукачами, что они лопают пиксы[134], как чипсы, кислоту, как жареную картошку, и по причине всего этого уже успели друг друга зарезать — по ошибке или же, попросту, по причине влияния либерального британского общества. С Тарасом же дело было совершенно иное.
С Тарасом я помирился и подружился. Я ездил к нему во Львов. Вообще, он был замечательным контактным лицом — как у известного в регионе журналиста у него имелись неплохие знакомства, к тому же все его любили как обретенного заново из Польши украинца. К нему относились так, как поляки относятся к иностранцам с Запада, выбравшим нашу, польскую судьбину — с трогательностью и симпатией, но, в основном, с надеждой, что они заметили в нашей действительности НЕЧТО, чего сами мы уже не видим, и что они полюбили это таинственное НЕЧТО настолько большой любовью, что ради этого НЕЧТЫ бросили уютный Запад и поселились в польской земле, среди новых своих. То есть — рассуждали поляки (и украинцы), глядя на подобных иностранцев — с нами еще не так и паршиво, мы еще не самые последние на планете.
Но правда такова, что причины тех переездов всегда гораздо более прозаические, а пришельцы из более выгодных сторон света, как правило, оккупируют их долгосрочной депрессией и обидой. Тарас не был исключением.
В любом случае — мы скентовались. Мне нравился он, а ему нравился я. Кроме того, я писал кандидатскую по западноукраинскому сепаратизму, а через Тараса у меня имелись идеальные выходы на людей из этой среды.
Вот только весь этот западноукраинский сепаратизм был делом чисто диванным. В конце концов, сепаратисты были интеллектуалами, интеллектуалы же по натуре не способны к какому-либо действию. Они торчали в «Зеленом графинчике», сосали львовские наливки и ссорились, стоит ли кириллицу заменять латиницей или все же не стоит. Расплывались в восторгах над расчудесной формой буквы «ї». И они не были в состоянии набить кому-либо морду. Себе — тоже нет.
Они не имели ничего общего с радикальными УПАвцами, на которых они столь охотно ссылались. На каждом шагу они заявляли, что к полякам они совершенно ничего не имеют, совсем даже наоборот, и что охотно пошли бы с нами на москалей. Вот только правда была такова, что ни с кем ни на кого они бы не пошли.
Уж слишком сильно они любили собственные жизни. Любили свои львовские пивнушки, которые тогда появлялись одна на другой — словно грибы, любили галерейки и антиквариаты со старым барахлом — чаще всего, польским и австрийским, любили погружаться в истории. Я их понимал, и потому мне они нравились. Но они не сделали бы никакой революции, они не были способны на какие-либо радикальное действия, о которых бубнели каждый вечер. Впрочем, я и не удивлялся.
Так что сепаратизм был именно таким. Мужики сидели всякий раз в новой кафешке или новом пабе, поглощали «европеизирующийся» Львов, ту европейскую весну, которая все сильнее чувствовалась в городе, и которая, основном, проявлялась только лишь тем, что настроение во Львове делалось все более приятным. Ребята и мужички шмалили, пили наливки и бухтели о том, как же оно будет здорово, когда, в конце концов, Галичина отколется наконец от той обрусевшей, осоветившейся туши, от казацкой Украины, от Запорожья и Диких Полей, от Буджака. О которых нужно, говорили они, махнуть рукой и, к сожалению, забыть. Только это совершенно не мешало им фантазировать о «Зеленой Украине» на далеком востоке России и о том, что стоило бы забрать у России «украинскую Кубань».
Таким образом, по сути дела, никакого западноукраинского сепаратизма и не было. А в диссертации и статьях мне приходилось врать напропалую.
— Чтобы создать независимую от Киева западноукраинскую державу, мы должны были бы, — пояснял мне как-то пьяненький медовухой профессор Петревич из львовского универа, — провести границу. Это раз, — отогнул он палец. — Уже тогда пролилась бы кровь, но это было бы только началом. Потому что потом мы должны были бы провозгласить независимость в рамках этих границ, — отогнул он второй палец. — Дать отпор центральным войскам и всем тем, кому идеи сепаратизма бы не понравились, это уже три, — и третий палец. — Вот тут уже пролилось бы море крови, и то была бы, в основном, наша кровь. Мы могли бы еще, — говорил он, — пытаться провести идею галичанской автономии в Верховной Раде, в Киеве, но тут совершенно невозможно было бы получить для этой идеи поддержку большинства[135].
Когда я спрашивал обо всем этом у Тараса, тот только пожимал плечами. Говорил, чтобы я подобными вещами не морочил себе голову. А зачем, блин, мне морочить себе голову, размышлял я. Не моя страна, и дело не мое. Я же, по сути дела, со всеми ними только лишь бухал.
Но выпивать с ними мне нравилось. Их компания, это уже было совсем не то, что наши журналисты и художники — тумаки без каких-либо общих знаний, самовлюбленные путаники, пустые изнутри словно свиные пузыри, бараны с рожами, годящимися лишь для того, чтобы улечься ими на барную стойку, зато одетые в haendem[136]. Во Львове в этом плане немного как у нас в междувоенный период, когда богему составляли врачи, юристы или — в самом худшем случае — приятели по ASP[137]. Когда символом похвальбы была верхняя галерея в «Земянской», а не «Пес»[138] в четыре утра. Имеются, похоже, свои плюсы постоянного нахождения в принудительной консервации.
У интеллигентского Львова имелся своеобразный подход к полякам. Он был в чем-то похож на отношение поляков к немцам: смесь отвращения и увлеченности, презрения и восхищения. Львовская интеллигенция болела за польских футболистов (апогеем подобного боления были еще советские времена, когда тренером в национальной сборной Польши был львовянин Гурский), они смотрели польское телевидение, читали польские книги и посещали польские сайты.
— Я люблю Польшу, — говорил мне один из них, львовский писатель Прогыра[139], - она напоминает мне Западную Украину, как ничего другого на свете, только там меня заебывает меньше вещей.
В этом я с ним согласился. Я и сам не знал другой страны, настолько похожей на Польшу, как Западная Украина. И меня, как и львовского интеллектуала, она задалбывала больше Польши, в основном, по причине своей восточности. Того самого налета, в котором я все меньше и меньше замечал экзотики. Я это ему сказал, и мы немедленно выпили[140].
Впрочем — все здесь говорили по-польски, причем, это был красивый и правильный язык. Они утверждали, что язык выучили, как Швейк немецкий: сами по себе.
Хотя я никогда бы этого сам перед собой даже и не признал — по этой причине я где-то был даже горд. Хотя гордость эта была жалкой, поскольку дыроглазая девчонка из поезда Дрогобыч-Львов, конечно же, была права.
Короче, в один зимний день мы выбрались с Тарасом на тот чудовищный восток. Увидеть его, в конце концов. Увидать место, где все это, все что восточное, выползает.
Странно и забавно, но Тарас там тоже никогда не был.
Мы ехали на поезде, и еще перед Киевом Тарас начал глядеть на вид в окне с нарастающей ненавистью. Словно Аденауэр, едущий за Эльбу[141]. Тарас глядел на эту серо-бурую землю под паром, до самого горизонта засыпанную грязным снегом, и скалил свои клыки. Все на дворе было серо-синим, и солнце светило лишь настолько, чтобы к нему никто не мог приебаться, что оно не выполняет свои служебные обязанности.
Бог покарал нас этой долбанной степью, этой загаженной пустотой, повторял Тарас. Он страшно злился и пил водку, которую купил у какого-то мужика на одном из перронов, потрескавшихся, словно старушечьи пятки. Здесь все размывается, говорил он, здесь уже все один черт: то ли Украина, то ли Россия, то ли что угодно. А следовательно — Мордор.
И он начал рассказывать, что весь Повелитель Колец говорит о конфликте цивилизованного, примерного, эстетичного и свободного европейского Запада с диким, азиатским, туранско-славянским[142] и подавляющим Востоком. С варварской страной, населенной орками, которые только и умеют, что по-хамски рычать и драться. С антиэстетической тиранией, вознесенной в ранг магически-тоталитарной машины.
На стороне хоббитов, Арагорна и эльфов, — утверждал Тарас, дудля водяру «из винта», словно стереотипный русский, — стоит зелень, изысканные города и дворцы, тонкая культура, элегантные деревеньки и веселые трактиры. А на стороне Саурона — гадкие хари огров-унтерменшей, депрессивные пустоши и сине-серые скалы; безвольные, тяжелые массы и мрачный всеведающий предводитель. Мрачный Большой Брат[143].
На западе Средиземья, — продолжал свои выводы Тарас, пялясь в окно, при чем ненависть в его голосе постепенно уходила, и ее место занимала обреченность, — Толкин подчеркивал индивидуализм обитателей, разделяя их на расы: крепко ступающие по земле гномы — вроде как немцы; поэтические эльфы — словно французы. И люди, как нечто среднее между теми и другими. Наверняка, британцы. Во всяком случае, в разнообразии — сила, мы не являемся тупой массой, мы замечательные индивидуумы. И снаружи просто приятно: живительный ветерок гуляет среди зеленых холмов. А на востоке имеется один только злой Мордор, та серая масса, которую все боятся. Варвары. Тупые, неотесанные орки и тролли с мордами словно кольраби. Хлюпающие в серо-буром пейзаже. Мычащие на какой-то недоделанной версии человеческого языка. Ну и пожалуйста, — указал он подбородком на вид за окном, — то же самое дерьмо, без форменное и невыразительное.
Я не очень-то ориентировался в мифологии Повелителя Колец, и, говоря честно, она меня особо и не привлекала, хотя и знал, что Толкин сидел над всем тем целых полвека и в течение тех пятидесяти лет выдумывал все те языки, народы, культуры и перемирия.
— А почему тогда одного из лучших дружков Арагорна зовут Боромиром? — похвастался и я кое-какими знаниями.
— Боромир — это не славянин, хотя имя его звучит и по-славянски, — пояснил Тарас. — Это смесь эльфийских языков. У Толкина так вышло случайно, даже если он и сориентировался, что имя звучит по-славянски, что вовсе не обязательно, он на него плюнул, поскольку для него это особого значения не имело.
— Но я же вижу, что Мордор располагается, скорее, где-то в окрестностях Румынии, — сказал я, глядя на карту Средиземья, наложенную на карту Европы. Тарас выцарапал ее в Нэте посредством своего смартфона и теперь подсовывал мне под нос. — На востоке тут лежит Рун.
— Дело в том, что Мордор расположен за Руном, а в Рун, — терпеливо объяснял Тарас, — в Рун проживают истерлинги. Это такие — по сути своей — скифы. Или монголы. Или я там знаю, бля, уйгуры, ненцы, печенеги. Как видно, для Толкина это никакого значения не имеет. Во всяком случае, истерлинги — это союзники славянского Мордора. А еще, и что с того, что располагается в «Румынии». Румыния — это тебе Трансильвания, страна вампиров и оборотней, для серого западного человека — именно Восточная Европа, один черт: славянская или неславянская. А кроме того, если Мордор — это не славяне, это означало бы, что Толкин славян попросту проигнорировал. Тут уже, — покачал Тарас головой, — я и не знаю, что лучше. Быть воплощением всего зла того континента, или вообще не существовать.
Наступила ранняя, зимняя ночь, и в окно не было ничего видно. Мы пили водку, и единственным эффектом того питья было то, что мы чувствовали себя все больше и больше уставшими.
Уставшими мы и проснулись. В Запорожье. Стояло черное, мордорское утро. Из вокзального радиоузла гремела маршевая музыка. Тараса эта музыка застала врасплох. У нас подобных вещей нет, сказал он, сильно акцентируя «у нас».
В потомках казаков на улице, залитой синевато-серой кашей-малашей, ничего казацкого не было. А если чего в них и было, то разочарование, которое в любой момент могло перерасти в агрессию.
Мы шли по местности, которую было невозможно каким-то осмысленным образом описать. Да, здесь были какие-то дома, здесь был какой-то асфальт, но все вместе ничего не образовывало, мой разум на всем этом не мог сконцентрироваться, точно так же, как несколько лет назад он никак не мог сконцентрироваться на учебнике налогового права. Газовые трубы шли по верху, и они были покрашены в ярко-желтый цвет. Но даже этот ярко-желтая краска не могла справиться со всеобщей темно-синей серостью.
Хортица, гнездо запорожцев…
А это знаменитый ЗАЗ! Гнездо «запорожцев»!..
Нет, заря как будто бы и вставала, но было похоже, что она над нами насмехалась. Восточная Украина, Запорожье, жила только лишь потому, что раз уже родилась, то стоило в ней как-то и существовать, прежде чем она вновь не скатится в небытие. Во всяком случае, так оно выглядело. Запорожье существовало по принципу: «Да отъебитесь вы все».
Мы сели в трамвай. На каждом стекле было наклеено объявление: «Хочешь познакомиться с иностранцем и выехать? Приходи в наше бюро знакомств АМУР. Шведы, итальянцы, испанцы, американцы, немцы».
Большая часть полосок с телефонными номерами внизу была оборвана. На рекламных щитах, как и по всей Украине, казаки рекламировали все, что можно было рекламировать: сладкие сырочки, кредиты, автомобили и ковры. Правда, магазин с коврами рекламировал такой себе Ковер Коверыч[144]. Представьте себе свернутый в рулон ковер — только с глазами, ртом, при оселедце и шашке[145]. Вагоновожатый разогнал своего старого покойника, как будто картошку вез. Пожилые люди пытались удержать равновесие, судорожно хватаясь за поручни. И выглядели они при этом так, словно все это трясение было для них божьей карой. Ну словно сильный ветер или град. Трясет, значит нужно держаться, и всех делов. Мы тупо глядели на двух трубочистов, которые вышли на остановке, очень похожей на черную дыру. Самое подходящее место для трубочистов.
— Гляди, — толкнул я Тараса, — завод запорожцев.
— Даже и не пизди мне, — услышал я в ответ. — Заебательски прекрасный ЗАЗ, чтоб ты знал, ничего красивей нет во всем свете. И заебательски прекрасен плод чрева его. Ведь здесь какое-либо очарование, какая угодно красота — это предмет самой последней необходимости. Эти мудаки, по уши закопавшиеся в собственном дерьме, нихрена, блин, не изменились со времен половцев с печенегами. Единственное, чего они умеют, — бешенным движением Тарас сорвал одно из объявлений бюро знакомств, — это блядовать с каким-нибудь иностранцем только лишь затем, чтобы отсюда съебаться. Вот что этот бедный, омоскаленный восток с людьми делает. Превращает их: либо в слепых гнид, либо в блядей.
И он орал все это так громко, что даже люди начали обращать на нас внимание.
— Ну, и чего пялитесь, мусор москальский, чего пялитесь, — заорал Тарас по-украински. Я прямо подскочил. — Не бойтесь, бандеровец не приехал вас в бандеровскую веру обращать, нихрена из вас уже не будет. Ваша страна — это не моя страна. Никогда, курва, не был, только мы, у себя, в Бандерштадте, слишком поздно это поняли. И нахуя, вот скажите мне, москальское вы шматье, мы за вас кровь проливали?! — накачивал себя Тарас. — Один только, бля, король Данило это понимал и пер на запад, а не на восток, к вашим задолбанным карто…
Тарас прервал на полуслове, потому что я дернул его за рукав и силой поставил вертикально. Этого уже было слишком. Ему еще повезло, что на трамвае ехали одни старики, но даже и они уже начали подниматься с мест. Казаки всегда останутся казаками. Погрузневшие, с обвислыми пузами, зато со злостью в черных, старческих глазах. В ход пошел оскорбляющий и брызжущий слюной русский язык. До остановки оставалось всего ничего. Но водитель затормозил резко, как последнее хамло, и старичье, в своем возбуждении забывшие о необходимости держаться за поручни, посыпались на покрытый уличной грязью пол.
— Выходим, придурок, — рявкнул я, и сдувшийся Тарас позволил себя вывести, словно малое дитя.
— Это не моя страна, — только и повторял он. И очень хотел вернуться на вокзал, чтобы первым же поездом уехать во Львов.
Но мы не вернулись. То есть — я тоже хотел отсюда бежать, как подсказывал мне инстинкт, но не таким образом. Что-то в этой стране уродства меня все же привлекло. И это несмотря на то, что я испытывал перед ней страх.
Запорожье было одной гигантской улицей. Главная улица, Ленина, была словно колода длиной в полтора десятка километров, захуяренная в покрытую грязью степь. Дома на ней были похожи на дома с Маршалковской, только страдающие элефантизмом[146]. И сразу же за тем фасадом начинались деревянные халупы. Там было и что-то дальше, какие-то крупнопанельные массивы, но все хором это все так же выглядело как село селом, но только такое, где больной на всю голову архитектор повсюду наставил бетонные параллелепипеды. А дальше уже была пустота до самого конца и края, именно здесь, в принципе, начиналась вселенская пустота до самого Урана, Нептуна и пояса Койпера. А нет ничего более пугающего, чем пустота. И на самом конце той громадной улицы стоял Ленин — как последнее божество на Земле. А уже за ним — представлял я — не было уже ничего.
И все-таки, чего-то там имелось. И даже вполне себе импозантное, хотя и довольно-таки нечеловеческое — за Лениным высилась гигантская плотина. ДнепроГЭС. По плотине ездили машины, сама же она дрожала так сильно, словно вот-вот собиралась завалиться. Ведь на нее напирал весь Днепр. Трудно было представить, что человек мог удержать такую огромную реку.
— Только это от порогов и осталось, — буркнул себе под нос Тарас, до сих пор злой, хотя я и влил в него полста водки, показывая какие-то три камушка, торчавшие над уровнем воды. — Это их, курва, Сталин взорвал. Потому что плавание судов затрудняли[147].
Таксист ожидал нас, покуривая сигарету. Когда мы садились в его «ладу», это километрами двумя раньше, слыша, что мы говорим по-польски, он спросил, не иностранцы ли мы «Вы иностранцы, да?». «Так», — ответил Тарас. Это «так» в одинаковой степени могло быть и польским, и украинским, но по легкой нотке акцента я понял, что, все-таки, украинское. — «Иностранцы. С Украины».
На острове Хортица, где когда-то стояла Сечь — сейчас был музей. А кроме него — деревья с травой. И всеобщая безнадега. Коричневого цвета речка накачивала свои воды в Днепр. На другой стороне царственной реки располагалась пародия на пляж. На нем стояли какие-то жестяные зонтики. С зонтиков-грибков слезли и краска, и смысл.
Зато вечером город расхаживался. Я был этим просто изумлен. По тяжелым, едва-едва освещенным улицам, покрытых смесью грязного снега и льда — шастали веселящиеся фигуры в черных куртках, которым было глубоко плевать на собственную бесформицу. Девицы носили блядские сапоги до самой задницы. Шпильки с треском вонзались в лед, помогая удерживать равновесие хозяйкам. Потому что все были хорошенько подшофе. Но по рукам ходили какие-то бутылки, какие-то суши из супермаркетов в маленьких упаковках. Все двигались словно грузные и черные русские медведи, но, тем не менее — это была фиеста. Тяжкая русская фиеста.
Мы шли сквозь все это с Тарасом, и даже нам самим вдруг захотелось водки. Тогда мы купили в лавке бутылку и томатный сок. А на двор было минус пять. Мы разложили какие-то картонные ящики на ступеньках закрытого музея и уселись на них. Мы пили и глядели, как вопит веселящийся народ, как он потягивает водку и пиво. Розовые щечки и курносые, покрасневшие носики. Черные куртки. Черные штаны. Черные сапоги и ботинки. Ободранная, мегалитическая улица-монстр вместо маленьких, аккуратненьких улочек. Водяра вместо вина[148]. Грузность вместо легкости. И все же — фиеста.
Они вообще — внезапно дошло до меня с ошеломительной четкостью — друг с другом никаких проблем не имеют. Равно как и проблем, кто они такие. В своих шкурах чувствуют себя превосходно. В своей действительности. Абсолютно замечательно. Быть может, разве что когда нахуярятся, но уже что-то. Тарас, похоже, рассуждал о чем-то подобном, поскольку я услышал, как он бормочет:
— Они здесь и не думают, что могли бы стать Европой. Слишком уж далеко Европа отсюда. Далеко за пределами. Здесь о ней ничего не напоминает. И им на нее до лампочки, и они даже не пытаются ее догонять. Одни мы мучаемся. Ведь от нас она уже видна, она на расстоянии вытянутой руки, но…
Он прервал свой спич. Этому мы им завидовали, я и Тарас, выпивая на раздолбанных ступенях водку и запивая ее томатным соком из пакета.
— Ты… Тарас, — спросил я неожиданно. — А ты когда-нибудь в России был?
Даже удивительно, что никогда не приходило в голову спросить у него об этом раньше.
Тарас глотнул водки, запил томатом, закурил, сплюнул и ответил:
— Нет.
Тарас вернулся во Львов. Мне же хотелось увидеть больше. И я отправился в Днепропетровск.
И вновь оказалось, что степь и Дикие Поля — это на самом деле тянущиеся до самого горизонта плоские, слепленные из грязи псевдохолмы. Снаружи было дождливо и темно-сине. Темно-сине без остановки. И это несмотря на то, что был день. Эта сырая почва всасывала весь свет, словно черная дыра, размазанная по поверхности земли. Бедные, бедные, — размышлял я, — были те казаки. Большую часть времени им приходилось болтаться в подобном дерьме по самые колени.
Автобус ехал по чем-то, похожему на асфальтовую дорогу. Шоссе растворялось в этой размокшей степи, которая напирала с обеих сторон. Здесь ничего не было, лишь иногда сквозь синюшный воздух протискивались «камазы», загруженные товаром по самый небесный свод. И еще черные коробки автомобилей-монстров с темными стеклами, и цель существования этих машин заключалась исключительно в том, чтобы ассоциироваться с российскими криминальными сериалами. Я глядел на эти их тонированные стекла и думал о том, что сказал Элвуд Блюз Джейку Блюзу[149]: «Легко не будет. На дворе ночь, а на нас черные очки».
Здание автовокзала походило вход в преисподнюю. По площади перед ним шастали людские фигуры, закутавшиеся в куртки по самые носы. И все куртки были черными — без исключений. Абсолютно. Я был здесь единственным не черным, так что чувствовал себя крашеной птицей. Носки мокасин прохожих купались в лужах, потому что случилась оттепель, и потрескавшийся, состоящий из одних щелей асфальт тут же заполнился грязной оставшейся после снега взвесью, сделавшись чем-то вроде мордорского Земноморья. Вывески и объявления выли со всех сторон как сумасшедшие, скулили и звенели цепями: разноцветная кириллица исподтишка лезла в глаза со всех углов, так что от всего этого голова шла кругом.
А тут еще те долбанные будки с мудацким русским диско — каждый из продавцов, смуглокожих кавказцев в поддельных бейсболках адидасовца, подкручивал ручку громкости на своей радиоле на батарейках до упора, а в связи с тем, что технический прогресс, что ни говори, курва, охренительный, и любое дерьмо на батарейках способно опить словно сирена в годовщину варшавского восстания — вот оно все и вопило.
И из каждого мага хренячило что-то совершенно другое, из каждого динамика иная девица хрипела под синтезатор, что любит, нравится, уважает, что «пошел ты — я тебя не знаю»[150] и что, давай, мол, дорогой рванем в Хургаду поваляться на пляже. Все эти мелодии сталкивались одна с другой, словно колесницы в «Бен Гуре», вытесывая искры и напирая друг на друга. И среди всего этого, среди всей этой дискотни шаркали ногами иззмученные, сморщенные бабульки, навьюченные самым различным товаром: сетками, сумками и рекламными пакетами с логотипами «Дольче-и-Габбана», «Бруно Банани» и водки «Смрнофф».
И автобусы на этом автовокзале были самым распоследним делом.
Но ведь так жить невозможно, думал я, а похмелюга была такая, что не дай бог, ведь дело совсем не в этом, ведь все здесь с точностью до наоборот. Им тут, размышлял я, нужен мессия.
Вот действительно, перемалывал я мысли, мессия, который влезет на одну из куч поддельных джинсов и, стоя на этой самой куче, пояснит им, что они идут в совершенно неверном направлении. Что земля обетованная находится в иной стороне. Что так быть не может… И что это шоссе ведет в ад, Адское Шоссе[151], с которого все они должны свернуть, иначе все сильнее станут ненавидеть себя самих и весь мир вокруг.
Ну да, голова у меня трещала от похмелья. У меня было желание подойти к какому-нибудь из кавказцев и попросить пояс шахида. Или бахнуть сотку в качестве лекарства, накупить чешского пластида, очень так элегантно заминировать весь автовокзал, а потом — предварительно отойдя на безопасное расстояние — нажать на кнопку и глядеть, как взрыв сметает все это с поверхности этой вот планеты, заслуживающей чего-нибудь лучшего; глядеть, как все это валится: все эти будки, все эти базарные лавки, весь этот засыпанный всяческой херней и мусором вокзал, обклеенный разным дерьмом; как взлетают в воздух куски продавцов пиратских дисков вместе с технологически прогрессивными воспроизводящими устройствами.
Вот спас я бы только бабушек. Они одни меня по-настоящему трогали. Предварительно я бы их всех вывел с заминированной территории. Они одни — размышлял я — заслуживают вечного спасения. Они невинны, не они довели до всего этого. И страдают они за миллионы других.
Бабушки, размышлял я, на волне похмельной сентиментальности, заслуживают вечной жизни в вечных деревянных домиках, окруженных со всех сторон вечной зеленью. Бабушки заслуживают вечных походов к соседкам с кошелками за яйцами и вечного сидения на табуреточке у ограды. Вечного ношения цветастых платков и фартуков, вечной возможности греться на солнышке. Возможности вставать свежим утром и петь самой себе псалмы[152], крутясь по кухне.
Впрочем, продолжал размышлять я, это ведь еще и единственные существа, которые были бы способно чего-нибудь изменить. Ведь они же неприкасаемые. И так оно в один прекрасный день и случится. Так оно и будет. Как-то раз они попросту войдут в Кремль, в резиденцию президента Украины, в тот огромный параллелепипед, в котором проживает Лукашенко, они войдут, и их никто не задержит, потому что тут на бабушку никто не поднимет руку. Все в этой стране могут взаимно убивать, привязывать аккумуляторы к яйцам бизнес-партнерам[153], требовать взятки, давить автомобилями на переходах для пешеходов, презирать, унижать, расхуяривать из калашей, но никто и никогда не поднимет руку на бабушку. Никто. Никогда.
И они войдут в эти Кремли, в резиденции, ступят на те ковры, в заросли всех тех фикусов, войдут, никем не задерживаемые, а потом из складок клетчатых юбок вытащат пистолеты и расхренячат нафиг головы всем путиным, лукашенкам, кучмам, януковичам и всей той босоты, что сует головы собственных народов в дерьмо. Хотя оно и так, боюсь, ничего не изменит, потому что очень скоро появятся клоны тех же путиных и лукашенок, и они вырастут так же, как отрастают головы у дракона, поскольку здесь для них подходящая почва. Ведь они — истинные сыновья своих земель, они — словно в лупе — собирают в себе все, что и так тут имеется, и от чего не сбежать.
Я же пытался попасть на железнодорожный вокзал. Мне нужно было отсюда вырваться. Ну да, мне уже хотелось слинять, едва я только сюда приехал. Я ехал я на Крым. Таков у меня был план. Мне хотелось увидеть Крым зимой и писать о нем гонзо. Здесь я тоже мог писать гонзо — но я был с бодуна и с кучей порожденных тем же бодуном страхов, а это было самое паршивое место, чтобы переживать похмельные страхи.
Согласно небольшой карты в путеводителе, днепропетровский железнодорожный вокзал находился неподалеку от автобусного, на котором я сейчас находился. Достаточно было чуть-чуть пройтись. Это в теории. Но, карта картой, а действительность была словно заколдованная — выбраться отсюда было просто невозможно[154]. Потому что: едва я выскальзывал из задворков автовокзала, то попадал в очередные задворки: на какие-то бетонные разъезды, по которым безразлично сновали лады, жигули и мафиозные SUV'ы[155]. Или, вообще, в такие места, в которых хрен когда поймешь: что, к чему и зачем.
Я подошел к такси. Автомобилю марки «шкода». Водиле было лет тридцать. А мне и вправду было все по барабану. Мы тронулись.
— Знаете, — сказал я таксисту, — можете не везти меня по окружной, чтобы мне не казалось, будто переплачиваю. Вы меньше бензина спалите, а я и так знаю.
— Спасибо, — ответил водила, худой, даже высохший, напоминающий сушеную рыбу с базарного прилавка. — А вы верите, — заговорил он, поглядывая в зеркало заднего вида, — что мы живем в последние времена? Что приближается планета Нибиру?
— Верю, — ответил я ему, закрывая глаза.
— Правда? — Несмотря ни на что, водила был удивлен.
— Угу, — кивнул я.
— Это хорошо, — буркнул он, и мы уже были на месте.
— Так это здесь? — не поверил я. Тем более, что в голове светало, будто бы это здание я уже видел, только с другой стороны. Нет, я знал, что близко, но только не, блин, что настолько близко[156].
— Тут, — ответил таксист-таранка.
— Так это же, курва, разбой, — сказал я. Таксист вытащил из бардачка баллончик с газом, но взгляд его был извиняющимся.
— Вы же сами обещали, — чуть ли не плача заныл он. — Знал бы, так поехал бы вкруговую…
Матерясь по-польски, я вылез из мотора и вытащил рюкзак. Голова лопалась, сам я едва стоял на ногах.
Надев рюкзак на спину, я потащился в сторону входа, над которым жужжала неоновая надпись «ВОКЗАЛ». Внутри все было чистенько-блистенько. Вот только пустовато. Только лишь какое-то жулье разлеглось на недавно поменянных креслах в зале ожидания. При этом они нервно вертелись, поглядывая, не идет ли милиция или представители одетых в камуфляж организаций, которые на всем пост-социалистическом пространстве почему-то называются охранными агентствами. Точно так же, как и в Польше.
В углу зала сгорбилась бабушка, торговавшая водкой и пивом[157]. Она тоже нервно оглядывалась. Тут у меня вновь мелькнула мыслишка о соточке, но я подумал, что это уже было бы окончательным упадком. И что я ничем уже не отличался бы от бродяг, развалившихся на лавках. Я вздохнул и подошел к кассе.
— До Симферополя, — прохрипел я, судорожно схватившись за стойку, потому что голова неожиданно закрутилась. — На ближайший.
— В 23:30, — сладко защебетала крашенная пенсионерка с розовой химией на голове, вся воздушная и эфирная, словно Дух Святой.
На часах было 13:00. Я застонал.
— А раньше ничего нет? — спросил я.
— А вы как думаете? Что я вас обманываю? — обиделась пенсионерка. — Или как? Осталось одно место. Берете?
— Зимой? — удивился я.
— А что — зимой? — начала сердиться кассирша. Макияж у нее был такой, словно лицо она нарисовала себе полностью.
— Это зимой едет столько человек, что нет мест?
— Слишком много вы себе позволяете, — заметила дама. — Упрекаете меня во лжи. Я сейчас охрану вызову.
Короче, билет я купил. И теперь нужно было как-то провести половину дня. В зимнем Днепропетровске. Аллилуйя!
Я упал в кресло. В паре мест от жуликов. Самый ближний ко мне открыл глаз. Он был настолько заросшим, что непонятно было, где заканчивается борода, а где начинаются брови. Мужик вытянул руку в жесте «подайте чего-нибудь». В этом всем была механика робота. Я поднялся, прошел пару метров, уселся. И увидал надпись: «ВИП ЗАЛ».
Мне нужно было почувствовать себя получше, чем все это вокруг выглядело. В обязательном порядке. И я толкнул дверь. В средине стояли мягенькие диваны. На столиках лежали международные журналы по теме ухода за большими деньгами и лайфстайла.
В самом углу сидела и что-то просматривала на планшете девица, которая — и все указывала именно на это — попала сюда, выйдя прямиком из одного из этих журналов. Потому что ни из какого-либо другого места попасть ей было просто невозможно. Я просто не мог представить себе, будто бы она имела хоть что-то общее со всем тем, что находится вокруг вокзала, и я знал, что ей тоже не хотелось, чтобы я это себе представлял. На ней были сапожки на высоком каблуке, чулки, черное мини, полупальтишко, и выглядела она вся так, будто была какой-то голограммой себя, а не сама собой.
— Заплатить нужно! — сказал громадный охранник, который бесшумно появился у меня за спиной. — Пребывание в зале платное.
Я заплатил, бросил рюкзак на мягкий диван. Девица оторвала взгляд от айПэда и неприязненно посмотрела на меня. Ну да, ее пространство я засрал, и знал об этом: в своих покрытых грязью ботинках, обвисших камуфляжных штанах и куртке, которая — о ужас! — не была ни черной, ни кожаной. Я улыбнулся ей, но девица уже глядела в планшет. На ее лице было написано такое отвращение, что я почувствовал, как у меня самого желудок поднимается к горлу.
Через пять минут мне уже все осточертело. Из динамиков раздавалась музыка, которая, по замыслу, должна была образовывать нейтральный фон, но как-то не образовывала. Презрение коти с планшетом лазило по мне стадом тараканов. Охранник осуждающе глядел на мои ботинки, как будто бы искал с ними зрительный контакт. И вообще, было дико скучно.
Я оставил рюкзак в камере хранения и вышел в город.
Днепропетровск, ах, Днепропетровск. Было темно, хотя и было светло. Это воздух был чем-то замазюкан, так что возникало желание его протереть. Я шел по проспекту Карла Маркса и чувствовал жуткую усталость. И не один я. Здесь усталость испытывали все.
Днепропетровск, ах, Днепропетровск. То тут, то там проблескивали фрагменты Запада, но и они были покрыты этим тяжелым воздухом, словно сажей. Размещенные в контексте восточной пустоте. Бабули продавали чеснок перед стеклянными дверьми офисных зданий, а двери эти открывались всякий раз, когда к ним подходил клиент[158]. Охранники в черных мундирах понятия не имели, чем им заняться, в связи с чем шастали туда и назад. Молодые курсанты военных училищ, выглядящие так, как будто бы неожиданно уменьшились внутри тех советских фуражек-аэродромов и мундиров с громадными погонами, несколько пугливо пробегали по улицам[159]. Было похоже на то, что если чего случится, это их придется защищать.
В ресторане, в котором я обедал, случайно встретились два толстых господина, выглядящих ну очень богатыми. По лицу было видно, что капиталы их были подозрительными. А так, на вид, все было очень богато: золотые кандалы на запястьях, остроносые туфли. Один вошел, второй тут же встал из-за стола бросился первому в объятия, и они начали слюнить друг другу щеки. Только сейчас я заметил, что каждый из них был с охранником. Телохранитель уже бывшего здесь сидел и проверял почту в телефоне. Второй охранник весело ему помахал. Друг другу они дали пять. И так они и беседовали: рыцарь с рыцарем, оруженосец с оруженосцем. У обоих охранников их карманов нагло выпирали пистолеты.
А над городом высился гигантский еврейский центр. Очень уж он демонстративно высился, и на месте архитекторов со строителями я бы опасался, что эта вода потечет на мельницу антисемитам. Только, похоже, ни архитекторы, ни строители не боялись.
В стоящей в стороне синагоге было тихо. Я вошел в ту тишину, где все углы были прямыми, а стены белыми. Бима и амуд[160] выглядели так, словно взялись из дизайнерского магазина на Пятой Авеню. Я был один. А через минуту зашли пожилые типы в шляпах, с бородами и пейсами. В зале тут же началась суматоха. Только через какое-то время до меня дошло, что они вовсе даже и не пожилые, что ребята даже молодые. С лицами, не имеющими ничего общего с классическим, европейским представлением о еврее. Потому что это были лица молодых американцев: курносые носы, широкие челюсти, узкие скулы — ну а все эти усы, бороды и пейсы выглядели приклеенными. Болтали они на нью-йоркском английском. Все сращения согласных взрывались у них на губах, как будто те были посыпаны селитрой.
Мне не хотелось с ними говорить, зато хотелось им. Как только меня увидели — сразу же подошли. Похоже, к ним сюда редко кто заходил. Так что говорили о том, о другом, о том-сём… Ну и откуда я приехал. Я ответил.
— Польша! — воскликнул один из них, с рыжими веснушками на носу. Выглядел он так, как будто сошел с экрана сериала «Чудесные годы»[161] и на Хеллоуин переоделся в ортодоксального еврея. — Якшемаш! Борат[162] так говорил по-польски! Якшемаш! Врубаешься?
Изо всех сил сдерживаясь, чтобы не дать ему по морде, я вышел из синагоги.
Похоже на преддверие ада?… Тот самый еврейский центр «Золотая Роза». Синагога находится дальше по той же улице
Я вернулся на вокзал, в ВИП-зал. За вход снова пришлось заплатить. Девица все так же сидела в своем углу, в своих мехах, мушкетерских сапогах-казаках, в своем блядском прикиде, с тем своим презрением ко всему на этом свете, что только не обвешано бриллиантовыми колье, что не ездит на черном матовом хаммере с золотыми колпаками.
Меня это ужасно доставало. Доставало, потому что меня достало все вокруг. Доставало, потому что мне было известно, что девица эта родом из какой-нибудь заблеванной хрущевки, в которой она хороводилась в одной комнате со всей семьей, где сортир протекал, а вода не спускалась, и все рассыпалось прямо в руках; я знал, что каждое утро она шлепала по серо-бурым дорогам своего похожего на нору города, в котором не было ни крошки красоты, одна только грязь, вонь, дерьмо до самого горизонта; города из пугающей антиутопии, ставшей реальностью, в котором нельзя было вести реальной жизни, потому что ты брел по пояс в дерьме, в Мордоре, в элбонском болоте[163].
Я присел за стойку бара и заказал себе водку на льду, с лимоном. Выпил, и тут же заказал вторую порцию. Теперь уже взгляда с девицы я не спускал. О, я знал их всех, думал я, выпивая третью и четвертую порции. К примеру, в Крыму, в туалете на платном — на ПЛАТНОМ! — пляже в Алуште. Ссаки там стояли по щиколотку, воняло словно из выгребной ямы, все было развалено и покрыто сантиметровым слоем грязи, как будто бы эстетика — одна из базовых потребностей человека — там была попросту отключена. И они, красивые, стройные газели с накрашенными коготками и в макияже, который не снимали, даже идя в ванну — влезали туда, в ту всю гадость по собственный щиколотки, потому что другого выбора у них не было. И они присаживались на корточки во всей своей красоте над засранными дырками в земле и ссали-срали в те дырки, и их вьетнамки скользили по тому шламу из дерьма и ссак. А потом они выползали из той дерьмовой дыры и все так же прохаживались по пляжу, словно королевы их плохих сказок. Потому что то была их действительность, а другой у них и не было. И они могли только одно — ненавидеть ту действительность от всего своего сердца. И они знали, что все остальные знают, почему они ее ненавидят, так что с разгона они ненавидели и всех остальных.
К пятой водке с лимоном я пытался перехватить ее взгляд. Но она не смотрела. Избегала. Оставались только ее губы, губы с выписанным на них презрением. И чего она здесь ждала, подумал я под шестую порцию, она чего, блин, целый день собирается ждать поезда? Чего, не могла прийти позднее? Что-то тут, курва, не то, — собирал я мысли.
И я решил ее об этом спросить. Только где там. Когда соскакивал с барного табурета — чуть не грохнулся. Но я подошел, и вот тут у меня отобрало речь. Я не знал, чего сказать. Она была миленькая на вид, дешевая, но миленькая, покрытая как бы лаком, блестящей пленочкой; она поглядела на меня, и выходило как бы, что она чего-то сделала себе с глазами, какую-то пластическую операцию, фиг его знает, во всяком случае — они были у нее увеличенные, причем — сильно, и выглядело это неестественно, даже отвратительно — хотя и красиво, и я повис над ней, зашатался, и тут она позвала охранников.
Я получил звиздюлей, а еще они вытянули из меня 50 баксов за то, что не вызвали милиции. Потому что ментам, поясняли они, мне пришлось бы за сексуальные домогательства заплатить по две сотни. Каждому.
12 Havran travel
Миша уже ожидал в Шегинях. Мы едва-едва успели перейти через границу.
— Ну, кулеги[164], — сказал он, потому что говорил по-польски, — кого сегодня обделываем?
Гавран жестом руки представил Мише четырех поляков, которые шли за нами, любопытно разглядываясь.
— Анджей, — показывал я пальцем. — Томек, второй Томек или Томек Два, что, в свою очередь, приводит к тому, что первый Томек является Томеком Раз. И Мачек.
Миша кивнул всем им. Мне подмигнул. Я мигнул в ответ. Выглядел он словно разбойник с большой дороги. Гавран мне его уже как-то представлял. Понятия не имею, откуда он его вытащил — во всяком случае, бизнес, которым они вместе занимались, должен был того стоить.
Поляки пробормотали слова приветствия.
Вообще-то, все они были достаточно странным сборищем. Томек Раз, к примеру, как я успел узнать во время поездки, был членом наблюдательного совета одного из краковских интернет-порталов. Томек Два был бухгалтером. У Анджея была своя туристическая фирма, Мачек же был владельцем клуба на Казимеже.
В общем, народ с бабками.
— А ты чего? — спросил Миша. — Тоже захотел дикаво востока?
— И сейчас, и всегда, только не так, как они, — ответил я, указывая подбородком на приведенных Гавраном[165] людей с баблом. — Статью пишу.
Миша вопросительно глянул на Гаврана. Тот кивнул.
— Спокуха, — пояснил он. — Лукаш только посмотрит, чего и как. У нас договор. Если удастся описать так, чтобы получилась реклама, он опишет. Если же нет, тогда просто ничего не напишет. Это мой дружбан, мы с детства знакомы.
— С детства — не с детства, — сомневался Миша. Для чуть ли не двухметрового амбала с морщинистым лицом, каким он был, голос у него был удивительно ласковый, — но вот то, что мы здесь делаем — как это сказать — оно немного незаконное.
— А к нему никто серьезно и не относится, — хлопнул Гавран меня по спине еще до того, как я успел что-либо ответить, — потому что пишет неправду. Поверь мне, Миша.
— Тогда зачем он с нами?
— Потому что те его враки много людей читает, и некоторые считают, что, как бы там ни было, в них имеется зерно правды, вот они то зерно и ищут. И таким вот образом выйдут на нас.
Миша пожал плечами, и выглядело это так, будто бы гора пожал холмиками.
— Делай, как считаешь, — ответил он, — дело твое. — Ну что, — обратился он в сторону Томеков, Анджея и Маека, — начинаем, или как?
Его газик был припаркован в нескольких метрах дальше, в улочке между одноэтажными домиками. Поляки с любопытством разглядывались по сторонам и обменивались наблюдениями. Анджей считал, что здесь точно так же, как и в Польше, и что он особых различий не замечает. Томек Раз говорил, что все же чувствует, в воздухе висит что-то не такое. Томек Два конкретизировал его мысль, заявляя, что здесь как-то более «борчуховато»[166]. Мачек же болтал о «туранской культуре» и сделал мобилкой фотку купола у церквушки, мимо которой проезжали.
На капоте газика Миша разложил салфетку, на которую поставил бутылку перцовки и порезанное кусочками сало. Пока что все это не слишком-то отличалось от экскурсий, которые англичанам в Кракове предлагают наиболее хитрожопые поляки. Бутылка, pub crawl[167] и бордель под конец. Мне было интересно, приготовил ли Гавран бордель на сегодня.
Потому что бизнес, которым занимался Гавран с Мишей, заключался в очень простой вещи: взять несколько нафаршированных бабками и жаждающих экзотики поляков на уик-энд в Украину и показать им «хардкоровый восток».
Пошла первая бутылка, потом и вторая. Миша рассказывал анекдоты. Рассказывать он их умел, так что было неплохо. Я и сам смеялся. Смеялся даже Мачек, с которым — как мне казалось — у Миши будет больше всего хлопот. Дело в том, что Мачек был глуповатым умником и все знал лучше всех. Только Миша справлялся и Мачека делал как младенца. Словно пластилин лепил.
После водки Миша сунул руку в карман и вытащил черную табакерку с дозатором. Он открутил зеркало от газика, положил его на капоте и просыпал на него из табакерки семь дорожек белого. Поляки рассмеялись, Мачек даже в ладоши захлопал.
— А чего это? — спросил Томек Два.
— Кокошка, старая, хорошая, — ответил Миша. — Спокуха, если не хочешь кокошки — никто не заставляет.
— Хочу, хочу, — замахал руками Томек Два. — Нет, я только так спросил.
— Кто спрашивает, не блуждает, — философски заметил на это Миша. — Даёшь, друг, — и сунул ему в пальцы свернутую трубочкой стогривневую купюру.
Лично я был в очереди третьим. В нос ударило, закрутило и стекло куда-то в нижнюю часть горла; я глотнул — горько.
Анджей разболтался.
— А полиция не придет? — спросил он.
— Я сам, — ответил Миша, вытаскивая удостоверение из кармана, — милиция.
Все замерли, застыв от страха и склонившись над зеркальцем. Панические взгляды были устремлены на Гаврана, который как раз вытирал нос. Тот усмехнулся.
— Успокойтесь, — сказал он, хлопая Мишу по плечу. — Это же хорошо, что органы с нами, разве нет?
Миша оскалил зубища. Парочка из них была из золота.
Народ с бабками вернулся в радостному нюханию.
Я сунул в рот сигарету и начал хлопать по карманам в поисках огня. Гавран подставил мне «зиппо».
— Настоящее? — тихо спросил я, указывая подбородком на карман Миши, в который тот только что спрятал удостоверение.
— Честно говоря — не знаю, — весело буркнул Гавран, — меня он тоже застал врасплох.
Тем временем Миша рассказывал людям с деньгами какие-то невообразимые байки про Шегини. Что-то там о контрабандистах; о том, что все новые дома в селе поставлены за деньги, которые заработаны за границей, а это незаконно. Что-то бухтел о перестрелках, о мухлеже, о подкупе. Я и сам, — гордо заявлял Миша, — на деньги от взяток дом себе поставил.
— А он хорош, — шепнул я Гаврану, ведь признаться в этом должен был.
— Ну, — кивнул тот.
В газик вмещается пять, самое большее — шесть человек, но семь тоже влезает. А почему бы и нет. Мы ехали какими-то полевыми дорогами, проезжали мимо развалин каких-то колхозных построек. Ну да, ну да. Когда-нибудь руины фабрик, колхозов и складов будут такими же романтическими, что сейчас развалины замков. Наступал вечер, и солнце на западе наливалось кровью. Оно буквально исходило кровью. На восточной же стороне небо было темно-синим. И на нем висела Луна, такая громадная, что казалось, будто бы она мчится в сторону Земли, чтобы расхерячить ее в мелкие щепки. Мы ехали на юг. Кокаин действовал, и музыка, которую Миша поймал по радио, казалась нам мягкой и бархатной..
Миша вел, потягивая из фляги. Я же только ожидал, раздавленный Томеком Два, который сидел у меня и у Томека Раз на коленях, когда Гавран вытащит гармошку. Бутылка кружила по машине. Миша сунул кассету в рожу магнитофона и подвернул громкость. Рявкнул гимн СССР. Все мы уже были хорошенько пьяными и начали петь. Мачек пел по-польски: «Нафиг нам свобода с советским народом, когда нечего курить, когда нечего и пить».
В конце концов мы выехали на асфальт, и тут же объявилось и село. Дома пост-галичанские: отчасти каменные, отчасти деревянные. Утоптанная площадка перед пивной была вся в колеях. Было видно, что пацаны гонялись тут один за другим на моторах. Перед заведением стояла тюнингованная «лада жигули» и черный мерседес. У обеих машин стекла были затемненные. На разбитых ступенях сидели парни в тренировочных костюмах. Некоторые под треники надели мокасины.
— Ты это место знаешь? — спросил я Мишу.
— Слышал, — ответил тот. — А так впервые.
— Тогда зачем мы сюда приехали?
— А какая разница — здесь или где-то еще? — спросил Миша, глядя в самый центр моих глаз, которые отражались у него в зеркале заднего вида.
Парни со ступеней отреагировали по принципу «НЛО в деревне». Все пялились на нас, и взгляды эти дружественными назвать было сложно. Губы сами складывались в презрительные гримасы. По ступеням мы входили будто молодые заключенные, которых впервые впустили к рецидивистам. Только Миша с Гавраном шли спокойно и расслабленно.
— Курва, и чего я тут делаю, — услышал я, как бормочет Томек Два.
В средине же все выглядело так, что Боже упаси. Столы и стулья липли от грязи. Их внешний вид только приблизительно напоминал тот, что имелся первоначально. На стене висел абсурдно огромный плакат, на котором венецианский гондольер проплывал под Риальто.
Миша повел взглядом по лицам сидящих. Он оценивал их габариты — я же сам видел — словно фермер оценивает габариты приобретаемого скота. Под конец он усмехнулся и сплюнул на пол. Несколько мужиков в возрасте отвернулось. Лица у них были морщинистыми, свитера — со спущенными петлями. Но вот парни помоложе глаз не отвели, на Мишу они глядели высокомерно. А на нас — с легким снисхождением.
Кровь так сильно барабанила у меня в висках, как будто бы вот-вот собралась взорваться.
Мы присели за какой-то из столиков. Такой же разболтанный, как и остальные. Стулья, как мне казалось, сейчас под нами рассыплются. Миша, не подходя к стойке, крикнул бармену. Тот, пускай и нехотя, подошел. Не говорил ничего, только глядел. У него были усы и растущая лысина. В его глазах блестело что-то блядское. Миша заказал литр водки. И селедку.
А потом все и покатилось.
Честно говоря, я не помню того момента, когда началось молотилово. Честное слово, в этом месте у меня как будто перескок кадра. Вот только что мы сидели за столом и заливали очередную порцию водки, и в следующий момент — какой-то лысый тип бьет меня своей башкой в лицо, и весь мир становится красным.
А потом все покатилось еще быстрее. Я с изумлением глядел, как Миша вытаскивает свою милицейскую ксиву и орет так, что все чуть на задницы не попадали. Тем более, что из другого кармана Миша вытащил пистолет.
— Под стенку! — орал он по-украински. — Все, все!!! Милиция! Слышите, суки, милиция!
— Ой, курва, курва, курва, — только и мог повторять Анджей, с бледным словно стена лицом и разорванным воротничком футболки. И Томека Раз кровь размазалась по щеке; Гавра — походило на то — вышел из стычки целым. Мачек вылез из-за барной стойки, где спрятался, а Томек Два стоял, широко усмехаясь, расставив ноги, и весело подмигивал одному из украинцев, который очутился среди собравшихся под стенкой с гондольером и Риальто. Тренировочные костюмы, короткие волосы, адидасы и мокасины, пары спиртного и отовсюду исходящая ненависть. Там их было человек пять. От Томека Два, бухгалтера, никто ничего подобного ожидать не мог. Потому что украинец, которому Томек подмигивал, выглядел весьма даже стукнутым. Невысокий, но крепкий. Таких побить труднее всего. Он как раз плевал кровью в собственную ладонь и с изумлением глядел на то, что выплевывал.
Миша тоже это заметил.
— Ты, — сказал он крепышу, целясь в него из пистолета. — Сюда иди.
— А на кой хер? — Крепыш вытер ладонь о черные джинсы, сплюнул на пол. — Что, пристрелишь меня, или как?
— Блин, Гавран, чего тут творится? — буркнул я. Тот, усмехаясь, разложил руки.
— Это все запланировано? — допытывался Мачек. Гавран приложил палец к губам и подмигнул.
— А на кой ляд мне в тебя стрелять, — рассмеялся Миша. Он подошел к крепышу и, не переставая целиться ему в лицо, сунул ему руку в карман. И тут же вытащил — в его пальцах был мешочек с кокаином.
— Твое? — с улыбкой спросил он.
— Ты, сука! — лицо крепыша представляла маску чистейшей ненависти, вырезанную, курва, из камня. — Ты, сука! Сам же прекрасно знаешь, что не мое.
— А ты погляди, — ответил Миша, сделав рукой широкий круг, — у меня есть свидетели, что это твое. Или нет?
Никто ничего не говорил. Из динамиков хрипело русское диско, звучало все это абсурдно.
— Ну, — сказал Миша крепышу. — Тогда иди и этого вот, — указал он на Томека Два, — сейчас ударь.
Томек Раз, Мачек и Анджей возмущенно загудели.
— Блин, что все это должно значить! Я думал, ты нас отсюда выведешь! Курва, отдавай мои бабки, я на такое гавно не подписывался! — орали они, перебивая один другого. Тем временем Томек Два, все так же широко усмехаясь, сплюнул крепышу под ноги.
— Ну, иди, — прошипел он. — Иди, бля, козел бандеровский.
Крепыш глянул на Мишу, тот кивнул, и украинец атаковал.
Обмен ударами продолжался буквально мгновение, противники быстро сплелись в какой-то узел — они схватили один другого за волосы, за одежду — за что только удалось. Они тяжело дышали друг другу в лицо, пытаясь стукнуть противника головой.
— Все! Хана! Никаких разборок! — крикнул Миша, отрывая Томека Два от крепыша. — Тебя как зовут? — спросил он.
— Иван, — ответил местный. — Или нет, Сашко. Или, погоди, Гришка.
— Гавран, — крикнул Миша, не спуская с украинца взгляда. — А ну-ка, врежь Гришке.
Гавран подошел к крепышу с банкнотой в руке. Пятьдесят гривен.
— Бери, — сказал он по-украински.
Тот какое-то время с отвращением глядел на Гаврана, после чего въехал ему кулаком в лицо. Гавран лишь частично успел заслониться, так что получил крепко и полетел под стенку.
Миша только осклабился.
Крепыш Иван, Гриша, а может и Сашко сплюнул Мише под ноги. Но не на ботинки.
— Ты, курва, — процедил он. — Что ж ты, блядь, для поляков игрища устраиваешь? Вот такая ты тряпка продажная? Такой ты украинец?
— Я савецкий челавек, — с прелестной улыбкой отрезал Миша. — Не хочешь веселиться — пиздуй.
Крепыш с удовольствием бы сплюнул еще, только ему было нечем. Он поглядел на нас затуманенными глазами.
— Живыми вы отсюда не уедете, — заявил он и вышел, хлопнув дверью.
Из-за стойки вышел лысый и усатый бармен.
— Я помощь для вас вызвал, пан милиционер, — сообщил он с ядом во взгляде, — чтобы вы не одни были. Едут.
— Бли-ин, — только и буркнул Миша, через лицо которого пробежала тень. — Гавран, валим, — бросил он по-польски.
— Это не мент! — крикнул кто-то из небольшой группы у стены.
Миша выстрелил в потолок. Посыпалась штукатурка, в свете голой лампочки стало видно белое облако пыли. Все инстинктивно отпрянули, присели на корточки и заложили руки за голову.
— Выходим! — крикнул Гавран. — Пошли!
Ну мы и вышли — Миша впереди, а мы за ним, теснясь будто цыплята за квочкой. Я шел последним, в связи с чем заработал пару ударов по голове и пинок по заднице.
Мы мчались по асфальтовой дороге так, что только дым шел. Никто ничего не говорил. Время от времени я оборачивался, чтобы проверить, не гонятся ли за нами. Не едет ли за нами тюнингованная «лада» или мерседес с затемненными стеклами.
Нет, не ехали.
— Так вот какая заебательская идея у тебя была для дикого, дикого востока, так, Гавран? — отозвался в конце концов Мачек. — Мои поздравления. Надеюсь, ты уже понял, что бабки я желаю назад. Разве что у тебя в заначке имеется еще какой-нибудь аттракцион.
— Мишу попроси, — буркнул в ответ Гавран. — У Миши имеется.
А Миша только широко осклабился в зеркало заднего вида.
13 Центральная европа или же независимость Закарпатья
На вокзале в Кошицах никто понятия не имел, во сколько отходит автобус на Ужгород. Согласно расписанию, он должен был уехать еще два часа назад. Женщина с химией на голове из бюро информации только раскладывала руки:
— Это же украинский автобус, — говорила она тоном объяснения, — оно по-разному может быть. Приезжает, как сам того хочет.
— Тогда зачем же вы указали время на расписании? — спросил я.
— Что-то ведь нужно было вписать, — пожала плечами тетка с химией. — Какой-то ведь порядок быть должен.
В конце концов, он приехал. По ровненькому и свеженькому словацкому асфальту приплыл, скрипя и переваливаясь с колеса на колесо, автобус, как бы вырванный прямиком из Кустурицы. Дверь открылась, и на ступеньках появился мужик, подходящий к сцене на все сто: в белых мокасинах с чубом, в белых штанах и белой, расстегнутой рубашке. Ему не хватало только черных очков и золотых браслеток на всех возможных местах. Но усы у него имелись. А в средине автобуса была уже Украина: прекрасно мне известные грязные занавески и наглухо закрытые окна. Кондукторша решала кроссворд, внимательно и с благоговением вписывая в квадратики кириллические буквы. Я себя чувствовал странно, заходя вовнутрь и не предъявляя паспорт. Совершенно так, будто пересекал зеленую границу[168].
Чем дальше на восток, тем больше редела Словакия. И, как мне казалось, съеживалась. В Словакии мне все казалось меньшим и не таким серьезным, как в Польше; явное влияние политической географии на мозги, но чем ближе мы приближались к ее восточному краю, мне казалось, что страна вообще начинает исчезать. В конце концов, это был край света. Что бы там ни было. С точки зрения Запада, за Словакией уже ничего не было. Джи-Пи-Эсы там работать переставали. Навигационные спутники валились на землю. Смельчак, который высовывал голову за словацкую границу, всовывал ее в серую пустоту[169]. Единственное, что там могло быть, это грязь по самый горизонт. Элбония. Знаете, что такое Элбония? Это восточноевропейская страна из Дилберта. Каждый должен узнать Дилберта, ведь это один из самых известных американских еженедельных комиксов. И Элбония из этого Дилберта — это государство, от одной границы до другой покрытое грязью. Все ее обитатели — бородачи в кожухах и пастушеских шапках — бродят в этой грязи по пояс. Больше ничего в Элбонии нет. Грязь до горизонта и синее небо. Так вот, Закарпатье не желало быть частью Элбонии. Оно желало присоединиться к Центральной Европе. А чтобы это сделать, ей было необходимо объявить себя независимой от Украины. По крайней мере, именно так считали отцы закарпатской независимости.
А новости прозвучали вот какие: 5 декабря поп Иван[170], один из предводителей довольно-таки нескоординированного движения за независимость Закарпатья намеревался объявить независимость.
Тогда я собрал рюкзак, достал номера сепаратистов, договорился о том, что возьму у них интервью, и поехал. В Кракове уселся в поезд до Кошиц. В окно наблюдал польскую часть Галичины. Мы переехали через горы, и мир изменился. Будничность, как и пересечении любой границы, тут же сделала сальто вверх ногами. В поезд уселись молодые словаки: они брали с полок железнодорожные журналы и насмехались над польским языком. Хаос польских местечек, балаган вывесок и устройств сменил словацкий опрятный порядочек, а потом уже была автобусная остановка, и Кустурица. И теперь я уже ехал через восточную Словакию брать интервью у элбонских сепаратистов.
Шофер вел автобус даже вроде как и вежливо. Он боялся словацкой полиции. Это он сам мне так говорил, потому что я уселся сразу же за ним. Чисто от скуки. Читать было невозможно, поскольку чудовищно трясло, а Словакия исчезала, казалось, что сейчас исчезнет совершенно. Как вдруг, в каком-то малюсеньком цыганском селе, водила неожиданно сменил четвертую скорость на двойку, автобус ответил диким скрипом и свернул влево. Мы въехали на узенькую грунтовую дорогу, окруженную чем-то вроде трущоб — только настоящими трущобами они не были. Скажем так, это была довольно-таки трогательная ромская попытка подражать домам окружающих словаков и русинов. Потому что застройка местных деревушек обладает своим характерным, локальным стилем. И даже свежепостроенные дома походили на старые. И цыгане тоже так хотели. Если бы кто-либо сказал что-то нелестное относительно их попыток общественной интеграции в этом вихре на краю света — врал бы как сивый мерин. Они-то пытались, вот только у них до конца не выходило. Эти их дома были раза в два меньшими, чем дома «белых» жителей; неровными, все карнизики и остальные детальки были слеплены из цемента, а потом побелены. Их дворики представляли собой бассейны, заполненные грязью. Но они пробовали.
Никто, совершенно никто не удивился тому, что автобус въехал в цыганский поселок. Пассажиры — кроме меня — сплошные жители Украины, безразлично пялились в грязные окна. Три раза я спросил у водилы, что мы, в Бога душу мать, тут делаем, и все три раза он послал меня на… Отрекся, словно святой Петр от Иисуса. Дверь открылась и вовнутрь вошло несколько усатых худых типов с печальными, не знающими улыбки губами, словно у той глядящей вдаль Анны-Марьи[171]. С собой они тащили продолговатые упаковки в картонных ящиках, которые они затолкали нам под сидения. И под мое тоже. Я не знал, как спросить по-цыгански «Что я перевожу контрабандой?». По-словацки и по-русински тоже не знал. По-русски же не хотел. А даже если бы и хотел, то совершенно забыл, как переводится «контрабандно перевозить». Мужики обернулись еще пару раз, и все уже было готово. И никто ничего не сказал. Для всех пассажиров было — что можно было заметить невооруженным глазом — совершенно естественным, что подобным макаром они и сами становятся контрабандистами, и что в случае чего отправятся за решетку, ведь на каждой границе в свете устроено так: все, что находится под (или над) твоим сидением — то твое, и плач потом сколько влезет. Но ничего не поделаешь, правила поведения общества более важны, чем здравый рассудок, так что ни о чем я не спросил.
На границе, как и всегда, прошли века. Словацким таможенникам было по барабану, что мы вывозим, зато украинские, во всем блеске постсоветской, бюрократической назойливости, просмотрели, как кажется, каждую тряпочку в багаже пассажиров автобуса. Все пересмотрели, кроме упаковок под сидениями. Вот они по какой-то причине никого не интересовали. Уже успел наступить вечер, а потом и ночь. Таможенники курили и разговаривали о голодоморе тридцатых годов. Я же был, говоря откровенно, слегка удивлен. Я стоял и пялился на Луну, возле которой появилось крупное, белое пятно. Выглядело оно словно комета, готовящаяся столкнуться с Землей, как в начальных кадрах Меланхолии фон Триера[172]. Спустя какое-то время пузатый таможенник в огроменной фуражке и с настолько большими погонами, что если бы столкнуть его с девятиэтажки, он спланировал бы на них как на планере, посчитал, что помучил всех нас уже достаточно. Он отдал шоферу наши паспорта, вроде как пожал ему руку, и мы могли ехать дальше.
Точно так же, как после пересечения границы между Польшей и Украиной продолжалась ткань старой, австрийской Галичины, так и здесь продолжалась старая Венгрия. Но тут она была покрыта совершенно иным налетом. Проявлялось это, среди всего прочего, в том, что действительность рванула с места в карьер и сделалась гораздо более хаотичной. Пространство было гораздо более запущенным. У въезда в Ужгород стоял построенный из кирпича и выкрашенный в розовый цвет замок прямиком из Диснея. Автобус двигался, старательно объезжая дыры в асфальте.
Я же разглядывался по ночному Ужгороду. Для места, в котором с завтрашнего дня собирались объявить независимость, здесь было весьма даже спокойно[173]. Не видно было автомобилей, обвешанных национальными русинскими флагами. А ведь они должны были быть, раз уж готовится подобный цимес[174] и объявляется независимость. Так, по крайней мере, это всегда выглядит в телевизионных новостях.
А тут — ничего. Было темно, и лишь иногда что-то эту темноту пересекало: «лада» или новорусский внедорожник. Автобус подъехал к автовокзалу. Темнота и холод были столь же материальными, как патрули охранников в черных комбинезонах. К бетонной глыбе гостиницы «Закарпатье», что торчала воткнутой в мерзлую русинскую землю советским бунчуком, я шел среди серых блочных домов. Комья грязи замерзли и замечательно крошились под сапогами. Я прошел мимо того, что выглядело как киоск на жилмассиве, но, как оказалось, это была будка, в которой продавали иконы. Киоск с православной метафизикой. Я тоже считал, что это как раз то, что данный жилмассив срочно требует.
До меня быстро дошло, что у Ужгорода два центра. Один старый: низкие каменные домишки и даже целые венгерские цивилизаторские улицы. Венгерское пограничье, а при случае — попытка склепать некий европейский лайфстайл. Пабы и пивные, еще не совсем уклюжие, но возводимые. Женщины с химией на головах, в бесформенных тряпках, навьюченные покупками в пластиковых пакетах — то есть, общевосточноевропейская пейзажная доминанта — соблазнились хипстерским кофе в бумажных стаканчиках, и теперь они попивали его, робко опершись о высокий столик, выставленный перед дверью пивной.
И второй центр. Не столько советский, потому что тогда все имело, несмотря ни на что, какую-то форму, сколько постсоветский. То есть: совершенно безголовый, не имеющий смысла и формы. Гигантский перекресток, делящий город на четвертушки. С одной стороны — гигантский бетонный жилой массив, с другой — гостиница «Закарпатье», на третьей стороне — какой-то идиотский торговый центр, выглядящий словно НИЧТО, безуспешно пытающееся сформироваться в НЕЧТО.
После упадка коммунизма случилось нечто ужасное, что-то, сути чего мы еще не научились замечать. Перед эпохой социализма в нашей части света — то ли в Польше, Словакии, то ли в Украине или России — какая-то форма имелась. То ли навязанная внешними культурными центрами, то ли рожденная здесь внутри (хотя, что здесь внутри, а что наружи? — я не знал). В советские времена форма тоже была. Поначалу соцмодернизм, простое продолжение того, что существовало в междувоенный период, разве что накачанное, моментами, до размеров уже не людей, но некоей людской мегафауны. Примером могут стать те заебавшие рабочие, выбитые в камне или вылепленные из гипса на фронтонах общественных зданий.
Но в девяностые годы, когда все это грохнулось харей в грязь и разлетелось на тысячи кусочков, оказалось, что под низом ничего и нет. Никакой формы. Что мы не умеем строить, возводить, а только клепать. Выплевывать одно на другое, хамски захренячивать получившееся в общественное пространство и лепить с чем угодно.
И-эх, и что тут поделать…
А четвертая четверть вмещала в себе гигантскую церковь с куполами словно позолоченные луковицы, выросшие на некоем гиперудобрении. Церковь была выкрашена в черный, золотой и розовый цвета. Все вместе было таким громадным, настолько уродливым и несоответствующим старому, прелестному Ужгороду, что прямо плакать хотелось[175]. И вот как раз именно там принимал поп Иван.
Это вот старый центр Ужгорода, пост-венгерский… и четвертая четверть…
Я стоял на балконе гостиницы, курил. Глядел вниз, на «лады», «москвичи» и подрихтованные западные автомобили, снующие по перекрестку. Хотя уже сделалось темно, я решил, что визит попу Ивану нанесу еще сегодня.
Поп Иван, ничего не поделать, пиздел как Троцкий.
Когда я пришел, он как раз въезжал на церковное подворье на своем откормленном и блестящем черном «мерине». Выглядел он воплощением всех стереотипов о попах. Из своего мерина он вылез словно какой-то киношный бандюган. Дорогие часы и блестящие туфли. Элегантно подстриженная борода, волосы схвачены в хвостик. Было видно, что вся это пребывание на должности священника для него просто хороший бизнес. И мне было интересно, а не является ли его попадья молоденькой блондинкой со стоящими ракетами сиськами.
Поп забрал меня к себе в хату[176], где только деда с бабкой не хватало. И плакался при этом, что украинское государство гадкое и нехорошее, что они, русины — это соль земли, истинные европейцы, работящие и послушные, а вот украинцы — это все зло земли, лентяи и вообще. Доказывал, что Европа кончается на Карпатах, а русины как раз живут на Карпатах, так что они могли бы Европу защищать, почему бы и нет. В связи с чем, — вещал поп Иван — Европа обязана как можно скорее не только признать независимое Закарпатье, но и принять его в Союз. Потому что, если не сделает так, это будет означать, что Европа сама не верит в собственные идеалы, и вообще, что она — продажная курва.
— И что тогда? — спросил я.
— И тогда, ответил поп Иван, улыбаясь усмешкой Антони Мацеревича[177], - придется нам идти на поклон к Москве.
Из церкви я выходил убежденный в том, что мир, по которому лазят такие «чуды» как поп Иван, обречен на гибель.
В гостиничной пивной девицы изображали из себя холодных блядей, а их дружки — бандюков. Все они в своих ролях были настолько убедительными, что — тут я был уверен — действительно верили в эту блядскость и эту бандюковость.
На другой день, в одном из баров старого города я встретился с другим предводителем движения за независимость. Этот был дантистом, фамилия его была Сидорук[178], и он был крайне порядочным и печальным человеком. Встретиться со мной он договорился по центральноевропейскому времени, то есть, часом ранее, чем указывали все часы на территории Украины, потому что киевского времени он не признавал. Он и вправду родился с неправильной стороны линии Хантингтона[179]. — Киева от нас не видать, — печальным голосом пояснял он. — Карпаты заслоняют. Мы, — продолжал он, — являемся частью иного пространства. Словакия. Венгрия, — перечислял дантист. — Просто-напросто, мы еще одна маленькая центральноевропейская страна, которую кто-то и когда-то безжалостно пришил к чужой туше, — утверждал Сидорук, и, возможно, он был бы и прав, если бы та туша уже не пустила метастазы. Ведь поначалу СССР, а потом и Украина укрепились здесь крепко, очень даже крепко. Но я понимал Сидрука, как я его мог не понимать. А он говорил о том, что когда Гренландия желает отделиться от Дании, то датская королева приезжает в Нуук и благословляет сторонников независимости. Что, когда Шотландия уже не желает быть частью Великобритании, тогда премьер созывает специальную комиссию и вместе с шотландцами ломает голову над тем, как все это лучше провести. А у нас, — одной рукой Сидорук изобразил драматический жест, а второй вытащил из папки повестки в милицию и бросил их на стол. Действительно, мозги (и не только) ему полоскали регулярно.
С Сидоруком мы напивались в печальном стиле, заглатывали кофе с коньяком, глядя, как в окна стучит дождь, и как — очень, очень медленно — Центральная Европа возвращается туда, где ее место. Мы глядели на оставшиеся от Венгрии сецессионные каменные домики, на мост через реку Уж, на каменную набережную. Сидорук рассказывал, как следует пробуждать в людях национальное сознание, чтобы нагнать те сто пятьдесят лет разницы в процессе пробуждения между русинами и другими народами. Что следует делать так, чтобы русинскость ассоциировалась с центральноевропейскостью, а посредством этого — с западным цивилизационным выбором. Но говорил он все это без какой-либо уверенности.
Тем временем начало смеркаться, и я глядел, как заведение заполняется молодыми людьми. Половина из них одевалась «по-русски»: тренировочные брюки, фуражки и кожаные куртки. Вторую половину составляли те, что выглядели «под запад»: скейтовики, гранджеры, металлисты, имелись даже какие-то дредатые растаманы — ну и все возможные комбинации перечисленных выше.
Сидорук говорил меланхолично, усыпляюще, и чем больше он пил коньяку, тем более печальным казался.
От Сидорука я возвращался под сильным вяжущим действием кофе и разогретый коньячком. Перед киоском с иконами и православными предметами культа сидел мужик, служивший тут продавцом. Устроился он на нескольких продолговатых бетонных плитах (совершенно непонятного назначения). Сюда я уже приходил раньше, знал, что мужика зовут Василем и что родом он из Киева. Как из стольного града он очутился в Ужгороде — Василь говорить не желал, бурчал только лишь что-то о «каре божьей», о том, что следует «подчиняться воле Господа» и все такое прочее. То есть — как мне казалось — сделал ребенка, кому не следовало, или же устроил дебош на районе. В любом случае — сейчас Василь палил перед своим киоском костер. А был это — следует прибавить — самый центр города. Только разожженный Василем костер никого не удивлял. Люди шли мимо, мусора тоже должны были проезжать, потому что в нескольких метрах от Василя шла головная артерия Ужгорода. И никто не цеплялся. А что, сидит себе парень перед киоском, так может и костерчик запалить. Ведь декабрь же на дворе.
Я приостановился рядом. В голове шумело от спиртного, и в таком состоянии идти в гостиницу как-то не хотелось.
— Можно? — спросил я у Василя.
— Можно, — Василь чуточку сдвинулся, делая мне место на плитах. — Выпить чего-нибудь есть?
«Святой человек», подумал я в сердце своем, «воистину. Сразу же перешел к духовным потребностям».
— Есть, — ответил я и вытащил из-за пазухи бутылочку коньяку, которую на прощание подарил мне Сидорук. Василь взял бутылку в руку, присмотрелся к этикетке.
— Ссаки, — вздохнул он. — Ну да чего там. Он поднялся с места, прошел в свой киоск, после чего появился оттуда, неся в ладони два настоящих коньячных бокала, суженных кверху, чтобы собирать букет. Во второй его руке была салфетка. А в салфетке — порезанный лимон. Он разлил, вбросил по кусочку лимона — и мы чокнулись.
— Твое, — сказал он.
— Нет, — ответил я, — твое.
— Хорошо, — не стал возражать Василь. — Наше.
— Договорились, — согласился я, и мы отпили по глоточку.
— А вот что ты, Василь, — спросил я после минутки молчания, — думаешь о независимости Закарпатья?
— Какой еще, в пизду, независимости? — тяжко вздохнул Василь.
— Ну, — ответил я, — ты же сам говорил, что это поп Иван содержит этот киоск. Из церковных денег. Выходит, он твой работодатель. А он только про независимость говорит.
Василь поглядел на меня сочувственно, словно на деревенского дурачка.
— Знаешь, — сказал он. — Вы там на западе какие-то странные.
— Ну, знаю. И чем дальше на запад, тем более страньше..
— Я вас, бля, не понимаю. Вот почему для вас так важно, чтобы русские были отдельно, чтобы украинцы были отдельно, белорусы, чернорусы, я знаю, зеленорусы, дерьморусы, и сами русины тоже… почему?
Я пожал плечами.
— Не знаю, — сказал я. — Мне всегда казалось, что оно как-то само по себе, по причине… — снизил я голос. — Нет, не знаю, — ответил я в конце.
— Тогда я тебе скажу, — заявил Василь. — А потому что советский человек вам не нравится. В Югославии то же самое сделали. Была Югославия, хорошо было, так нет же — апять нужно было сделать хорватов, босняков, словенцев, черта самого. А было ведь хорошо! Интернационализм был! Отдельных народов не было, и было согласие! А ведь вы же сами, втихую, в этом вашем Европейском Союзе интернационализм вводите! Или как это оно: вы, славяне, деритесь с собой, кусайтесь, бейтесь как украинцы, белорусы или кто там — а сами, хоп: европейское сообщество, Евсоюз! Так как?!
— Хм, — ответил я.
— Сам ты «хмм», — ответил Василь.
На следующий день, выдудлив целую бутылку минералки без газа «Нафтуся», я отправился проводить полевые исследования. Для этой цели я выбрал стоянку такси, где из всех машин выбрал наиболее старую и раздолбанную, как всегда исходя из предположения, что именно она будет самой дешевой.
Таксиста звали Юрием, был он пожилым, бородатым украинцем родом из Трускавца. Он согласился провезти меня по всему Закарпатью за относительно небольшие деньги. Плюс газ, потому что его машина ездила на газе. Мы поехали заправиться. Вся эта его газовая установка выглядела не слишком надежно, и когда худой, печальный и усатый типчик заполнял пану Юрию резервуар, я просил, а не взорвется ли.
— Может и взорвется, кто ж его знает, — ответил пан Юрий.
— А часто взрываются? — допытывался я.
— Частенько, — покачал головой он.
От пана Юрия узнал, что нет никакого смысла не только отрывать Закарпатье от Украины, но было бы даже неплохо вообще присоединить к Украине Польшу.
— О, — только и мог я ответить, — нифига себе.
— Ну да, — говорил пан Юрий, ведя свою машину по самой средине шоссе, а вправо или влево съезжая только лишь в той ситуации, когда столкновение с едущими с противоположной стороны было просто неизбежным. — Ведь Польша была создана, как говорит само название, полянами, а поляне — это племя, тождественное другому племени полян, которое исторически проживало под Киевом. Я, дорогой мой, — пан Юрий ударил себя большим пальцем в грудь, — в Трускавце был учителем истории. Правда, нас заставляли преподавать другую историю, но лично я знаю, поскольку проводил исследования и пришел к собственным заключениям.
В селе, через которое мы как раз ехали, все надписи на магазине и домах были словацкими.
— Так вот, — провозглашал пан Юрий, — вся Польша обязана возвратиться в лоно Нэньки, а из поляков следует сделать национально осознанных украинцев, перекрещенных в истинную христианскую веру, которая, в свою очередь, порождена вторым, а не первым Римом. Унию с папством следует отбросить, после чего принять новую, только теперь уже на славянских принципах.
— «Хо-хо», — подумал я. — «Это уже сплошной пердимонокль!»
— Но это еще не конец, — продолжал пан Юрий. — После включения Польши в Нэньку, украинская славянщина будет объединена и получит доступ к портам Балтики, и — что очень важно — к германскому миру. Совместно, объединив силы с польской украинской стихией, мы прорубим себе дорогу к Северному морю, захватывая Гамбург (древний, славянский Гамоноград). Нашими так же станут Берлин (Копаница), Любек (Буковец), не говоря уже о столь очевидно славянских городах как Росток, Вышомир, Зверин, Липск, Дроздяны, Будишин, Хотебудов или Бела Вода[180].
Словацкое село закончилось. Мы ехали между покрытыми инеем декабрьских лужков. По холмам тянулись безлистые зимние виноградники. И было здесь так центральноевропейски, как только можно было себе представить.
— А в следующую очередь, — толкал речь пан Юрий, — необходимо провести работу по самоосознанию к югу от Карпат, присоединяя к большой украинской семье те народы, которые из украинской земли вышли, то есть, все остальные европейские славянские народы: чехов со словаками, которые, кстати, ничем иным не являются, как вытянутым в сторону Западной Европы щупальцем Украины, ведь это же языковый континуум, вот сами поглядите: украинский язык плавно переходит в русинский, русинский — в словацкий, а словацкий — в чешский. При случае, кстати, сейчас мы в русинском селе.
Я осмотрелся. Село как село. Низенькие домики, ограды, высохшие деревья и кусты: скелет той летней зелени, которая летом захватывает здесь все и вся.
— Остановитесь тут, пожалуйста, — попросил я. — Похожу, поспрашиваю.
На улице почти что никого не было. Только в магазине я напал на нескольких бабулек, которые при упоминании независимости перекрестились. Один мужик, который со смертной скукой курил у ворот, сказал, что независимость, оно, возможно, и нет, а вот к Венгрии присоединиться было бы неплохо.
— Там у них Орбан[181], - говорил он. — Си-ильный пан.
— А вы сами венгр? — спросил я.
— Лично я — нет, — ответил тот, — но сто лет назад все мы были венграми.
— А венгры, — спросил я еще, — где теперь живут в Закарпатье?
— А в соседнем селе, — указал тип шершавым пальцем на юго-запад.
— Хорватов мы должны заставить осознать, — продолжал пан Юрий, когда я вернулся в автомобиль и дал направление на венгерское село, — сербов, босняков, которых необходимо растурчить, македонцев и болгар. Ведь все они украинцы, все они из этой земли вышли. И не одни они. Все индоевропейцы из этой земли вышли, из Украины. То была их пра-отчизна, urheimat. И вот тогда, когда окруженные украинской стихией народы неславянской Центральной Европы отметят свое положение, они сами вспомнят о своих украинских корнях и обратятся к свойственной им тождественности. Австрияки и венгры припомнят, что на самом деле они являются — соответственно — германизированными и угро-финнизированными паннонскими славянами. А потом придет очередь и румын, которые вроде как потомки даков и разговаривают на варианте латыни, но настолько же пропитанной славянскими словами, что ее легко можно назвать «славянской латынью». Их тоже можно присоединить к пан-украинской империи, пускай и на принципах курьеза. А кроме того, они же признают греческое христианство, следовательно, в этой плоскости общий язык с ними найти будет можно. Их немножечко цивилизовать, и таким вот образом совершится символическое объединение старого Рима и Славянского Мира, который перенял его традиции и веру…
— Ну а Россия? — перебил я бывшего историка.
— Да, с Россией хлопоты, — согласился пан Юрий, — потому что, с одной стороны, москали — это наиболее культурные потомки украинцев, пускай и не до конца кровь от крови, ведь на самом деле они — ославяненные угро-финны. Оно, с одной стороны, здорово было бы расширить империю до Китая и Тихого океана, а с другой стороны, москали — они же такие хуи, что трудно себе и представить, — заявил он и прибавил газу.
— Нам хватит проблем с украинизацией всей Украины, — продолжил он через какое-то время, — чтобы еще долбаться с теми ёбаными кацапами.
— Ага, — сказал я. — Вижу, что своя рубашка ближе к телу. Это потому, что чехов и болгар будет легче украинизировать?
— Раньше или позднее нужно будет взять на себя труд украинизации России, — буркнул в ответ пан Юрий, — но пока что следует отделиться от них санитарным кордоном, чтобы кацапские кровь и культура не заразили нашей украинскости. Ампутация, — поучал он, заставляя водителя, который летел с противоположного направления, свернуть на обочину, чуть ли не юзом, — операция ужасная, но необходимая. Потому следует отсечь украинские, но зараженные москальской гангреной конечности: русифицировавшиеся части Родины. Именно потому необходимо отсечь русифицировавшийся Донбасс и Крым, и даже Одессу. К счастью, Украина, не так как несовершенные сыны человеческие — провозглашал пан Юрий, словно с амвона, — обладает возможностью регенерировать собственное тело. Когда она выздоровеет после кацапской коросты, у нее отрастет Крым, отрастут Буджак с Одессой, отрастут Заднепровье, Харьковщина, даже Кубань с Черкессией отрастут. Прирастет к ней вся святая Русь, независимо от того, будет это Москва, Русь Черная, Русь Белая или зауральские пустоши, — проповедовал пан Юрий. — Ага, — сказал он нормальным голосом, — а вот и венгерское село. Мы на месте.
На магазине была венгерская надпись латиницей. На кресте у церкви — тоже. Дома выглядели по-венгерски. И, собственно, всего этого должно бы было быть много, но как-то и не было. Потому что здесь чувствовалось пост-советскость. Именно она позорила центральноевропейскость, и — хотя я и пытался — мне никак не удавалось почувствовать себя здесь как в Центральной Европе.
— Гляньте-ка вон туда, — указал мне таксист какие-то крыши под красной черепицей, — там уже Венгрия.
— Венгрия, — бессознательно повторил я.
На мотоцикле приехала пара пареньков. На своей старой таратайке они припыркали на площадь перед церковью и остановились. Потом стали осматривать двигатель, громко разговаривая по-венгерски. Выглядели они как их ровесники отсюда, не из Венгрии.
— Парни, — спросил я у них по-русски, — вы хотели бы выехать в Венгрию?
Они подняли головы.
— Чего? — спросил один из них, курносый, с несколько выступающими зубами. — А нахуя?
— Не знаю, — ответил я. — Вы разговариваете по-венгерски, так я подумал, что вы хотите в Венгрию.
— Если бы я там родился, — ответил мне второй, подбоченясь, — так там бы и жил. А я там не родился, и это уже совсем другое дело. Что с того, что я венгр.
— Это из-за того, что ты венгр.
Парень рассмеялся, сплюнул на грязный, уже не центральноевропейский песок.
— Я другой венгр, чем тамошние. Мой отец получил от Орбана паспорт, поехал работать. Говорил — посижу годик, вызову вас. А вернулся через месяц. Ему говорили, что он русский. Так на кой хрен мне туда ехать?
— А здесь? — спросил я, имея в виду Тараса.
— А здесь я венгр, и это нифига никому не мешает, — пожал плечами паренек, после чего снова присел к двигателю.
Снова сделалось как-то по-центральноевропейски, а там, за рекой, в Венгрии — как бы и меньше.
Только все это было мимолетно. Настолько мимолетно, что, в принципе, мне уже хотелось его с себя стряхнуть, но не мог. Вместо того, я шел в направлении границы и все четче видел венгерские крыши, крыши истинных венгров, которые живут в истинной Венгрии, и у меня возникало все большее впечатление, что чем больше я приближаюсь к границе, тем крепче касаюсь того, что братья Вачовски назвали «ошибкой в Матрице».
14 Ориентализм
Постепенно мне становилось не о чем писать.
Украина начинала делаться попросту более раздражающей.
Например, Львов. Он все сильнее делался похожим на обычный польский город. Какими обычные польские города были еще несколько лет назад. Из него исчезла вся та пост-советская экзотика. Остались лишь дикий капитализм, бред уличной рекламы, ворчание баб в магазинах, хамство водил и милиционеров, неохватность, коррупция, вонь выхлопных газов и притворство, будто что-то делается для общества, в то время как если кто чего-то и делал, то делал это исключительно для себя.
Или же, возьмем Одессу. Она тоже не была уже той же самой. Я поехал туда, и мне тут же захотелось вернуться. Во всем городе негде было присесть. Лавки в парках оккупировали бездомные, а в центре — который весь был сейчас замалеван толстенным слоем краски — лавок попросту не было. Посидеть можно было только в заведениях с дорогим и очень паршиво сделанным фраппе. Или со столь дорогим пивом. В обязательном порядке — западном. Самое дешевое немецкое пиво здесь продавали по такой цене, что германский производитель, если бы узнал, от неловкости провалился бы сквозь землю. И все делали вид, будто бы принадлежат совершенно к иному миру, чем было на самом деле. Они радовались тому, что их мир меняется. Понятное дело, что я их понимал, ведь точно так же радовался тому, когда менялась Польша. И все так же радуюсь. Так что моя досада была подлой и эгоистичной, но я ее чувствовал, и это меня доставало еще сильнее.
В парке на траве тоже присесть было невозможно, поскольку трава была стерта полностью. Опять же — желтая и сухая. И все засрано собаками. Ну да, собаки. Каждая из них сама по себе, без поводка и намордника. И каждая здоровенная, что твой личный дракон. И охранники — здоровенные амбалы в черных комбинезонах, украшенных нашивками с какими-то скрещенными мечами, палками, ружьями — прогоняли.
В последний мой приезд в Одессу там как раз проходил кинофестиваль. Я сидел в какой-то из пивных на Дерибасовской, пил пиво и глядел, как сюда сползлись звезды украинских сериалов. А над ними роем мух носились папарацци.
Звездули расселись за окрестными столиками. Сразу же стало очень много тех отработанных жестов, наизусть выученного снятия очков, закидывания ноги на ногу. Сразу же сделалось скучно от всей той удовлетворенности бытия известным и узнаваемым. Обычные люди толпились на улице, за палисадничком, и фотографировали своими мобилками. Они глядели с восхищением и желанием, словно лизали мороженное через стекло.
Как вдруг в садик маршем вошел отряд американских моряков. Они приплыли в порт, и сегодня у них был выходной. И тут же завертелись вокруг звездулек. Нет, они понятия не имели, кто эти девицы. К ним отнеслись как к простейшему восточноевропейскому товару, который можно снять на какое-то время. И товар позволил американцам себя снять. Очень просто. А люди, стоявшие на улице, глядели на все это с такими минами, будто готовы были на месте блевануть. Они тут же попрятали свои смартфоны и разошлись по домам.
Или же город Хмельницкий, который был создан только лишь и исключительно для того, чтобы доставать. Хмельницкий был похож, скорее, на тюремный двор для прогулок, чем на город — столь же с удовольствием по нему прогуливался, и столь же дружелюбно он был к тебе настроен. Но ко всему можно было привыкнуть, так что к жизни в качестве наказания — наверное, тоже можно.
Во всей той крошащейся и обезоруживающей серо-буро-малиновости единственным красочным элементом были рекламы. Например — к одному совершенно разворованному дому присобачили огромную — где-то с метров десять на пятнадцать — простыню. И на ней напечатали фотку какой-то модной лагуны — пальмы, холмы, белый песок, девицы в бикини. Все это выглядело словно врата в какое-то иное измерение, пространственно-временная дыра, пронзающая нашу действительность насквозь.
Здесь можно было купаться в местном хардкоре, как купались в нем мы, бедные, пьяные придурки из искалеченной страны, которые радовались тому, что удалось найти еще большую калеку, чем у них самих.
Об этом я как-то сказал Тарасу. Тогда мы сидели в львовской пивнушке, стилизованной под землянку УПА, где при входе необходимо сказать: «Слава Украине!», а официанты носили бандеровские мундиры. К этому времени нам удалось вусмерть напоить какого-то доставучего работника польского посольства, который плакался, сколько это Польша делает для Украины, и какая Украина неблагодарная, и как она польскую добрую руку кусает. Мы упоили его так, что на выходе он надевал пальто на ноги, а по лестнице полз на четвереньках. Ну а при случае мы нажрались и сами.
— А ты был прав, Тарас, — говорил я. — Ничего здесь нет. Самая нормальная страна. Вот только хуево устроенная.
Тарас прищурился.
— Просто ты начал смотреть на Украину глазами украинца. А до этого — как? — на сафари сюда приезжал? Все это время?
— Бли-и-ин…
— Что, ориентализм, или как? Экзотика? Приезжал сюда как в зоопарк?
— Нет, — забычковал я сигарету в пепельнице и тут же прикурил новую. — Нет, — сказал я еще раз, все так же не зная, что сказать дальше. — Это меня интересует, — ответил я через какое-то время.
— А почему это тебя интересует?
— О, Господи, — а что еще я мог ответить? — Потому что интересно.
— Так что в этом интересного? В этом вечном бардаке? В бедности?
— Блин, ну, Тарас, — сказал я. — Таким образом все можно развалить, а это не так…
— Что, увидел в бедности экзотику, и она тебя заинтересовала?
— Бля, ну… человеку нужно чуточку… ориентализма, — попытался продолжить я. — Какого-то романтизма…
— Парень, — развалился Тарас на стуле. — Ты чего буровишь? Мы здесь живем, здесь наша действительность. У нас здесь свои страхи и свои надежды. И более того, мы, курва, должны эту действительность как-то пытаться полюбить, чтобы не свихнуться. Относиться к ней серьезно. Со всей серьезностью. Потому что другой у нас нет. А ты, мой, курва, польский друг, говоришь мне, что все это время глядел на меня и на моих земляков, на всю мою страну — как на обезьян в зверинце?
— Нет, неправда, — возразил я. — Это ты себя накручиваешь Так как, если кто-то интересуется Индией или Африкой, то, выходит, он стервятник, которому нравится поглядеть на людские страдания?
И уже выговаривая эти слова, мне хотелось так себя укусить в дурной язык, чтобы его откусить и выплюнуть.
— Африка? — медленно спросил Тарас. — Индия?
— Курва, — только и сказал я, — сминая окурок в пепельнице.
— А пытался ли ты и вправду чего-то понять? — Тарас и вправду накручивал себя. — Глядел ли ты вообще на нас, как на людей, или — нацелил лн на меня в обвиняющем жесте огонь своей сигареты, — просто насыщался этим своим Schadenfreude?
— Каким еще, курва, Schaden… — начал было я, но он меня перебил.
— Ты сам живешь в хуевой стране, более хуевой, чем другие страны по соседству. Но только не по сравнению с моей. И потому-то, жалкий ты уебок, ты приезжаешь сюда, чтобы почувствовать себя лучше?
— Где-то я уже это слышал, только…
— Что только? Только посчитал, что все клёво? Бля, этот весь твой пиздеж: «Украина похожа на Польшц, только еще сильнее»… Так вот оно в чем дело, ты, курва, напитывался тем, что другим еще хуже?
— Перестань пиздеть, Тарас, — ответил я, но тот уже бросил окурок в пепельницу и натягивал куртку. Затем вытащил бумажник и бросил на стол несколько банкнот. Гривны приземлились возле пустых рюмок.
— Держи, — сказал он. — Я угощаю. Спасибо тебе за этот вечер. Я понимаю, что для тебя это всего лишь смешные, ничего не стоящие бумажки, «Monopoly money». Только их, чтоб ты знал, тоже можно конвертировать в твердую валюту.
— Тарас, — усталым голосом попросил я. — Не выпендривайся. Садись.
— А, — услышал я в ответ, — ебись ты конем, полячок сраный. И знаешь, что меня бесит больше всего? Что весь, курва, так называемый интеллигентский Львов, ну ничего, а только «Польша», «Польша». Приятели Украины. Братья. А мы всего лишь фрайеры, и все. Пиздуй отсюда.
— А разве мы и вправду не…? — тихо я произнес ему в спину. — Ты же сам поляк! — выкрикнул я, когда Тарас уже выходил.
На другой день он не брал трубку. А у меня было похмелье. А вот сил как раз не было. На вечер у меня было уже договоренное интервью с лидером местных националистов; и я этого лидера в своей статье желал превратить в совершеннейшего паяца.
Но вместо того я взял такси на вокзал. Таксист носил клетчатую фуражку. Был он милым и разговорчивым. Мы проболтали всю дорогу до Шегини. И он крепко пожал мне руку. А мне было стыдно. Честное слово, я испытывал стыд. И чувствовал, что просто не заслуживаю того рукопожатия.
На пограничном переходе я показал пресс-удостоверение украинскому пограничнику, чтобы тот пропустил меня перед кавалькадой муравьев. Через украинцев я прошел быстро. На польском переходе я вошел в проход с надписью «Для граждан ЕС». И я глядел, как пограничники рядом, в проходе для тех, что хуже, для унтер-народов, издеваются над каким-то пожилым украинцем. Тот был седым, высоким, с элегантно подстриженной бородкой. Мужчина говорил, что он писатель, что в Кракове у него авторские встречи. Кстати, все это он говорил на безупречном польском языке. Но польские пограничники, двадцати-с-чем-то-там-летние недоумки, обращались к нему на «ты» и спрашивали, чего это он не едет продвигать свою книжку в Киев.
Я сжимал кулаки, и мне было стыдно.
Так сильно, блин, стыдно.
Примечание переводчика
И вот снова меня спрашивают: «И на кой ляд это тебе надо»?
Наверное, потому, что это то, что я могу сделать для Украины (как бы высоко это не звучало).
Я считаю, что установление таких вот мостиков между нашими народами — это очень важно.
Это и вправду сборник гонзо-репортажей. Но, думаю, он заставляет нас задуматься о нас: в Украине, в Польше, возможно, и в Российской федерации. Где-то смешно, где-то страшно, где-то стыдно. Но (надеюсь) после этого возникает вопрос: «Ну почему?» И ответ на этот непростой вопрос необходимо давать самому себе, и не ссылаться на власти, на евреев, на олигархов. М. Булгаков устами профессора Преображенского дал мудрый совет: «Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах».
Как раз эту разруху (кстати, и в своей голове) пытается показать нам автор.
Хотя, кто только нас не учил жить…
Земовит Щерек делает это неожиданно, смело, нахально — и при этом он учится жить сам, приобретая и теряя.
Я уже упоминал, что в прошлом году в свет вышел украинский перевод (нет, не мой). Мне же бы хотелось, чтобы с книжкой ознакомились гораздо более широкие массы читателей (благодаря библиотеке «Флибуста»).
По поводу непарламентских выражений: об этом я уже писал в послесловии к переводу другой книги Щерека, посвященной уже Польше (имеется в виду «Семерка»). Повторяться не стану. Отмечу только одно: Автор молодой человек, широко пользуется обычным для молодежи языком и молодежным сленгом.
И еще: кому-то не совсем нравится (не совсем удобно) пользоваться форматом. pdf. Но уж очень хотелось украсить книгу фотографиями. Поэтому сделаем так: я выставлю книгу в формате. pdf — с картинками и примечаниями; второй вариант —.doc — с примечаниями (оказывается, кое-кого они раздражают), и третий вариант — чистый перевод, as is. Надеюсь, что кто-то из умельцев — посетителей «Флибусты» сделает конвертацию в форматы для читалок. Заранее им большое спасибо.
И обещаю выставить перевод другой книги Земовита Щерека — «Семерка» тоже без картинок, в формате. doc.
Приятного чтения.
С уважением, Марченко Владимир, 2.12.2015.
Примечания
1
Польский культовый киноактер 30-х годов.
(обратно)2
Слово, придуманное автором (bojczyk), нечто среднее между «бойцом» и «мальчиком (хлопчиком)». Опять же, в русском языке имеется «бой-баба», а мужского соответствия нет. У нас таких хлопчиков зовут просто гопниками.
(обратно)3
«все потеряно, всему — хана» (нем.), «фатерланд» = родина (тоже нем.)
(обратно)4
По-украински: «Вiґор». Как видно по бутылке, выпускать его начали еще до массового распространения буквы «г с палочкой» (не «г на палочке»!).
(обратно)5
Вiґор — энергичность, решительность, бодрость. Украинско-русский словарь указать не могу, так как в Нэте не нашел. В академическом толковом словаре украинского языка в 11 томах (1970) этого слова нет. Перевод дается с английского «vigor» (vigour — ам.).
(обратно)6
Персонажи довоенного львовского радио, ведущие программ о Львове, разговаривавшие на «гваре львовской» — региональном говоре польского языка, распространённом среди жителей Львова. Его часто путают с так называемым «балаком» «батяров» (жаргоном уличных хулиганов Львова), с которым у неё было, однако много общего. Львовский польский говор возник во второй половине XIX века, когда польский субстрат испытал сильное влияние (в основном в лексике) со стороны немецкого языка (szpilać, sztajgować, tryngeld, waserwaga, zicher), идиш (szac, myszygine), украинского (hreczka, makitra, zahałom), русского (blatować, pacan, sztany, zerkało) и чешского языков (masny). Львовская гвара имела связи с другими галицкими говорами польского языка и краковской гварой. После 1945 года и массовой репатриации польских жителей Львова в Польшу гвара постепенно стала выходить из употребления в самом Львове, но употреблялась репатриантами в западных районах Польши. Щепцьо и Тоньцьо стали героями и пары довоенных польских музыкальных фильмов.
(обратно)7
Известна еще как «Марш львовских детей»: «Мрачным и дождливым днем, сверху, из Цитадели, рядами идут львовские дети, чтобы бродить по белу свету…» — -lviv.in.ua/pyat-pisen-pro-lviv-polskoyu-movoyu/
(обратно)8
А шпилька в тексте имеется… Познань — город, в котором, по сути, зародилась польская государственность. Но, с конца XVIII века Познаньское княжество вошло в состав Пруссии, а позже — Германии, и только с 1919 года вновь стало частью Польского государства. Вроцлав же вновь стал польским только в 1945 году. Зато Львов с 1939 года перестал быть польским…
(обратно)9
Настолько неоднозначное понятие, что нет смысла давать какое-либо пояснение. Смотрите сами, например /%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%80, выбирайте, кому чего по душе…
(обратно)10
Вы уже догадались: по-украински, а потом по-польски.
(обратно)11
Попурри из детского патриотического стишка: «Кто ты такой? Маленький поляк. Каков твой символ? Белый орел…» и призыва: «Гони, гони большевика!»
(обратно)12
Намек на распевную манеру разговора поляков с «Кресув Всхудних» — «восточных украин», тех земель, которые раньше принадлежали Польше: Галичины (Восточной Галиции) и Подолии.
(обратно)13
Как уже упоминалось выше, пан Юрий знает польский язык не ахти. Русские слова в его речи выделены наклонным шрифтом.
(обратно)14
Stowarzyszenie Polskich Wlaściceli Polskich Mieszkań Pod Wynajem Dla Polskich Turystów Przyjeżdżających Na Lwowską Ziemię — eSPeWuPeeMPeWuDePeTePeeNeLZet
(обратно)15
Ныне улица Дорошенко.
(обратно)16
Всегда верен, жизненно важный вопрос (ломаная латынь, нужно было «vitalis»).
(обратно)17
Чудовище из польского фольклора. См. первый рассказ про Геральта Анджея Сапковского (вот не хочется писать «Ведьмак», так ведь все уже привыкли).
(обратно)18
Правильнее: «Бал „У ветеранов“».
Ныне бал «У Ветеранов» Каждый знает тех панов Потому что там по воскресеньям Веселья полно…Пивная с народным названием «У Ветеранов» располагалась на рубеже XIX и XX веков в двухэтажном здании на углу современных улиц Кониского и Туган-Барановського. Тогда улица Кониського называлась Охоронок, она носила это название с 1871 года, потому что здесь учредили один из первых во Львове детских садиков, которые тогда называли охоронками или захоронками. Пансион императорско-королевского корпуса военных ветеранов находился под патронатом Армии. Общество ветеранов объединяло заслуженных офицеров и унтер-офицеров, которые вышли в отставку и носили специальные мундиры. Популярностью пользовались проводившиеся здесь ежевоскресные пирушки, на которые собирались воины, торговцы, ремесленники, рабочие, служащие, студенты, батяры и проститутки. —
(обратно)19
Про батяров можно писать и писать. Посмотрите, хотя бы, здесь:
(обратно)20
Ян Химильсбах, польский актер, снимавшийся в возрасте 83 лет (умер в 1983 г.). Ну и что, Зельдин выступает и в театре, и в кино, а ему уже за сто…!
(обратно)21
Перевод нужен? «А в полночь появились какие-то два гражданских. Рожи поцарапанные, волосы космами…» (…) «Никого не уболтали, только морды били…»
(обратно)22
Забыл, забыл Щерек украинскую валюту. Синие — это пятерки с Богданом Хмельницким. Двушки-Мудрые — коричневые.
(обратно)23
Кази́меж Де́йна (польск. Kazimierz Deyna; 23 октября 1947 — 1 сентября 1989) — польский футболист, один из лучших бомбардиров в мировом футболе. В 1969 и 1970 годах стал чемпионом Польши в составе «Легии».
(обратно)24
Бру́но Шульц (польск. Bruno Schulz, 1892–1942) — еврейский художник и мастер польского слова. Сборники новелл Шульца «Коричные лавки» и «Санатория под клепсидрой» считаются шедеврами европейской литературы XX века.
Бруно Шульц родился 12 июля 1892 года в украинском городе Дрогобыч. В 1914–1915 годах учился живописи в Вене. Автор повестей в новеллах «Коричные лавки» (1934) и «Санатория под клепсидрой» (1937). Кстати, в названии непередаваемая мрачная игра слов: klepsidra по-польски и «водяные часы», и «листок с публичным извещением о смерти». На flibusta.is имеются качественные переводы на русском и украинском языках.
Его тексты, в которых повседневная жизнь маленького провинциального городка становится фантастической притчей о судьбах мира, перенесены на театральную сцену («Умерший класс» Тадеуша Кантора), экранизированы («Санатория под клепсидрой» Войцеха Хаса), стали основой анимационных фильмов («Улица Крокодилов» Стивена и Тимоти Куай, 1996), музыкальных произведений (опера Дж. Вулрича «Улица Крокодилов»).
30 июня 1941 года немецкие войска оккупировали Дрогобыч. Шульц был застрелен гестаповцем на улице дрогобычского гетто 19 ноября 1942 года. Ряд его литературных произведений и практически вся живопись утрачены.
В Дрогобыче действует музей Бруно Шульца. В начале 2001 были обнаружены фрески, которые Шульц в 1941–1942 выполнил для гауптшарфюрера Феликса Ландау на вилле последнего в Дрогобыче. В мае 2001 три фрески были сняты сотрудниками центра «Яд ва-Шем» и нелегально вывезены за пределы Украины, остальные выставлены в Дрогобыче и являются одной из главных достопримечательностей города.
(обратно)25
Боле́слав Ле́сьмян (Лешьмян) (настоящая фамилия Лесман, польск. Bolesław Leśmian; 22 января 1877, Варшава — 7 ноября 1937, там же) — польский поэт еврейского происхождения, писавший на польском и русском языках. Член Польской Академии Литературы.
Один из самых нехарактерных и оригинальных авторов начала XX века. Литературовед Пётр Лопушанский условно разделил творческий путь Лесьмяна на четыре периода:
— символистско-импрессионистический (1895–1901)
— парнасский (1901–1910)
— открытие и кристаллизация собственной поэтики: витализм, влияние идей Бергсона (1910–1928)
— экзистенциализм (1929–1937).
В произведениях Лесьмяна вещи, мысли, явления начинают жить собственной жизнью, реальный мир постепенно растворяется в мифическом. На основе славянских мифов создал свой, фантастический ландшафт. Имеются переводы на русский язык.
(обратно)26
«Дода-Электрода», она же Дорота Рабчевска — польская певица и самая скандальная VIP-персона. Начинала она — как простая участница польского реалити-шоу «Бар» (нечто вроде нашего «За стеклом-2: Последний бифштекс»). Можно сказать, что она — Водонаева, сделавшая из себя Собчак. —
(обратно)27
Стани́слав Игна́ций Витке́вич (польск. Stanisław Ignacy Witkiewicz, псевдоним — Витка́ций, Виткацы, польск. Witkacy; 24 февраля 1885, Варшава, Польша — 18 сентября 1939, Великие Озёра, ныне Ровненской области, Украина) — польский писатель, художник и философ. В 1930-е годы творчески экспериментировал с наркотиками, в частности употреблял мексиканский пейотль. Полтора десятка лет, оказавшихся последними, были для Виткевича временем чрезвычайного творческого подъема, даже своего рода взрыва. Вместе с Бруно Шульцем и Витольдом Гомбровичем Виткаций обозначил передний край художественно-литературных поисков в Польше межвоенного двадцатилетия.
После вторжения в Польшу войск Германии и СССР Виткевич покончил жизнь самоубийством.
Художественное творчество Виткацы трудно классифицировать, но наиболее близко он подходит к экспрессионизму, нередко его сближают с сюрреализмом. Во многом его творчество близко духу Кафки, хотя без явного пессимизма. Можно считать Виткевича предшественником театра абсурда. Его произведения отличала не только странность и изощрённость, но и стремление отразить новые реалии, новые подходы науки и техники, их воздействие на образ человека. Очень популярен в определенных молодежных кругах Польши, как у нас Даниил Хармс. — Википедия + Прим. перевод.
(обратно)28
Здесь и далее фрагменты из рассказа «Улица Крокодилов» из сборника «Коричные лавки», перевод А. И. Эппель.
(обратно)29
Софья Налковская (польск. Zofia Nałkowska, 10 ноября 1884, Варшава — 17 декабря 1954, там же) — польская писательница, журналистка, публицист и драматург. Лауреат Государственной премии ПНР (1953).
(обратно)30
В оригинале: «wobec», «ponabijać», «zadupie» — трудно сказать, чтобы эти слова входили в набор высокого польского литературного штиля, но большинство поляков эти слова уже не употребляет., они для них слишком литературные. Разве что последнее, если вспомнить значение слова «dupa»…
(обратно)31
Прозрачные намеки на книги Дж. Керуака… А кем был Керуак? Битником. Отсюда и название главки.
(обратно)32
Да, именно так поляки называют наше Мукачево. По-венгерски город назывался Мункач (Munkács), русины — Мукачово, а поляки по-своему назвали его Мункачево (Munkaczewo). Но дальше город я стану называть так, как указано в наших атласах.
(обратно)33
Польский журналист и репортер, связанный с «Газэтой Выборчей». Автор нескольких книг репортажей, в основном — о России и странах бывшего СССР. Наиболее известна «Белая горячка» (2009, укр. перевод — 2012). «Белая горячка» — это репортажи из мира социальных низов бывшего СССР. Автор путешествует по Москве, азиатской части России, по Донбассу, Крыму, Приднестровью, погружаясь на самое дно человеческих жизней.
(обратно)34
Кладбище защитников Львова (польск. Cmentarz Obrońców Lwowa, Cmentarz Orląt Lwowskieh) — воинское захоронение во Львове, составляющее часть Лычаковского кладбища, на котором похоронены польские защитники Львова, павшие в ходе Польско-украинской войны (1918−1919) в боях против подразделений Западно-Украинской народной республики.
Часто называется Кладбищем или Мемориалом львовских орлят по героическому наименованию молодых польских ополченцев (в том числе, подростков): «львовские орлята», с оружием в руках принимавших участие в обороне города, в том числе, занимавшими оборону непосредственно на Лычаковском кладбище, где многие из них погибли и похоронены. Сам пантеон был возведен поляками еще в 30-х годах прошлого века. Однако в 1971 году советские власти приняли решение о снесении пантеона, что и было выполнено в короткие сроки несколькими танками. Еще в середине 90-х годов, тогдашний Президент Украины Леонид Кучма пообещал своему польскому коллеге Александру Квасьневскому сделать все необходимое для восстановления мемориала. Однако долгие дебаты в Львовском городском совете о необходимости ликвидации символов милитаризма, размещенных на некоторых памятниках, не позволили это быстро сделать. Монумент польским орлятам был торжественно открыт только в 2005 году.
(обратно)35
Маюскул, маюскульное письмо — алфавитное письмо, состоящее из прописных букв, то есть из букв, начертание которых мысленно укладывается в две горизонтальные линии. Маюскульным было древнее греческое и латинское эпиграфическое письмо. Маюскульные цифры — обычные цифры, равные по размеру заглавной букве, окончательно закрепились в типографской традиции в XIX веке.
Минускул, минускульное письмо (от лат. minusculus — маленький) — алфавитное письмо, состоящее из строчных букв, то есть из букв, начертание которых мысленно укладывается в четыре горизонтальные линии (две внутренние линии ограничивают «тело» буквы, две внешние — её оси и «хвосты»). Минускульное письмо возникло во II в. в латинском рукописном письме, с III в. получило широкое распространение, вытеснив маюскульное письмо. Греческое минускульное письмо пришло на замену унциальному письму в IX–X веках, использовалось, до образования современной формы греческих букв.
(обратно)36
Игровой автомат, в котором, управляя «битами», нужно как можно дольше удержать на игровом поле металлический шарик, за что насчитываются очки.
(обратно)37
Удай и Кусай, так звали сыновей Саддама Хуссейна.
(обратно)38
Стили современной музыки, требующие слишком много места в ссылках для объяснения. Переводчик еще согласен, что Удай с Кусаем могли слушать «эмбиент» (в стиле последних работ «Тэнджерин Дрим» или Клауса Шульце), но вот в отношении другтх стилей сомневается, так как, к примеру, джангл = драм энд басс…
(обратно)39
Алеха́ндро Ходоро́вски Прулья́нски (исп. Alejandro Jodorowsky Prullansky; род. 7 февраля 1929, Токопилья, Чили) — актёр, режиссёр, продюсер, композитор, драматург, мим, писатель, автор комиксов и психотерапевт. Особенно известен своими эзотерическими, сюрреалистическими и шокирующими фильмами, а также рядом комиксов. Кроме того, он — спиритуалист, придерживающийся течений нью-эйдж и дзэн, и один из ведущих мировых исследователей Таро. С конца 1990-х годов большое внимание уделял разработке психотерапевтической методики под названием психомагия, нацеленной на излечение от психологических травм, полученных на ранних стадиях жизни.
(обратно)40
Пьер Па́оло Пазоли́ни (итал. Pier Paolo Pasolini; 5 марта 1922, Болонья, Италия — 2 ноября 1975, Остия, Италия) — итальянский кинорежиссёр, поэт и прозаик. По своим политическим взглядам являлся марксистом и коммунистом, что находило отражение в его литературных и кинематографических творениях, в которых он с антибуржуазных позиций высказывался на темы политики, религии и идеологии, эпатируя публику оригинальными прочтениями классических мифов и сочетая марксизм с учением Христа и человеческой сексуальностью в самых разнообразных и неожиданных её проявлениях. Знаменитые фильмы: Евангелие от Матфея (1964), Средневековая трилогия (Декамерон (1971), Кентерберийские рассказы (1972), Цветок 1001 ночи (1974)). Убит неофашистами.
(обратно)41
Здесь «кислота» никак не связана с уксусом или лимонной кислотой, но ЛСД и ее производные (кстати, наркотиками не считающиеся, так как не приводят к привыканию, в отличие от того же кофе), а «trip» — состояние наркотического «отъезда».
(обратно)42
Лица, незаконно захватывающие помещения, чаще всего, для проживания, но, как видите, еще и для эксплуатации.
(обратно)43
Во Львове жил и работал Станислав Улам (1909–1984) — известный математик, выпускник и доктор технических наук львовской Политехники, ученик Стефана Банаха, который в 1932 году выехал в США, где участвовал в создании водородной бомбы. А вот и сам стишок (): Niejaki Ulam ze Lwowa, stworzył bombę wodorową, zamiast po polsku wódkorową — Некий Улам из Львова создал водородную бомбу, вместо того, чтобы по-польски: водкородную.
(обратно)44
Мари́я Юзефовна Конопни́цкая (польск. Maria Konopnicka; 23 мая 1842, Сувалки — 8 октября 1910, Львов) — польская писательница; поэт, новеллистка, литературный критик и публицист, автор произведений для детей и юношества. В 1908 году написала патриотическое стихотворение «Клятва» (польск. Rota), которое быстро стало популярным в Польше; до 1918 года оно было гимном польских скаутов и позднее рассматривалось в качестве возможного гимна Польши, а также бывшего гимном Срединной Литвы.
(обратно)45
Имеются в виду участники польского январского восстания 1863 года.
(обратно)46
В оригинале Автор называет их «żul-punki»; «żul» — по-польски это «хулиган», «жулик»; «punk» — «панк». У переводчика получились «хулипанки».
(обратно)47
Панорамикс — друид галльской деревни (из серии комиксов, мультфильмов, фильмов про Астерикса и Обеликса), для которой он готовит волшебный напиток (под тем же названием). Этот напиток дает исключительную силу в течение некоторого времени для того, кто его выпил.
Что касается волшебного зелья, его состав находится в строгом секрете. Известно лишь несколько ключевых ингредиентов:
рок нефти (то есть нефть), но свекольный сок может заменить нефть; рыба; омары; омела; клубника; мед; морковь; слюна
летучей мыши и др. Можете себе представить, из чего делали панорамикс хулипанки?! Тем более: двойного замачивания!
(обратно)48
Интернациональная этно-панк-балкан-раздолбай группа из США. Рекомендую, хотя в последнее время они притихли.
(обратно)49
Цитата из самого начала «Пана Тадеуша» Адама Мицкевича: Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych; Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem; Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała..
(обратно)50
В чем тут смысл? — неясно. Не нашлось никаких ни исторических личностей, ни литературных персонажей…
(обратно)51
Нет такой буквы в алфавите. То есть, нет такого сайта…
(обратно)52
Слово «городище» имеет совершенно иной смысл и используется в исторической литературе.
(обратно)53
Слоновьей болезнью.
(обратно)54
Выше Автор называет эту же пивную «Под зеленой бутылкой» («Pod zieloną butelką»). В Нэте во всем Львове нашлось только кафе «Під синьою фляжкою» (вул. Руська 4). Из «Зеленого» нашлось только кафе-паб «Під зеленими горбами», «Зелений дворик». Возможно, беседа с Тарасом происходила в виртуальном пространстве…
(обратно)55
Здесь приведен пример истинно среднеевропейской надписи: ни по-чешски, ни по-польски, через пень колоду, зато «па-еврапейскиии»… А «пляшка червоного вина» — это «бутылка красного вина».
(обратно)56
«Боже помоги, Боже сохрани», гимн Австро-Венгерской Империи.
(обратно)57
Фриу́льский язык (фриульск. lenghe furlane, furlan) — романский язык, распространенный на территории северо-восточной Италии, язык фриулов.
(обратно)58
Разде́лы Ре́чи Посполи́той (польск. Rozbiory Rzeczpospolitej или Разделы Польши польск. Rozbiory Polski) — раздел территории польско-литовского государства (Речи Посполитой) между Прусским королевством, Российской империей и Австрийской монархией в конце XVIII века (1772–1795).
Первый раздел произошёл в 1772 году, второй — 23 января 1793 года, третий — 24 октября 1795 года.
(обратно)59
В словаре современного городского польского сленга () есть еще два значения: «буц» (buc) третье: малоразговорчивый человек, а вот первое: В окрестностях Кракова определение столь же оскорбительное (собственно говоря, синоним), что и «хуй», в особенности, по отношению к кому-либо.
(обратно)60
Для не знающих «соловйинойи мовы» (соловьиного языка): «А Киев?! … Это был город-мечта, вы такого никогда бы не построили! Вашему Болеславу нужно было его завоёвывать…»
(обратно)61
Волы́нская резня́ (польск. Rzeź wołyńska) (Волынская трагедия укр. Волинська трагедія, польск. Tragedia Wołynia) — массовое уничтожение Украинской повстанческой армией-ОУН(б) этнического польского гражданского населения и, в меньших масштабах, гражданских лиц других национальностей, включая украинцев, на территории Волыни, до сентября 1939 находившейся под управлением Польши, начатое в марте 1943 года и достигшее пика в июле того же года. Ответные действия польской стороны, начатые с конца лета 1943 года, привели к значительным жертвам среди украинского гражданского населения.
(обратно)62
Kwas по-польски = кислота. Игры с квасом и кислотой нужны переводчику, чтобы сохранить игру слов в оригинале.
(обратно)63
Ссылка на роман «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» Хантера С. Томсона. Хантер родился в 1937 году, и стал известен благодаря своему взрывному и одновременно комическому стилю в 60-х. Наиболее популярными работами стали «Страх и ненависть в Лас-Вегасе: Дикое путешествие в Сердце Американской Мечты» (1973 г), «Цена рома» и «Ангелы ада» (1966 г). Благодаря книгам он заработал образ дико-живущего, много пьющего и обдолбанного ЛСД-шного писателя, помешанного на саморазрушении. В мировой культуре Томпсон известен как основатель нового направления — «гонзо-журналистики», чем-то схожего с жанром журналистского расследования, но которое предполагает активное участие самого автора в событиях, описываемых в книге, делает его зачастую главным героем повествования.
Если вы заметили (или уже догадались), Щерек подражает в своем творчестве Томсону, считая «Мордор…» (да и последующую «Семерку») тоже «гонзо-книгами». Саму же книгу «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» можно почитать, зайдя, хотя бы, по адресу
(обратно)64
Трюи́зм (труизм) (англ. truism от true верный, правильный) — общеизвестная, избитая истина, банальность[1]. Трюизмом считают нечто, что не может подвергаться сомнению и настолько очевидно, что упоминается лишь как напоминание, либо как риторическое или литературное высказывание.
(обратно)65
«Самоубийцы. История любви», фильм 2006 года, производство США, Великобритания, режиссер Горан Дукич.
(обратно)66
Малопо́льское воево́дство (польск. Województwo małopolskie) — воеводство, расположенное на юге Польши. Центр — Краков. Крупнейшие города воеводства — Тарнув, Новы-Сонч, Новы-Тарг, Закопане.
Великопольское воеводство (польск. Województwo wielkopolskie) — воеводство, расположенное на западе Польши. Административным центром и крупнейшим городом является город Познань.
Не совсем корректно, но можно было бы использовать ассоциацию «Малороссия» — «Великая Россия».
(обратно)67
Вообше-то, скансен — это первый в мире этнографический музей под открытым небом в центре Стокгольма, где собраны дома и постройки с различных концов Швеции и даже целые комплексы, как, например, кузница, мастерская стеклодува, или пекарня. Открыт в 1891 году. Если же говорить шире, скансен — это место где собраны элементы традиционной культуры какого-то народа из разных уголков страны: тут и домики, и ремесла, и разнообразные растения, и мастерские с народными умельцами, и кухня с традиционными блюдами. Пример украинского скансена: Пирогово под Киевом.
(обратно)68
Скорее всего, Тарас имел в виду готтентотов, народность из юга Африки. Тогда надо «готтентотскость».
(обратно)69
В оригинале Автор называет этот образец «севрским» («wzór sevreski»). Переводчик, положа руку на сердце, признается, что понятия не имеет, зачем здесь употреблено прилагательное «севрский».
(обратно)70
Сельская, деревенская, сельскохозяйственная страна (от англ. rural).
(обратно)71
Чесслово, именно так по-польски и написано: Antyniwka.
(обратно)72
Даже абсолютно не знающие польского языка люди прекрасно понимают, что такое «dupa».
(обратно)73
Такая вот придуманная страна, Какания, осколок Австро-Венгерской империи («Cekania» — от прилагательного cesarsko-królewski, кайзерско-королевский (пол.), ведь император Австро-Венгрии был одновременно и императором (кайзером) Австрии, и королем Венгрии). Именно в Какании происходит действие книги Роберта Музиля «Человек без свойств» . Конечно, по правилам русского языка, ее следовало бы называть Имканией…
(обратно)74
Венский сецессион (нем. Wiener Secession/Sezession) — объединение венских художников в эпоху Fin de siècle (ар нуво). Благодаря ему венский вариант югендстиля (моде́рн, югендстиль— художественное направление в искусстве, наиболее распространённое в последней декаде XIX — начале XX века (до начала Первой мировой войны). Его отличительными особенностями является отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий, интерес к новым технологиям (например, в архитектуре), расцвет прикладного искусства) также называют Венским сецессионом.
(обратно)75
В Польше обычная недорогая столовка называется «bar mleczny» (дословно: «молочный бар»). А чего, вполне нормальные точки общественного питания, особенно в Кракове…
(обратно)76
Конечно же вы правы. На картинках был обычный олень. Марал взялся из «Неоконченной пьесы…» Но в оригинале олень тоже издает брачный рев!
(обратно)77
То, что это названия песен «Битлз» — это понятно. Со «Свиньями», думаю, тоже понятно. А вот с прото-панковской «Helter Skelter» дело уже непростое. В изданном в 1992 году издательством «Радуга» сборнике «The Beatles Songbook» на стр. 325 написано: «helter skelter — спиральная горка для катания, аттракцион». В «Википедии» значение термина не дано, зато песню назвали «прото-металлом». «9 августа 1969 года о ней (о песне) внезапно заговорил весь мир: выяснилось, что название песни (с ошибкой: Healter Skelter) убийцы кровью написали на стенах особняка на Беверли-Хиллз. Чарльз Мэнсон заявил на суде о том, что именно она вдохновила его на убийство пятерых обитателей особняка на Беверли-Хиллз, в числе которых была актриса Шэрон Тейт.» (из той же статьи Википедии). В Викисловаре уже дают перевод: «кавардак, суматоха». Судя по настроению Тараса, написавшего эти слова, я бы перевел их как «Полный пердимонокль» или вообще: «П….ц» (всуе переводчики употреблять мат не должны).
(обратно)78
Syrobrzyccy
(обратно)79
Несмотря на наличие на крупномасштабной карте Коломыйского района Ивано-Франковской области населенных пунктов с такими замечательными названиями как Саджавка, Старий Гвiздець, Верхнiц Вербiж, Пядики и т. д., населенного пункта (села, поселка, пгт) Ропушинэць (Ропушинець — укр.) не нашлось. А если учесть, что с польского это название можно перевести как Ропуха (жаба) + пушытыся (задаваться) (чуть ли не Жабокрычи из давнего кинофильма), можно предположить, что Автор данный населенный пункт придумал. Но тогда в душе начинает шевелиться сомнение: а не придумал ли Он и все остальное в этой замечательной книжке?… И, как потом делается ясно…
(обратно)80
Американский стаффордширский терьер (hoffungs krieg) — порода собак, выведенная в США. В литературе по собаководству иногда встречается сокращённое наименование породы — амстафф.
(обратно)81
Маппеты (англ. the Muppets) — семейство кукольных персонажей, созданных Джимом Хенсоном с 1954 года (изначально для кукольного шоу Sam and Friends, затем для Улицы Сезам и других). Термин часто применяется и к другим куклам, выполненным в стиле Маппет-шоу.
Впервые слово «Muppet» было употреблено в 1956, и, видимо, образовано из слов Marionette и puppet (марионетка и кукла).
На вид (если кто не видел этих передач или фильмов), нечто среднее между обезьянами, поросятами и лягушками.
(обратно)82
Зашоренный, невежливый, глупый ксёндз (katabas).
(обратно)83
Хи́пстер, хипстеры (для молодежи — инди-киды) — появившийся в США в 1940-х годах термин, образованный от жаргонного «to be hip», что переводится приблизительно как «быть в теме», «быть на топе» (отсюда же и «хиппи»). Слово это первоначально означало представителя особой субкультуры, сформировавшейся в среде поклонников джазовой музыки; в наше время обычно употребляется в смысле «обеспеченная городская молодёжь, интересующаяся элитарной зарубежной культурой и искусством, модой, альтернативной музыкой и инди-роком, артхаусным кино, современной литературой и т. п.».
(обратно)84
Рынграф (ryngraf) — горжет, металлический щиток с изображением, чаще всего, религиозного содержания, который рыцари носили на шее.
(обратно)85
Злорадство (нем.). Но вот Гугль-переводчик утверждает, будто это «ликование». Так что поостерегитесь пользоваться.
(обратно)86
См. сноску 61.
(обратно)87
Poncki. Конечно, по-русски нужно было бы писать как «Понтийский» (ясен перец, намек на Понтия Пилата). Но вот известно ли Автору, что «Понт» — это Понт (др. — греч. Πόντος, лат. Pontоs, арм. Պոնտոս, груз. პონტო) — северо-восточная область Малой Азии, на севере примыкавшая к Понту Эвксинскому (др. — греч. Εὔξενος Πόντος, лат. Pontos Euxinus) — Гостеприимному морю, ныне Чёрному морю, и что в ней имелись свои республика, царства и цари…
(обратно)88
Что, еще и этого объяснять? Лучше скачайте и посмотрите «Подземелье» или «Черную кошку…»
(обратно)89
Для особо занудных: во Львове имеется улица Липинского, а декокт — это устаревшее наименование лечебного отвара.
(обратно)90
А знаете, как Буджак по-польски пишется и произносится? Budziak — Будзяк (почти «будяк» — или «пи-и-иво»).
(обратно)91
Словечко, придуманное Автором: смесь «rural» — сельский, деревенский + «раритет».
(обратно)92
Не знаю, почему, но Автор везде пишет эти слова как «prowadnica», «prowadnik». В польском языке слово «prowadnica» означает «проводник тока», «стержень из токопроводящего материала», «направляющая (для чего-либо)». Наши железнодорожные «проводница», «проводник» — это «przewodniczka», «przewodnik».
(обратно)93
Французы хвастают, что играют в трик-трак с XV века, но вот на востоке считают, что нарды (шеш-беш, коша, тавла, по-английски — бэкгаммон) были изобретены в Персии еще в III тысячелетии до н. э., и что даже индийцы, изобретатели шахмат, не смогли понять эту игру и научиться в нее играть… «Восток — дело тонкое» ©.
(обратно)94
Определение слова «ламер» взято вот отсюда: /%EB%E0%EC%E5%F0: Ламер (от пиндосск. lame — хромой, калечный; от исп. lamér — лизать, (реже) ягненок, что тоже как бы намекает; в переводе с недословного жаргона — унылый, или также — «криворукий» (комп. сленг)) — человек, абсолютно некомпетентный в той или иной сфере, обычно в компьютерной, но твёрдо уверенный в обратном и не предпринимающий абсолютно никаких попыток что-нибудь узнать.
Альтернативные варианты определения:
Чайник — не знает, но хотел бы узнать; ламер не знает и знать не хочет.
Ламер — это чайник, который думает, что он — хакер.
Ламер — это чайник со свистком.
Чайник — это тот, кто всегда наступает на грабли, а ламер это тот, кто думает, что никогда не наступит на грабли, но наступает на них чаще, чем чайник.
Обычно термин используется хацкерами, геймерами и другими продвинутыми компьютерными любителями. При этом редко используется компьютерными профессионалами, не считая админов и прочего IT-персонала.
У программистов, например, для обозначения подобных личностей есть свои термины: «идиот», «dummy», «stupid», «дурак», etc, которые, что характерно, негативной окраски почти не несут. Есть ещё code monkey и его аналоги, но у них другой смысл.
Во времена расцвета DOOM — противоположность Думеру. И, наконец, замечательный афоризм: «Есть 2 типа людей: чайники и ламеры. Из первых вырастают гуру, а вторые так и остаются ламерами».
(обратно)95
IKEA («ИКЕА», также иногда произносят как «Икея») — нидерландская производственно-торговая компания (имеет шведские корни), владелец одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. Полное наименование — IKEA International Group. Штаб-квартира — в городе Делфте, провинция Южная Голландия.
(обратно)96
Именно так у Автора. Хотя читали мы польские издания тех же Одесских рассказов. Везде было написано честно: bandyci. Никаких гангстеров.
(обратно)97
Не забывайте, когда происходят описываемые здесь события. Вы скажете: так совсем даже недавно. Таки я спрошу, и где типэр та Юлия Тимошенко? Пишет законы про удешевление газа, это ж уже пару лет пишет. И игде ее плакаты? Вай-мэ!..
(обратно)98
Белгород-Днестровский, Аккерман, Тира, Белгород, Монте Кастро, Аспрокастро, Алби Кастри, Четате Албе, — это все НАШ город! Так звучит девиз с сайта: -info.com/ Так что Автор отправился в Белгород-Днестровский (укр. Білгород-Дністровський, рум. Cetatea Albă; до 1944 — Аккерма́н — тур. Белая крепость) — город на берегу Днестровского лимана. Население составляет 60 тысяч жителей (2011).
(обратно)99
Самоубийство — главная работа Эмиля Дюркгейма ((фр. David Émile Durkheim, 15 апреля 1858 — 15 ноября 1917) — французский социолог и философ, основатель французской социологической школы и структурно-функционального анализа. Наряду с Огюстом Контом, Карлом Марксом и Максом Вебером считается основоположником социологии как самостоятельной науки), изданная в 1897 году. Книга стала образцом социологического исследования. Дюркгейм использовал метод вторичного анализа существующей официальной статистики, стремясь доказать, что самоубийство имеет только социальные, а не психологические причины. Ряд исследователей считает данную работу «методологической классикой», а другие — крупной неудачей.
(обратно)100
В фильме Live and Let Die (1973).
(обратно)101
Ну, скажем, дело было не совсем так. Тира — один из городов, основанный греками из г. Милета в VI в. до н. э. в Северо-Западном Причерноморье. Но Грецией он никогда не был. Даже не колонией. Тира представляла собой обычный рабовладельческий полис, т. е. город-государство. Верховная власть в Тире, как и в большинстве греческих полисов, принадлежала народному собранию. Главным органом исполнительной власти была коллегия архонтов.
(обратно)102
Фильм по одной из культовых книжек Яна Бжехвы — сюжет которой в чем-то предвосхищает Гарри Поттера за несколько десятков лет до Роулинг. Два первых фильма: «Академия пана Кляксы» и «Путешествия пана Кляксы» имеются даже с советским дубляжем, а вот третий («В космосе») ходит только в оригинале. Есть в нем что-то лемовское… уже не детское…
(обратно)103
Корпус мира (англ. Peace Corps) — независимое федеральное агентство правительства США. Учреждён 1 марта 1961 года, учреждение одобрено Конгрессом США 22 сентября 1961 года принятием Закона о корпусе мира (Peace Corps Act, Public Law 87-293). Гуманитарная организация, отправляющая добровольцев в бедствующие страны для оказания помощи. Согласно закону, цель Корпуса мира состоит в том, чтобы: Продвигать мир во всём мире и дружбу при посредстве Корпуса мира, который должен направлять в заинтересованные страны и территории мужчин и женщин из Соединённых штатов, имеющих необходимую квалификацию для службы за рубежом и готовых служить, при необходимости, в затруднительных условиях, чтобы помочь людям этих стран и территорий обеспечить их потребность в обученном персонале.
(обратно)104
См. сноску 12.
(обратно)105
Именно в Каменце происходят финальные, наиболее героические события «Пана Володыевского» Г. Сенкевича…
(обратно)106
Думаю, что читатели и сами поняли рекомендации, но ежели они желают подшлифовать свой польский, пожалуйста: «Я ЕБУ МЕСТНОСТЬ ЗАЕБАТЕЛЬСКАЯ ЗЕМЕЛИ ПАКУЙТЕСЬ ВСЕ КЛЁВО».
(обратно)107
Чорногора (укр) — горная цепь, ответвление Внешних Восточных Карпат (Восточных Бескид), располагающаяся на территории Ивано-франковской и Закарпатской областей. Вершины: Говерла (2061 м.), Поп Иван (2022 м), Петрос, Ребра и др. Здесь находятся истоки реки Прут, протекают Белый и Черный Черемош.
(обратно)108
Данную книгу я перевожу с электронного варианта. И вот то ли Автор так задумал, то ли это глюк набора, но одного из пары славистов называют то Пампалеоном, то Панталеоном (в тексте я везде называю его Пампалеоном). Что означает первое, сказать сложно (в Нэте объяснений не нашлось), но если Панталеон, тогда это название редкого музыкального инструмента напоминающего гусли. Изобретателем его считается немец Pantaleon Hebenstreit (в конце XVII ст.). Еще Pantaleon — изобретенное Шретером фортепиано, в котором молотки ударяли по струнам сверху, а также название фортепиано, корпусом в виде флюгеля. (Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон 1890–1907) Если принять версию муз. инструмента, тогда в качестве псевдонима годится и Блюменблау — это василек, синий цветок (нем.), что согласуется с местом приезда двух славистов — бывшим немецким городом Бреслау.
(обратно)109
Войчех Гурецкий (Wojciech Górecki) (род. 23 января 1970 г. в Лодзи) — польский историк, журналист, репортер, аналитик, специализирующийся в тематике Северного и Южного Кавказа. Публикации: «Планета Кавказ» (2010), «Тост за предков» (2010), «Абхазия» (2013). На русский язык, судя по всему, ничего не переводилось.
(обратно)110
Юрий-Михал (Ежи) Володыевский (1620–1672 гг.) один из самых ярких защитников Каменец-Подольского во время осады турецко-татарской армией в августе 1672 г. Благодаря знаменитой трилогии Г. Сенкевича («Огнем и мечом», «Потоп», «Пан Володыевский») в национальном самосознании значительной части поляков первой половины XX в. его принимали за идеал польского рыцарства. Кстати, об этом же упоминал в своих книгах и А. Бушков. Из-за отсутствия в украинской историографии научной биографии Ю. Володыевского приобрел распространение миф о его польском происхождении, хотя «Каменецкий Гектор» был представителем старинного подольского пухеттского рода герба Гербут — первой половины XVI в. владельцев подольских сел: Володиевцы, Исаковцы, Ластовцы, Брага, Роговец, Княжеская Крыница, Новоселка и др. Побольше можно прочитать в -podolski.com/istoriya/pan-volodyyovskij-kameneckij-gektor.html
(обратно)111
Вольность переводчика. В оригинале: «и все выпили».
(обратно)112
То ли Автор стебется, то ли именно таковы познания польских студентов-славистов в русском языке. Кстати, а почему они разговаривают не по-украински?
(обратно)113
Католический университет Люблина имени Иоанна Павла II (польск. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,KUL) — польское негосударственное общественное высшее учебное заведение, дающее образование в области теологии, католического канонического права, а также в различных областях светской науки. Долгое время в нем преподавал этику Кароль Войтыла, будущий папа Иоанн Павел II.
(обратно)114
Здесь драконы (лат.), ассоциация с надписями на старинных картах: «Здесь (водятся) львы». Ктулху — (англ. Cthulhu) — вымышленное мифическое существо из пантеона Древних в творчестве американского писателя Говарда Лавкрафта. Известный мем Рунета (похоже, не только Рунета). Стал популярен после того, как во время интернет-конференции летом 2006 года президенту Владимиру Путину был задан вопрос «Как вы относитесь к пробуждению Ктулху?». Несмотря на то, что вопрос набрал почти 17 000 голосов и попал в топ, он так и не был задан. Тем не менее, однажды в неформальной обстановке Владимир Владимирович всё-таки на него ответил «Я с подозрением отношусь ко всяким потусторонним силам. Если кто-то хочет обратиться к истинным ценностям, то пусть лучше почитает Библию, Талмуд или Коран. Будет больше пользы»).
Судя по всему, был придуман под впечатлением от шумерского божества Энки и легенд о кракене. Впервые упоминается в рассказе Г. Лавкрафта «Зов Ктулху» (1927), где описывается как существо исполинских размеров, имеющее голову с щупальцами, гуманоидное тело, покрытое чешуёй, и пару рудиментарных крыльев. Обладает телепатией. Погребён под толщей воды в своём мёртвом городе-склепе посреди Тихого океана.
(обратно)115
Вообще-то, в сказке речь шла о крысах, но пущай уже…
(обратно)116
Снова вольность переводчика. У Автора «Советии» (Radzecii).
(обратно)117
Так у Автора: czeburaki.
(обратно)118
???
(обратно)119
Я понимаю, что по-русски следует писать «хохлушка». Так нет же, в оригинале четко стоит: «Chachłaczka» (в польском языке национальность пишется с большой буквы).
(обратно)120
Адам Мицкевич. Крымские Сонеты. Гробница Потоцкой (Здесь и дальше перевод Владимира Коробова).
(обратно)121
??? Правда, проскользнуло, что есть такое местечко, где режутся в пейнтбол, но причем здесь инженеры? Может, это место действия какого-нибудь польского фантастического м/ф?
(обратно)122
Klerycy. Так что трудно сказать, кто шмалил: монахи или священники…
(обратно)123
Молитвенный дом у караимов
(обратно)124
Białą nicość (белое ничто) — устоявшаяся поэтическая метафора. Она присутствует в поэзии, во многих книгах об альпинистах, моряках; в музыкальных (часто роковых) песнях.
(обратно)125
Еще один пример поспешности Автора: либо «Шампанское» (Украинское или Советское), либо же «Игристое вино» (поскольку понятное дело, что «шампанское» — это и так игристое вино. Дело другое, что международные организации запрещают украинским (российским и другим) производителям помимо Шампани или Коньяка использовать эти названия. Понятное дело, что на эти запреты в Украине (России и странах СНГ, в отличии от Польши) «кладут с прибором»… Но «Игристое шампанское» — это уже перебор даже в гонзо.
(обратно)126
В оригинале: Polski nie pojmiesz rozumem, что является пастишем знаменитых строк (в польском переводе): Rosiji nie pojmiesz rozumem (на всякий случай переведу: «Умом Россию не понять…»).
(обратно)127
Нет, ребята, я перевел дословно….
(обратно)128
Переводчик строго следует тексту оригинала. Вообще-то говоря, хозяин крокодила мог бы сказать: «Чтобы не цапнул» или «Чтобы не укусил». Выражение в тексте никак не ассоциируется с русскоязычным крымчанином, даже переодетым пиратом.
(обратно)129
И в Польше, и в Украине борщ имеется (хотя приготавливаются эти блюда по-разному), а вот щи для Автора — «великое неизвестное». И вот теперь подумайте сами, откуда в норильских окрестностях испарения борща? Нашего, украинского борща? Которым украинцы могут гордиться по праву. Как и салом!
(обратно)130
Совершенно замечательная игра слов (bisurmany): «басурмане» + «бiсовi дiти».
(обратно)131
Ну почему сразу же «как фарисеи»? Любые правоверные евреи должны были заводить бороду. Так что бороды были у всех равви, ремесленников, торговцев, садуккеев… А вот у женщин, да, бород не было…
(обратно)132
И вновь вольность переводчика. В оригинале: przyjął z wzdzięcznością i wychylił, то есть просто «благодарно принял и за-глотал». Но ничего не поделаешь. Классика своего требует.
(обратно)133
В данном случае: священнослужители, участвующие в обряде изгнания льявола.
(обратно)134
???
(обратно)135
Сложно сказать, когда Автор писал конкретно эту главу. Отличие восточноукраинских сепаратистов от западноукраинских заключалось в том, что они не были диванными, и что за спиной у них имелась возможность помощи со стороны соседнего государства (в отличие от первого случая). А про границы и про кровь — как раз все так и получилось. И как теперь мириться над пролитой кровью, разрушенными домами и семьями — не знает никто, хотя политики гордо надувают щеки. А ежели жареный петух еще где клюнет, то про сепаратистов тут же забывают (14.11.2015).
(обратно)136
Возможно переводчик и не прав, но этот термин, скорее всего, искаженный «high end», в данном случае означающий: «высший шик». Или же он может означать «вещи ручной работы» (нем.). Короче, вы же поняли…
(обратно)137
ASP (Akademia Sztuk Pięknych) — Академия изобразительных искусств.
(обратно)138
«Земянская» — в период между Мировыми войнами знаменитые варшавские кафе и рестораны, где собиралась (чаще всего) интеллигенция и представители богемы; «Пес» («Piękny Pies», адрес: ul.Bożego Ciała 9, Краков) — известный богемный клуб.
(обратно)139
У Автора: Prohyra. Поиск в Нэте по словам «Prohyra», «Прохыра», «Прогыра» ничего не дал.
(обратно)140
Нет, товарищи дорогие, это у переводчика манечка какая-то…
(обратно)141
Для тех, кто не учился в советской школе: к востоку за Эльбой (Лабой) начинались страны Варшавского Договора.
(обратно)142
Туран — страна-противопоставление культурному Ирану в «Шахнамэ» Фирдоуси. Символ варварства и насилия.
(обратно)143
Для тех, кто мало читал: символ тоталитарного государства в книге «1984» английского писателя Джорджа Оруэлла, изданного в 1949 году: «Большой Брат следит за тобо-о-о-ой…»
(обратно)144
А знаете, как будет по-польски Ковер Коверыч? Не поверите: Dywan Dywanycz (Дыван Дываныч)!
(обратно)145
Не было у запорожских казаков шашек, только сабли. Автор путает запорожских казаков с донскими. А оселедци были, это правда.
(обратно)146
Слоновьей болезнью.
(обратно)147
Тарас ошибался; все было не до конца так, но объяснять ему тогда особого смысла бы не имело. — Прим. Автора
(обратно)148
А вот в Германии и Чехии на улицах перед Рождеством еще и глинтвейн пьют, а в дореволюционной России зимой на улицах сбитень пили… Да и в Польше, уважаемый Автор, тоже не винцо на улицах потребляют (да и где то польское вино? Вот кто, к примеру, «Рыцарское» помнит? А ведь неплохое было… — но это переводчик уже брюзжит, не обращайте внимания; он тоже осуждает употребление крепких горячительных напитков в мороз. Запомните, это очень вредно!
(обратно)149
Персонажи двух фильмов: Братья Блюз (англ. The Blues Brothers) — американский комедийный киномюзикл 1980 года, снятый режиссёром Джоном Лэндисом. В нём Дэн Эйкройд и Джон Белуши играют братьев Элвуда и Джейка Блюзов, возрождающих свою старую блюз-группу, чтобы заработать денег для спасения приюта для сирот, в котором они выросли + Братья Блюз 2000 (англ. Blues Brothers 2000) — американская музыкальная комедия 1998 года, Горячо рекомендую. Если будете смотреть впервые, будьте осторожны, от смеха возможна длительная икота. Опять же, прекрасные музыкальные номера.
(обратно)150
В оригинале переделанная строка: «kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie zna, otruje» из песенки группы «Червоны Гитары» «Когда кто-то кого-то полюбит»; «любит, нравится, уважает; не желает, не знает и отравит» текст звучит так: «nie chce… nie dba… żartuje» (не желает… ей все равно… и она лишь шутит). Ничего не поделаешь, русское диско более реально рассказывает об отношении полов.
(обратно)151
В оригинале у Автора, на русском языке, причем, «шоссе» сделалось женского рода: «Adskaja Szosse».
(обратно)152
Мы все поняли, Автор желает из НАШИХ бабушек (кстати, везде в тексте он употребляет польскую транскрипцию русских слов: babuszka, babuszki) сделать СВОИХ, католических бабушек. Вы когда-нибудь слышали, чтобы ВАША бабушка, утречком, в кухне ПЕЛА ПСАЛМЫ?… Нужна вам будет такая babuszka? Вот то-то…
(обратно)153
В тексте именно так.
(обратно)154
Не знаю, какая карта была в путеводителе Автора, но переводчик давным-давно пользовался путеводителем по Днепропетровску (а все советские люди прекрасно знали, что путеводители с картами издают для того, чтобы импортные шпионы никуда не могли попасть), в котором между Дворцом культуры железнодорожников (ныне Филармония) и театром им. Шевченко было километра полтора по прямой, хотя на самом деле их разделяет довольно-таки узкая улица Ленина. Ну а с бодуна не то что с автовокзала на желдорвокзал не попадешь, но и Привокзальную площадь с площадью Петровского спутаешь (правильный ответ: на Привокзальной площади каменный Петровский стоит, а на площади Петровского — нет).
(обратно)155
SUV (англ. Sport Utility Vehicle) — маркетинговый термин для обозначения внедорожников. Главное отличие SUV от внедорожников — они не являются полноценными вездеходами.
(обратно)156
По Яндекс-карте, с учетом разворотов и выездов, это 1,2 км. Можете проверить сами: %2C48.474551&z=16&text=%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%2C%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%2C%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0&sll=35.011418%2C48.474468&sspn=0.011802%2C0.003424&sctx=BgAAAAIA5BQdyeV%2FQUB6Nqs%2BVztIQA%2FUKY9uBOA%2FM9yAzw8jzD8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAEnmp0yklZvYY0AAAABAACAPw%3D%3D&ol=biz&oid=1380601557&rtext=48.477340%2C35.015429~48.474525%2C35.008586&rtt=auto
(обратно)157
А вот это уже чистейшей воды гонзо… Нет там таких бабок. А торговых точек с пойлом недалеко от вокзала хватает с головой. Кстати, еще одно замечание: Автор почему-то упорно называет вокзальных бродяг żule = жулики, мелкие хулиганы, а не бродяги, что больше соответствовало бы правде. Хотя сейчас в зал ожидания бродяг и не пускают. Да и лет пять назад (когда, похоже, происходит действие главы) тоже не пускали.
(обратно)158
Вот ума не приложу, где на проспекте Карла Маркса перед офисными зданиями бабули могут продавать чеснок?… Очередное гонзо?…
(обратно)159
В Днепропетровске в то время уже не было военных училищ. Курсанты зимой не носят фуражки, мундиры у них под полушубками. Очередное гонзо?
(обратно)160
Амуд — пюпитр кантора в синагоге, ведущего общественную молитву. Бима — возвышение в синагоге, на котором зачитывают свитки Торы.
(обратно)161
Американский сериал The Wonder Years (1988–1993, 115 серий), о типичной американской семье Арнольдов в 60-е годы.
(обратно)162
Про Бората говорить не стану. «Якшемаш» = «Jak się masz?» = «Как дела?» (пол.)
(обратно)163
Во Вселенной Дилберта (в комиксах и сериале про офисного работника) так называется выдуманная восточно-европейская страна (Элбония), где единственный товар — это грязь, а жители живут по пояс в этой грязи (наберите в Гугле: «Дилберт», «Элбония» и увидите множество мелких графических историй).
(обратно)164
Миша по-польски говорит не ахти: «коллеги» по-польски «kolegi». И никаких «кулег».
(обратно)165
Вообще-то Гавран уже выступал на страницах этой книги, но здесь подошел самый подходящий момент напомнить, что по-польски hawran — это «ворон». Выводы можете делать сами… В названии главы его имя написано так, как его внесли бы в зарубежный паспорт, то есть как бы «по-английски». Наш Иван при этом тоже превращается в Ivanа, а украинский, например, Константин — в Kostiyantyn'a.
(обратно)166
borciuchowato. Наверное, что-то среднее между «borć» (борть, старинный улей из выдолбленной колоды) и «borsuk»?
(обратно)167
Pub crawl — дословно (англ.) «ползком по пивным».
(обратно)168
Автор имеет в виду незаконный переход границы, как это делают контрабандисты.
(обратно)169
Была ли в Вашем учебнике по природоведению такая картинка: средневековый монах дошел до края света, нашел дыру в небесном своде, и теперь глядит на «небесную машинерию»?
(обратно)170
То ли стеб Автора, то ли он чего-то не врубился (хотя потом и встречался с этим человеком). Поп Иван не поп (хотя Автор в книге пишет его с маленькой буквы: pop Iwan), а деятель русинского движения Иван Поп (-ru.eu/index.php?razdel=laureaty&podrazdel=ivan-pop.php&lang=ru/). Кстати, Поп Иван, это и название Черной Горы (высота 2020 м), одной из вершин Черногорья. Возможно, что Автор имеет в виду отца Димитрия Сидора (). О проблемах русинского движения:
(обратно)171
А тут уже нужно помнить классику польской эстрады, песню группы «Червоне Гитары» «Анна-Марья». Перевод приводить не буду, а вот переслушать стоит (это из третьего альбома ЧГ). Сейчас этим и займусь…
(обратно)172
«Меланхолия» (англ. Melancholia) — апокалиптическая драма режиссёра и сценариста Ларса фон Триера с Кирстен Данст и Шарлоттой Генсбур в главных ролях. Премьера состоялась 18 мая 2011 года в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля. Фильм состоит из двух повествовательных частей и открывающего фильм 8-минутного пролога, вызывающего в памяти «Космическую одиссею 2001 года» и решённого как последовательность флешфорвардов. В прологе рассказывается о гибели Земли в результате столкновения с планетой Меланхолия (аналог Нибиру).
(обратно)173
Эта книга Земовита Щерека вышла в свет в 2013 году, но независимость в Закарпатье 24 апреля 2014 г., а только в 2015 году собирались объявить еще в начале года: 07.01.2015 и летом: 13.07.2015. Похоже, это национальный спорт… Или это какая-то дополнительная глава, появившаяся лишь в 2015 году? Тогда я поздравляю вас, уважаемые читатели, украинские читатели (украинский перевод появился в 2014 году).
(обратно)174
В оригинале: mecyje — деликатесы, нечто вкусненькое, но вот też mnie mecyje = тоже мне невидаль…
(обратно)175
Вот фиг его знает, чем дальше в лес, тем становится непонятнее: зачем выдумывать, ведь есть Нэт, Гугль, опять же, полякам приехать в Украину, как два пальца об асфальт. Церковь в центре Ужгорода вы сами можете увидеть на снимке (иногда такие случаи оправдывают вставку картинок в текст): даже цвет не совпадает (или уродливой церковь была ранее, но черно-розовую-версию я не нашел), ну а уже относительно любви к форме… На мой непросвещенный взгляд церковь в городское пространство вставили весьма даже грамотно.
(обратно)176
В оригинале — в хавиру (zabrał mnie do chawiry). Кстати, возвращаясь к примечанию 168, этот «поп Иван» — вылитый отец Димитрий Сидор. Можете убедиться сами, например, =%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D1%80%2C%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&stype=image&lr=141&noreask=1&source=wiz
(обратно)177
Антони Мацеревич (Antoni Macierewicz) (род. 3 сентября 1948 г. В Варшаве) — польский политик, историк, преподаватель, публицист. Деятель демократической оппозиции, создатель «КОР», 1991–1992 — министр внутренних дел, 2006 — глава военной контрразведки, с 2015 г — министр обороны Польши. Улыбка (судя по фото) — хитрая.
(обратно)178
Похоже, гонзо Автора продолжаются, а фамилия Сидорук — это отзвук фамилии отца Димитрия Сидора. Две особенности: Автор регулярно путает фамилии «Сидорук» и «Сидорчук»; Олег Сидорчук — так зовут прокурора Закарпатья.
(обратно)179
Линия разлома между цивилизациями, отделяющая Запад от православия. См. книгу Сэмюэла Хантингтона «Столкновение цивилизаций» (1996) (например: )
(обратно)180
Росток = Росток, Вышомир =? Зверин = Шверин, Липск = Лейпциг, Дроздяны = Дрезден, Будзишин =? Хотебудов = Котбус, Бела Вода =?
(обратно)181
Ви́ктор О́рбан (венг. Orbán Viktor; род. 31 мая 1963, Секешфехервар, Венгрия) — премьер-министр Венгерской Республики с 1998 по 2002 год и с 2010 года. Лидер радикальной партии Фидес. (Больше см. /%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80) Весной 2014 года он выступал с обращением к украинской власти с требованием предоставить этническим венграм живущим в Закарпатье автономию. Полностью поддержал вместе с «йоббиками» позицию Владимира Путина по Украине и возвращение Крыма в состав России.
(обратно)





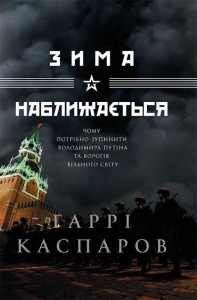

Комментарии к книге «Придет Мордор и нас съест, или Тайная история славян», Земовит Щерек
Всего 0 комментариев