Все оттенки порока (сборник)
© Перевод с немецкого, перевод с английского, перевод с французского, 2015
© ООО «ТД Алгоритм», 2015
Интродукция. Этическое обоснование порока
(из книги Д. Истон, К. А. Лист «Этика блядства», перевод с английского Д. Сиромахи)
Многие мечтают о свободной половой жизни – о том, чтобы секса, любви и дружбы было столько, сколько нужно. Однако большинство даже не пытается что-либо сделать, полагая, что подобный образ жизни недостижим. Многие из тех, кто все же решается, сдаются на полпути, встретив непреодолимые – или слишком серьезные для них – препятствия. И только немногим настойчивым открывается, что сексуальная связь со многими людьми не только возможна, но и куда более прекрасна, чем они могли представить.
Между тем уже много десятилетий люди пользуются преимуществами свободной любви – не особенно афишируя свой образ жизни.
Мы с гордостью представляем вам слово «блядь» в новом значении – одобрительном и даже ласковом. Для нас блядь – это любой человек, обладающий храбростью жить согласно принципу: секс прекрасен, а удовольствие полезно. Блядь – может заниматься сексом только с собой или с ротой солдат. Блядью может быть гетеро-, гомо– или бисексуал, радикальный активист или мирный обыватель.
Как настоящие бляди мы верим: секс и плотская любовь – фундаментальные силы добра, способные укрепить связи между людьми, улучшить качество жизни, повысить уровень осознанности и даже изменить мир. Путь сексуальности – если выбрать его осознанно и следовать ему внимательно – может стать позитивной, созидающей силой в жизни общества и каждого из нас.
Бляди хотят многого: разнообразия сексуальных проявлений, контактов с разными людьми – возможно, с мужчинами и женщинами одновременно. Нам любопытно: что будет, если объединить энергию четверых или пятерых в зажигательной интимной встрече? Что будет, если вступить в физическую близость с той, кого я десять лет считаю лучшей подругой? Как это будет вон с тем, настолько не похожим на меня человеком?
Некоторые из нас обнаруживают новые проявления своей личности, занимаясь сексом с разными партнерами. Для некоторых достаточно флирта, который они считают видом искусства, другие превращают в искусство сам секс. И все мы – любим приключения.
Соитие. Древнеримская фреска
Опять же, о таких часто говорят свысока, мол, они незрелые, неискренние, не могут «повзрослеть», «остепениться» и начать моногамную жизнь. Но что плохого в приключениях? Неужели нельзя наслаждаться ими, одновременно воспитывая детей, покупая дома и занимаясь карьерой? Еще как можно – блядям тоже выдают кредиты. Нам нравится усложнять себе жизнь, ведь от этого она становится намного интереснее.
Мы ненавидим скуку. Мы хотим получать от жизни все и делиться тем, что имеем. Мы считаем, что секса много не бывает, за исключением редких счастливых моментов, когда выбор превышает возможности, и что этика, о которой идет речь, никак не связана с умеренностью или воздержанием.
* * *
…Искушенные в сексе знают, чего хотят. Благодаря этому потенциальный партнер может предложить что угодно, ведь он знает, что вы откажетесь, если не захотите. Только вы и никто другой должны разобраться, чего вам хочется, никто не будет угадывать или переспрашивать дважды. Поэтому придется научиться говорить «нет», причем с легкостью, чтобы пара лишних «да ладно тебе» не испортила вам вечер. У мужчин с этим тоже бывают трудности: их учат, что надо всегда быть готовым к сексу и если кто-то проявляет инициативу, а ты не хочешь или не готов, «нет» прозвучит нелепо и немужественно.
Когда говорите «нет», делайте это четко и вежливо. Пожалуйста, не унижайте людей, которым вы понравились, – надо быть идиотом, чтобы обратить на вас внимание, да? Вежливое предложение – это комплимент, а не оскорбление. Если вам стыдно отказаться от него, отвечайте за ваше смущение. Она не виновата, если вы ей приглянулись.
Женщин учат, что прямо говорить «нет» – неженственно. Мы должны только намекать, а это не помогает. Потренируйтесь говорить «нет». Повторите пятнадцать раз, глядя в зеркало: «Нет, спасибо за предложение, но нет». Вы не обязаны придумывать оправдание или причину. Нелепо жаловаться на головную боль уже во время оргии. Проще сказать правду: «Нет, большое спасибо, я не хочу».
Не помешает женщинам и умение соглашаться. Бытует миф, что мужчина должен уговорами, хитростью или угрозами заставить женщину сказать «да» или хотя бы не говорить «нет», а тогда можно делать все, что взбредет в голову. Женщинам необходимо «сравнять счет»: почаще выбирать самим, знать, что доставит удовольствие, и уметь прямо сказать, чего хочется, тому, кто нравится. А если вы мужчина, который больше заботится о том, чтобы выглядеть хорошим любовником, чем о своем удовольствии, вам тоже надо научиться говорить «да». И это может оказаться сложнее, чем кажется…
Для начала хорошо бы определиться, кого вы ищете. Принимая такое решение, очень важно не ставить слишком узких или широких рамок. Если вам подойдет любой, кто дышит и готов заняться сексом, то размах, на наш взгляд, великоват. Даже если вам не важен пол, возраст, внешность, происхождение или уровень интеллекта, скорее всего, вам хотелось бы найти человека, который не будет лгать, воровать, обижать или использовать вас: здравый рассудок, честность и уважение – обязательные критерии для большинства. И не бойтесь прямо заявлять об особенно важных качествах: вас не будут преследовать за дискриминацию, если женщин вы любите больше мужчин или с ровесниками вам интереснее, чем с людьми намного старше или моложе.
С другой стороны, если список необходимых вам качеств похож на технические характеристики бытового прибора – пол, возраст, вес, рост, цвет глаз и волос, стиль одежды, образование, размер члена, половые предпочтения – мы подозреваем, что вам больше хочется заняться любовью с собственной фантазией, чем с живым человеком. К сожалению, многие из нас привыкли к далеким от реальности стандартам внешности и поведения – за порномоделями интересно наблюдать на экране, но они редко встречаются в наших гостиных. Если вы хотите, чтобы ваша новая возлюбленная была прекрасной, любящей и вечно возбужденной, то, скорее всего, вас ждет разочарование – редко кто отвечает этим требованиям, а уж круглосуточно и подавно.
Мы не можем показать вам грань между здоровым предпочтением и несбыточным желанием – только вы можете ее найти. Однако мы считаем, что внешность, богатство и положение в обществе очень мало говорят о человеке, и если среди ваших критериев именно они являются главными, вы, скорее всего, слегка заплутали в мире иллюзий. Попробуйте познакомиться с людьми, которые не отвечают этим требованиям. Мы подозреваем, что если вы с ними подружитесь, то поймете, что у них есть свои, уникальные достоинства и они ждут, когда кто-нибудь их заметит.
Важное предупреждение: даже самые красивые, богатые и пышногрудые не хотели бы думать, что это главные их достоинства. Они предпочитают встречаться с теми, кто считает эти качества приятным дополнением, а не причиной для выбора.
Если вы одиночка и любите свободный секс, обратите внимание, каким образом вы удовлетворяете свои желания – сексуальные и эмоциональные. Получить желаемое можно многими путями – но, чтобы делать это сознательно, важно разобраться в себе и понять, что именно вам нужно. Притворяясь, что вам ничего не нужно – в том числе секс, любовь, эмоциональная поддержка, – вы обманываете себя и будете пытаться получить желаемое тайком, что вряд ли получится.
Таких людей называют пассивно-агрессивными или манипуляторами – мы считаем, что это люди, которые не умеют напрямую заботиться о своих нуждах. Не обрекайте себя на жизнь намеков и надежд.
Когда вы поймете, чего хотите, и попросите об этом, то удивитесь, как часто будете слышать «да» в ответ. Вспомните, какое облегчение чувствовали, когда кто-нибудь просил вас о поддержке, объятии или как-нибудь еще давал знать, как ему угодить. Вспомните, как чувствовали себя на высоте, да и просто хорошо, когда сумели по-настоящему помочь другому человеку – позволили ему выплакаться или подарили идеальный оргазм.
Позвольте своим друзьям почувствовать себя так же хорошо, помогая вам…
* * *
Расширяя свое представление о сексе, включая в него все, что доставляет нам удовольствие, мы освобождаемся от «тирании гидравлики», от обязанности удовлетворить партнершу, возможно, даже от контрацептивов, если решим, что ласки – это уже замечательный секс.
Удовольствие – полезно. Делайте то, что доставляет вам удовольствие. Не позволяйте никому учить вас, что должно вам нравиться, а что нет. Тогда не ошибетесь. Тогда секс становится очень простым – наслаждаться и делиться им тоже просто.
Всему, что вы сейчас умеете, вы где-то и как-то научились, поэтому, если захотите, сможете еще чему-нибудь научиться – новым способам получать удовольствие от секса и преодолевать затруднения, если они у вас есть. Обучение требует некоторых усилий, но они того стоят, и мы знаем, что вы проявите смелость и настойчивость. Мы советуем прочесть несколько книг о сексе – существует качественная литература для любых ориентации и предпочтений. Читайте вместе с партнерами, чтобы ваши знания совпадали. Во многих книгах даются упражнения для развития сексуальных навыков – поделайте их.
Говорите о непристойностях. Обсуждайте секс. Просите людей поделиться опытом и делитесь собственным. Поговорите с близкими, с друзьями, с людьми, которых уважаете. Поначалу нарушить молчание бывает страшновато, но откровенный разговор с любовниками и друзьями станет настолько ценным для всех вас, что уж точно оправдает несколько минут смущения.
Одна из наших подруг была уверена, что в целом свете только у нее болят щеки, когда она сосет член. Поговорив с друзьями, она поняла, что принадлежит к большинству. Если вы не можете откровенно и подробно поговорить о сексе с любовниками, как вы собираетесь справляться с трудностями или пробовать что-то новое?..
Большинство успешных отношений, от случайного знакомства до моногамии на всю жизнь, основаны на предположениях, которые на самом деле являются неписанными договоренностями о поведении: с почтальоном не целуются, маме чаевых не дают. Этим правилам с ранних лет нас учат родители, друзья и общество. Люди, которые их нарушают, часто считаются странными и даже сумасшедшими, потому что ценности и суждения, стоящие за этими правилами, настолько глубоко укоренились, что обычно мы их не замечаем.
Когда речь идет о повседневных отношениях с коллегами или соседями, вполне можно рассчитывать на такие «встроенные» договоренности. Но, когда вы имеете дело с чем-то сложным и беспрецедентным – например, с этичным блядством, – мы считаем, важно ничего не принимать как должное. Говорите с близкими о договоренностях, обсуждайте условия, обстановку и варианты поведения, которые вас устроят.
Из чего состоит хорошая договоренность? На наш взгляд, самое важное в ней – согласие, или «всеобщее активное участие ради блага, пользы и удовольствия каждого участника». В случае полиамории это касается не только непосредственных участников, но и основных партнеров, детей и всех остальных, на кого влияют ваши договоренности.
Дать определение согласию не всегда просто. Если кто-либо соглашается под давлением, вряд ли это участие можно назвать активным и всеобщим.
Невозможно прийти к активному согласию, если каждый, кого это касается, не возьмет на себя ответственность за свои чувства и их выражение. Это не всегда легко. Иногда вовсе не хочется вытаскивать эмоции на поверхность и заниматься ими – может, вам просто плохо.
Если боитесь, что сами не справитесь, попросите о помощи: пусть вас приласкают и утешат, а мудрый друг или психолог задаст вопросы, которые помогут разобраться в себе. Как только вы станете прислушиваться к своим чувствам, будет гораздо проще понять, что учитывать при очередной договоренности.
Большинство из нас нужно поддержать, чтобы мы смогли попросить о том, что нам нужно. Нам важно чувствовать, что наши условия не настроят никого против. Многие очень ранимы, когда речь заходит об эмоциональных потребностях, но важно помнить, что мы имеем на них право: «Мне нужно чувствовать себя любимым», «Мне важно чувствовать, что я нужен тебе», «Мне нужно знать, что я для тебя привлекательна», «Мне важно, чтобы ты выслушала и позаботилась обо мне, когда мне плохо».
В договоренности не должно быть места обвинениям, манипуляциям, угрозам и порицаниям. Участники должны пообещать внимательно, открыто и не осуждая выслушать, что чувствует и чего хочет каждый. Если вы ждете, что партнер признается в какой-нибудь слабости, чтобы использовать это против него и «выиграть» спор, – вы еще не готовы нормально договариваться о чем-либо.
Мелочность – еще один враг хороших договоренностей. Одна знакомая пара договорилась сообщать о сексе на стороне в течение двадцати четырех часов. Однажды он позвонил и сказал, что накануне вечером переспал с женщиной. «Но ведь мы договорились в течение двадцати четырех часов!» – разозлилась она. «Ну да, но никто же не говорил, что эти двадцать четыре часа должны быть перед сексом, а не после», – отвертелся он. Его поведение никому не прибавило уверенности, что договоренность действует.
Мораль: выражайтесь яснее, учитывайте детали.
* * *
…Есть несколько видов открытых отношений для людей, состоящих в паре: например, серийная моногамия, когда партнеры разделены во времени, а также неизменно популярная несогласованная немоногамия, иначе называемая «изменой». Это можно назвать «бессознательной свободной любовью».
Очевидно, что лучше всех открытые отношения получатся у пары, которая сначала позаботится друг о друге, а уж потом позовет кого-то еще. Поэтому парам придется постараться и сделать все, чтобы научиться понимать друг друга, справляться с ревностью, сомнениями и собственническими чувствами, делая это как можно более сознательно.
Не обойтись им и без счастливого, здорового и страстного секса друг с другом. У пар могут быть отношения за пределами основных или просто несколько любовников без какой-либо иерархии. Отношения могут сильно различаться по степени близости и по частоте встреч. Одни длятся недолго, другие – годы или даже всю жизнь; встречи происходят дважды в неделю или раз в полгода.
Бывает, что партнеры ищут любовников отдельно: заранее договариваются, кто в какой клуб поедет, и стараются не пересекаться в интернете или газетных объявлениях. Иногда они рассказывают друг другу о своих приключениях и знакомят с любовниками.
Другие выбирают подходящую пару и знакомятся с ней, чтобы позабавиться вчетвером или поменяться партнерами. Многие полиаморные пары прекрасно живут, находя людей с похожими интересами. Подобные двойные союзы могут длиться всю жизнь и дарить жаркий секс и настоящую семейную идиллию.
Оргия. Рисунок на древнегреческой вазе
Некоторым парам, равно как и одиночкам, нравится групповой секс. Во многих крупных городах есть заведения для оргий и свинга, секс-клубы и гей-сауны на любой вкус. Заведения для группового секса могут стать безопасным пространством для экспериментов немоногамной пары. Вечеринки можно посещать вместе или по отдельности, «снимать» партнеров в одиночку или «парой», встречаться с друзьями друг друга и развлекаться с разными людьми, все время сохраняя приемлемую для обоих связь друг с другом.
Групповой секс позволяет найти новых партнеров в безопасной, дружественной обстановке – можно получше рассмотреть понравившегося человека, пока он занят кем-то другим. Очень удобно перенимать опыт: если мы видим, что кто-то вытворяет нечто, о чем мы лишь мечтать могли, можно подойти и спросить, как он это делает.
После многих лет практики публичного секса нас поражает, что большинство людей ни разу не видели, как это делают другие. Оглянитесь вокруг – все люди прекрасны, когда кончают. Поэтому оргия – рай для эксгибициониста: на секс-вечеринках каждый становится звездой и может блистать как никогда.
В секс-клубах царит особая атмосфера. Бывают клубы только для женщин, только для мужчин, для пар, для поклонников садо-мазо, трансвеститов, а также приверженцев всех мыслимых и немыслимых сексуальных практик – некоторые из них надо увидеть своим глазами, чтобы поверить.
Все заведения для группового секса, будь то большие открытые клубы или маленькие дома для вечеринок, существуют ради создания пространства, где можно вести себя сексуально. На некоторых вечеринках принято ходить голышом, другие предлагают великолепную коллекцию костюмов для любых сексуальных фантазий.
В каждом заведении должны быть душевые. И, конечно, игровые комнаты.
Игровые комнаты бывают разными: от крошечных, окруженных лабиринтом кабинок до просторных залов с зеркалами и мягким полом для «кучи малы». Иногда встречаются комнаты со специальной мебелью для секса, вроде гинекологических кресел, качелей, постелей с зеркалами, темниц для садо-мазо фантазий или водяной кровати для любителей покачаться на волнах…
Секс-вечеринки – еще и отличная возможность справиться со страхами и ревностью. Некоторые пары находят, что групповой секс оживляет их половую жизнь, наполняя ее энергией, новыми идеями и стремлением сделать ее такой же пылкой, как оргия.
Шумная и беспокойная обстановка на вечеринке может заставить людей спешить, хотя возбудиться проще всего, если замедлиться. Волшебство здесь помогает крайне редко, и рассчитывать на него не приходится. Разные люди возбуждаются по-разному, и очень полезно знать, от чего это случается с вами.
Даже если для этого вас нужно укусить за шею или облизать коленки сзади – если вы знаете об этом, то можете попросить: партнер будет знать, что делать, и смелее расскажет вам, что возбуждает его, а тогда – вот увидите – всех вас настигнет поток необузданной страсти.
* * *
Умение поддерживать отношения и высокий уровень этики еще не означают, что вы проживете с одним или несколькими партнерами всю жизнь. Мы по опыту знаем, что отношения меняются, люди вырастают из них, люди тоже меняются. У них появляются новые желания и мечты.
Причины разрыва могут быть вообще не связаны с открытостью отношений. В любом случае, если бы вам не была нужна сексуальная свобода, вы бы так не старались.
Важно помнить, что разрыв не означает конец отношений, это может быть переход на новую ступень – учтивых знакомых, друзей или даже любовников. Прелесть этичного блядства в том, что отношения становятся шире, чем двусторонние: с каждым можно поддерживать ту связь, которая подходит обоим.
Когда отношения кардинально меняются, хорошо, если все достаточно спокойны, чтобы расстаться и не потерять при этом любовь и самообладание. Но часто разрыв приносит боль, злость и несчастье. Горечь утраты отношений, на которые вы рассчитывали, очень глубока, и мало кто показывает себя с лучшей стороны во время болезненного расставания.
Самая острая боль обычно проходит через три месяца. Это значит, что нестерпимые и непреодолимые чувства горечи, потери, одиночества, гнева и другие через три месяца покажутся неприятными, но управляемыми.
Полезный совет: как только улеглись чувства, неплохо бы снова начать общаться с бывшим партнером – например, выпить вместе кофе или сходить в кино. После всего, что вы пережили вместе, досадно не остаться хотя бы друзьями.
Обратная сторона любви
Можно ли «иметь» любовь?
(из книг Э. Фромма «Искусство любви», перевод с английского Л. Чернышевой, и «Иметь или быть», перевод с английского М. Хорькова)
…Может ли человек «иметь» любовь? Будь это возможно, любовь должна была бы существовать в виде какой-то вещи, субстанции, которой человек может владеть и обладать как собственностью. Но дело в том, что такой вещи, как «любовь», не существует. «Любовь» – это абстракция; может быть, это какое-то неземное существо или богиня, хотя никому еще не удавалось увидеть эту богиню воочию. Если человек испытывает любовь, то это означает, что он стремится лишить объект своей «любви» свободы и держать его под контролем. Такая любовь не дарует жизнь, а подавляет, губит, душит, убивает ее.
Когда люди говорят о любви, они обычно злоупотребляют этим словом, чтобы скрыть, что в действительности они любви не испытывают. Многие ли родители, например, любят своих детей? Этот вопрос все еще остается открытым. Ллойд де Моз обнаружил, что история западного мира двух последних тысячелетий свидетельствует о таких ужасных проявлениях жестокости родителей по отношению к собственным детям – начиная от физических истязаний и кончая издевательствами над их психикой, – о таком безразличном, откровенно собственническом и садистском отношении к ним, что приходится признать, что любящие родители – это скорее исключение, чем правило.
То же самое можно сказать и о браке, – действительно любящие друг друга муж и жена представляются исключением. Брачный контракт дает каждой из сторон исключительное право на владение телом, чувствами и вниманием партнера. Теперь уже нет нужды никого завоевывать, ведь любовь превратилась в нечто такое, чем человек обладает, – в своего рода собственность. Ни тот, ни другой из партнеров уже больше не прилагает усилий для того, чтобы быть привлекательным и вызывать любовь, поэтому оба начинают надоедать друг другу.
Оба разочарованы и озадачены. Разве они уже не те люди, которыми были прежде? Не ошиблись ли они? При этом у того или другого из партнеров может возникнуть иллюзия, будто новый партнер (или партнеры) способен удовлетворить его жажду любви. Однако любовь не является выражением их бытия; это богиня, которой они жаждут покоряться. Их любовь неизбежно терпит крах, потому что «любовь – дитя свободы» (как поется в одной старинной французской песенке), и тот, кто был поклонником богини любви, становится в конце концов настолько пассивным, что превращается в унылое, надоедливое существо, утратившее остатки своей прежней привлекательности.
Лишь в некоторых случаях брак, основывавшийся сначала на любви, превращается в мирное совместное владение собственностью, некую корпорацию, в которой эгоизм одного соединяется с эгоизмом другого и образует нечто целое: «семью».
* * *
В современном мире под равенством понимают равенство автоматов: людей, которые лишены индивидуальности. Равенство сегодня означает «тождество» в большей степени, чем «единство». Это тождество абстракций, людей, которые работают на одних и тех же работах, имеют похожие развлечения; читают одни и те же газеты, имеют одни и те же чувства и идеи.
В этом положении приходится с некоторым скептицизмом смотреть на иные достижения, обычно восхваляемые, как некие знаки нашего прогресса, как например, равенство женщин. Это часть общего стремления к уничтожению различий. Равенство покупается дорогой ценой: женщина становится равной, потому что она больше не отличается от мужчины.
Утверждение философии Просвещения «l’ame no pas de sexe» – душа не имеет пола – стала общей практикой. Полярная противоположность полов исчезает, мужчина и женщина стали похожими. Современное общество проповедует идеал неиндивидуализированной любви, потому что нуждается в похожих друг на друга человеческих атомах, чтобы сделать их функцией в массовом агрегате, действующей исправно, без трений; чтоб все повиновались одним и тем же приказам, и при этом каждый был бы убежден, что он следует своим собственным желаниям.
Симбиотическое единство является распространенной моделью отношений между мужчиной и женщиной. Пассивная форма симбиотического единства – это подчинение, или, если воспользоваться клиническим термином, – мазохизм. Мазохист избегает невыносимого чувства изоляции и одиночества, делая себя неотъемлемой частью другого человека, который направляет его, руководит им, защищает его, является как бы его жизнью и кислородом. Мазохист преувеличивает силу того, кому отдает себя в подчинение: будь то человек или бог. Он – все, я – ничто, я всего лишь часть его. Как часть, я часть величия, силы, уверенности.
Мазохист не должен принимать решений, не должен идти ни на какой риск; он никогда не бывает одинок, но не бывает и независим. Он не имеет целостности, он еще даже не родился по-настоящему. В религиозном контексте объект поклонения – идол, в светском контексте в мазохистской любви действует тот же существенный механизм, что и в идолопоклонстве.
Мазохистские отношения могут быть связаны с физическим, сексуальным желанием; в этом случае имеет место подчинение, в котором участвует не только ум человека, но и его тело. Может существовать мазохистское подчинение судьбе, болезни, ритмической музыке, оргиастическому состоянию, производимому наркотиком, гипнотическим трансом – во всех этих случаях человек отказывается от своей целостности, делает себя орудием кого-то или чего-то вне себя; он не в состоянии разрешить проблему жизни посредством созидательной деятельности.
Активная форма симбиотического единства – это господство, или, используя психологический термин, соотносимый с мазохизмом, садизм. Садист хочет избежать одиночества и чувства замкнутости в себе, делая другого человека неотъемлемой частью самого себя. Он как бы набирается силы, вбирая в себя другого человека, который ему поклоняется. Садист зависит от подчиненного человека так же, как и тот зависит от него; ни тот ни другой не могут жить друг без друга. Разница только в том, что садист отдает приказания, эксплуатирует, причиняет боль, унижает, а мазохист подчиняется приказу, эксплуатации, боли, унижению.
Бичуемая девушка и вакханка. Древнеримская фреска
В реальности эта разница существенна, но в более глубинном эмоциональном смысле не так велика разница, как то общее, что объединяет обе стороны – слияние без целостности.
* * *
Эротическая любовь, вероятно, это самая обманчивая форма любви. Прежде всего, ее часто путают с бурным переживанием «влюбленности», внезапного крушения барьеров, существовавших до этого момента между двумя чужими людьми. Но это переживание внезапной близости по самой своей природе кратковременно. После того, как чужой станет близким, нет больше барьеров для преодоления, нет больше неожиданного сближения. Любимого человека познаешь так же хорошо, как самого себя. Или, может, лучше сказать – познаешь так же мало, как самого себя.
Если бы познание другого человека шло вглубь, если бы познавалась бесконечность его личности, то другого человека никогда нельзя было бы познать окончательно – и чудо преодоления барьеров могло бы повторяться каждый день заново. Но у большинства людей познание собственной личности, так же как и познание других личностей, слишком поспешное, слишком быстро исчерпывается. Для них близость утверждается, прежде всего, через половой контакт. Поскольку они ощущают отчужденность другого человека, прежде всего как физическую отчужденность, то физическое единство принимают за преодоление отчужденности.
Кроме того существуют другие факторы, которые для многих людей означают преодоление отчужденности. Говорить о собственной личной жизни, о собственных надеждах и тревогах, показать свою детскость и ребячливость, найти общие интересы – все это воспринимается как преодоление отчужденности. Даже обнаружить свой гнев, свою ненависть, неспособность сдерживаться – все это принимается за близость. Этим можно объяснить извращенность влечения друг к другу, которое в супружеских парах часто испытывают люди, кажущиеся себе близкими только тогда, когда они находятся в постели или дают выход своей взаимной ненависти и ярости.
Но во всех этих случаях близость имеет тенденцию с течением времени сходить на нет. В результате – поиски близости с новым человеком, с новым чужим. Опять чужой превращается в близкого, опять напряженное и сильное переживание влюбленности. И опять она мало-помалу теряет свою силу и заканчивается желанием новой победы, новой любви – при иллюзии, что новая любовь будет отличаться от прежних.
Этим иллюзиям в значительной степени способствует обманчивый характер полового желания. Половое желание требует слияния, но физическое влечение основывается не только на желании избавления от болезненного напряжения. Половое желание может быть внушено не только любовью, но также и тревогой и одиночеством, жаждой покорять и быть покоренным, тщеславием, потребностью причинять боль и даже унижать.
Оказывается, половое желание вызывается или легко сливается с любой другой сильной эмоцией, лишь одной из которых является любовь. Из-за того, что половое желание в понимании большинства людей соединено с идеей любви, они легко впадают в заблуждение, что они любят друг друга, когда их физически влечет друг к другу.
Но если желание физического соединения вызвано не любовью, это никогда не поведет к единству, которое было бы чем-то большим, чем оргиастическое преходящее единение. Половое влечение создает на краткий миг иллюзию единства, однако без любви это единство оставляет чужих такими же чужими друг другу, какими они были прежде. Иногда оно заставляет их стыдиться и даже ненавидеть друг друга, потому что, когда иллюзия исчезает, они ощущают свою отчужденность еще сильнее, чем прежде.
* * *
Современный человек отчужден от себя, от своих ближних, от природы. Он превращен в товар, свои жизненные силы он воспринимает как инвестицию, которая должна приносить ему максимальную прибыль, возможную при существующих рыночных условиях.
Человеческие отношения, в сущности, являются отношениями отчужденных автоматов, каждый из которых основывает свою безопасность на том, чтобы держаться поближе к стаду и не отличаться от других в мысли, чувстве или действии. Хотя каждый старается быть как можно ближе к остальным, каждый остается крайне одиноким, проникнутым глубоким чувством небезопасности, тревоги и вины, которые всегда появляются там, где человеческое одиночество не может быть преодолено.
Наша цивилизация предлагает много паллиативов, помогающих людям не осознавать своего одиночества: во-первых, строгий шаблон бюрократизированного, механизированного труда, который помогает людям оставаться вне осознания своих самых основных человеческих желаний, стремления к трансценденции и единству. Поскольку один этот шаблон не справляется с задачей, человек пытается преодолеть неосознанное отчаяние при помощи шаблона развлечений, пассивного потребления звуков и зрелищ, предлагаемых развлекательной индустрией, а также удовлетворения от покупки новых вещей и скорой замены их другими.
Человеческое счастье сегодня состоит в том, чтобы развлекаться. Развлекаться это значит получать удовольствие от употребления и потребления товаров, зрелищ, пищи, напитков, сигарет, людей, лекций, книг, кинокартин – все потребляется, поглощается. Мир это один большой предмет нашего аппетита, большое яблоко, большая бутылка, большая грудь; мы – сосунки, вечно чего-то ждущие, вечно на что-то надеющиеся – и вечно разочарованные. Наш характер приспособлен к тому, чтобы обменивать и получать, торговать и потреблять; все предметы, как духовные, так и материальные, становятся предметом обмена и потребления.
Там, где дело касается любви, ситуация соответствует по необходимости социальному характеру современного человека. Автоматы не могут любить; они могут обменивать свои «личные пакеты» и надеяться на удачную сделку…
Одно из самых значительных выражений любви, и особенно брака с его отчужденной структурой, это идея «слаженности». В статьях о счастливом браке его идеал описывается как идеал исправно функционирующей слаженности. Это описание не слишком отличается от идеи функционирующего служащего: он должен быть «разумно независим», готов к совместной работе, терпим и в то же время честолюбив и агрессивен.
Таким образом, как скажет нам брачный адвокат, муж должен «понимать» свою жену и помогать ей. Он должен делать благосклонные замечания по поводу ее нового платья и вкусного блюда. Она, в ответ, должна понимать его, когда он приходит домой усталый и расстроенный, должна внимательно его выслушивать, когда он говорит о своих деловых затруднениях, не сердиться, а понимать его, когда он забывает о ее дне рождения.
Весь набор этих видов отношений сводится к хорошо отлаженной связи двух людей, остающихся чужими друг другу на протяжении всей жизни, никогда не достигающих «глубинной связи», но любезных друг с другом и старающихся сделать друг для друга жизнь как можно приятнее.
При таком понимании любви и брака главный акцент делается на отыскании убежища от непереносимого в других случаях чувства одиночества. Создается союз двоих против мира, и этот эгоизм вдвоем ошибочно принимается за любовь и близость.
Что же касается причины множества несчастливых браков, то их (говорят нам) надо искать в том, что партнеры в браке не достигали «сексуального соответствия». Причину этой беды видят в незнании «правильного» сексуального поведения, то есть, в незнании сексуальной техники одним или обоими партнерами. Чтобы «излечить» эту беду и помочь неудачливым парам, которые не смогли любить друг друга, многие книги дают инструкции и советы относительно правильного сексуального поведения и обещают, скрыто или явно, что тогда наступит счастье и любовь.
Как тут не вспомнить Фрейда, который писал, что «человек, на опыте убедившись, что половая (генитальная) любовь приносит ему самое большое удовлетворение, так что, фактически, она для него становится прототипом счастья, вынужден вследствие этого искать свое счастье на пути сексуальных связей, поставить генитальную эротику в центр своей жизни».
Синдром влюбленности
(из книги Симоны де Бовуар «Второй пол», перевод с французского А. Сабашникова, И. Малахова и Е. Орлова)
Взаимоотношения полов
…Разделение особей на самцов и самок является фактом ни из чего не выводимым и случайным. Большинство философий приняли это разделение как данность, не пытаясь объяснить его. Известен платоновский миф: вначале были мужчины, женщины и андрогины, у каждого индивида было два лица, четыре руки, четыре ноги и два сросшихся тела; однажды они были разбиты надвое, «как разбивают надвое яйцо», и с тех пор каждая половина стремится найти вторую, недостающую половину – впоследствии боги решили, что от совокупления двух несхожих половин будут появляться новые человеческие существа. Но эта история ставит своей задачей объяснить только любовь – разделение полов сразу принимается как данность.
Не дает ему обоснования и Аристотель, ибо, если любое действие требует взаимодействия материи и формы, необязательно, чтобы активное и пассивное начала распределялись по двум категориям гетерогенных индивидов. И, таким образом, святой Фома Аквинский объявляет женщину существом «случайным» и тем самым утверждает – в мужской перспективе – случайный характер половой принадлежности.
Гегель в свою очередь изменил бы своему исступленному рационализму, если бы не попытался логически ее обосновать. Пол, согласно его учению, представляет собой опосредование, через которое субъект конкретно постигает себя как род. «Род в нем как напряжение, вызванное несоразмерностью его единичной действительности, становится стремлением достигнуть сочувствия в другом представителе того же рода, восполниться через соединение с ним и через это опосредствование сомкнуть род с собой, и дать ему существование – это есть процесс совокупления». И немного ниже: «Процесс состоит в том, что, будучи в себе единым родом, одной и той же субъективной жизненностью, они и полагают это единство как таковое». И затем Гегель заявляет, что для того, чтобы два пола могли сблизиться, предварительно необходима их дифференциация.
Но доказательство его неубедительно; слишком чувствуется здесь стремление во что бы то ни стало найти в любой операции три составляющие силлогизма. Выход особи за пределы своего «я» к виду, в результате которого особь и вид достигают подлинной реализации своей сущности, мог бы осуществиться и без третьего элемента, через непосредственное отношение родителя и ребенка – способ воспроизводства при этом может быть и неполовым. Или же отношение одного к другому может представлять собой отношение двух сходных особей, а различие тогда будет возникать за счет своеобразия особей одного типа, как это бывает у гермафродитов. Описание Гегеля раскрывает одно очень важное значение половой принадлежности – но, как всегда, его ошибка в том, что из значения он делает объяснение.
Мужчины определяют пол и взаимоотношения полов в ходе половой деятельности подобно тому, как они придают смысл и значение всем исполняемым ими функциям, но все это совершенно необязательно свойственно человеческой природе. Мерло-Понти в «Феноменологии восприятия» отмечает, что человеческое существование, или экзистенция, вынуждает нас пересмотреть понятия необходимости и случайности. «Существование, – пишет он, – не имеет случайных атрибутов, в нем нет содержания, от которого зависела бы его форма, оно не допускает в себе чистого факта, так как само является движением, которое несет в себе эти факты».
Это верно. Но верно также и то, что существуют условия, без которых сам факт существования представляется невозможным. Присутствие в мире неминуемо подразумевает определенное положение тела, позволяющее ему быть одновременно частью этого мира и точкой зрения на него, но при этом не требуется, чтобы тело обладало тем или иным особенным строением. В работе «Бытие и ничто» Сартр спорит с утверждением Хайдеггера, что сам факт конечности обрекает реальность человеческого существования на смерть. Он устанавливает, что можно представить себе существование конечное и не ограниченное временем. Тем не менее, если бы в жизни человеческой не коренилась смерть, отношение человека к миру и к себе самому было бы совершенно иным, и тогда определение «человек смертен» представляется вовсе не эмпирической истиной; будучи бессмертным, живущий уже не был бы тем, что мы именуем человеком. Одна из основных характеристик его судьбы заключается в том, что движение его временной жизни образует позади и впереди себя бесконечность прошлого и будущего, – и понятие увековечения вида сопрягается с индивидуальной ограниченностью.
Грехопадение. Художник Хуго ван дер Гус
Таким образом, явление воспроизводства можно рассматривать как онтологически обоснованное. Но на этом следует остановиться, увековечение вида не влечет за собой дифференциации полов. Если эта дифференциация принимается существующими людьми – таким образом, что оказывает обратное действие и входит в конкретное определение существования, – пусть так оно и будет. Тем не менее, сознание без тела, или бессмертный человек, – вещь абсолютно невообразимая, тогда как общество, размножающееся путем партеногенеза или состоящее из гермафродитов, можно себе представить.
Точка зрения психоанализа
Психоанализ ушел далеко вперед по сравнению с психофизиологией, показав, что ни один фактор не может воздействовать на психическую жизнь, не наполнившись предварительно личностным содержанием; конкретно существует не тело-объект, описанное учеными, а тело, в котором живет субъект. Женщина является самкой в той мере, насколько она себя таковой ощущает. Есть, конечно, существенные с точки зрения биологии данные, которые не имеют отношения к проживаемой ситуации – так, строение яйцеклетки с ней никак не связано. И наоборот, такой не имеющий большого биологического значения орган, как клитор, здесь начинает играть первостепенную роль. Женщину определяет не природа – она сама определяет себя, принимая в расчет природу в меру своей чувствительности.
В этой перспективе была выстроена целая система. И здесь мы не собираемся анализировать ее в целом, наша задача – определить ее вклад в изучение женщины. Критический разбор психоанализа вообще – дело крайне нелегкое. Как во всякой религии, будь то христианство или марксизм, в психоанализе, при всей жесткости основных понятий, мешает расплывчатость и неопределенность. То слова берутся в самом узком смысле – например, термин «фаллос» в точности обозначает отросток плоти, каким является мужской половой орган; то смысл их неопределенно расширяется и приобретает символическое значение – и тогда фаллос должен означать всю совокупность мужского характера и ситуации. Если критиковать букву доктрины, то психоаналитик в ответ станет утверждать, что дух ее остался непонятным; если признаешь ее дух, то тебя тут же призовут следовать и ее букве. Доктрина, скажет он, значения не имеет, психоанализ – это метод; но успех метода подкреплен добросовестностью теоретика. Впрочем, где же и искать истинное лицо психоанализа, как не у самих психоаналитиков? Однако среди них, как и среди христиан или марксистов, существуют еретики; и не один психоаналитик заявлял, что «худшие враги психоанализа – это психоаналитики». Несмотря на схоластические усилия все прояснить, часто отдающие педантизмом, многие двусмысленности до сих пор остаются невыясненными.
Как заметили Сартр и Мерло-Понти, предложение «сексуальность сопротяженна существованию» может пониматься в двух совершенно разных смыслах; можно под этим подразумевать, что все происходящее с существующим человеком имеет сексуальное значение или что любое сексуальное явление имеет экзистенциальный смысл. Между этими двумя утверждениями возможен компромисс, но обычно все ограничиваются тем, что смешивают одно с другим. Впрочем, стоит провести различие между «сексуальным» и «генитальным», как понятие «сексуальности» становится расплывчатым.
«Сексуальное у Фрейда означает внутреннюю способность высвобождения генитального», – говорит Дальбье. Но ничего нет туманнее идеи «способности», то есть возможного – одна лишь действительность дает неопровержимое доказательство возможности. Фрейд, не будучи философом, отказался дать философское обоснование своей системы; его ученики утверждают, что тем самым он уклоняется вообще от всякого метафизического подхода. Между тем, за каждым его утверждением стоит метафизический постулат: пользоваться его языком – значит принять определенную философию. Да этого требует уже само возникновение подобной путаницы, затрудняющей критический анализ.
* * *
Фрейда судьба женщины не слишком волновала. Ясно, что, описывая ее, он скопировал описание мужской судьбы, ограничившись изменением некоторых деталей. Еще до него сексолог Мараньон заявил: «Можно сказать, что, будучи дифференцированной энергией, либидо является силой мужского ощущения. То же самое мы скажем и об оргазме». По его мнению, женщины, достигающие оргазма, суть «мужеподобные» (viriloides) женщины; сексуальный порыв «односторонен», а женщина находится лишь на полпути. Фрейд до этого не доходит; он признает, что сексуальность у женщины развита так же, как и у мужчины; но он практически не занимается ее непосредственным изучением. Он пишет: «Либидо всегда – и закономерно по природе своей – есть мужская суть, независимо от того, встречается ли оно у мужчины или у женщины». Он отказывается полагать женское либидо как нечто особенное – это либидо представляется ему как сложное ответвление человеческого либидо вообще. Последнее, считает он, вначале развивается одинаково у обоих полов: все дети проходят оральную фазу, привязывающую их к материнской груди, потом – анальную фазу и, наконец, достигают фазы генитальной; в этот момент происходит их дифференциация.
Фрейд пролил свет на один факт, значение которого до него недооценивалось: мужской эротизм окончательно локализуется в пенисе, тогда как у женщины существуют две различные эротические системы: одна – клиторическая, развивающаяся на инфантильной стадии, другая – вагинальная, достигающая расцвета после наступления половой зрелости. Когда мальчик приходит к генитальной фазе, его развитие закончено; ему предстоит перейти от аутоэротизма, при котором удовольствие направлено на его собственную субъективность, к гетероэротизму, который свяжет удовольствие с объектом, обычно с женщиной. Переход этот совершится в момент полового созревания через нарциссическую фазу – но, как и в детстве, сохранится преимущество пениса как эротического органа. Женщине тоже придется через нарциссизм объективировать на мужчину свое либидо; но процесс этот будет намного сложнее, потому что от клиторического удовольствия ей надо будет перейти к удовольствию вагинальному. Для мужчины существует только один генитальный этап, тогда как у женщины их два, и она гораздо больше рискует не дойти до конца своей сексуальной эволюции, остаться на инфантильной стадии, что влечет за собой развитие неврозов.
Уже на аутоэротической стадии ребенок более или менее сильно тяготеет к объекту; мальчик привязывается к матери и хочет идентифицировать себя с отцом; стремление это вызывает у него страх, он боится, что в наказание отец может нанести ему увечье; из эдипова комплекса рождается комплекс кастрации. Под его воздействием развиваются агрессивные чувства по отношению к отцу, но одновременно происходит интериоризация его авторитета – так формируется «сверх-я», которое становится цензором инцестуальных тенденций. Тенденции эти вытесняются, комплекс ликвидируется, сын освобождается от отца, который на самом деле пребывает в нем в виде моральных установок. Чем более определенный характер имел эдипов комплекс, чем более категорично он преодолевался, тем сильнее «сверх-я».
Поначалу Фрейд совершенно аналогично описал историю девочки; потом женскую разновидность инфантильного комплекса он назвал комплексом Электры; но очевидно, что разновидность эта определяется не столько сама по себе, сколько исходя из мужского прообраза. Впрочем, он признает между ними одно очень важное различие: девочка вначале имеет привязанность к матери, тогда как мальчик никогда не испытывает сексуального влечения к отцу. Но в возрасте пяти лет она обнаруживает анатомическое различие между полами и реагирует на отсутствие пениса комплексом кастрации – она считает это увечьем и страдает от этого. Тогда ей приходится отказываться от своих «мужских» притязаний, она идентифицирует себя с матерью и пытается соблазнить отца. Комплекс кастрации и комплекс Электры взаимно друг друга усиливают; чувство фрустрации становится для девочки тем сильнее, чем больше, любя отца, она хочет ему уподобиться; и наоборот, сожаление усиливает любовь – через нежность она внушает отцу, что может компенсировать свою неполноценность.
По отношению к матери девочка испытывает чувство соперничества и враждебности. Потом у нее тоже формируется «сверх-я» и инцестуозные тенденции вытесняются; но у нее «сверх-я» слабее: комплекс Электры выражен не столь отчетливо, как эдипов комплекс, так как первой возникла привязанность к матери; а поскольку отец сам был объектом этой осуждаемой им любви, запреты здесь имеют меньше силы, чем в случае с сыном-соперником. Мы видим, что в целом сексуальная драма, переживаемая девочкой при генитальном развитии, гораздо сложнее, чем у ее братьев: она может поддаться комплексу кастрации, если откажется от своей женственности и станет упорно желать обладать пенисом и идентифицировать себя в отношениях с отцом. В результате она останется на клиторической стадии, станет фригидной или обратится к однополой любви.
* * *
Два основных упрека, которые можно высказать в адрес этого описания, вызваны тем, что Фрейд скопировал его с мужского образца. Он предполагает, что женщина чувствует себя увечным мужчиной, но сама идея увечья уже включает в себя сравнение и оценку. Многие психоаналитики сегодня признают, что девочка сожалеет о пенисе, но при этом все же не предполагает, что ее лишили этого органа. К тому же это сожаление не столь универсально и не может быть порождено простым анатомическим сопоставлением. Множество девочек знакомятся с мужской конституцией лишь значительно позже, да и знакомятся лишь чисто зрительно. Мальчик знает свой пенис на живом опыте, что дает ему некоторое право им гордиться, но это не означает, что подобной гордости прямо соответствует униженность его сестер, ибо последним знаком лишь внешний вид мужского органа – этот отросток, этот хрупкий, длинный кусок плоти может быть им безразличен или даже внушать отвращение. Когда же у девочки появляется жажда обладания им, это бывает результатом предварительной оценки мужественности. Фрейд принимает эту жажду за нечто признанное, тогда как она требует обоснования. С другой стороны, без оригинального описания женского либидо понятие комплекса Электры остается очень расплывчатым. Уже у мальчиков наличие эдипова комплекса чисто генитального порядка – явление далеко не универсальное; но, за очень редким исключением, мы никак не можем признать, что отец является для дочери источником генитального возбуждения. Одна из серьезных проблем женского эротизма – это изоляция клиторического удовольствия: лишь только ко времени полового созревания, в связи с вагинальным эротизмом, развивается в женском теле определенное количество эрогенных зон.
Утверждение, будто у десятилетней девочки поцелуи и ласки отца обладают «внутренней способностью» высвобождать клиторическое удовольствие, в большинстве случаев не имеет никакого смысла. Если признать, что аффективный характер комплекса Электры весьма расплывчат, то встанет вопрос об аффективности вообще, и тогда становится очевидным, что фрейдизм не располагает методом, чтобы различить, чем аффективность отличается от сексуальности. Во всяком случае, обожествление отца происходит не от женского либидо – ведь влечение, которое мать вызывает у сына, не ведет к ее обожествлению; тот факт, что женское влечение направлено на высшее существо, придает этому влечению оригинальный характер; но девочка не конституирует свой объект – она его претерпевает. Верховенство отца – факт социального порядка, и Фрейду не дано было осознать это. Он сам признается, что выяснить, каким авторитетом в некий момент истории была предопределена победа отца над матерью, невозможно: по его мнению, такое решение было прогрессивным, но причины его неизвестны. «Здесь не может быть речи об отцовском авторитете, поскольку сам этот авторитет достался отцу в результате прогресса», – пишет он в своей последней работе.
Поняв недостаточность системы, выводящей все развитие человеческой жизни из одной только сексуальности, Адлер отмежевался от Фрейда – он задался целью вернуть систему к целостной личности. Если Фрейд объясняет любые поступки человека его влечениями, то есть поиском удовольствия, то Адлер представляет человека преследующим определенные цели; на смену побуждению приходят мотивы, целеполагание, планы. Он отводит такое большое место интеллекту, что зачастую сексуальное у него приобретает лишь чисто символическое значение. Согласно его теориям, человеческая драма распадается на три момента: у каждого индивида есть стремление к могуществу, но сопровождается оно комплексом неполноценности; в результате этого конфликта человек прибегает к тысяче уловок, с тем, чтобы избежать действительности, потому что боится, что не сумеет ее преодолеть; субъект устанавливает дистанцию между собой и обществом, вызывающим у него страх, – отсюда проистекают неврозы, вызванные социальными причинами.
Сад земных наслаждений. Центральная часть триптиха. Художник Иероним Босх
Что касается женщины, комплекс неполноценности приобретает у нее форму стыдливого отказа от своей женственности – комплекс вызывается не отсутствием пениса, а всей ситуацией в целом; девочка завидует фаллосу только как символу предоставленных мальчикам привилегий; место, которое в семье занимает отец, повсюду встречаемое преимущество мужского пола, воспитание – все убеждает ее в идее мужского превосходства. Позже, во время сексуальных сношений, само положение тел при коитусе, когда женщине отводится место под мужчиной, становится для нее новым унижением. Ее реакцией бывает «мужской протест»; она либо пытается уподобиться мужчине, либо начинает с ним борьбу женским оружием. Через материнство она может обрести в ребенке эквивалент пениса. Но это предполагает, что прежде она полностью примет себя как женщину, то есть смирится со своей неполноценностью. Она переживает гораздо более глубокий внутренний разлад, чем мужчина.
* * *
Не стоит труда долго распространяться о теоретических расхождениях Фрейда и Адлера и о возможностях их примирения; ни объяснение через побуждение, ни объяснение через мотивацию никогда не будут достаточными. Любое побуждение полагает мотивацию, но мотивацию можно осмыслить только через побуждение; таким образом, синтез фрейдизма и адлеризма представляется вполне осуществимым. В действительности, даже вводя понятия цели и целеполагания, Адлер полностью сохраняет идею психической причинности. Его отношение к Фрейду примерно то же, что отношение энергетизма к механицизму: идет ли речь о толчке или силе притяжения, физик всегда признает детерминизм. В этом и общий постулат всех психоаналитиков: по их мнению, человеческую историю можно объяснить с помощью набора определенных элементов. И все видят женскую судьбу одинаково. Ее драма сводится к конфликту между «мужеподобными» и «женскими» тенденциями. Первые реализуются в клиторической системе, вторые – в вагинальном эротизме. В детстве она идентифицирует себя с отцом; потом испытывает чувство неполноценности по сравнению с мужчиной, и тогда перед ней возникает альтернатива: или способствовать поддержанию своей автономии и уподобиться мужчине, что на фоне комплекса неполноценности вызывает напряжение, которое может привести к неврозам, или счастливо реализовать себя в любовном подчинении – причем последнее решение облегчается некогда испытанной любовью к отцу-повелителю; именно его ищет она в любовнике или муже, и сексуальная любовь сопровождается у нее желанием чувствовать над собой чье-то господство. Она бывает вознаграждена материнством, которое дает ей возможность обрести автономию нового типа. Драма эта представляется обладающей собственным динамизмом; она развивается вопреки всем искажающим ее превратностям, и каждая женщина пассивно ее переживает.
Психоаналитики имеют прекрасные возможности, чтобы отыскать эмпирические подтверждения своим теориям: ведь известно, что, достаточно тонко усложняя систему Птолемея, люди могли долго оставаться в полной уверенности, что она совершенно точно отвечает истинному расположению планет; точно так же, если на место Эдипа поставить инвертированного Эдипа и в любой тревоге обнаруживать влечение, можно с успехом использовать для подтверждения фрейдизма даже те факты, что ему противоречат. Уловить форму можно только при наличии определенного фона, и от того, как постигается форма, зависят очертания, которые приобретает под ней этот фон. Так, если задаться целью описать какую-нибудь частную историю во фрейдистской логике, то за ней выявится и фрейдистская схема. Только когда доктрина неопределенно и произвольно требует нагромождения побочных объяснений, когда наблюдения обнаруживают столько же аномалий, сколько и нормальных случаев, лучше покинуть пределы установленных рамок.
Вот почему сегодня каждый психоаналитик всеми силами по-своему пытается придать гибкость фрейдистским идеям, устранить в них противоречия. Один современный психоаналитик пишет, например: «В тот момент, когда существует комплекс, существует, по определению, и множество его составляющих… Комплекс заключается в группировке этих разрозненных элементов, а не в представлении одного из них через остальные»! Но идея простой группировки элементов неприемлема: физическая жизнь – это не мозаика; она целиком содержится в каждом из своих отдельных моментов, и с этим единством следует считаться, что возможно лишь тогда, когда через разрозненные факты обнаруживается изначальная направленность существования. Если не добраться до этого истока, то человек будет выглядеть лишь полем боя между своими импульсами и наложенными на них запретами, одинаково лишенными смысла и случайными. Всех психоаналитиков объединяет систематический отказ от идеи выбора и сопряженного с ней понятия ценности; это и составляет внутреннюю слабость их системы. Оторвав импульсы и запреты от экзистенциального выбора, Фрейд оказывается не в состоянии объяснить нам их происхождение – он принимает их как данные. Понятие ценности он попытался заменить понятием авторитета; однако в работе «Моисей и его народ» он сам признает, что обосновать этот авторитет никак нельзя. Инцест, например, запрещен, потому что его запретил отец; но откуда взялась сама идея запрета – тайна. «Сверх-я» интериоризирует порядки и запреты, исходящие от произвольной тирании; здесь налицо инстинктивные тенденции, а почему – неизвестно; было установлено, что мораль не имеет отношения к сексуальности, поэтому каждая из двух реальностей существует сама по себе; единство человека как будто расколото, между личностью и обществом нет перехода: чтобы соединить их, Фрейду приходится сочинять странные истории, Адлер обратил внимание на то, что комплекс кастрации необъясним вне социального контекста. Коснулся он и проблемы образования ценностей, но не добрался до онтологических ценностей, признанных обществом, не понял, что ценности задействованы и в самой сексуальности, а соответственно и недооценил их значение.
* * *
Разумеется, сексуальность играет в человеческой жизни значительную роль – можно сказать, вся жизнь в целом проникнута ею. Человек существующий – это тело определенного пола; и в отношениях с другими людьми, которые тоже являются телами определенного пола, обязательно будет присутствовать пол (сексуальность). Но если тело и сексуальность суть конкретные выражения существования, то и значения их можно выявить через него же – вне этой перспективы психоанализ принимает как данные необъясненные факты.
Например, нам говорят, что девочка испытывает стыд, оттого что приседает и обнажает ягодицы, когда мочится, – но что такое стыд? Аналогично, прежде чем задаваться вопросом, гордится ли мужчина тем, что у него есть пенис, или в пенисе выражается его гордость, следует выяснить, что такое гордость и как притязания субъекта могут воплощаться в объекте. Не нужно принимать сексуальность за непреложную данность, за основу бытия, у человека есть и более оригинальный «поиск бытия», а сексуальность – лишь один из его аспектов. Именно это показывает Сартр в книге «Бытие и ничто»; это же говорит и Башлар в своих работах о Земле, Воздухе и Воде: психоаналитики считают первейшей истиной человека его отношения с собственным телом и с телами ему подобных в пределах общества; однако человек несет в себе исконный интерес к сущности окружающего его природного мира и пытается обнаружить ее в работе, в игре, во всех экспериментах «динамического воображения»; человек стремится добраться конкретно до постижения основ своего существования через весь мир в целом, постигая его всеми возможными способами.
Месить глину или рыть яму – это занятия столь же изначальные, как объятия или коитус, и заблуждается тот, кто видит в них только сексуальные символы. Яма, липкость, впадина, твердость, цельность – это исконные реалии; интерес человека к ним продиктован не либидо – скорее, само либидо будет окрашено соответственно тому, как человек их для себя открывал. Цельность нравится человеку не потому, что символизирует девственность, – он ценит девственность потому, что любит цельность. В работе, войне, игре, искусстве определяются способы существования в мире, которые нельзя свести ни к каким другим; они обнаруживают качества, которые пересекаются с теми, что несет в себе сексуальность. Индивид выбирает себя как посредством этих качеств, так и посредством эротического опыта. Но восстановить единство этого выбора позволяет лишь онтологическая точка зрения.
Это понятие выбора психоаналитик отвергает особенно яростно во имя детерминизма и «коллективного бессознательного», будто бы это бессознательное поставляет человеку готовые образы и универсальную символику; и оно же якобы объясняет аналогии между снами, несостоявшимися актами, маниями, аллегориями и человеческими судьбами; говорить о свободе – значит отказаться от возможности объяснить все эти волнующие соответствия. Но нельзя сказать, что идея свободы несовместима с существованием некоторых постоянных факторов. И психоаналитический метод часто может оказаться плодотворным, несмотря на ошибки теории, благодаря тому, что в каждой частной истории есть данные, всеобщий характер которых никто и не думает отрицать. Ситуации и поведение повторяются; момент решения возникает в недрах всеобщности и повторяемости.
«Анатомия – это судьба», – говорил Фрейд; с этим высказыванием перекликаются слова Мерло-Понти: «Тело – это всеобщность». Существование единично, ибо живущие разделены: оно проявляется в аналогичных организмах; значит, связь онтологического и сексуального должна иметь какие-то постоянные параметры. В определенную эпоху технические средства, экономическая и социальная структура некоего коллектива открывают всем своим членам один и тот же мир – так возникает постоянное отношение между сексуальностью и социальными формами; аналогичные индивиды, поставленные в аналогичные условия, уловят в данности аналогичные значения. Эта теория не ведет к непременной универсальности, но позволяет находить в индивидуальных историях всеобщие типы. Символ не представляется нам аллегорией, разработанной таинственным бессознательным, – это постижение определенного значения при посредстве аналога означающего объекта. Из-за того, что экзистенциальная ситуация всех людей идентична и идентична «фактичность», с которой им приходится сталкиваться, для некоторого числа живущих значения открываются одинаковым образом. Символика не упала с неба и не вышла из земных недр – она была выработана, как и язык, человеческой действительностью, которая одновременно является mitsein и разделением. Именно это обстоятельство объясняет, почему в символике находится место и для индивидуального вымысла – на практике психоаналитический метод вынужден это признать, даже если это противоречит его доктрине.
* * *
Данная перспектива позволяет нам, например, понять ценность, обычно признаваемую за пенисом. Эту ценность невозможно обосновать, если не исходить из одного экзистенциального факта: тенденции субъекта к отчуждению. Испытывая тревогу за свою свободу, субъект принимается искать себя в вещах, что есть один из способов бегства от себя. Тенденция эта настолько фундаментальна, что сразу же после отнятия от груди, когда ребенок отделяется от всего, он старается в зеркалах, в родительском взгляде уловить свое отчужденное существование.
В примитивном обществе люди отчуждаются в мане, в тотеме; цивилизованные люди – в своей индивидуальной душе, своем «я», своем имени, собственности, работе – это первое искушение неподлинного бытия. Пенис как нельзя больше пригоден, чтобы играть для маленького мальчика роль «двойника», – он для него одновременно посторонний предмет и он сам; это игрушка, кукла – и его собственная плоть; родители и няньки обращаются с ним, как с маленьким человечком. Тогда понятно, что для ребенка он становится alter ego, которое обычно хитрее и умнее самого индивида. Поскольку функция мочеиспускания, а позже эрекция занимают промежуточное положение между сознательными и самопроизвольными процессами, поскольку пенис представляет собой капризный и почти посторонний источник субъективно ощущаемого удовольствия, субъект полагает его как самого себя и нечто отличное от самого себя. В нем ощутимо воплощается специфическая трансцендентность, и он становится источником гордости; так как фаллос существует отдельно, человек может сделать частью своей индивидуальности превосходящую его жизнь. Тогда понятно, что длина пениса, сила напора при мочеиспускании, эрекции и эякуляции становятся для него мерой собственной ценности.
Скульптура «Фаллос». Амстердам
Таким образом, не вызывает сомнения, что фаллос является телесным воплощением трансцендентности, а поскольку не вызывает сомнения и то, что ребенок чувствует себя трансцендируемым, то есть насильно лишенным трансцендентности отцом, мы приходим к фрейдистской идее комплекса кастрации. Лишенная такого alter ego девочка не отчуждается ни в каком материальном предмете, не восполняет себя – ей приходится сделать объектом всю себя: она полагает себя как Другого. Вопрос о том, сравнивала она себя с мальчиками или нет, второстепенен; главное, что отсутствие пениса, даже не осознаваемое ею, не позволяет ощутить себя представительницей пола; из этого вытекает множество следствий. Но приведенные нами постоянные факторы все же не определяют судьбу человека; фаллос приобретает такую ценность, потому что символизирует господство в других областях. Если бы женщине удалось утвердиться как субъекту, она изобрела бы эквиваленты фаллоса: кукла, воплощающая будущего ребенка, может стать еще более ценным объектом обладания, чем пенис. Существуют общества с материнской филиацией, где у женщин есть маски, в которых отчуждается коллектив; в таком случае слава пениса во многом меркнет. Анатомическая привилегия становится основой для подлинной человеческой привилегии лишь при учете ситуации, взятой во всей ее целостности. Психоанализ смог бы добраться до истины только в историческом контексте.
Точно так же, как недостаточно сказать, что женщина – это самка, нельзя дать ей определение исходя из того, как она осознает свою женственность: она осознает ее в недрах общества, членом которого является. Интериоризируя бессознательное и всю психическую жизнь, сам язык психоанализа подводит к тому, что драма индивида происходит в нем самом – эта мысль присутствует в таких словах, как «комплекс», «тенденции» и т. д. Но жизнь – это отношение с миром; индивид самоопределяется, выбирая себя через мир; и чтобы ответить на интересующие нас вопросы, придется обратиться к миру. В частности, психоанализу не удается объяснить, почему женщина – это Другой. Ибо сам Фрейд признает, что престиж пениса объясняется господствующим положением отца, но что ему ничего не известно о происхождении мужского главенства.
* * *
Не отбрасывая огульно всех достижений психоанализа, многие из которых весьма плодотворны, мы все же вынуждены отказаться от этого метода. Прежде всего, мы не будем ограничиваться тем, чтобы рассматривать сексуальность как данность, – упрощенность такого подхода наглядно демонстрируют описания, касающиеся женского либидо; я уже говорила, что психоаналитики никогда не изучали его непосредственно, но лишь исходя из мужского либидо; похоже, они пребывают в полном неведении относительно амбивалентности влечения, которое мужчина вызывает у женщины.
Фрейдисты и адлерианцы объясняют тревогу, испытываемую женщиной перед мужским членом, как инверсию фрустрированного влечения. Штекель смог разглядеть, что здесь речь идет о первичной реакции, но дал ей поверхностное обоснование: якобы женщина боится дефлорации, проникновения, беременности, боли, и это-де тормозит ее влечение. Объяснение это слишком рационально. Вместо того, чтобы утверждать, что влечение оборачивается тревогой и борется со страхом, следовало бы признать как первичную данность тот одновременно настойчивый и испуганный зов, каким является женское либидо; его характеризует неделимый синтез притяжения и отталкивания. Примечательно, что многие самки животных бегут от совокупления, которого сами же настойчиво домогаются. Их обвиняют в кокетстве и лицемерии, но пытаться объяснять примитивное поведение, проводя параллель с более сложными формами, – чистейший абсурд; это примитивное поведение как раз и является источником того, что у женщины именуется кокетством и лицемерием. Идея «пассивного либидо» приводит в замешательство, так как, ориентируясь на мужской пол, либидо определили как импульс, энергию; но точно так же невозможно априорно представить себе, что свет может быть одновременно желтым и синим, – для этого нужно на опыте познать зеленый цвет. Действительность приобрела бы куда более четкие очертания, если бы вместо туманных определений либидо вроде «энергии» были бы сопоставлены значения сексуальности и других человеческих проявлений, выраженных в понятиях «брать», «хватать», «есть», «делать», «терпеть» и др. Ибо сексуальность – это один из способов постижения объекта. Следовало бы также изучить свойства эротического объекта, каким он представляется не только в половом акте, но и в восприятии вообще. Такое исследование выходит за рамки психоанализа, для которого эротизм – понятие непреложное.
С другой стороны, мы совершенно иначе поставим проблему женской судьбы: мы расположим женщину в мире ценностей и рассмотрим ее поведение в масштабах свободы. Мы считаем, что ей предоставлен выбор между утверждением своей трансцендентности и отчуждением в объекте; она не является игрушкой противоречивых импульсов. Она принимает решения, между которыми существует этическая иерархия. Подменяя ценность авторитетом, выбор – импульсом, психоанализ предлагает эрзац морали – идею нормальности. Идея эта, конечно, очень полезна в медицине. Однако настораживает, какое широкое толкование получила она в психоанализе. Описательная схема предлагается в качестве закона; и, разумеется, механистическая психология не может принять понятия полагания морали; в крайнем случае, она может обосновать «менее», но никогда «более»; в крайнем случае, она признает неудачи, но никогда – созидание. Если субъект не идет по пути, признанному нормальным, считается, что он в своей эволюции остановился на полпути, и остановка эта интерпретируется как недостаток, как нечто негативное, а не как позитивное решение. Из-за этого, в частности, так нелепо выглядит психоанализ великих людей; нам твердят о трансфере, сублимации, которых им не довелось испытать; и никто не предполагает, что они сами, быть может, от них отказались и имели на то весьма веские причины; никто не хочет брать в расчет, что их поведение было мотивировано свободно полагаемыми целями; индивид все время объясняют через его связь с прошлым, а не исходя из будущего, в которое он себя проектирует. Поэтому нам никогда не дают его подлинного образа, а к подлинности едва ли применяют другой критерий, кроме нормальности.
С этой точки зрения описание женской судьбы просто поразительно. В том смысле, который предполагают психоаналитики, «идентифицировать» себя с матерью или отцом – значит отчуждаться в некоем образце, предпочитать спонтанному движению собственного существования посторонний образ, то есть играть в бытие. Нам показывают женщину, разрывающуюся между двумя способами отчуждения; очевидно, что играть в то, чтобы быть мужчиной, заведомо означает идти на провал; но и играть в то, чтобы быть женщиной, тоже значит попасться на крючок; быть женщиной – это быть объектом, Другим; Другой остается субъектом в пределах своего отречения от навязываемой роли. Настоящая проблема для женщины – это, отказавшись от предлагаемых уловок, осуществить себя в своей трансцендентности; речь идет о том, чтобы осознать, какие возможности предоставляет ей так называемое мужское и женское поведение.
Когда ребенок идет по пути, указанному одним из родителей, это может быть свободным перениманием их проектов – его поведение может быть обусловлено выбором, мотивированным определенными целями. Даже у Адлера воля к власти представляет собой некую разновидность абсурдной энергии; любой проект, в котором воплощается трансцендентность женщины, он называет «протестом мужского типа»; если девочка лазает по деревьям, то это, по его мнению, для того, чтобы сравняться с мальчиками, – ему даже в голову не приходит, что лазать по деревьям ей просто нравится. Для матери ребенок – это не «эквивалент пениса», а нечто совсем иное. Создание картин и книг, занятие политикой – это не только «хорошие способы сублимации», но и реализация сознательно поставленных целей. Отрицать это – значит искажать всю человеческую историю.
Отвращение от секса
Безусловно, «анатомическая судьба» мужчины и женщины глубоко различна. Не менее различны их нравственные установки и общественная «ситуация». С первобытных времен до наших дней бытует мнение о том, что постель для женщины – это «служба», за которую мужчина выражает благодарность, преподнося подарки или обеспечивая ее жизнь. Но служить – значит отдаваться хозяину; в таких отношениях нет и намека на взаимность. Чтобы убедиться в этом, стоит лишь вспомнить об отношениях супругов или о существовании проституции: женщина отдается, мужчина берет ее и вознаграждает. Ничто не мешает мужчине завоевать и овладеть женщиной, стоящей ниже его на общественной лестнице, общество всегда терпимо относилось к любовной связи между хозяином и служанкой, однако состоятельная женщина, отдающаяся шоферу или садовнику, вызывает осуждение.
Рассказывая о том, что он переспал с женщиной, мужчина говорит, что он ее «взял» или что он ею «обладал», иногда, говоря об обладании женщиной в грубых выражениях, мужчина заявляет, что он ее «трахнул». Таким образом, для любовника половой акт – это завоевание и победа. Эрекция, когда она происходит у собрата, кажется мужчине похожей на смешную пародию на намеренный половой акт, однако, когда то же самое происходит с ним самим, он извлекает из этого даже некоторое тщеславие. Говоря на эротические темы, мужчины используют военные термины; любовнику свойственна стремительность солдата, его половой член выгибается как лук, эякуляция – это залп, можно подумать, что речь идет о пулемете или пушке; они говорят об атаках, осадах, победах. Для мужчины совокупление – это что-то вроде героического поступка.
«Половой акт, который заключается в оккупации одного существа другим, – пишет Бенда в «Докладе Уриэля», – наводит на мысль о захватчике и захваченной вещи. Поэтому, когда люди обсуждают даже самые цивилизованные любовные отношения, они употребляют такие слова, как победа, атака, приступ, осада, защита, поражение, капитуляция, то есть совершенно явно проводят параллель между любовью и войной. Этот акт приводит к осквернению одного существа другим и внушает осквернителю определенную гордость, оскверненный же, даже если все произошло с его согласия, испытывает унижение».
В этой последней фразе содержится намек на еще один миф, а именно: мужчина пачкает женщину. В действительности, сперма – это не экскремент, и выражение «ночная поллюция» употребляется лишь потому, что в этом случае извержение семени не достигает своей естественной цели. Ведь никто не считает кофе грязью и не говорит, что он засоряет желудок, на том основании, что от него на светлом платье может остаться пятно. Некоторые мужчины считают, что нечистой является женщина, она своими влажными половыми органами пачкает мужчину. Как бы то ни было, превосходство того, кто пачкает другого, довольно зыбко. На деле сильная позиция мужчины основана на том, что его биологически агрессивная роль сочетается с социальной функцией главы, хозяина, эта последняя функция и придает такую большую значимость физиологическим различиям. Будучи повелителем мира, мужчина, как на знак своей власти, претендует на право бурно проявлять свои желания; о мужчине, обладающем большими эротическими возможностями, говорят, что он сильный, мощный – это определения, характеризующие его активность и трансценденцию. И напротив, поскольку женщина является лишь объектом, о ней говорят, что она горячая или холодная, иначе говоря, предполагается, что она способна обнаружить только пассивные качества…
Мужчина же отвергает пассивную роль. Впрочем, часто в силу обстоятельств девушка становится добычей мужчины, ласки которого волнуют ее, но на которого ей не хочется смотреть и которого не хочется ласкать. Нужно также подчеркнуть, что отвращение, которое примешивается к желанию женщины, объясняется не только ее страхом перед мужской агрессивностью, но и чувством глубокой ущемленности: ей приходится достигать наслаждения в борьбе с непроизвольными порывами своей чувственности, тогда как у мужчины зрительное и осязательное удовольствие сливается с собственно сексуальным.
В самой пассивной эротике немало двусмысленного. Нет, например, ничего более неоднозначного, чем прикосновение. Многие мужчины могут без всякого отвращения вертеть в руках любой предмет, но не терпят прикосновения травы или животного, от прикосновения к шелку, бархату одни женщины замирают от удовольствия, другие вздрагивают; помню, как одна моя подруга молодости покрывалась гусиной кожей только при виде персиков; переход от смятения к щекотке, от раздражения к удовольствию происходит очень легко; руки, обхватывающие тело, могут оберегать и защищать его, но могут и сжимать, душить. Такое двойственное восприятие характерно для девственницы из-за ее парадоксального положения; тот орган, где должно завершиться ее превращение в женщину, закрыт девственной плевой. Смутный и жгучий призыв растекается по всему ее телу, но не проникает именно в то место, где должен произойти половой акт. У девственницы нет никакого органа, благодаря которому она могла бы удовлетворить активное эротическое желание; у нее также нет жизненного опыта мужчины, который обрекает ее на пассивность.
Женский оргазм. Художник Владислав Подковинский
Стать пассивным объектом – это совсем не то же самое, что быть им; влюбленная женщина не спит, она не мертва, в ней пульсирует, то усиливаясь, то ослабляясь, эротическое чувство; в момент его ослабления каким-то колдовским образом возникает желание. Но равновесие между приливом страсти и ее отливом легко может быть нарушено. Желание мужчины выражается в напряжении; натянутые нервы и напряженные мускулы не могут быть ему помехой; позы и жесты, сознательные действия не уменьшают его желания, часто, напротив, увеличивают его. Что касается женщины, то каждое ее сознательное усилие мешает ей «погрузиться» в желание; именно поэтому женщина непроизвольно отвергает те формы полового акта, которые требуют от нее физических усилий и напряжения; слишком резкие и многочисленные изменения поз, требование сознательных действий – жестов или слов – разрушают колдовство. Сильное, раскрепощенное сексуальное желание может вызвать подергивание, сокращение и напряжение мускулов; в этот момент некоторые женщины царапаются, кусаются, их тело выгибается с необычайной силой; но все эти явления происходят лишь тогда, когда желание достигает пароксизма, а для этого в качестве предварительного условия необходимо отсутствие какого-либо принуждения, как физического, так и морального. Только в этом случае вся жизненная энергия женщины может сконцентрироваться на сексуальном желании. Все это означает, что девушке недостаточно позволять делать с собой все «что угодно; ее послушание, томность и бездействие не могут принести удовлетворения ни ее партнеру, ни ей самой…
* * *
Роль мужчины как сексуального воспитателя женщины определяется как его физиологическими особенностями, так и нравами, царящими в обществе. Конечно, для юноши-девственника такой воспитательницей является его первая любовница; но он обладает эротической автономностью, которая недвусмысленно проявляется в эрекции; в любовнице он находит лишь тот реальный объект, обладать которым он страстно желает, он находит женское тело. Девушке же для того, чтобы познать собственное тело, необходим мужчина, она полностью зависит от него. Уже в своем первом опыте мужчина обычно проявляет активность и решительность, независимо от того, платит ли он своей партнерше или в течение того или иного срока ухаживает за ней и добивается ее благосклонности. И, наоборот, в большинстве случаев за девушкой ухаживают, ее благосклонности добиваются; даже если она сама сознательно привлекает внимание мужчины, он тут же берет в свои руки инициативу в развитии их отношений. Часто он бывает старше и опытнее.
Считается, что за эту новую для нее страницу жизни ответственность несет мужчина, поскольку его желание более агрессивно и властно. Именно мужчина, будь он любовником или мужем, ведет ее на ложе, ей же остается лишь отдаться на его волю и повиноваться. Даже если мысленно она признает его власть, в тот момент, когда ей приходится подчиниться, ее охватывает паника. И, прежде всего, она боится мужского взгляда, который ее парализует. Стыдливость девушки отчасти внушена ей, но у нее есть также глубокие корни, уходящие в сущность человеческой природы; и мужчинам и женщинам знаком стыд за свою плоть, в своем чисто статичном виде, в своей неоправданной имманентности плоть существует под взглядом другого человека как абсурдная случайность предметного мира, и в то же время она является самой собой, и ей хотят помешать существовать для другого, хотят ее отрицания.
Некоторые мужчины говорят, что могут показаться женщине в обнаженном виде только в состоянии эрекции. Действительно, мужская плоть в состоянии эрекции становится сильной, мощной, половой член перестает быть инертным предметом, но, как рука или лицо, становится властным выражением субъективности. Это одна из причин, по которой стыдливость не оказывает на молодых людей такого же парализующего действия, как на женщин; агрессивная роль как бы оберегает их от взгляда партнерши; и даже если на них глядят, они могут не опасаться, что о них вынесут недоброжелательное суждение, поскольку любовницы требуют от них, прежде всего, не пассивных качеств. Поэтому у мужчин комплекс неполноценности касается скорее сексуальной силы и умения доставить женщине удовольствие; во всяком случае, у них есть возможность защищаться, пытаться добиться успеха. Женщине же не дано превращать свою плоть в волю; как только она перестает прятать свою плоть, она становится совершенно беззащитной; даже если она стремится к ласкам, ее возмущает мысль о том, что на нее смотрят, к ней прикасаются; тем более что самыми эрогенными частями тела являются грудь и ягодицы. Многим взрослым женщинам неприятно, когда на них, даже одетых, смотрят со спины; можно себе представить, какое внутреннее сопротивление должна преодолеть наивная влюбленная девушка для того, чтобы согласиться показаться обнаженной. Конечно, какая-нибудь Фриния не боится взглядов, она величественна в своей наготе, красота служит ей покрывалом. Но девушка, даже если она так же прекрасна, как Фриния, еще не уверена в этом; она не может высокомерно гордиться своим телом до тех пор, пока восхищение мужчины не подтвердит ее девичьего тщеславия. Но и оно пугает девушку; ведь любовник еще опаснее, чем просто любующийся ею мужчина, любовник – это судья, он заставит ее увидеть себя в истинном свете.
Любая девушка, даже страстно влюбленная в свой образ, трепещет в ожидании мужского приговора. Вот почему она требует полумрака, прячется в простыни. Когда она любовалась собой в зеркале, она лишь грезила, причем грезила о себе как бы глазами мужчины. Теперь эти глаза перед ней, и она должна выдержать их взгляд наяву, их невозможно обмануть, с ними невозможно бороться: в этих глазах неведомая ей свобода Другого, который принимает решение, решение безапелляционное. В реальном эротическом испытании ее детские и девичьи наваждения либо рассеются, либо навсегда закрепятся; многие девушки страдают от того, что у них слишком толстые ноги, слишком плоская или, наоборот, слишком тяжелая грудь, слишком узкие бедра, стыдятся какой-нибудь бородавки или опасаются какого-нибудь скрытого физического недостатка.
«В любой девушке живут разнообразные смехотворные страхи, в которых она и себе-то едва смеет сознаться, – пишет Штекель. – Трудно поверить, что множество девушек страдают от навязчивых идей, полагая, что в их физическом строении что-то ненормально, или мучаются втайне, поскольку не уверены в том, что они физически нормальны. Так, одна девушка полагала, что ее «нижнее отверстие» находится не на месте. Она думала, что совокупление происходит через пупок, и терзалась оттого, что у нее в пупке отверстия не было, и палец туда не входил. Другая девушка считала себя гермафродитом. Еще одной казалось, что она изуродована и никогда не сможет жить половой жизнью».
Даже если девушки не страдают от наваждений, их пугает тот факт, что некоторые части их тела, которые раньше не существовали ни для них самих, ни для кого-либо иного, скоро будут в центре внимания. Какие чувства будет вызывать ее облик, еще незнакомый ей самой, но который ей придется осознать как свой собственный? Отвращение? Равнодушие? Иронию? Ей не остается ничего, кроме ожидания мужского приговора: ставки сделаны! Именно поэтому поведение мужчины имеет такое большое значение. Его пыл и нежность могут внушить женщине такую уверенность в себе, которую ничто не сможет поколебать; до глубокой старости она будет считать себя райской птицей, роскошным цветком, распустившимся однажды ночью навстречу желанию мужчины.
И, напротив, из-за неумелого поведения любовника или мужа у женщины может возникнуть комплекс неполноценности, который в некоторых случаях даст толчок к развитию длительных неврозов, в ней может зародиться озлобленность, которая проявится в стойкой фригидности. У Штекеля приводятся поразительные примеры подобной реакции женщин: «Одна тридцатилетняя женщина в течение четырнадцати лет страдала такими невыносимыми поясничными болями, что ей приходилось целыми неделями лежать в постели… Впервые она их почувствовала во время первой брачной ночи. Лишая ее девственности, что происходило для нее очень болезненно, ее муж воскликнул: «Ты меня обманула, ты – не девушка…» Эта тягостная сцена продолжает жить в ней в виде боли. Для мужа эта болезнь является наказанием, поскольку ему пришлось потратить немало денег на многочисленные курсы лечения… Ни в первую брачную ночь, ни в последующей супружеской жизни эта женщина не испытывала сексуального наслаждения. Первая брачная ночь стала для нее ужасной травмой и повлияла на всю ее жизнь».
«Ко мне обратилась молодая женщина с жалобами на нервную систему и особенно на полную фригидность… По ее словам, в первую брачную ночь ее муж, раздев ее, воскликнул: «Какие у тебя короткие и толстые ноги!» Затем он совершил половой акт, который не доставил ей никакого удовольствия, напротив, причинил боль… Она прекрасно понимала, что фригидна потому, что в первую брачную ночь подверглась оскорблению».
«Другая фригидная женщина рассказывает, что в первую брачную ночь муж глубоко оскорбил ее; когда она раздевалась, он, как она утверждает, сказал: «Господи, какая же ты худая». И хотя после этого он приласкал ее, она никогда не могла забыть этого ужасного момента. Какая грубость!».
«Г-жа З. В. также совершенно фригидна. Она пережила глубокую травму в свою первую брачную ночь, потому что после совокупления муж, как она рассказывает, заявил ей: «У тебя большое отверстие, ты меня обманула».
* * *
Его [мужчины] взгляд таит опасность, руки – угрозу. Как правило, девушка незнакома с отношениями, основанными на применении силы, ей не пришлось пройти через испытания, которые мужчина преодолевал, вступая в драки в детстве или юношестве, она не знает, что значит быть бессильной плотью и находиться во власти другого человека. И вот теперь она в руках мужчины, который гораздо сильнее ее. Мечты разрушены, у нее нет возможности ни отступить, ни прибегнуть к хитрости, она находится во власти самца, и он может делать с ней все, что хочет. Она цепенеет от его объятий, которые так похожи на неведомую ей борьбу. Она позволяла себя ласкать жениху, товарищу, коллеге, словом, воспитанному и вежливому мужчине, и вдруг он превратился в чужого, эгоистичного и упрямого самца, перед которым она чувствует себя совершенно беспомощной.
Нередко бывает, что из-за отвратительной грубости мужчины первое совокупление девушки превращается в настоящее насилие. В деревне, например, где царят грубые нравы, крестьянская девушка, принимающая ухаживания партнера, но не желающая идти до конца, легко может лишиться девственности в какой-нибудь канаве, испытывая стыд и ужас. Но и в других слоях общества и классах девственница чаще всего подвергается грубому обращению либо со стороны эгоистичного любовника, который думает лишь о своем удовольствии, либо со стороны мужа, уверенного в своих супружеских правах и воспринимающего сопротивление жены как оскорбление и даже приходящего в ярость, если дефлорация оказывается делом нелегким.
Впрочем, даже если мужчина ведет себя в этой ситуации иначе и преисполнен учтивости, первое совокупление для нее – это всегда насилие. Девушка ожидает, что ее будут целовать в губы или ласкать ее грудь, стремится к уже знакомому ей или предугадываемому половому наслаждению. Вместо этого мужчина разрывает ее девственную плеву и проникает туда, куда она его не призывала. Существует немало рассказов о том, как девушка, изнемогающая от восторга в объятиях мужа или любовника, уверовавшая в то, что она достигла осуществления своей сладострастной мечты, вдруг с ужасом ощущает острую боль, происхождение которой не может понять; все ее мечты развеиваются, любовное томление исчезает, и любовь становится подобием хирургической операции.
Но лишение девственности может быть мучительным даже в том случае, когда происходит с согласия девушки. Мы знаем, какие страсти бушевали в молодой Айседоре Дункан. Она познакомилась с очень красивым актером и влюбилась в него с первого взгляда; он в свою очередь пылко ухаживал за ней.
«Я тоже была в смятении, у меня кружилась голова, меня охватывало желание обнимать его еще крепче. В конце концов, однажды вечером он потерял всякий контроль над собой и, словно охваченный безумием, схватил меня и понес на диван. Так, испытывая страх, замирая от восторга, а затем крича от боли, я узнала, что такое любовь. Должна признаться, что сначала я была страшно испугана и ощущала острую боль, как если бы мне сразу вырвали несколько зубов; но мой возлюбленный так страдал, и мне было так жаль его, что я не протестовала против того, что сначала показалось мне членовредительством и пыткой… (На следующий день) то, что было для меня тогда лишь болью и мукой, началось опять; я стонала и кричала, как будто меня истязали. Мне казалось, что я искалечена».
* * *
Однако в реальных половых отношениях, так же как раньше в девичьем воображении, на первый план выступает не боль, значительно более важную роль играет проникновение полового члена во влагалище. Мужчина совершает половой акт внешним органом; женщина же должна позволить проникновение внутрь себя. Конечно, многим юношам приходится преодолеть страх, чтобы отважиться проникнуть в тайники женского тела; они боятся этого так же, как в детстве боялись темных пещер и склепов или таинственных существ, способных вцепиться зубами, поранить, застигнуть врасплох; им кажется, что их увеличившийся в размере пенис застрянет в половой щели; у женщины нет ощущения опасности при проникновении в нее пениса; зато у нее возникает впечатление, что ее тело перестает принадлежать ей.
Юпитер соблазняет Олимпиаду. Художник Джулио Романо
Хозяин земли или хозяйка дома утверждают свои права предупреждением «не входить»; женщины из-за того, что их лишают трансцендентности, особенно тщательно охраняют все, что окружает их в личной жизни: их комната, шкаф, шкатулка – неприкосновенны. Что касается девушки, то у нее, напротив, нет ничего, кроме собственного тела, это ее самое драгоценное сокровище; проникая в ее плоть, мужчина берет ее; это простонародное слово выражает суть житейского опыта. Унижение, которое она испытала во время полового акта, переходит в конкретные чувства: она придавлена, покорена, побеждена…. Женщина чувствует себя орудием, вся свобода принадлежит Другому.
Наконец, есть еще один фактор, из-за которого мужчина и половой акт кажутся опасными, – это угроза беременности. Почти во всех обществах незаконнорожденный ребенок создает столько социальных и экономических проблем для женщины, что иногда девушки, забеременев, кончают с собой, а матери-одиночки убивают новорожденных.
Имеет ли женщина дело с любовником или мужем, отсутствие абсолютного доверия к своему партнеру вызывает в ней осторожность, парализует ее эротизм. Она или с тревогой следит за действиями мужчины, или сразу же после совокупления бежит в ванную, чтобы удалить из себя семя, попавшее в нее против ее воли. Эта гигиеническая операция резко разрушает чувственную магию ласки, подчеркивает разделение тел, только что слившихся в общем наслаждении. Фригидность женщины нередко объясняется ее отвращением к спринцовке, кружке, биде.
Более надежные и удобные противозачаточные средства в значительной мере способствуют сексуальному раскрепощению женщины. Благодаря этим средствам женщины полнее отдаются сексуальным порывам. Но для того, чтобы примириться с необходимостью использования противозачаточных средств, а, следовательно, смотреть на свое тело как на вещь, женщине также приходится преодолеть внутреннее сопротивление. Когда-то мысль о том, что мужчина «пронзит» ее, вызывала у нее озноб; теперь ее удручает мысль о том, что для удовлетворения желаний мужчины она должна «закупорить» себя. Закроет ли она проход в матку или вставит в нее тампон, убивающий сперматозоиды, женщину, осознающую особенности функционирования своего тела и трудности достижения равновесия в сексуальных отношениях, будет смущать такая холодная преднамеренность.
Многие мужчины также не любят прибегать к презервативу, Только вся совокупность сексуального поведения способна оправдать его отдельные моменты. Сексуальные жесты, которые при холодном анализе могли бы внушить отвращение, кажутся вполне естественными, когда тела партнеров преображаются под влиянием эротического желания. И, наоборот, при расчленении сексуального поведения на отдельные, лишенные смысла элементы, эти элементы могут показаться грязными и непристойными. Совокупление, которое влюбленная женщина воспринимает как единение, слияние с любимым, при отсутствии любовного смятения, желания, наслаждения превращается в ту неприятную хирургическую операцию, каковой оно является по мнению детей. Таков эффект предусмотрительного употребления презерватива, даже когда на него согласны обе стороны.
* * *
Один преподаватель американского колледжа говорил мне, что его ученицы теряют девственность задолго до того, как становятся женщинами. Некоторые девушки бросаются в многочисленные эротические похождения, чтобы избежать страха перед сексуальными отношениями; кроме того, они надеются избавиться таким образом от любопытства и различных наваждений; однако часто их поступки сохраняют сугубо теоретический характер и поэтому не имеют отношения к реальности, точно так же, как те фантазии, с помощью которых девушки предвосхищают будущее. Отдаваясь для того, чтобы бросить кому-либо вызов, а также из страха или пуританского рационализма, девушка не испытывает истинных эротических ощущений, она может пережить лишь какой-то их эрзац, лишенный опасности и большой привлекательности. В этом случае половой акт не сопровождается ни страхом, ни стыдом, потому что она не чувствует глубокого любовного смятения, а удовольствие не охватывает всей ее плоти.
Лишенная таким образом девственности, девушка, в сущности, остается девственницей, и очень вероятно, что в день, когда жизнь толкнет ее в объятия чувственного и властного мужчины, она будет сопротивляться ему, как это обычно делают девушки. Пока же этого не случилось, она похожа на девочку переходного возраста; когда ее ласкают, ей щекотно, когда целуют, смешно; для нее физическая любовь – это что-то вроде игры, и если она не в настроении развлекаться подобным образом, требования любовника кажутся ей грубыми и быстро надоедают; у нее сохраняются отвращение, навязчивые страхи и стыдливость, свойственные девочке-подростку. Если она никогда не преодолеет подобного отношения к эротике, то проживет всю свою жизнь в состоянии полуфригидности.
Здесь мы касаемся основной проблемы женской эротики; в начале эротической жизни самоотречение женщины не компенсируется интенсивным и легко достигаемым наслаждением. Ей было бы значительно легче пожертвовать стыдливостью и гордостью, если бы она знала, что эта жертва ведет ее к райскому блаженству. Но, как мы уже видели, лишение девственности не является счастливым завершением девичьего этапа эротики; напротив, для девушки это совершенно неожиданное явление; влагалищное наслаждение появляется не сразу; по статистике, приведенной Штекелем и подтверждаемой многими сексологами и психиатрами, во время первого совокупления удовольствие получают лишь 4 процента женщин; 50 процентов испытывают влагалищное наслаждение лишь через несколько недель, месяцев, а иногда и лет. Главную роль здесь играют психические факторы. Женское тело отличается своеобразной «истеричностью» в том смысле, что нередко у женщины между осознаваемыми фактами и их органическим выражением не существует никакой дистанции; моральное сопротивление женщины не позволяет ей испытывать удовольствие; если это сопротивление ничем не компенсируется, оно долго не ослабляется и образует мощное препятствие для удовлетворения сексуального желания. Часто возникает порочный круг: первая неловкость, совершенная любовником, неделикатное слово или жест, высокомерная улыбка отражаются на всем медовом месяце или даже на всей супружеской жизни.
Молодая женщина не испытывает удовольствия, разочаровывается, и в ней зарождается озлобленность, которая мешает ей достичь гармонии в сексуальной жизни. Правда, мужчина, которому не удается удовлетворить женщину нормальным путем, может доставить ей удовольствие через клитор и таким образом расслабить и умиротворить ее, что бы там ни говорилось в нравоучительных легендах. Однако многие женщины не хотят этого, потому что клиторное удовольствие в большей степени, чем влагалищное, воспринимается как навязанное извне; женщина, разумеется, страдает от эгоизма мужчины, который думает лишь о собственном удовлетворении, но ей также неприятно слишком открыто проявляемое желание доставить ей удовольствие. «Доставить наслаждение другому, – говорит Штекель, – значит получить над ним власть; отдаться кому-либо – значит отречься от своей воли».
* * *
В то же время в девушке наблюдается желание ощущать чье-либо господство. По мнению некоторых психоаналитиков, женщинам присущ мазохизм, и именно это свойство их натуры помогает им приспособиться к своей эротической судьбе. Заметим, однако, что понятие «мазохизм» весьма запутанно, и нам следует подробно рассмотреть его. Вслед за Фрейдом психоаналитики различают три формы мазохизма; одна из них заключается в связи болезненных ощущений с чувственностью, вторая состоит в том, что в любви женщина соглашается на подчиненное положение, а третья – в существовании у нее некоего механизма самонаказания. Психоаналитики утверждают, что женщине свойствен мазохизм, потому что при потере девственности и родах удовольствие якобы бывает связано с болезненными ощущениями, а также потому, что она мирится со своей пассивной ролью в любви.
Прежде всего, следует заметить, что болезненные ощущения играют определенную роль в эротических отношениях, не имеющую ничего общего с пассивным подчинением. Нередко боль поднимает тонус испытывающего ее индивида, пробуждает чувствительность, притупленную сильным любовным смятением и удовольствием; она напоминает яркий луч, вспыхивающий во тьме плотских ощущений, отрезвляет влюбленных, млеющих в ожидании наслаждения, с тем, чтобы позволить им вновь погрузиться в состояние этого ожидания. В порыве нежной страсти любовники нередко причиняют друг другу боль. Полностью погруженные во взаимное плотское наслаждение, они стремятся использовать все формы контактов, единения и противоборства. В пылу любовной игры человек забывает самого себя, приходит в исступление, в экстаз.
Страдание также разрушает границы личности, доводит чувства человека до пароксизма, заставляет его превзойти самого себя. Боль всегда играла значительную роль в оргиях; известно, что высшее наслаждение может граничить с болью: ласка иногда превращается в пытку, а мучение может доставлять удовольствие. Обнимаясь, любовники нередко кусают, царапают, щиплют друг друга; такое поведение не свидетельствует об их садистских наклонностях, в нем выражается стремление к слиянию, а не к разрушению, субъект, на которого оно направлено, вовсе не стремится к самоотрицанию или самоунижению, он жаждет единения. К тому же такое поведение свойственно отнюдь не только мужчинам. Дело в том, что боль может быть признаком мазохизма лишь тогда, когда она добровольно принимается как знак рабского подчинения. Что же касается боли, испытываемой при потере девственности, то она как раз не сопровождается никаким удовольствием, а муки при родах внушают страх всем женщинам, и они очень радуются тому, что современные методы могут им принести облегчение. Боль занимает абсолютно одинаковое место в чувственности женщины и мужчины.
Следует также отметить, что женская покорность – это весьма неоднозначное понятие. Как мы видели, в большинстве случаев девушки в воображении принимают господство полубога, героя, мужчины, но это всего лишь следствие их склонности к самолюбованию. На деле они нисколько не расположены терпеть подобное господство, если оно выражено в плотских отношениях. Напротив, они нередко отвергают мужчину, вызывающего в них восхищение и уважение, и доверяются человеку, не обладающему над ними никакой властью.
Не следует забывать, что в сексуальных отношениях женщине действительно обычно принадлежит пассивная роль; однако в конкретном воплощении в жизнь этой пассивности нет ничего мазохистского, впрочем, так же как в нормальной агрессивности мужчины нет ничего садистского; из ласки, любовного смятения и совокупления женщина либо сама извлекает удовольствие и тем самым утверждает свое «я», либо она стремится к единению с любовником, жаждет отдаться ему, что означает, что она превосходит себя, но отнюдь не отрекается от себя. Мазохизм заключается в том, что индивид сознательно отдает себя во власть сознания другого человека, который превращает его в вещь в чистом виде; при этом индивид сам себя осознает как вещь, играет роль вещи. «Мазохизм является не попыткой соблазнить другого собственной объективностью, а попыткой соблазнить самого себя собственной объективностью для другого».
* * *
О мазохизме можно говорить тогда, когда «я» существует отдельно от индивида и этот отчужденный двойник мыслится обоснованным свободой другого человека. В этом смысле некоторые женщины действительно являются мазохистками. К этому предрасположены девушки, которым свойственно самолюбование, ведущее к отчуждению собственного «я». Если в самом начале эротической жизни им случается пережить глубокое смятение и желание, они познают подлинные чувства и ощущения любви, и тот идеал, который они называли своим «я», исчезает; но если в начале эротической жизни девушку подстерегает фригидность, это «я» утверждается, и в том, что она превращается в вещь, принадлежащую мужчине, девушка видит свою вину. А ведь «мазохизм, так же как садизм, – это осознание чувства вины. Я виновен уже потому, что являюсь вещью». Эта мысль Сартра сближается с фрейдовским понятием самонаказания. Девушка видит свою вину в том, что она отдает свое «я» другому человеку, и наказывает себя за это, сознательно все глубже погружаясь в униженное и подчиненное состояние; как мы уже видели, девственницы мысленно противостоят своим будущим любовникам; предчувствуя свое скорое поражение, они в качестве наказания подвергают себя различным пыткам; имея дело с реальным любовником, они упрямо продолжают следовать той же линии поведения.
Нам известно также, что сама фригидность – это возмездие, налагаемое женщиной на самое себя и на партнера; из-за уязвленного тщеславия у девушки возникает обида на любовника и на самое себя, поэтому она запрещает себе испытывать удовольствие. Девушка-мазохистка исступленно отдается в рабство мужчине, говорит ему о своем обожании, стремится к унижению, побоям; тот факт, что она согласилась на отчуждение собственного «я», вызывает в ней ярость, углубляющую отчуждение. Именно так ведет себя Матильда де ля Моль: она в бешенстве от того, что отдалась Жюльену, именно поэтому она падает к его ногам, хочет покориться всем его капризам, приносит ему в жертву свои роскошные волосы; но в то же время она восстает и против него, и против самой себя; мы догадываемся, что в его объятиях она холодна, как лед.
Фригидная Венера. Художник Питер Пауль Рубенс
Притворное самозабвение женщины-мазохистки создает новые помехи, преграждающие ей путь к наслаждению, в то время, как она мстит себе именно за неспособность познать его. Порочный круг, в котором женщина движется от фригидности к мазохизму, может навсегда замкнуться и толкнуть ее в качестве компенсации к садистскому поведению. Возможно также, что эротическое созревание избавит женщину от фригидности и самолюбования, она осознает истинный смысл своей сексуальной пассивности и, перестав играть в нее, действительно ее переживет. Ибо парадокс мазохизма заключается в том, что самоотречение субъекта требует от него постоянных усилий; забыться же он может, лишь отдаваясь другому в стихийном порыве, без всякой задней мысли. Итак, женщина действительно более склонна, чем мужчина, к мазохистскому искушению, ее положение пассивного эротического объекта толкает ее на игру в пассивность, которая в свою очередь представляет собой самонаказание, вытекающее из ее бунтарского самолюбования и его следствия – фригидности; факт остается фактом: среди женщин и, особенно, среди девушек мазохизм очень распространен.
* * *
Сексуальная жизнь женщины зависит не только от всего описанного выше, но и от ее социального и экономического положения. Более глубокое изучение этой темы без учета социально-экономического контекста может привести к выводам, далеким от реальности. Однако из уже проделанного нами анализа можно сделать некоторые заключения общего характера. Эротика – это одна из тех областей действительности, в которой люди наиболее остро чувствуют двойственность своей натуры; в эротическом опыте они ощущают себя и плотью, и духом; и Другим, и субъектом. Этот конфликт приобретает действительно драматический характер для женщины, поскольку в начале эротической жизни она осознает, что является лишь объектом, а также потому, что ей нужно время для того, чтобы научиться достигать сексуального удовольствия; познавая особенности своей плотской натуры, она в то же время вынуждена вести борьбу, чтобы вернуть себе утраченное достоинство трансцендентного и свободного субъекта; это непростое и рискованное предприятие; многим женщинам не удается довести его до успешного конца. Но именно благодаря сложности проблем, с которыми они сталкиваются, им удается избежать заблуждений, свойственных мужчинам, которые охотно верят в такие свои обманчивые преимущества, как агрессивная роль и исключительная способность испытывать оргазм; мужчины не без колебаний осознают в себе плоть. Представление женщины о себе более достоверно.
Однако даже если женщина более или менее хорошо приспосабливается к пассивной роли, она всегда чувствует себя лишенной многих возможностей, свойственных активному индивиду. И если она и завидует мужчине, то не оттого, что у него имеется орган обладания, а оттого, что ему дана способность овладевать добычей. Странный парадокс заключается в том, что чувственный мир, окружающий мужчину, состоит из мягкости, нежности, приветливости, – словом, он живет в женском мире, тогда как женщина бьется в суровом и жестком мире мужчины; из-за этого в ней сильно желание прикасаться к гладкой коже, к мягким округлым формам, ей нравится поглаживать цветы или мех, ласкать ребенка, подростка или женщину; немалая часть ее личности остается невостребованной, она стремится к обладанию сокровищем, подобным тому, которое женщина дарит мужчине.
Именно этим объясняется свойственная многим женщинам, хотя и не всегда явно выраженная, склонность к лесбийской любви. У некоторых женщин эта склонность под воздействием целого комплекса сложных причин проявляется с особой силой. Не все женщины прибегают к классическому решению своих сексуальных проблем, то есть к тому единственному решению, которое признано обществом.
Лесбиянство
Лесбиянок часто изображают в фетровой шляпе, коротко остриженных и в строгом костюме; говорят, что причиной их сходства с мужчинами является отклонение от нормы, вызываемое гормональными нарушениями. Однако нет ничего более ошибочного, чем смешение лесбиянки и мужеподобной женщины. Немало лесбиянок встречается среди одалисок, придворных дам, то есть среди самых что ни на есть «женственных» женщин; и напротив, многие мужеподобные женщины не являются лесбиянками. Сексологи и психиатры подтверждают то, что явствует из обычных наблюдений: подавляющее большинство «проклятых женщин» с точки зрения анатомии ничем не отличаются от других женщин. Никакая «анатомическая судьба» не предопределяет особенностей их сексуального влечения.
Разумеется, иногда в силу физиологических причин возникают особые случаи. Между двумя полами нет строгих биологических различий; идентичное тело изменяется под гормональным воздействием, направленность которого в принципе определяется генотипом, но может в течение развития зародыша отклониться в сторону; такие отклонения приводят к возникновению индивидов, не являющихся ни мужчинами, ни женщинами. Некоторые мужчины бывают похожи на женщин из-за позднего полового созревания; случается, что девушки – особенно спортсменки – вдруг превращаются в юношей. Х. Дейч рассказывает историю одной девушки, которая пылко ухаживала за замужней женщиной, хотела похитить ее и жить с ней вместе; и вдруг однажды она обнаружила, что превратилась в мужчину; она смогла жениться на своей возлюбленной, у них родились дети.
Однако из сказанного не следует, будто в каждой лесбиянке за обманчивыми формами скрывается мужчина. Нередко у гермафродитов, имеющих обе половые системы в неразвитом состоянии, наблюдается сексуальное поведение, свойственное женщинам. Я знала одну такую женщину; она была в отчаянии от того, что не могла привлечь внимание ни гетеросексуальных мужчин, ни педерастов, в то время как ей самой нравились только мужчины. Под воздействием мужских гормонов у мужеподобных женщин развиваются вторичные половые признаки, свойственные мужчинам; что касается инфантильных женщин, то у них женские гормоны вырабатываются в недостаточном количестве и их половое развитие остается незавершенным.
Эти физиологические особенности могут прямо или опосредованно толкнуть женщину к лесбийской любви. Женщина, в которой кипят жизненные силы, которой свойственны страстность и агрессивность, стремится быть активной и, как правило, отвергает пассивность; если женщина некрасива или имеет врожденные физические недостатки, она может попытаться компенсировать свою неполноценность, приобретя мужские качества; если у нее неразвиты эрогенные зоны, она не чувствует потребности в мужских ласках, Однако анатомия и гормоны создают лишь определенную предрасположенность, но отнюдь не определяют сексуальную ориентацию женщины. Х. Дейч приводит историю одного раненого польского легионера, за которым она ухаживала во время войны 1914–1918 годов. На самом деле это была девушка с явно выраженными мужскими вторичными половыми признаками; она пошла в армию сначала в качестве сестры милосердия, а затем сумела стать солдатом; это не помешало ей влюбиться в своего сослуживца (впоследствии она вышла за него замуж), и из-за этого ее считали гомосексуалистом. Таким образом, несмотря на мужеподобные внешние проявления, ей была свойственна эротика женского типа. Бывают случаи, когда и мужчины испытывают сексуальное влечение не только к женщинам; мужчина может быть гомосексуалистом, обладая полноценным мужским организмом, а мужеподобная женщина вовсе не обязательно обречена на лесбийскую любовь.
* * *
Большой заслугой психоаналитиков явилось то, что они стали рассматривать извращение не как органическое, а как психическое явление; однако и им представляется, что извращение порождается внешними обстоятельствами. Впрочем, они мало занимались этим вопросом. По мнению Фрейда, в процессе развития женской эротики обязательно происходит переход от клиторной стадии к влагалищной, который ученый сравнивает с другим переходом, заключающимся в том, что, подрастая, девочка переносит любовь, питаемую ею первоначально к матери, на отца; различные причины могут помешать развитию этого процесса; например, женщина не может смириться со своим состоянием кастрата или не хочет признаться самой себе, что у нее отсутствует пенис, вся ее любовь концентрируется на матери, и она ищет кого-нибудь, кто мог бы ее заменить.
По мнению Адлера, остановка в развитии эротики – это не случайное и не пассивно воспринимаемое событие, она совершается по воле женщины, которая, стремясь реализовать бушующие в ней силы, сознательно отрицает свою неполноценность и старается стать вровень с мужчиной, господство которого ей претит. Но будь то остановка эротического развития на инфантильной стадии или протест мужеподобной женщины, для Адлера женский гомосексуализм представляет собой незавершенность эротического развития. На деле лесбиянка не является ни «несостоявшейся» женщиной, ни женщиной «высшего» типа. Индивид в своем развитии не обязательно движется по пути прогресса: на каждом этапе развития прошлое переосмысляется в связи с новым выбором, и, если индивид склоняется к тому, что считается «нормальным», это не придает его выбору никакой особой значимости; о выборе следует судить по его соответствию природным свойствам индивида. Лесбийская любовь может быть для женщины как бегством от своего естественного состояния, так и его осознанием. Основная вина психоаналитиков заключается в том, что из морализаторского конформизма они всегда рассматривают лесбийскую любовь как неаутентичное поведение.
Женщина – это такое существо, от которого требуют, чтобы она превратилась в объект; однако, будучи субъектом, она обладает агрессивной чувственностью, которую может удовлетворить лишь при контакте с телом мужчины, – это источник конфликтов, которые женской эротике необходимо разрешить. Нормальными считаются такие отношения, при которых женщина сначала становится добычей самца, а затем, с рождением ребенка, вновь приобретает самостоятельность; но ведь «естественность» этих отношений соответствует более или менее понятному социальному интересу. Даже гетеросексуальные отношения предоставляют и другие возможности. Лесбийская любовь – это одна из попыток примирить независимость женщины с пассивностью ее плоти.
И если уж говорить о природных наклонностях, то можно заметить, что у любой женщины есть сексуальная тяга к лицам своего пола. Для лесбиянки характерен отказ от отношений с мужчиной и влечение к женской плоти; но ведь все девочки-подростки испытывают страх перед половым актом, страшатся господства мужчины, с некоторым отвращением относятся к мужскому телу; и напротив, для них, так же как для мужчин, женское тело является чем-то желанным.
Я уже говорила о том, что мужчины, подчеркивая свои качества субъекта, одновременно подчеркивают свою независимость от другого человека; рассматривать другого как вещь, которой можно овладеть, – это значит через другого утверждать в себе мужской идеал; напротив, женщина, признающая себя вещью, видит в себе подобных и в себе самой добычу. Педераст вызывает враждебное отношение со стороны гетеросексуальных мужчин и женщин, потому что они требуют, чтобы мужчина был властным субъектом, что касается лесбиянок, то к ним представители обоих полов относятся с безотчетной снисходительностью.
* * *
Часто различают два типа лесбиянок; «мужеподобные», или те, которые «хотят подражать мужчинам», и «женственные», то есть те, которые «боятся мужчин». Действительно, в извращении наблюдаются две основные тенденции: некоторые женщины отвергают пассивность, другие же пассивно отдаются, но лишь в женские объятия; однако эти два типа поведения взаимодействуют, отношение к избранному или к отвергаемому объекту можно объяснить во взаимосвязи. По многим причинам, о которых речь пойдет ниже, указанное различие представляется нам довольно произвольным.
Говорить о «мужеподобной» лесбиянке, что она стремится «подражать мужчине», – значит утверждать, что она идет против своей природы. Я уже говорила о массе неточностей, возникающих из-за того, что психоаналитики принимают категории «мужчина – женщина» в том понимании, в каком они существуют в современном обществе. То есть мужчина считается представителем позитивного и нейтрального, в нем видят одновременно самца и представителя рода человеческого, женщина же представляет собой только негативное, она не более чем самка. Поэтому всякий раз, когда она ведет себя как представитель человеческого рода, о ней говорят, что она хочет уподобиться самцу. Ее занятия спортом, политикой, наукой, ее влечение к другим женщинам воспринимаются как «протест против засилья мужчин»; общество не желает видеть, что она стремится к завоеванию определенных ценностей, и поэтому расценивает ее субъективное поведение как выбор, противоречащий ее природе.
Любовь. Художник Ханс Бальдунг
В основе такого восприятия лежит глубокое заблуждение: считается, что женский представитель человеческого рода по природе своей может быть лишь женственной женщиной; для того, чтобы стать идеальной женщиной, недостаточно быть ни гетеросексуальной, ни даже матерью; «настоящая женщина» – это искусственный продукт, фабрикуемый цивилизацией, как когда-то фабриковались кастраты; так называемые «женские инстинкты» кокетства и покорности внушаются ей обществом точно так же, как мужчине внушается гордость его половым членом. Но даже мужчина не всегда принимает свое мужское предназначение; у женщины же есть веские основания еще сильнее восставать против предназначенного ей жизненного пути. Такие понятия, как «комплекс неполноценности», «комплекс мужественности», напоминают мне анекдот, рассказанный Дени де Ружмоном в книге «Доля дьявола»: одной даме казалось, что во время прогулок за городом на нее нападают птицы; после длительного психоаналитического лечения, которое не избавило ее от этого наваждения, врач, прогуливаясь с ней в саду клиники, заметил, что на нее действительно нападают птицы. Женщины чувствуют себя приниженными, потому что требования, предъявляемые им обществом, действительно принижают их. В глубине души они хотят стать полноценными индивидами, свободными субъектами, располагающими своим будущим и всем миром. И если к этому стремлению примешивается стремление к мужественности, так это потому, что женственность в современном мире равнозначна неполноценности.
Из исповедей лесбиянок, первая из которых испытывает платоническую тягу к женщинам, а вторая – плотскую, приведенных в работах Хэвлока Эллиса и Штекеля, явствует, что и ту и другую больше всего возмущает принадлежность к женской половине рода человеческого.
«Сколько себя помню, – говорит одна из них, – я никогда не считала себя девочкой и постоянно была в смятении. Около пяти или шести лет мне пришло в голову, что, несмотря на то, что говорят окружающие, я если и не мальчик, то уж, во всяком случае, не девочка… Сложение моего тела казалось мне загадочной случайностью… Когда я еще едва начинала ходить, меня уже интересовали молотки и гвозди, мне хотелось сидеть верхом на лошади. К семи годам мне стало ясно, что все то, что мне нравится, не годится для девочки. Я была очень несчастна, часто плакала и сердилась, меня донимали разговоры о мальчиках и девочках… Каждое воскресенье я отправлялась на прогулку с мальчиками из школы, где учились мои братья… В одиннадцатилетнем возрасте в наказание за мои наклонности меня отправили в пансион… К пятнадцати годам, о чем бы я ни размышляла, я всегда думала как мальчик… Я была полна сочувствия к женщинам… Я стала защищать их и помогать им».
Вот что рассказывает Штекель: «До шестилетнего возраста, несмотря на то, что ей говорили окружающие, она считала себя мальчиком, по непонятным причинам одетым девочкой… В шесть лет она говорила себе: «Я стану лейтенантом, а если Бог сохранит мне жизнь, то и маршалом». Она часто видела себя в мечтах верхом на лошади, во главе армии, отправляющейся в поход. Она была очень способной, но расстроилась, когда из педагогического училища ее перевели в лицей, ей было страшно, что она станет слишком похожей на женщину».
Подобный бунт вовсе не означает, что девочке уготована судьба лесбиянки; многие девочки переживают такое же возмущение и даже отчаяние, когда узнают, что от того, что их тело сложено так, а не иначе, им навсегда придется отказаться от своих вкусов и стремлений; совершенно естественно, что будущую женщину возмущают ограничения, налагаемые на нее ее полом.
Вопрос о том, почему она их отвергает, некорректен, скорее следовало бы понять, почему она их принимает. Женский конформизм объясняется ее покорностью и робостью; но ее смирение легко может превратиться в бунт, если ей покажется, что общество не предоставляет ей достаточных компенсаций. Именно это происходит в тех случаях, когда девочка-подросток считает себя обделенной как женщина, именно в таких обстоятельствах ее анатомические данные приобретают значение. Если девочка некрасива, плохо сложена или считает себя таковой, она может отказаться от женского жизненного пути, к которому чувствует себя малоспособной; но было бы неправильно говорить, что она делает выбор в пользу мужеподобного поведения для того, чтобы компенсировать недостаток женственности; скорее возможности, предоставляемые ей взамен преимуществ, которыми располагают мужчины, но которыми она должна пожертвовать, представляются ей слишком скудными.
* * *
Но даже хорошо сложенные и красивые женщины, вступающие на путь самостоятельной деятельности или просто свободолюбивые, отказываются жертвовать собой ради мужчины; они хотят реализовать себя через поступки, а не через имманентное присутствие. Мужское желание, превращающее их лишь в предмет любви, так же неприятно им, как оно неприятно юношам; покорные женщины вызывают у них такое же отвращение, какое мужественные мужчины испытывают к пассивным педерастам. Они избирают мужскую манеру поведения отчасти для того, чтобы подчеркнуть отсутствие какой бы то ни было близости между собой и покорными женщинами; они надевают мужскую одежду, ходят мужской походкой, говорят языком, свойственным мужчинам, образуют с женщиной-подругой пару, в которой играют роль мужчины.
Подобная комедия – это действительно «протест против засилья мужчин», но она представляет собой лишь вторичный феномен; глубинным же является возмущение полного сил и независимого субъекта при мысли о том, что он должен превратиться в предмет для удовлетворения плотских желаний. Лесбиянками становятся многие спортсменки; они не могут смириться с тем, что их тело, знакомое с мускульным усилием, разрядкой, движением, порывом, превратится в пассивную плоть; их тело не жаждет чарующих ласк, оно активно взаимодействует с миром, отнюдь не являясь пассивным предметом; для них пропасть между телом для себя и телом для другого становится непреодолимой. Подобное сопротивление наблюдается также у деятельных женщин или женщин, занимающихся интеллектуальным трудом, для которых отречение от своей личности немыслимо даже в плотских отношениях.
Если бы равенство полов стало фактом действительности, это препятствие во многих случаях было бы устранено, но мужчины по-прежнему убеждены в своем превосходстве, а такое убеждение мешает женщине, которая его не разделяет, строить свои отношения с мужчиной. Следует отметить в то же время, что наиболее волевые и властные женщины без колебаний вступают в схватку с мужчиной; так называемая «мужеподобная» женщина зачастую испытывает влечение только к мужчинам. Она не желает ни поступаться своим человеческим достоинством, ни жертвовать своей женской судьбой, поэтому предпочитает войти в мир мужчины или даже овладеть им. Обладая неутомимой чувственностью, она не боится грубой страстности мужчины; ей легче, чем робкой девственнице, преодолеть сопротивление собственного тела и познать наслаждение в отношениях с мужчиной. Очень грубая и примитивная натура не видит унижения в половом акте; интеллигентная женщина, обладающая смелым умом, умеет его преодолевать; уверенная в себе, воинственная женщина весело вступит в поединок, из которого, как она убеждена, выйдет победительницей. Жорж Санд отдавала предпочтение молодым людям, «женственным» мужчинам, что же касается г-жи де Сталь, то она лишь с годами стала склоняться к молодым и красивым любовникам; по-видимому, она совсем не чувствовала себя добычей мужчин, поскольку подавляла их мощью своего ума и с гордостью принимала их поклонение. Русская императрица Екатерина могла даже позволить себе мазохистское упоение, поскольку и в любовных играх она оставалась непререкаемой повелительницей. Когда Изабелла Эхберардт в мужском костюме и верхом на лошади путешествовала по Сахаре, она нисколько не чувствовала себя униженной, отдаваясь какому-нибудь громадному пехотинцу. Женщина, не желающая подчиняться мужчине, отнюдь не всегда избегает его, чаще она пытается превратить его в орудие своего удовольствия. При благоприятных обстоятельствах – тут главная роль принадлежит партнеру – женщина просто забудет о противоборстве и будет полностью удовлетворена своей долей, точно так же как мужчина удовлетворен своей.
Как бы то ни было, женщине приходится значительно труднее, чем мужчине: ей нелегко примирить свою активную личность с пассивной ролью в сексуальных отношениях, поэтому многие женщины, вместо того чтобы тратить силы для достижения этой цели, просто отказываются от нее. Так, к лесбийской любви часто склоняются представительницы художественных и литературных кругов. И совсем не потому, что она является источником творческой энергии, а их сексуальное своеобразие свидетельствует о наличии какой-то высшей силы; дело скорее в том, что они заняты серьезной работой и не хотят терять время, разыгрывая роль женщины или вступая в борьбу с мужчиной. Они не признают верховенства мужчин и не хотят ни притворяться, ни бороться с ними; в любовных объятиях они ищут отдых, успокоение, развлечение и предпочитают не иметь дело с партнером, очень похожим на противника; таким образом, они избегают женской зависимости от мужчины. Разумеется, часто «мужественная» женщина сознательно принимает свою женскую долю или отвергает ее в результате своего гетеросексуального опыта. Из-за пренебрежительного отношения мужчин у некрасивой женщины развивается чувство обездоленности; высокомерный любовник может оскорбить гордую женщину. Все рассмотренные нами выше причины фригидности могут сыграть свою роль и при данном выборе. И чем сильнее недоверие, которое женщина испытывает к мужчине, тем весомее становятся все эти причины.
Однако для женщины, обладающей властной натурой, лесбийская любовь не всегда представляет собой абсолютно удовлетворительное решение проблемы сексуальных отношений; она стремится к самоутверждению, и тот факт, что она, как женщина, не может полностью реализовать свои возможности, ей неприятен; в гетеросексуальных отношениях она видит и унижение, и обогащение; отвергая ограничения, накладываемые ее полом, она в то же время лишается чего-то. Точно так же как фригидной женщине, несмотря на протест против удовольствия, хочется его испытать, лесбиянке нередко, вопреки собственной воле, хочется стать нормальной женщиной, женщиной в полном смысле этого слова.
* * *
Психоаналитики неоднократно отмечали, что отношения девочки с матерью могут в будущем стать причиной ее склонности к лесбийской любви. Есть два условия, при которых девочке-подростку трудно освободиться из-под власти матери: первое – это излишняя опека не в меру заботливой матери, а второе – дурное обращение «плохой матери», в результате которого у девочки возникло глубокое чувство вины. В первом случае отношения между матерью и дочерью сходны с лесбийской любовью; они спят в одной постели, ласкают друг друга, целуют друг другу грудь; это приводит к тому, что девочка ищет повторения уже испытанного счастья с другими женщинами. Во втором случае девочка страстно желает найти «хорошую мать», которая защитила бы ее от «плохой», освободила от тяготеющего над ней проклятия.
Если старшая женщина проявит инициативу, младшая с радостью примет и более страстные объятия. Обычно она играет пассивную роль, ей хочется чувствовать себя в чьей-то власти, под чьей-то опекой, нравится, чтобы ее баюкали и ласкали, как ребенка. Какими бы ни были эти отношения, платоническими или плотскими, они нередко превращаются в настоящую любовную страсть. Но поскольку они представляют классический этап в развитии девочки-подростка, они не могут прояснить причин окончательного выбора в пользу лесбийской любви. В подобных отношениях девушка ищет и освобождения и защиты, которые она могла бы найти также в объятиях мужчины.
Окончательный выбор в пользу лесбийской любви возможен, либо если девушка отвергает свою женскую натуру, либо если ее женская натура достигает наивысшего расцвета в объятиях другой женщины. Все это означает, что сосредоточенность девушки на ее отношениях с матерью не может быть объяснением извращения.
Важно подчеркнуть еще один факт: женщины склоняются к лесбийской любви не из-за того, что им претит превращение в объект; большинство лесбиянок, напротив, стремится к присвоению сокровищ своей женственности. Согласиться на превращение в нечто пассивное вовсе не значит отказаться от требований субъективности: оставаясь «вещью в себе», женщина надеется на самообретение, но в таком случае она пытается обрести себя еще и в качестве Другого. В одиночестве она не может достичь реального раздвоения; лаская свою грудь, она не может знать, ни что почувствовала бы рука постороннего при прикосновении к ее груди, ни как она сама реагировала бы на подобную ласку чужой руки; мужчина способен открыть ей глаза на существование ее плоти для себя, но не на то, что она есть для другого. Эффект полного зеркального отражения ощущений наступает только тогда, когда она ласкает тело женщины, которая в свою очередь ласкает ее тело.
Спящие женщины. Художник Гюстав Курбе
Любовные отношения между двумя женщинами – это созерцание; ласки предназначены не для того, чтобы завладеть партнершей, а скорее для того, чтобы с ее помощью неторопливо воссоздать самое себя; разъединения больше не существует, нет также ни борьбы, ни победы, ни поражения; между ними возникает полная взаимность, каждая из них одновременно является и субъектом, и объектом, и госпожой, и рабыней. Они едины в своей двойственности. Двойственность превращается в согласие…
В большинстве случаев лесбиянки достигают в ласках полной взаимности. В связи с этим между ними нет четкого распределения ролей: так, инфантильная женщина может чувствовать себя как юноша рядом с немолодой женщиной, опекающей ее, или как любовница, опирающаяся на руку любовника. Они также могут быть равными в любви. Ввиду того, что партнерши принадлежат к одному полу, между ними возможны любые сочетания, перемещения, изменения ролей, им доступна любая игра воображения. Равновесие их отношений зависит от психологических наклонностей каждой из подруг и от ситуации в целом. Если одна из них помогает другой или содержит ее, на ее долю выпадают функции мужчины; она может играть роль тирана, покровителя, эксплуатируемого глупца, почитаемого господина и даже иногда сутенера; моральное, социальное или интеллектуальное превосходство может поставить одну из подруг на первое место; наиболее любимая из них может оказаться в привилегированном положении из-за страстного обожания любящей, формы объединения женщин, так же как формы объединения мужчины и женщины, весьма разнообразны; такие союзы могут быть основаны на чувстве, расчете или привычке; отношения в них могут приближаться к супружеским или носить романтический характер; в них можно встретить садизм, мазохизм, великодушие, преданность, верность, каприз, эгоизм, предательство; среди лесбиянок имеются как проститутки, так и возвышенные влюбленные.
* * *
Однако из-за некоторых обстоятельств подобные связи имеют особый характер. Они не освящаются официальными учреждениями или обычаями, не регулируются договорами, и поэтому они совершенно искренни. Отношения между мужчиной и женщиной, даже если они женаты, никогда не бывают до конца открытыми; особенно это касается женщины, которую мужчина всегда заставляет следовать каким-либо правилам: он требует от нее образцовой добродетели, очарования, кокетства, ребячества или серьезности; в присутствии мужа или любовника женщина никогда не чувствует себя совершенно свободной; с подругой же ей не нужно ничего выставлять напоказ, притворяться, они настолько похожи друг на друга, что могут вести себя совершенно естественно. Благодаря сходству между ними возникает глубочайшая близость. В таких союзах эротика нередко занимает незначительное место; в них страсть не приобретает столь потрясающего и головокружительного характера, как в отношениях между мужчиной и женщиной, и не приводит к столь глубоким изменениям; по окончании плотских утех любовники не становятся чужими друг другу; у женщины мужское тело вызывает неприязнь, мужчина иногда испытывает к женскому телу равнодушие, смешанное с отвращением; в отношениях между женщинами плотская нежность ровнее, но продолжительнее; они не впадают в неистовый экстаз, но и не испытывают враждебного равнодушия; во взглядах и прикосновениях они находят спокойное удовольствие, тихое продолжение того, которое они испытывают в постели.
Большинство из них молчаливо избегают мужчин. Поведение лесбиянок, как и поведение фригидных женщин, объясняется отвращением, обидой, робостью и гордостью; они понимают, что на самом деле в них мало сходства с мужчинами; в то же время к их женской обиде добавляется мужской комплекс неполноценности; в мужчинах они видят соперников, лучше, чем они, приспособленных для того, чтобы соблазнять, обладать и сохранять свою добычу; им ненавистна власть мужчин над женщинами, ненавистны «грязные» отношения, которые мужчины навязывают женщинам. Их раздражают социальные преимущества мужчин, они завидуют их физической силе.
Что может быть унизительнее, чем сознание невозможности вступить в схватку с соперником, понимание того, что он может сбить вас с ног одним ударом? Из-за такого сложного чувства враждебности некоторые лесбиянки ведут себя вызывающе: они общаются только между собой, образуют нечто вроде замкнутых сообществ, показывая тем самым мужчинам, что они не нуждаются в них ни в сексуальном плане, ни в повседневной жизни. Отсюда недалеко до бесполезной показухи, до вызывающего подражания мужскому поведению. Сначала лесбиянка разыгрывает из себя мужчину, затем в игру превращается само ее лесбийское состояние; мужская одежда из маскарадного костюма превращается для нее в необходимый опознавательный знак; она не согласилась замкнуться в жизненном пространстве женщины, но в то же время замуровала себя в жизненном пространстве лесбиянки. Сообщества независимых женщин отличаются крайней ограниченностью и противоестественностью. Добавим также, что многие женщины объявляют себя лесбиянками лишь из корыстного самолюбования и вполне сознательно прибегают к двусмысленному поведению, надеясь таким образом привлечь внимание мужчин, любителей «порочных» женщин. Из-за таких суетливых энтузиасток, а их-то мы чаще всего и замечаем, презрение к тому, что общественное мнение расценивает либо как порок, либо как позу, лишь усугубляется.
На деле лесбийская любовь не является ни сознательным извращением, ни роковым проклятием. Это жизненная позиция, избранная в силу тех или иных обстоятельств, то есть обусловленная и определенными причинами, и свободным выбором. Ни один из факторов, подталкивающих субъекта к подобному выбору, а среди них мы можем перечислить его физиологические данные, психологическое развитие и социальные обстоятельства, не является решающим, но все они одинаково важны для объяснения этого выбора.
Для женщины это один из способов решить проблемы, связанные с ее положением вообще и с ее эротическими особенностями в частности. Как и во всякой другой жизненной позиции, в ней возможно кривляние, неуравновешенность, неудачи и ложь, если она недобросовестна и пассивна или противоречит природе избравшего ее субъекта. Но она может также привести к прекрасным человеческим взаимоотношениям, если ей свойственны трезвость, великодушие и свобода.
Неосмысленность брака
Брак всегда представлял собой две абсолютно разные вещи для мужчины и женщины, несмотря на то, что мужчина и женщина необходимы друг другу. Женщины никогда не были кастой, вступающей в равноправные отношения с мужской кастой и заключающей с ней равноправные договоры. Мужчина – это независимый и полноценный член общества, на него смотрят, прежде всего, как на производителя, смысл его существования заключается в труде на благо общества.
Конечно, мужчина нуждается в женщине: некоторые народы, стоящие на низком уровне развития, презирают холостяков, неспособных в одиночку обеспечить свое существование; в деревне крестьянину нужна помощница; вообще большинство мужчин предпочитают перекладывать на спутниц жизни неприятные обязанности; мужчина стремится обеспечить себе постоянную сексуальную жизнь, хочет обзавестись потомством, да и общество требует от него продолжения рода.
Соответственно, женщину общество обязывает вступать в брак для выполнения двух функций, первая из которых – деторождение, а вторая функция женщины – это удовлетворение сексуальных потребностей мужчины и забота о его домашнем очаге. Ее общественной обязанностью считается служба мужу, который со своей стороны должен дарить ей подарки, оставлять наследство или содержать ее; именно через супруга общество воздает должное женщине, принесенной ему в жертву.
[При этом] общество всегда более или менее откровенно признавало полигамию; мужчина может завести сожительницу или любовницу, обратиться к услугам проститутки; но он обязан уважать некоторые привилегии законной жены. Если последняя подвергается дурному обращению или терпит какой-либо ущерб, у нее есть более или менее гарантированный выход: она может вернуться в свою семью, потребовать и получить право на раздельное жительство или развод. Следовательно, в браке у каждого из супругов есть свои обязанности и свои преимущества, но их положение неодинаково. Девушка может стать членом общества, только выйдя замуж; если она «остается в девках», то общество смотрит на нее как на неполноценное существо. Именно поэтому матери всегда так упорно стремились пристроить своих дочерей. В прошлом веке в буржуазных семьях мнение девушек по этому вопросу почти не учитывалось. Их предлагали потенциальным претендентам на заранее организованных «свиданиях».
Вступая в брак, женщина становится владычицей частицы мира; существуют официальные гарантии, предохраняющие ее от капризов мужчины, но она попадает к нему в зависимость. Именно он материально обеспечивает семью, и поэтому он же является ее воплощением в глазах общества. Женщина берет фамилию мужа, приобщается к его вере, входит в его сословие, его среду; она становится членом его семьи, его «половиной». Она следует за ним туда, куда он отправляется в силу своей деятельности; семья, как правило, живет там, где работает муж; женщина более или менее резко отрывается от своего прошлого и переходит в мир, к которому принадлежит ее супруг.
Брак во многих отношениях сохраняет традиционный облик. Прежде всего: девушке значительно важнее вступить в брак, чем молодому человеку. Существуют многочисленные социальные слои, в которых замужество является единственно возможной судьбой для женщины; в крестьянской среде к незамужней женщине относятся с презрением, она превращается в служанку отца, братьев, зятя, уехать же из деревни ей нелегко; вступая в брак, она попадает в зависимость к мужу, но в то же время становится хозяйкой в доме. Но даже и эмансипированные девушки предпочитают брак профессиональным занятиям из-за экономических привилегий, которыми обладают мужчины. Они стремятся выйти замуж за человека, занимающего более высокое положение в обществе, чем их собственное, или надеются, что муж «пойдет» быстрее и дальше, чем они сами.
* * *
В настоящее время так же, как и раньше, считается, что половой акт – это услуга, которую женщина оказывает мужчине; она доставляет ему удовольствие, и он обязан ее за это отблагодарить. Тело женщины – это вещь, которую можно купить; для женщины оно представляет собой капитал, который ей позволено использовать с выгодой для себя, Иногда она приносит мужу приданое, нередко берет на себя обязанность выполнять определенную домашнюю работу; содержать в порядке дом, воспитывать детей. Во всяком случае, она имеет право жить на содержании мужчины, более того, традиционная мораль подталкивает ее к этому, Нет ничего удивительного, что такой легкий жизненный путь кажется ей привлекательным, тем более что женские профессии малоинтересны и плохо оплачиваются; замужество для женщины более выгодно, чем какой-либо другой образ жизни.
Одинокая женщина в глазах общества является ущербным существом, даже если она зарабатывает себе на жизнь; без обручального кольца она никогда не добьется полного уважения своей личности и не сможет пользоваться всеми своими правами. Так, материнство приносит уважение лишь замужней женщине, для матери-одиночки рождение ребенка – это тяжелое испытание. По всем этим причинам многие девушки Старого и Нового Света на вопрос об их планах на будущее отвечают так же, как отвечали когда-то их сверстницы: «Я хочу выйти замуж».
Что касается молодых людей, то ни один из них не смотрит на брак как на основную цель своей жизни. Для них необходимым условием достижения независимости взрослого человека является материальное благосостояние; иногда они добиваются его, вступая в брак – так нередко бывает в крестьянской среде, – но иногда эта цель препятствует их женитьбе. Из-за неустойчивости, неопределенности современной жизни обязанности молодого человека, связанные с его вступлением в брак, стали чрезвычайно тяжелыми, а выгоды значительно уменьшились; ведь он легко может заработать себе на жизнь и без труда удовлетворить свои сексуальные потребности. Конечно, вступая в брак, он получает определенные жизненные удобства («дома питаться лучше, чем в ресторане», «нет необходимости ходить в публичный дом») – не страдает больше от одиночества; с появлением семьи и детей он занимает определенное место во времени и пространстве, его жизнь становится наполненной. Несмотря на все это в целом, мужчин, не желающих вступать в брак, больше, чем женщин. Отец не столько отдает дочь замуж, сколько стремится сбыть ее с рук; девушка, занятая поисками мужа, не просто отвечает на призыв мужчины, она его соблазняет.
Матери, старшие женщины, женские журналы цинично учат девушек искусству «ловить» мужа, как липкая бумага ловит мух; это «поиск», «охота», требующие большого умения: цель не должна быть ни слишком трудно, ни слишком легко достижимой; нужно быть реалисткой, а не витать в облаках, кокетство должно перемежаться со скромным поведением; не следует требовать ни слишком много, ни слишком мало…
Поцелуй. Художник Ханс Бальдунг
Однако, несмотря на свое желание выйти замуж, девушка нередко боится этого. Брак приносит ей больше выгод, чем мужчине, и поэтому она страстно к нему стремится, но в то же время он требует от нее больших жертв, в частности для нее это резкий разрыв с прошлым. Как уже говорилось, многих девушек пугает мысль о том, что им придется покинуть родительский дом. Когда минута расставания приближается, их тревога усиливается. Именно в этот период у многих девушек развиваются неврозы; они возникают иногда и у молодых людей, которые боятся своей новой ответственности, но у девушек они встречаются значительно чаще.
Бывает также, что девушка долго болеет, потому что внутренне не хочет выздоравливать; она в отчаянии от того, что ее болезненное состояние не позволяет ей выйти замуж за человека, которого «она обожает»; на деле же она сама доводит себя до такого состояния для того, чтобы не выходить за него замуж, и выздоравливает только в случае, если помолвка расторгается. Иногда девушка боится вступать в брак из-за того, что у нее уже были эротические отношения и ей не удастся скрыть это. Например, если она лишилась девственности, ей страшно, что это станет известно. Однако чаще мысль о том, что ей придется отдаться во власть чужого мужчины, невыносима ей потому, что она горячо любит отца, мать, сестру или глубоко привязана к родительскому дому.
* * *
«Супруг – это не любимый человек, а всего-навсего его заместитель», – сказал Фрейд. И в этом несовпадении нет ничего случайного. Оно вытекает из самой природы института брака, который существует не для того, чтобы обеспечить индивидуальное счастье мужчины и женщины, а для того, чтобы подчинить их экономический и сексуальный союз коллективным интересам… И речи быть не может о том, чтобы социальная сторона индивидуальной жизни была основана на сентиментальном или эротическом капризе.
У мужчины, поскольку именно он «берет» женщину в жены, и особенно если вокруг него много женщин, желающих выйти замуж, возможности выбора все же более широки. Что же касается женщины, то считается, что для нее половой акт – это лишь услуга, которую она обязана оказывать мужчине, и за которую она получает определенные выгоды. В связи с этим совершенно логично, что ее личные вкусы можно не принимать во внимание. Брак существует для того, чтобы защитить ее от своеволия мужчины, но ни любовь, ни индивидуальность не могут существовать в условиях несвободы. Попадая под покровительство мужчины, женщина, таким образом, вынуждена пожертвовать чувством любви, на которое способен лишь независимый индивид. Я слышала однажды, как набожная мать семейства говорила дочерям, что «любовь – это грубое чувство, свойственное только мужчинам и незнакомое порядочным женщинам». Ту же теорию, но в наукообразной форме излагает Гегель в «Феноменологии духа».
Все женщины должны довольствоваться одинаковыми радостями, не внося в них ничего индивидуального; это приводит к двум важным обстоятельствам, касающимся их эротической судьбы: во-первых, они не имеют никакого права на небрачные сексуальные отношения. Женщина, на которую общество смотрит главным образом как на продолжательницу рода, должна как таковая быть абсолютно незапятнанной. Кроме того, биологическая связь между общим и частным неодинакова у мужчин и женщин: мужчина, выполняя свои обязанности супруга и воспроизводителя, всегда испытывает удовольствие, у женщины же детородная функция и сладострастие не связаны между собой. Так что действительной целью брака, который, как считается, освящает эротическую жизнь женщины, является на самом деле ее уничтожение.
Еще не так давно ущемление сексуальных прав женщины воспринималось мужчинами как вполне естественная вещь; они, как известно, не видели в нем ничего страшного и, ссылаясь на законы природы, легко мирились с женскими страданиями; такова уж, считали они, ее участь. Эта успокоительная точка зрения укреплялась и библейским проклятием. Страдания, связанные с беременностью, – тяжкая цена, которую женщина платит за краткий миг призрачного наслаждения, – служили им темой для шуток. «Пять минут удовольствия, девять месяцев мук», «входит легче, чем выходит». Этот контраст нередко казался им смешным. Подобная философия не лишена садизма; ведь страдания женщин радуют многих мужчин, и им не нравится, что они могут быть облегчены. Поэтому не стоит удивляться тому, что мужчины без всяких угрызений совести отказывали женщинам в праве на сексуальное удовлетворение; более того, они полагали, что целесообразно отказывать им не только в сексуальном удовольствии, но и в сексуальном желании.
Именно об этом с легким цинизмом говорит Монтень: «Вот и выходит, что допускать, состоя в этом почтенном и священном родстве, безумства и крайности ненасытных любовных восторгов – своего рода кровосмешение, о чем я, кажется, уже где-то говорил. Нужно, учит Аристотель, сближаться с женой осторожно и сдержанно, и постоянно помнить о том, что, если мы станем чрезмерно распалять в ней желание, наслаждение может заставить ее потерять голову и забыть о границах дозволенного… Мне неведомы браки, которые распадались бы с большей легкостью или были бы сопряжены с большими трудностями, нежели заключенные из-за увлечения красотой или по причине влюбленности… Удачный брак, если он вообще существует, отвергает любовь и все ей сопутствующее… Даже те наслаждения, которые они вкушают от близости с женами, заслуживают осуждения, если при этом они забывают о должной мере, и что в законном супружестве можно так же впасть в распущенность и разврат, как и в прелюбодейной связи. Эти бесстыдные ласки, на которые толкает нас первый пыл страсти, не только исполнены непристойности, но и несут в себе пагубу нашим женам. Пусть лучше их учит бесстыдству кто-нибудь другой. Они и без того всегда готовы пойти нам навстречу… Брак – связанный и благочестивый союз; вот почему наслаждения, которые он нам приносит, должны быть сдержанными, серьезными, даже в некоторой мере строгими. Это должна быть страсть совестливая и благородная».
В самом деле, муж, пробуждающий чувственность в своей жене, пробуждает ее как таковую, поскольку женщина выходит замуж не в силу влечения к какому-либо индивиду. Таким образом, он подталкивает свою супругу к поиску удовольствия в других объятиях. Слишком пылко ласкать женщину, говорит также Монтень, – это «гадить в корзину, которую вы собираетесь нести на голове». Впрочем, он честно признает, что из-за осторожности мужчины женщина оказывается в весьма невыгодном положении: «У женщины есть серьезные причины отвергать существующие в обществе жизненные правила, тем более что придуманы они мужчинами, без участия женщин. Конечно, между ними и нами бывают стычки, плетутся интриги. Кое в чем мы поступаем с ними легкомысленно: нам прекрасно известно, что по склонности и страсти к любовным утехам мы им в подметки не годимся…
Мы щедро вознаграждаем ее за воздержание, в противном же случае сурово караем… Нам хотелось бы, чтобы женщины были здоровы, сильны, пышны, упитанны и, в то же время, непорочны, то есть и страстны и холодны одновременно; ведь брак, который, как мы утверждаем, должен остудить их пыл, не приносит им облегчения из-за царящих у нас нравов».
Прудон менее щепетилен; по его мнению, «добропорядочность» требует, чтобы любовь была отделена от брака: «Любовь не должна главенствовать над добропорядочностью… любовные излияния неуместны ни между женихом и невестой, ни между мужем и женой, они разрушают уважение к домашнему очагу и трудолюбие, мешают выполнению общественного долга… (выполнив свои любовные обязанности)… мы должны отказаться от любви. Так пастух, сквасив молоко, отжимает из него творог…»
* * *
Однако в XIX веке буржуазные представления о любви несколько изменились. С одной стороны, буржуазия страстно желала защитить и укрепить брак, а с другой – из-за развития индивидуализма простое подавление женских требований стало невозможным. Право на любовь яростно защищали Сен-Симон, Фурье, Жорж Санд и представители романтизма. Возникла новая проблема: соединить брак с индивидуальными чувствами, которые, как считалось ранее, не имеют к нему отношения. Именно в это время появилось понятие «супружеская любовь», удивительное порождение традиционного брака по расчету. Идеи консервативной буржуазии, во всей их непоследовательности, были выражены Бальзаком. Он признает, что в принципе брак и любовь не имеют ничего общего, но ему неприятно уподоблять такой достойный уважения институт, как брак, обыкновенной сделке, в которой с женщиной обращаются как с вещью; в результате, читая его произведение «Физиология брака», мы постоянно сталкиваемся с удивительной непоследовательностью:
«С политической, гражданской и моральной точки зрения брак можно рассматривать как закон или контракт, как институт… следовательно, он должен вызывать всеобщее уважение. До сих пор общество видело лишь эти очевидные стороны брака и именно их считало основой супружеских отношений.
Большинство мужчин вступают в брак с целью воспроизведения, они хотят иметь собственных детей; но ни произведение, ни собственность, ни дети не могут составить счастье человека. Crescite et multiplicamini не равнозначно любви. Во имя закона, короля и справедливости требовать любви от девушки, которую вы видели четырнадцать раз за две недели, – это нелепость, совершаемая большинством суженых».
Казалось бы, здесь все так же ясно, как в гегелевской теории. Однако Бальзак без всякого перехода продолжает: «Любовь заключается в согласии между потребностью и чувством, супружеское счастье – в абсолютном взаимопонимании супругов. Из этого вытекает, что мужчина, который хочет быть счастливым, должен следовать определенным правилам чести и деликатности. Располагая правом, данным ему законом общества, освящающим потребность, он должен следовать тайным законам природы, под действием которых расцветают чувства. Если он видит свое счастье в том, чтобы быть любимым, он должен сам искренне любить. Ведь ничто не может противостоять истинной страсти. Но тот, кто полон страсти, всегда испытывает желание. Можно ли постоянно желать свою жену? Да».
После этого Бальзак говорит об искусстве брачной жизни. Однако мы скоро замечаем, что главной целью для мужа должна быть не любовь жены, а ее верность, и для того, чтобы оградить свою честь, муж должен постоянно указывать жене на ее слабости, препятствовать ее культурному развитию, держать в состоянии морального отупения.
И это называется любовью? Основной смысл этих туманных и бессвязных рассуждений сводится, по-видимому, к тому, что мужчина, используя свое право выбирать жену и удовлетворяя с ней свои потребности, должен вносить в отношения с ней как можно меньше индивидуального. Именно в этом Бальзак видит залог верности жены. В то же время муж, используя определенные приемы, должен пробудить любовь жены. Но если мужчина женится ради собственности и потомства, можно ли его назвать действительно влюбленным? А если он не влюблен, то откуда возьмется всепобеждающая страсть, в ответ на которую вспыхнет страсть жены? Неужели Бальзаку действительно неизвестно, что неразделенная любовь не только не вызывает ответных чувств, но докучает и вызывает отвращение?
* * *
«Примирение брака и любви – это такая сложная вещь, которая требует ни больше ни меньше как божественного вмешательства» – таково мнение Кьеркегора, выраженное весьма сложным языком.
Он с удовольствием обличает свойственные браку парадоксы: «Брак, какое странное изобретение! Но что в нем самое странное, так это то, что его считают стихийным поступком. В действительности же это один из тех поступков, над которым долго размышляют… Разве можно себе представить, чтобы такой важный шаг предпринимался стихийно».
«Трудность заключается в следующем: любовь и любовное влечение появляются абсолютно стихийно, брак же – это обдуманный шаг; в то же время любовное влечение должно пробуждаться после вступления в брак или после того, как принято решение о вступлении в брак, то есть при желании жениться; это значит, что самая стихийная на свете вещь должна в то же время совершаться в результате абсолютно свободно принятого решения; то, что из-за своей стихийности является до такой степени таинственным, что может быть объяснено лишь божественным вмешательством, должно совершаться в результате интенсивных размышлений, неминуемо приводящих к принятию решения. Кроме того, все должно происходить определенным образом: решение не должно незаметно следовать за любовным влечением, и то и другое должно появляться одновременно, в момент развязки, и любовь и решение должны быть налицо».
Любовники. Художник Джулио Романо
Иными словами, любовь и брак – это не одно и то же, и совершенно непонятно, как любовь может превратиться в долг. Однако Кьёркегор не боится парадоксов, и вся его работа о браке написана для того, чтоб прояснить эту загадку. Он не отрицает, что действительно: «Размышление убивает стихийность… Если бы размышления на самом деле приводили лишь к любовному влечению, то брака бы не существовало». Но «решение отчасти принимается бессознательно, хотя ему предшествует размышление. Оно воспринимается как нечто абсолютно идеальное, оно так же стихийно, как любовное влечение. Решение это – религиозная концепция жизни, оно построено на этических принципах и должно открыть путь любовному влечению, предохранить его от внешней и внутренней опасности». Поэтому «супруг, настоящий супруг – это тоже чудо!.. Уметь сохранить радость любви, в то время как жизнь обрушивается всей тяжестью серьезных проблем на него и на его возлюбленную!».
Что касается женщины, рассудок не является ее сильной стороной, она не умеет «размышлять», поэтому «она переходит от непосредственной любви к непосредственному религиозному чувству».
Если перевести эту теорию на ясный язык, она означает, что решение любящего мужчины о вступлении в брак представляет собой акт веры в Бога, который призван гарантировать согласие между чувствами и обязанностями; что касается любящей женщины, то она просто стремится выйти замуж.
Но в таком случае любовное влечение в браке теряет существенность, брак становится общественным союзом, отрицающим индивидуальные эротические особенности. Сегодня американцы, которые почитают брак, но и являются индивидуалистами, делают все возможное для того, чтобы ввести секс в супружеские отношения. Ежегодно появляется множество книг о семейной жизни, имеющих целью облегчить процесс приспособления друг к другу супругов и, что особенно важно, научить мужчину строить счастливые и гармоничные отношения с женой. Психоаналитики и врачи выступают в качестве «советников супругов»; общепризнано, что женщина так же, как мужчина, имеет право на удовольствие, и мужчина обязан знать приемы, которые помогут ему доставить ей удовольствие. Но, как мы знаем, удачные сексуальные отношения – это не просто дело техники. Даже если молодой человек выучил наизусть несколько десятков учебников, вроде таких, как «Что должен знать каждый муж», «Тайны супружеского счастья», «Любовь без страха», то совершенно не очевидно, что он сможет вызвать любовь своей молодой жены. Она реагирует на психологическую ситуацию в целом, а традиционный брак отнюдь не создает благоприятных условий для пробуждения и расцвета женской эротики.
По законам гуманистической морали любой жизненный опыт должен быть человечным и основанным на свободном движении души. Подлинно нравственная эротическая жизнь – это либо свободный всплеск желания и удовольствия, либо трепетная борьба за обретение свободы в области секса. Но все это возможно лишь в случае, когда любовь или желание приводят индивида к мысли о неповторимости партнера. Когда же сексуальные отношения перестают быть делом индивидов и передаются в ведение общества или Господа Бога, половые отношения между людьми превращаются в нечто низменное. Именно поэтому благонравные матроны с отвращением отзываются о плотских удовольствиях: они числят их среди тех функций тела, о которых неприлично говорить вслух. По той же причине свадебные застолья сопровождаются двусмысленными шутками. Есть что-то парадоксально непристойное в том, что выполнение грубой животной функции предваряется пышной церемонией. Универсальное и отвлеченное значение брака состоит в том, что объединение мужчины и женщины, произошедшее на глазах у всех согласно символическим ритуалам, превращается в ночной тиши в ни для кого не видимое столкновение двух конкретных и неповторимых индивидов.
* * *
Мы уже писали о том, какое огромное внутреннее сопротивление должна преодолеть девственница, вступающая в сексуальную жизнь. В этот период в ней происходит огромная физиологическая и психическая перестройка. Глупо и бесчеловечно требовать от нее, чтобы этот процесс прошел за одну ночь. Абсурдно считать выполнением долга такую сложную операцию, как первое совокупление. В этот момент она чувствует себя один на один со своей судьбой: мужчина, которому она будет всегда принадлежать, воплощает в ее глазах Мужчину вообще, он предстает перед ней в совершенно новом облике, приобретающем огромное значение потому, что отныне она всегда будет жить бок о бок с ним.
Однако и мужчина испытывает тревогу при мысли о том, что ему предстоит совершить; у него имеются собственные проблемы и комплексы, из-за которых он и становится робким, неловким или, наоборот, грубым, У многих мужчин торжественность бракосочетания парализует сексуальную потенцию. Жане пишет в работе «Навязчивые состояния и психастения»: «Кто не встречал стыдливых новобрачных, которым не удается овладеть молодой женой и которые из-за этого впадают в отчаяние, чувствуют себя опозоренными? В прошлом году нам довелось присутствовать при довольно любопытной трагикомической сцене: разгневанный тесть притащил в клинику «Сальпетриер» своего тихого и покорного зятя. Тесть требовал медицинского свидетельства, которое позволило бы подать на развод. Несчастный молодой человек объяснял, что раньше у него все хорошо получалось, но после свадьбы из-за стеснения и стыда он ни на что не способен».
Слишком пылкая страсть пугает девушку, слишком уважительное отношение унижает. Некоторые женщины до конца своих дней ненавидят мужчину, который эгоистически думал лишь о своем удовольствии и не обращал внимания на их страдания, но они также всю жизнь таят обиду на того, кто, как им кажется, пренебрег ими, или на того, кто не счел нужным лишить их девственности в первую же ночь или не смог этого сделать.
Один из случаев, описанных Фрейдом, показывает, что импотенция мужа может нанести травму жене: «Одна больная обычно бегала из одной комнаты в другую, посреди которой стоял стол. Там она особым образом складывала скатерть, звала служанку, а когда та подходила к столу, отсылала ее… Пытаясь объяснить это наваждение, она вспомнила, что на скатерти было скверное пятно, и она каждый раз старалась положить ее так, чтобы служанка сразу его увидела… Вся эта сцена воспроизводила ее первую брачную ночь, когда муж показал свою слабость как мужчина. Он много раз прибегал в ее спальню из своей для того, чтобы сделать новую попытку. Он стыдился служанки, которая стелила постель, и поэтому запачкал простыню красными чернилами, чтобы служанка подумала, что это кровь»…
Если не принимать во внимание случаи исключительного счастья, муж представляется жене или распутником, или беспомощным юнцом. В связи с этим неудивительно, что для женщины «выполнение супружеского долга» нередко становится тяжелой и неприятной обязанностью. Ей тягостно подчиняться нелюбимому повелителю, пишет Дидро в трактате «О женщинах»: «Я видел, как одна порядочная женщина содрогалась от отвращения при приближении мужа; я видел, как после выполнения супружеских обязанностей она подолгу лежала в ванне, потому что ей казалось, что она никак не может смыть эту грязь. Нам почти неведомо подобное чувство отвращения. Мы менее ранимы. Многие женщины умирают, не познав восторгов сладострастия. Они редко испытывают эти ощущения, которые я бы сравнил с приступом эпилепсии, и которые мы можем испытать всякий раз, когда этого желаем. Даже в объятиях обожаемого мужчины им не дано достичь высшего блаженства. Мы же можем испытать его в объятиях услужливой женщины, которая вовсе нам не нравится. Они хуже, чем мы, владеют своими чувствами, и поэтому наивысшее удовольствие приходит к ним медленнее и реже. В очень многих случаях их ожидания оказываются обманутыми».
Действительно, немало женщин становятся матерями и бабушками, никогда не испытав ни удовольствия, ни даже желания; они стараются уклониться от выполнения этого «грязного долга» и для этого добывают медицинские справки или придумывают какие-либо иные предлоги. В то же время, как нам известно, эротическая потенция женщин почти неисчерпаема. Это противоречие наглядно показывает, что брак, который, как утверждают, упорядочивает женскую эротику, на самом деле убивает ее.
* * *
Брак в принципе представляет собой нечто непристойное, поскольку он вводит понятия прав и обязанностей в отношения, в основе которых должен лежать свободный порыв. Обрекая людей на сексуальные взаимоотношения без учета их индивидуальных склонностей, брак придает телу постыдное сходство с орудием. Нередко муж леденеет при мысли о том, что он исполняет свой долг, а жене непереносимо стыдно оттого, что человек, который находится рядом с ней, всего-навсего пользуется своим правом.
Девушка подвергается огромной опасности, беря на себя обязательство всю жизнь спать с одним, и только с одним, мужчиной, сексуальные возможности которого ей неизвестны. Ведь ее эротическая судьба в большой мере зависит от личности партнера. Именно об этом парадоксе Леон Блюм говорит с вполне обоснованным осуждением в своей работе «Брак»: «Лишь лицемер может полагать, что союз, основанный на обычаях, может перерасти в любовь; совершенно нелепо требовать, чтобы супруги, связанные практическими, социальными и моральными интересами, всю жизнь желали друг друга».
В то же время сторонникам брака по расчету действительно не составляет никакого труда доказать, что у тех, кто женится по любви, не так уж много шансов на счастье. Во-первых, идеальная любовь, которую испытывает девушка, не всегда располагает ее к сексуальной любви; ее платоническое обожание, ее мечтания и страсти, в которых отражаются ее детские и девические мысли и представления, недолговечны, они не выдерживают испытания повседневной жизнью. Даже если между нею и ее женихом возникает искреннее и глубокое эротическое влечение, оно не может стать прочной основой для долгой совместной жизни.
Во-вторых, плотская любовь, даже если она существует до свадьбы или возникает сразу после нее, почти никогда не длится годами. Конечно, сексуальная любовь нуждается в верности, потому что взаимное желание двух влюбленных делает их отношения сугубо индивидуальными и неповторимыми. Они не хотят, чтобы сексуальные отношения с третьими лицами разрушили эту неповторимость, они хотят быть незаменимыми друг для друга; но верность имеет смысл лишь до тех пор, пока она стихийна. Однако стихийные эротические чары довольно быстро рассеиваются. Чудо эротических чар состоит в том, что перед каждым из любовников предстает в своем телесном воплощении существо, суть которого заключается в бесконечной иррациональности; конечно, подчинить себе такое существо невозможно, но с ним можно слиться в особом, трепетном порыве. Когда же два индивида не стремятся более к слиянию, потому что между ними возникли вражда, отвращение или равнодушие, эротическое влечение исчезает; почти так же неизбежно оно исчезает и в том случае, когда любовников связывает взаимное уважение и дружба. Ведь два человека, испытывающих одинаковую иррациональную тягу друг к другу в жизненных обстоятельствах и общих делах, не обязательно ощущают потребность в телесном слиянии; более того, подобное слияние, потерявшее свою былую значимость, вызывает у них отвращение.
Слово «кровосмешение», которое употребляет Монтень, очень точно определяет суть происходящего. Эротическое влечение – это движение к Другому, в этом его основной смысл; однако семейная жизнь приводит к тому, что супруги становятся как бы одной личностью; им нечем обмениваться, они ничем не могут одарить друг друга, в их отношениях нет места борьбе и победам. Поэтому, если между ними сохраняются плотские отношения, они нередко воспринимаются как нечто постыдное; супруги чувствуют, что для них половой акт перестал быть формой возвышенных межличностных отношений и превратился в нечто вроде взаимной мастурбации. Из вежливости супруги скрывают тот факт, что они смотрят друг на друга как на орудия, необходимые для удовлетворения их потребностей, но, когда подобные правила вежливости не соблюдаются, он становится совершенно очевидным.
Впрочем, такое грубое удовлетворение потребностей неспособно утолить сексуальное желание человека. Поэтому нередко к самым законным, казалось бы, сексуальным отношениям примешивается что-то порочное. Многие женщины, совокупляясь с мужем, дают волю эротической фантазии. Штекель рассказывает об одной двадцатипятилетней женщине, которая «может испытать с мужем легкий оргазм, только представляя себе, что какой-то сильный и уже немолодой мужчина грубо овладевает ею против ее воли. Она воображает, что ее насилуют, бьют, что она находится не с мужем, а с другим мужчиной».
Мужчина также предается подобным мечтаниям; лаская жену, он воображает, что ласкает бедра какой-либо танцовщицы, которую видел в мюзик-холле, или грудь миловидной женщины, фотографией которой он любовался. Пищей для воображения может служить воспоминание или какой-либо образ. Случается, что он представляет себе, как кто-то соблазняет его жену, обладает ею или насилует ее, благодаря таким картинам он снова видит в ней другого человека, то есть возвращает ей свойство, которое она утратила.
«Супружеские отношения, – говорит Штекель, – способны приводить к причудливым изменениям и извращениям, супруги становятся тонкими актерами, разыгрывающими такие комедии, которые могут разрушить всякие границы между видимостью и реальностью».
Кандавл, царь Лидии, показывает свою жену телохранителю Гигесу. Художник Уильям Этти
В крайних случаях возникают вполне определенные пороки; муж начинает предаваться скопофилии, ему необходимо видеть свою жену обнаженной или знать, что у нее есть любовник, только при этом условии она приобретает для него определенное очарование; иногда он с садистской настойчивостью отбивает у нее влечение к нему, желая видеть ее вновь независимой и свободной для того, чтобы иметь возможность обладать полноценным человеческим существом.
У женщин, которые стремятся пробудить в муже повелителя и тирана, каковым он не является, напротив, возникают мазохистские наклонности. Я знала одну даму, воспитанную в монастыре, очень набожную, днем властную и не терпящую возражений, которая по ночам страстно умоляла мужа отстегать ее, что ему и приходилось делать, преодолевая ужас.
Но и сам порок приобретает в браке организованную, холодную и серьезную форму, это самый печальный результат, к которому может привести супружеская жизнь. Истина заключается в том, что физическая любовь не может быть ни самоцелью, ни простым средством; она не может стать смыслом жизни, но в то же время ее смысл тесно связан с человеческой жизнью. Это значит, что в жизни любого человека ей должна отводиться эпизодическая и автономная роль. Иными словами, она должна быть свободной.
Неизбежность адюльтера
Но будь женщина сексуально удовлетворена, или холодна по природе, или обманута, она все равно придает огромное значение вниманию мужчин. Будничный взгляд мужа, который она встречает ежедневно, не оживляет ее; ей нужны глаза, таящие тайну и в ней самой открывающие тайну; ей необходим рядом духовный наставник, которому она может доверить свои маленькие тайны, который способен вызвать к жизни поблекшие образы прошлого, дать повод для улыбки, от чего в уголке ее ротика всегда появляется ямочка, при этом она совершенно по-особенному взмахивает ресницами; она только тогда соблазнительна, привлекательна, мила, излучает любовь, когда ее любят, ее желают.
Если женщина более или менее удовлетворена замужеством, то ее интерес к другим мужчинам диктуется только тщеславием: она как бы призывает их избрать ее кумиром; она соблазняет, она нравится, она очень довольна и получает удовольствие, мечтая о запретной любви, при этом думая: «Если бы я захотела…»; она предпочитает пленить сразу нескольких поклонников, нежели придаться серьезному роману с одним; более пылкая, но менее непримиримая, чем молоденькая девушка, она своим кокетством требует от мужчин подтверждения ее ценности, значимости и власти над ними.
Может случиться, что после более или менее длительного периода верности наступит время, когда женщина перестанет ограничиваться флиртом и кокетством с мужчинами. Изменить мужу ее чаще всего толкает обида. Адлер утверждает, что неверность женщины – это всегда месть; это, пожалуй, слишком; однако приходится считаться с тем фактом, что она и в самом деле гораздо реже уступает обольстительности любовника, нежели желанию бросить вызов своему мужу: «Он не единственный на свете – есть и другие, которым я нравлюсь, – я что, его рабыня? – нет, он считает себя очень хитрым и пусть останется в дураках».
Очень часто в объятия любовника женщину бросает не столько обида на мужа, сколько разочарование в нем; она не хочет мириться с мыслью, что ей никогда не познать чувственных наслаждений, блаженного удовольствия, счастья – блаженства любви, ожиданием которого была окрашена вся юность. И вот женщина, обделенная в замужестве чувственным удовольствием, не знающая эротического удовлетворения, которой к тому же отказано в свободе проявления ее собственных, свойственных ей одной чувств, по иронии судьбы и, следуя естественной диалектике, попадает в сети адюльтера, нарушает супружескую верность.
«Мы воспитываем наших девиц, можно сказать, с младенчества исключительно для любви, – говорит Монтень, – их привлекательность, наряды, знания, речь, все, чему их учат, преследует только эту цель, и ничего больше. Их наставницы не запечатлевают в их душах ничего, кроме лика любви, хотя бы уже потому, что без устали твердят поучения, рассчитанные на то, чтобы внушить им отвращение к ней».
Чуть ниже он добавляет: «Итак, величайшая глупость – пытаться обуздать в женщинах то желание, которое в них так могущественно и так естественно».
А вот что заявляет Энгельс: «В связи с моногамией постоянно возникают две характерные социальные фигуры: любовник и рогоносец… Наряду с моногамией и гетеризмом адюльтер становится неизбежным социальным явлением, его воспрещали, за него строго наказывали, но бороться с ним было бесполезно».
* * *
Моралисты высказывают возмущение тем фактом, что общественное мнение находится на стороне любовника, но ведь это же смешно – защищать мужа, доказывая, что в глазах общества, то есть в глазах других мужчин, он более значителен, чем его соперник: важно-то другое, как его оценивает жена. А оттолкнуть он может жену по двум причинам. Прежде всего, ему принадлежит неблагодарная роль своего рода пионера; а требования девственницы весьма противоречивы: с одной стороны, она мечтает, чтобы ею овладели, с другой – требует особого уважения к себе, все это почти заведомо обрекает мужа на провал; жена может уже никогда не обрести в его объятиях чувственного пыла, навсегда остаться рядом с ним холодной женщиной; другое дело – любовник, он не причиняет физической и моральной травмы, связанной с лишением девственности, с ним не ассоциируется болезненное чувство унижения, испытываемое целомудренной девушкой при первой близости; неизбежная травма – познание неведомого – с ним не соотносится: женщина в основном знает, что ее ждет во взаимоотношениях с любовником; более естественная, более готовая к этим отношениям, которые ее уже не ранят, не такая наивная, как в первую брачную ночь, она больше не отождествляет любовь сердец и физическое влечение, чувства и чувственное волнение, душевные порывы и эротические переживания; когда женщина находит себе любовника, то в нем именно любовника она и хочет найти. Полная ясность в этом отношении и определяет свободу выбора.
Второй изъян, довлеющий над мужем, как раз и заключается в определенной несвободе: как правило, его терпят, он – не избранник. Либо девушка соглашается выйти замуж, покоряясь судьбе, потому что так положено и выбора у нее нет, либо мужчина ее любит, и она решает не отказывать ему; в любом случае, даже если она выходит замуж по любви, став женой, она попадает в подчинение к мужу, он ее повелитель; по отношению к нему она выполняет свой супружеский долг, и нередко муж ей представляется тираном. Выбор любовника, конечно же, зависит от многих обстоятельств, и все-таки главное – он обеспечен свободой; выйти замуж – это вроде обязанности, а вот иметь любовника – это роскошь, шик; женщина уступает мужчине-любовнику, потому что он ее добивается, очень настойчиво ее об этом просит и она уверена если не в его любви, то, по крайней мере, в его желании; ведь его отношение к ней – это не подчинение закону. У любовника есть и еще одно преимущество, его престиж не теряется в повседневной жизни, полной различных трений, благодаря этому он сохраняет свою привлекательность, обольстительность: его нет рядом, он совсем не такой, как тот, что рядом, он – другой. И у женщины при встрече с ним возникает впечатление, что она выходит за свои пределы, получает доступ к новым ценностям, овладевает новыми богатствами: она ощущает себя другой. Как молоденькая девушка мечтает, чтобы пришел герой-освободитель и вырвал ее, увел из отчего дома, так и замужняя женщина ждет встречи с другим мужчиной, который избавит ее от кабалы супруга.
Когда женщина соблюдает свою неприкосновенность, свою верность, так это бывает потому, что она опасается, что ее муж окажется скомпрометированным в глазах любовника. Женщина даже способна вообразить себе, что, переспав с мужчиной – пусть хоть раз, хоть наскоро, где-нибудь на диванчике, – она одержала верх над законным супругом. Но адюльтер – это лишь дивертисмент в супружеской жизни; он может помочь переносить цепи принуждения и насилия, но не разрывает их. Это всего лишь подобие побега, и это никаким образом не позволяет женщине по-настоящему распорядиться своей судьбой.
Синдром влюбленности
Многие женщины, исполненные чувства своего превосходства, не могут, однако, самостоятельно продемонстрировать его миру. Они стремятся заполучить в качестве посредника мужчину, которого убеждают в своих достоинствах. Они не разрабатывают собственных проектов, не создают своих ценностей, но стремятся присвоить уже созданные. Поэтому они обращаются к тем мужчинам, которые уже обладают влиянием и славой, становятся их музами, вдохновительницами, советчицами в надежде отождествить себя с ними.
Это женщины, в которых живет чисто субъективное желание стать значимыми, Они не преследуют никаких объективных целей, но считают себя вправе присвоить достижения Другого. Отнюдь не всегда им это удается, но они прекрасно умеют не замечать свои поражения и убеждать себя в своей непобедимой обольстительности. Они убеждены в том, что достойны любви и восхищения, способны внушать желание, и это вселяет в них уверенность в том, что их на самом деле любят, желают, что ими восхищаются.
Подобные иллюзии могут породить настоящий бред. У Клерамбо были основания считать эротоманию чем-то вроде профессионального «бреда». Чувствовать себя женщиной – значит чувствовать себя объектом желания, считать себя желанной и любимой. Знаменательно, что из десяти больных, страдающих «иллюзией любимых существ», девять – женщины. Совершенно ясно, что воображаемый любовник – апофеоз их самовлюбленности. Они хотят, чтобы он обладал абсолютной ценностью; он должен быть священником, адвокатом, врачом, суперменом. А поведение подобных больных-мужчин всегда отмечено одним общим признаком: воображаемая любовница превосходит всех женщин, она обладает неотразимыми, всепобеждающими добродетелями.
Эротомания может сопровождать различные психозы, но содержание ее неизменно. Больная озарена и возвеличена любовью великого человека, внезапно сраженного ее прелестями, он демонстрирует ей свои чувства, хотя и не прямо, но настойчиво, тогда как она от него ничего не ждет. Иногда такие отношения остаются платоническими, в других случаях приобретают сексуальную форму, но самым характерным в них является то, что могущественный и славный полубог любит больше, чем любим, и что он проявляет свою страсть необычным и двусмысленным образом.
Подобный бред легко переходит в манию преследования. Нечто похожее происходит и с нормальными женщинами. Самовлюбленная женщина не может допустить, что окружающие не испытывают к ней жгучего интереса, и, если она располагает убедительным доказательством того, что ей не поклоняются, она сразу же начинает думать, что ее ненавидят. Любые критические замечания она объясняет ревностью и досадой. Все ее неудачи происходят из-за гнусных махинаций, и, таким образом, в ней еще глубже укореняется мысль о собственной значимости. Она очень склонна к мании величия или к мании преследования, которая является антиподом первой. Центр ее мира – это она, и, поскольку ей известен лишь ее собственный мир, она становится абсолютным центром вселенной.
Однако комедия самолюбования, разыгрываемая женщиной, вредит ее реальной жизни. Воображаемый персонаж домогается обожания воображаемой публики. Женщина, поглощенная своим «я», отрывается от действительного мира, она не стремится установить реальные отношения с другими людьми. Самовлюбленная женщина не допускает и мысли о том, что ее могут воспринимать не той, какой она хочет казаться. Именно этим объясняется тот факт, что, будучи постоянно сосредоточенной на самой себе, она так ошибочно о себе судит и так часто ставит себя в смешное положение. Она неспособна слушать, она лишь говорит, да и то только для того, чтобы разыгрывать свою роль.
Самовлюбленная женщина слишком пристально вглядывается в себя, чтобы что-то увидеть, но и в других людях она понимает только то, что сама им приписывает. Все то, что она не может отождествить с собой, с собственной историей, остается чуждым для нее.
* * *
Влюбленная женщина, которая заключает любовника в имманентность жизни влюбленной пары, обрекает его, как и самое себя, на смерть. Самовлюбленная женщина, не видящая ничего, кроме своего воображаемого двойника, уничтожает себя. Ее воспоминания застывают, поведение становится шаблонным, она повторяет одни и те же слова и жесты, из которых постепенно исчезает всякий смысл. Именно этим объясняется то жалкое впечатление, которое производят многие женские «дневники» и написанные женщинами «автобиографические произведения». Занятая одним лишь самовосхвалением женщина, которая ничего не делает, не реализуется как личность и, следовательно, восхваляет ничтожество.
Туалет Венеры. Художник Диего Веласкес
Ее несчастье заключается в том, что, несмотря на все старания обмануть себя, она осознает свое ничтожество. Между индивидом и его двойником не может быть никаких реальных взаимоотношений, потому что двойника не существует. Самовлюбленную женщину ожидает полный крах. Ей не удается ощутить себя целостным, полноценным существом, она не может сохранить иллюзию, что быть «в себе» – значит быть «для себя». Одиночество она переживает как случайность и покинутость. Вот почему, если, конечно, она не изменяется, она всегда обречена бежать от себя самой к толпе, к шуму, к людям. Было бы глубоким заблуждением считать, что, избирая себя в качестве высшей цели, она сбрасывает цепи зависимости, напротив, она попадает в самое тяжелое рабство. Она не может найти опору в своей свободе, поскольку превратила себя в объект, которому постоянно грозит и внешний мир, и чужое сознание. Мало того, что ее тело и лицо суть уязвимая плоть, которая со временем стареет. С чисто практической точки зрения украшать идола, возводить его на пьедестал, строить для него храм – это дорогостоящее занятие.
Поскольку для женщины воплощением ее судьбы является мужчина, женщины обычно измеряют свой успех количеством и качеством покоренных их властью мужчин. Но здесь вновь вступает в игру взаимность; «пожирательница мужчин», которая стремится сделать из мужчины свое орудие, не может, тем не менее, стать независимой от него. Ведь для того, чтобы привязать его к себе, ей нужно ему нравиться. Американские женщины, которые стремятся стать идолами, превращаются в рабынь своих поклонников. Они одеваются, живут и дышат только мужчинами и для мужчин. На деле самовлюбленная женщина так же зависима, как гетера. Господства мужчины ей удается избежать только в том случае, когда она соглашается подчиниться тирании общественного мнения. Эта связь не предполагает взаимности. Если бы она стремилась добиться признания со стороны Другого и признавала бы его свободу как цель, признавала на деле, она перестала бы быть самовлюбленной женщиной. Парадокс ее позиции заключается в том, что она требует, чтобы ее высоко ценил мир, за которым она сама не признает никакой ценности, поскольку в ее глазах в счет идет только она одна. Одобрение окружающих – это бесчеловечная, таинственная и капризная сила, которую нужно пытаться покорить с помощью магии. Несмотря на внешнее высокомерие, самовлюбленная женщина знает, что ей грозит опасность. Поэтому она неспокойна, чувствительна, раздражительна, постоянно настороже. Ее тщеславие никогда не бывает удовлетворено. С годами она со все большей тревогой ждет похвал и успеха, все чаще подозревает, что вокруг нее плетутся заговоры. Растерянная, снедаемая одними и теми же мыслями, она погружается во тьму лицемерия и нередко, в конце концов, замыкается в параноическом бреду. Именно к ней удивительным образом подходит изречение: «Кто захочет спасти свою жизнь, погубит ее».
* * *
Слово «любовь» имеет не один и тот же смысл для мужчин и женщин, что является источником возникающих между ними недоразумений. Байрон совершенно верно заметил, что в жизни мужчины любовь представляет собой лишь одно из занятий, тогда как для женщины она и есть жизнь. Ту же мысль выразил Ницше в «Веселой науке»: «Одно и то же слово «любовь» в действительности значит различные вещи для мужчины и женщины. Совершенно ясно, как понимает любовь женщина: это не просто преданность, это полная самоотдача, душой и телом, без всяких ограничений и в любых обстоятельствах. Именно это отсутствие каких бы то ни было условий превращает любовь женщины в веру, естественную, которую она способна исповедовать. Когда мужчина любит женщину, он ждет от нее такой же любви. Сам он вовсе не требует от себя именно такого чувства, какое испытывает женщина. И если бы нашлись мужчины, которые стремились бы к столь полному самоотречению, то, право же, они просто не были бы мужчинами».
В определенные моменты своей жизни мужчины могут быть страстными любовниками, но ни одного из них нельзя назвать «великим влюбленным». Переживая самые бурные порывы, они никогда не жертвуют собой до конца. Даже когда падают на колени перед любовницей, их главное стремление – это обладать ею, сделать ее своей. Как суверенные субъекты, они всегда остаются средоточием собственной жизни, и любимая женщина для них является одной из ценностей в ряду других. Они хотят приобщить ее к своему существованию, а не дать поглотить себя. Для женщины же любовь – это полное отречение от себя ради своего господина.
«Любящая женщина забывает о своей личности, – пишет Сесиль Соваж. – Это закон природы. Женщина не может существовать без повелителя. Без повелителя она похожа на растрепанный букет».
На самом деле речь идет не о законе природы. Наличие различных представлений о любви у мужчин и женщин – это свидетельство различия их «ситуации». Индивид, являющийся субъектом, личностью, обладающий благородным стремлением к трансцендентности, делает все, чтобы усилить свое влияние на мир, он честолюбив, деятелен. Но второстепенное существо не может найти абсолютную ценность в собственной субъективности; существо, обреченное на имманентность, не может реализовать себя в поступках. Замкнутая в сфере относительного, с детства предназначенная для мужчины, приученная видеть в нем господина, с которым ей не дозволено сравниться, женщина, которая не задушила в себе желания быть человеком, мечтает превзойти себя в стремлении к этому высшему существу, соединиться, слиться с полновластным субъектом. У нее есть только одна возможность: душой и телом затеряться в том, кто преподнесен ей как абсолютная ценность. Поскольку она в любом случае обречена на зависимость, то вместо того, чтобы подчиняться тиранам – родителям, мужу, покровителю, – она предпочитает служить божеству (любви). Она добровольно и с таким жаром желает своего рабства, что оно кажется ей выражением ее свободы.
Но любовь занимает не так уж много места в реальной жизни женщины. Ее муж, дети, дом, удовольствия, тщеславие, светские и сексуальные отношения, продвижение по социальной лестнице значат для нее гораздо больше. Почти все женщины мечтают о «великой любви», некоторые из них прикасаются к ней, другим достается суррогат, они познают ее неполной, ущербной, смехотворной, несовершенной, лживой. Но очень немногие действительно посвящают ей всю свою жизнь.
Несчастье женщины заключается в том, что ее окружают почти непреодолимые искушения. Все толкает ее на легкий путь; вместо того чтобы побуждать ее бороться за себя, ей предлагают скользить по течению, пока она не достигнет волшебного блаженства. А когда она замечает, что была заворожена миражем, уже слишком поздно и силы ее иссякли.
* * *
Психоаналитики нередко утверждают, что в любовнике женщина ищет образ отца. Но этот последний очаровывал ее в детстве не потому, что он был ее отцом, а потому, что был мужчиной. И этой магией обладают все мужчины. Женщина стремится не подменить одного другим, а возродить определенную ситуацию, ту, в которой она находилась, будучи девочкой и живя под защитой взрослых. Она была глубоко интегрирована в семейную жизнь и наслаждалась покоем, почти полностью покоряясь воле родителей. Благодаря любви она вновь обретет отца и мать, вернется в детство. Ей так хочется вновь увидеть потолок над своей головой, спрятаться за стенами от своей растерянности перед миром, за законами, которые защитили бы ее от свободы. Многие женщины хотят благодаря любви вернуться в детство, им нравится, когда любовники называют их «маленькой девочкой, дорогой деткой». Мужчины хорошо знают, что слова: «Ты похожа на совсем маленькую девочку» – больше всего трогают женское сердце.
Многим из женщин мучительно не хочется становиться взрослыми, многие упорно «разыгрывают» ребенка, как можно дольше продолжая вести себя и одеваться по-детски. Превратиться в ребенка в объятиях мужчины – это для них высшее счастье. Именно об этом поется в популярной песенке: «В твоих руках я чувствую себя такой маленькой, Такой маленькой, любовь моя…». Эта тема без конца повторяется в любовных разговорах и переписке. «Беби, малютка моя», – шепчет любовник, а женщина называет себя «твоя малышка, твоя крошка».
Рассказ психастенической больной, случай которой описан Жане в работе «Навязчивые состояния и психастения», является яркой иллюстрацией подобного поведения: «С тех пор как я себя помню, все глупости и добрые поступки, которые я совершала, имели одну причину: стремление к совершенной и идеальной любви, которой я могла бы отдаться полностью, доверить все мое существо другому существу, Богу, мужчине или женщине, которые были бы настолько выше меня, что мне уже не нужно было бы думать о своем поведении в жизни, заботиться о себе. Найти кого-нибудь, кто полюбил бы меня настолько, что захотел бы взять на себя заботу о моей жизни, кого-нибудь, кому бы я слепо повиновалась и к кому питала бы полное доверие, зная, что он оградит меня от любой слабости, и кто с большой любовью и нежностью прямо повел бы меня к совершенству. Как я завидую идеальной любви Марии Магдалины к Христу. Быть пылко любящей ученицей обожаемого учителя, достойного подобной любви, жить и умереть для своего бога, верить в него без тени сомнения и, наконец, обрести полную победу Ангела над зверем; всем своим телом чувствовать тепло его объятий, быть такой маленькой, затерявшейся в его покровительстве, настолько принадлежать ему, что больше не существовать самой по себе».
Мы уже видели, что в действительности мечты о слиянии с другим, о самоуничтожении представляют собой страстное желание «быть». Во всех религиях поклонение Богу неотделимо для верующего от заботы о спасении собственной души. Безраздельно отдаваясь божеству, женщина надеется, что благодаря ему она обретет самое себя и воплощенный в нем мир. В большинстве случаев она ждет, что любовник наполнит смыслом ее существование, возвеличит ее «я». Многие женщины способны полюбить только в случае, если они сами любимы. И, наоборот, для того, чтобы влюбиться, им порой достаточно проявления любви. Девушка смотрит на себя глазами мужчины. В грезах женщина полагает, что она обрела себя благодаря устремленному на нее мужскому взгляду. Женщина чувствует себя высшей, надежнейшей ценностью. Отныне, благодаря любви, которую она внушает, она имеет, наконец, право лелеять себя. В любовнике она с восторгом обретает свидетеля.
Любовь – это проявитель, благодаря которому в бесцветном отрицательном образе, таком же бесполезном, как неудачный негатив, начинают играть яркие, положительные черты. С ее приходом лицо женщины, линии ее тела, воспоминания детства, пережитые горести, платья, привычки, весь ее мир и вся ее личность – словом, все, что с ней связано, освобождается от случайности и превращается в необходимость. Она становится драгоценным подарком, положенным на алтарь ее божества.
* * *
Вот почему мужчины, обладающие весом в обществе и умеющие льстить женскому тщеславию, могут стать объектом женской страсти, даже если внешне они совершенно непривлекательны. В их высоком общественном положении воплощаются Закон, Истина, а в их убеждениях отражается неоспоримая реальность. Женщина, которую они восхваляют, начинает чувствовать себя бесценным сокровищем.
Только в любви женщина может привести в гармонию эротику и самовлюбленность. Эти две системы противостоят друг другу, и из-за этого женщине очень трудно приспособиться к сексуальной жизни. Она должна превратиться в предмет из плоти, стать добычей, но это противоречит тому поклонению, с которым она к себе относится. Ей кажется, что ласки портят и пачкают ее тело или унижают ее душу. Поэтому некоторые женщины предпочитают фригидность, полагая, что таким образом они сохранят в целостности свое «я». Другие разделяют животные страсти и возвышенные чувства. Штекель замечает, что «многие женщины испытывают оргазм, лишь впав в животное состояние». В физической любви они видят унижение, которое невозможно примирить с такими чувствами, как уважение и привязанность. Только очень циничная, равнодушная и гордая женщина может рассматривать физические отношения как взаимное удовольствие, в котором каждый из партнеров получает свою долю. Мужчина, так же как женщина, а иногда и сильнее, протестует, если его хотят использовать как орудие наслаждения. Но именно у женщины обычно возникает впечатление, что ее партнер пользуется ею как вещью.
Любовный акт требует от женщины глубокого отчуждения; ее охватывает пассивное томление, с закрытыми глазами, безликая, потерянная, она чувствует, как ее уносят волны, как ее затягивает буря, как она проваливается во тьму. Это тьма плоти, чрева, могилы; она растворяется, соединяется с Целым, ее «я» исчезает. Но вот мужчина отстраняется – она сброшена на землю, она лежит в постели, в комнате горит свет; она вновь обретает имя, лицо, но она повержена, превращена в добычу, в объект.
Римский мотив. Художник Роберто Ферри
Подобное разочарование бывает мучительнее, чем разочарование ребенка, когда рушится авторитет его отца: ведь женщина сама выбрала того, кому отдала в дар все свое существо. Даже если избранник достоин самой глубокой привязанности, он все равно остается земным человеком, и женщина, преклоняющая колена перед высшим существом, обращает свою любовь не к нему. Ее вводит в заблуждение собственная серьезность, из-за которой она придает достоинствам своего возлюбленного абсолютное значение, то есть не хочет признать, что их носителем является человеческое существо.
Из-за этого заблуждения между ней и предметом ее обожания развертывается пропасть. Она восхваляет его, повергается перед ним ниц, но она не может стать ему настоящим другом, потому что не осознает, что в мире его подстерегают опасности, что его планы и цели шатки, а сам он хрупок. Видя в нем Бога, Истину, она неправильно судит о его свободе, которая отмечена нерешительностью и страхом. Этот отказ мерить любовника человеческой меркой объясняет многие парадоксы женского поведения. Женщина просит что-либо у любовника, и он удовлетворяет ее просьбу, следовательно, он великодушен, богат, великолепен, он царь и бог; если же он отказывает, он превращается в скупца, мелочного и жестокого человека, он животное, демон. Так и подмывает спросить: если «да» удивляет как нечто в высшей степени необычное, то почему так поражает «нет»? Если отказ представляет собой проявление столь отвратительного эгоизма, то почему такое восхищение вызывает согласие? Нет ли места для просто человеческих качеств между сверхчеловеческими и бесчеловечными?
Дело в том, что поверженное божество – это не человек, а самозванец; у любовника есть лишь одна возможность: доказывать, что он действительно тот самый царь, которого обожает женщина. В противном случае он разоблачает себя как узурпатор. Если женщина больше не любит его, в ней растет желание растоптать его. Во имя славы, которой влюбленная увенчала своего возлюбленного, она отказывает ему в праве на какую бы то ни было слабость. Она разочаровывается и раздражается, если он не соответствует тому образу, которым она его подменила. Если он устал или рассеян, если ему не вовремя хочется есть или пить, если он ошибается или противоречит сам себе, она заявляет, что он «недостоин сам себя», и ставит ему это в вину. Таким образом, она доходит до того, что упрекает его за любое дело, которое ей самой приходится не по нраву. Она судит собственного судью и для того, чтобы он был достоин оставаться ее повелителем, отказывает ему в праве на свободу. Порою ей легче поклоняться отсутствующему божеству, чем присутствующему. По всем этим причинам лишенные иллюзии женщины заявляют: «Не нужно ждать сказочного принца. Мужчины – просто ничтожные существа».
* * *
Именно в этом состоит проклятие, тяготеющее над страстной женщиной: ее возвышенное представление о мужчине неизбежно превращается в требовательность. Отрекаясь от себя ради другого, она хочет в то же время взять свое: ей необходимо завладеть человеком, которому она отдает все свое существо. Она дарит ему себя безраздельно, но он должен обладать всеми совершенствами, чтобы достойно принять этот дар. Она посвящает ему все свое время, но и он должен быть постоянно рядом с ней. Она хочет жить лишь им, но она хочет жить полной жизнью, для этого он должен посвятить всего себя ей.
Сначала влюбленная женщина с упоением удовлетворяет желания любовника, затем, как легендарный пожарник, совершающий поджоги из любви к своему ремеслу, она старается пробуждать в нем желание для того, чтобы иметь возможность удовлетворять его. Если это ей не удается, она чувствует себя до того униженной и ненужной, что любовнику приходится разыгрывать пылкость, которой он на самом деле не испытывает. Превратившись в рабыню, женщина нашла самый надежный способ поработить мужчину. В этом состоит еще один обман любви, который с такой обидой разоблачают многие мужчины.
Действительно, жертвы, которые принимает любовник, превращаются в опутывающие его обязательства, при этом он лишен даже преимущества выглядеть человеком, который что-то дает сам. Женщина требует, чтобы он с благодарностью нес крест, который она на него возлагает. И ее тирания ненасытна. Влюбленный мужчина властен, но, если он получил то, чего желал, он чувствует себя удовлетворенным. Что касается взыскательной женской преданности, то она не знает границ. Любовник, доверяющий своей любовнице, не имеет ничего против ее отлучек или занятий вдали от него; он уверен, что она принадлежит ему, и предпочитает обладать не вещью, а свободным существом. Для женщины же отсутствие любовника – это всегда пытка. Он для нее – всевидящее око, судия, и, устремляя свой взгляд не на нее, он тем самым чего-то ее лишает: все, что он видит помимо нее, украдено у нее. Когда он далеко от нее, и она сама и весь мир перестают существовать. Он покидает ее и изменяет ей даже тогда, когда, будучи с ней рядом, читает или пишет. Она ненавидит его, когда он спит. Божественный повелитель не имеет права предаваться покою имманентности, и женщина враждебно смотрит на его поверженную трансцендентность. Ей не нравится животная инертность этого тела, существующего в данный момент не для нее, а для себя, предоставленного случайности, платой за которую является ее собственная случайность.
Бог не должен засыпать, иначе он превращается в прах, в плоть. Он должен постоянно бодрствовать, иначе его творение теряется в небытии. Для женщины спящий мужчина – это предатель и скупец. Случается, что любовник будит возлюбленную, но он делает это, чтобы предаться ласкам, она же будит его просто для того, чтобы он не спал, не отдалялся от нее, думал только о ней, постоянно пребывал с ней, в комнате, в постели, в ее объятиях, как Бог в алтаре. Это постоянное желание женщины, она тюремщица.
В то же время она не готова согласиться на то, чтобы мужчина стал просто ее пленником, и больше ничем. В этом состоит один из болезненных парадоксов любви: становясь узником, божество лишается своей силы. Женщина спасает свою трансцендентность, посвящая ее мужчине, он же должен соединить ее с миром. Если оба любовника полностью погружаются в страсть, их свобода вырождается в имманентность. Единственный выход для них – это смерть, именно в этом отчасти заключается смысл сказания о Тристане и Изольде. Любовники, которые хотят принадлежать лишь друг другу, не могут остаться в живых: они умрут со скуки.
Женщина осознает эту опасность. Если не считать приступов исступленной ревности, она сама требует, чтобы мужчина действовал, завоевывал мир. Какой же он герой, если не совершает никаких подвигов. Дама обижается, когда рыцарь покидает ее и отправляется совершать новые подвиги, но, если он остается у ее ног, она презирает его. Именно в этом заключаются трудности и муки любви: женщина хочет всецело владеть мужчиной и в то же время требует от него, чтобы он был выше всего того, чем можно было бы обладать. Свободное существо не может принадлежать никому, и женщина, которая хочет удержать при себе человека, являющегося, по выражению Хайдеггера, «отсутствующим существом», хорошо знает, что эта попытка обречена на провал.
* * *
Женщину с ясной головой идолопоклонническая любовь может привести только к отчаянию. Ведь любовница, требуя, чтобы любовник был героем, гигантом, полубогом, хочет, чтобы он интересовался не только ею, и в то же время для нее счастье возможно лишь при условии, что она полностью завладеет возлюбленным.
«Из того факта, что женская страсть заключается в абсолютном отказе от каких бы то ни было собственных прав, как раз вытекает, что противоположный пол не может испытывать подобных чувств, не может стремиться к самоотречению, – говорит Ницше. – Ведь если бы в любви оба любовника отрекались от себя, то я уже не знаю, к чему бы это привело, разве что к ужасной пустоте. Женщина хочет, чтобы ею обладали… ей нужен кто-нибудь, кто бы ею обладал, не отдаваясь сам, не забывая о собственном «я», а, напротив, желая обогатить его любовью… Женщина отдается, а мужчина благодаря этому возвышается…».
Обогащая возлюбленного, женщина, по крайней мере, чувствует себя счастливой. Она не может стать всем для него, но старается думать, что она ему необходима. Степень необходимости невозможно измерить. Если он «не может жить без нее», она считает себя основой его драгоценного существования и определяет этим собственную цену. Она с радостью служит ему, но он должен принимать ее служение с благодарностью, в соответствии с обычной диалектикой преданности дар превращается в требование. Добросовестно мыслящая женщина начинает задаваться вопросом; действительно ли он нуждается во мне? Мужчина лелеет ее, желает ее с неповторимой нежностью и пылом. Но, может быть, и к другой женщине он мог бы испытывать неповторимые чувства?
Многие влюбленные женщины поддаются на самообман, они не хотят признавать, что в неповторимом всегда присутствует нечто общее. Мужчина подталкивает их к этой иллюзии, потому что поначалу он разделяет ее. Нередко его страстное желание как бы бросает вызов времени. В тот момент, когда он хочет эту женщину, он хочет ее со всей своей страстью и только ее одну. Конечно, мгновение это – абсолют, но этот абсолют – мгновение. Обманутая женщина начинает мыслить категориями вечности. Поскольку объятия повелителя превращают ее в богиню, ей начинает казаться, что она, и только она одна, родилась богиней и была предназначена богу. Однако желание мужчины не только бурно, но и преходяще, оно удовлетворяется и быстро угасает. Женщина же чаще всего, отдавшись мужчине, становится его пленницей. На эту тему существует немало легкого чтива и популярных песенок: «Юноша шел мимо, девушка пела… Юноша пел, девушка плакала».
Даже если мужчина длительное время привязан к женщине, это еще не значит, что она ему необходима. Она же требует именно этого: самоотречение может спасти ее, только наделив властью. Нельзя пренебречь правилами игры во взаимность.
Итак, на ее долю выпадают либо страдания, либо самообман. Нередко поначалу она цепляется за ложь. Она полагает, что мужчина любит ее такой же любовью, какой любит его она. Стараясь обмануть себя, она принимает желание за любовь, эрекцию за желание, любовь за религию. Она принуждает и мужчину лгать ей: «Ты любишь меня? Так же, как вчера? Ты меня не разлюбишь?». Эти вопросы она очень ловко задает как раз в тот момент, когда у мужчины нет времени дать искренние и обстоятельные ответы или когда обстоятельства не позволяют ему этого сделать. Она настойчиво задает их в пылу любовных объятий, выздоравливая после болезни, плача или прощаясь с ним на вокзале. Вырывая у него желаемые ответы, она превращает их в трофеи. Даже не получая ответов, она слышит их в его молчании.
* * *
Каждая по-настоящему влюбленная женщина в той или иной степени страдает паранойей. У меня была одна подруга, которая, долго не получая писем от отсутствующего любовника, говорила: «Когда хотят разорвать, то об этом пишут». Затем, получив недвусмысленное письмо, она заявила: «Тот, кто действительно хочет разорвать, не пишет об этом».
Слушая исповеди женщин, нелегко отделить здравомыслие от патологического бреда. Поведение мужчины, описываемое охваченной паникой влюбленной женщиной, всегда кажется экстравагантным. Он – невропат, садист, бесхарактерный человек, страдающий от комплекса неполноценности, мазохист, дьявол, подлец или все они вместе взятые. Никакие, даже самые тонкие психологические объяснения не проливают свет на его поведение.
Слишком упорный самообман приводит женщину к психическому заболеванию. Больным эротоманией всегда кажется, что любовник ведет себя загадочно, парадоксально. Поэтому их бред легко берет верх над реальностью. Нормальная женщина чаще всего, в конце концов, осознает истинное положение вещей, понимает, что любовник ее разлюбил. Но до тех пор, пока обстоятельства не вынуждают ее признать это, она всегда немного лукавит. Даже при взаимной любви в чувствах любовников существует глубокое различие, которое женщина старается не замечать. Необходимо, чтобы мужчина был способен найти смысл жизни не в ней, поскольку сама она надеется обрести оправдание своего существования в нем. Мужчине необходима женщина потому, что она бежит от своей свободы, ему же, если он обладает свободой, без которой не был бы не только героем, но и просто мужчиной, не нужен никто и ничто. Женщина принимает зависимость в силу своей слабости, но как же может стать зависимым от нее тот, кого она любит за силу?
Одна в постели. Художник Анри Тулуз Лотрек
Женщина со страстной и требовательной душой вряд ли может обрести покой в любви, потому что цели, к которым она стремится, противоречивы. Если она страдает и мучается, то рискует стать обременительной для мужчины, рабыней которого она мечтала быть. Не чувствуя себя необходимой, она становится назойливой, невыносимой. Женщинам часто приходится переживать подобную драму. Мудрая и уступчивая возлюбленная примиряется со своей судьбой. Она не может заменить любовнику все, стать для него необходимой и довольствуется тем, что она ему полезна. Другая легко может занять ее место, и она удовлетворяется тем, что пока еще они вместе. Она признает свою зависимость, не требуя взаимности. На этих условиях на ее долю может выпасть скромное счастье, но даже тогда оно не будет безоблачным. Возлюбленная страдает от ожидания еще больше, чем супруга, если в жене сильнее всего говорит голос возлюбленной, то домашние и материальные хлопоты, различные занятия и удовольствия теряют в ее глазах всякую ценность. От скуки ее может спасти только присутствие мужа. «Когда тебя нет рядом, мне кажется, что на белый свет и смотреть не стоит, все, что случается, представляется мне безжизненным, а сама я превращаюсь в пустое платьице, наброшенное на стул», – пишет Сесиль Соваж вскоре после замужества.
Мужчина воспринимает женщину как существо, подобное ему в своей имманентности, поэтому он нередко разыгрывает из себя Бубуроша. Ему трудно представить себе, что в ней есть нечто, что ускользает от его понимания. Мужская ревность – это обычно мимолетный порыв чувств, такой же, как и сама мужская любовь. Этот порыв может быть бурным и даже опасным, но тревога редко поселяется надолго в сердце мужчины. Для мужчины ревность чаще всего есть компенсация за что-то: когда у него плохо идут дела, когда жизнь бьет его, он уверен, что это все женские козни.
Женщина же, которая любит мужчину за его качество Другого, за его трансцендентность, постоянно чувствует себя в опасности. Между предательским отсутствием и неверностью разница невелика. Как только женщина чувствует, что любима меньше, чем раньше, она начинает ревновать, а поскольку она очень требовательна, то она чувствует это почти всегда. Ее упреки и претензии, какими бы причинами они ни были вызваны, всегда выливаются в сцены ревности. Так она выражает нетерпение и скуку ожидания, горькое чувство зависимости, сожаление о своей искалеченной жизни.
Каждый взгляд, который мужчина бросает на другую женщину, ставит на карту ее судьбу; ведь ради него она отреклась от себя. Именно поэтому она так сердится, если ее любовник даже вскользь взглянет на другую. А если он напоминает ей о том, что недавно она не могла оторвать глаз от незнакомого мужчины, она убежденно отвечает: «Это совсем другое дело». И она права. Мужчина ничего не получит от взглядов женщин, она дарит ему себя только в том случае, если ее плоть становится его добычей. Женщина же, на которую бросают полные вожделения взгляды, немедленно превращается в привлекательный и желанный объект, при этом возлюбленная, которой пренебрегают, «возвращается в прах, из которого она вышла».
* * *
Итак, она постоянно настороже. Что он делает? На кого смотрит? С кем разговаривает? То, что она получила благодаря желанию, может быть отнято у нее улыбкой, достаточно одного мгновения для того, чтобы изгнать ее из «сияющего света бессмертия» в сумерки повседневности. Все, что она имеет, ей дала любовь, потеряв ее, она потеряет все. Неясная или определенная, безосновательная или обоснованная, ревность представляет собой для женщины страшную пытку, потому что она подрывает ее веру в любовь. Если измена несомненна, она должна либо отказаться воспринимать любовь как религию, либо отказаться от подобной любви. Это такое глубокое потрясение, что нет ничего удивительного в том, что сомневающаяся и заблуждающаяся влюбленная женщина поочередно мучается то от желания узнать убийственную правду, то от страха перед ней…
Женщине нужно придумать что-нибудь, чтобы вновь соблазнить любовника, стать той, которую он хотел бы встретить и которой хотел бы обладать. Но все усилия тщетны, ей не удается возродить в себе образ Другой, который когда-то привлек мужчину и который может привлечь его в иной женщине. В любовнике живет то же двойственное и невероятное требование, что и в муже: он хочет, чтобы любовница была абсолютно «его» и в то же время «чужой», новой, он хочет, чтобы она в точности соответствовала его мечте и при этом отличалась от всего, что он может вообразить, чтобы она отвечала его ожиданиям и была удивительно неожиданной. Это противоречие разрывает женщину и обрекает ее на поражение. Она пытается стать такой, какой ее хочет видеть любовник. Многие женщины, которые в начальную пору любви, утверждающей их в самолюбовании, расцветают, – доходят до маниакального, пугающего состояния униженности, как только начинают чувствовать охлаждение любовника. Поглощенные одной мыслью, опустившиеся, они раздражают любовника. Слепо отдаваясь мужчине, женщина теряет свою свободу, которая поначалу придавала ей такую соблазнительность. Мужчина ищет в ней свое отражение, но если это отражение слишком похоже на него, ему становится скучно. Одно из несчастий влюбленной женщины заключается в том, что любовь уродует и уничтожает ее, она становится рабыней, служанкой, слишком послушной тенью, слишком похожим отражением. Осознавая это, она приходит в отчаяние, от которого ее достоинства умаляются еще больше. Она плачет, жалуется, устраивает сцены и окончательно теряет всякую привлекательность. Человек «существующий» определяется тем, что он делает. Она же для того, чтобы «быть», доверила себя сознанию другого человека, отказавшись от всякой самостоятельной деятельности.
Нередко она понимает, что ведет себя неправильно, и пытается возродить свою свободу, вновь стать для любовника непредсказуемой. Тогда она начинает кокетничать. Если она возбуждает желание в других мужчинах, пресыщенный любовник вновь начинает проявлять к ней интерес. Однако подобные уловки таят в себе опасность. Если мужчина отдает себе в них отчет, они лишь подчеркивают жалкую зависимость любовницы. Но и в случае успеха они рискованны; мужчина пренебрегает женщиной, потому что уверен в том, что она принадлежит ему, но из-за этой же уверенности он к ней привязан. Неизвестно, чему повредит неверность: пренебрежению или привязанности. Может случиться, что оскорбленный мужчина отвернется от охладевшей к нему любовницы. Да, он хочет, чтобы она была свободна, но в то же время он хочет, чтобы она была ему преданна. Эта опасность известна женщине, она парализует ее кокетство. Влюбленной женщине редко удается удачно играть в такую игру, слишком силен ее страх попасться в собственные сети. Если в ней еще сохраняется уважение к любовнику, ей противно обманывать его, ведь в ее глазах он остается богом. Выигрывая, она ниспровергает своего идола, проигрывая, гибнет сама. Спасения нет.
* * *
Мужчины многократно провозглашали, что для женщины любовь – это высшее свершение. «Женщина, которая любит, как женщина становится еще больше женщиной», – говорит Ницше. А вот слова Бальзака: «В высоком смысле жизнь мужчины есть слава, а жизнь женщины есть любовь. Женщина равна мужчине лишь тогда, когда она превращает свою жизнь в вечный дар, тогда как жизнь мужчины – это вечное действие».
Но и в этих словах заключен жестокий обман, поскольку мужчинам нет дела до дара, приносимого им женщинами. Мужчине не нужна ни безоговорочная преданность, которой он требует, ни идолопоклонническая любовь, которая тешит его тщеславие. Он их принимает только при условии, что не должен отвечать взаимностью, которой требует подобная позиция женщины. В соответствии с его проповедями женщина обязана дарить себя, но этот дар раздражает его. И растерянная женщина остается один на один со своими отвергнутыми дарами и со своим бесполезным существованием. В тот день, когда женщина сможет любить благодаря своей силе, а не благодаря слабости, когда она будет любить не для того, чтобы бежать от себя, а для того, чтобы себя найти, не для того, чтобы отречься от себя, а для того, чтобы себя утвердить, – в тот день любовь станет для нее, как и для мужчины, не смертельной опасностью, а источником жизни. Пока же она в самом патетическом виде представляет собой проклятие, тяготеющее над женщиной.
Бесчисленные мученицы любви свидетельствуют против несправедливости судьбы, предлагающей им в качестве единственного спасения бесплодный ад.
Влюбленные на привязи
(из книги К.С. Льюса «Любовь», перевод с английского М. Корнина)
Нельзя относиться с важностью к страсти, да и невозможно, для этого надо насиловать свою природу. Не случайно все языки и все литературы полны шуток на эти темы. Многие шутки пошлы, многие гнусны, и все до одной – стары. Но, смею утверждать, в них отражено то отношение к соитию, которое гораздо невинней многозначительной серьезности. Отгоните смех от брачного ложа, и оно станет алтарем. Страсть обернется ложной богиней – более ложной, чем Афродита, которая любила смех.
Если же мы этого не ощутим, она сама и отомстит нам. Страсть – насмешливое, лукавое божество, она ближе к эльфам, чем к богам. Она любит подшутить над нами. Когда, наконец, мы можем ей предаться, она уходит от обоих или от одного из нас. Пока влюбленные обменивались взглядами в метро, в магазине, в гостях, она бушевала во всю свою силу. И вдруг ее нет, как не было. Сами знаете, сколько за этим следует досады, обиды, подозрений, жалости к себе. Но если вы ее не обожествляли, если вы относились к ней здраво, вы только посмеетесь. И это входит в игру.
Поистине, Господь шутил, когда связал такое чувство, как влюбленность, с чисто телесным желанием, неизбежно и бестактно проявляющим свою зависимость от еды, погоды, пищеварения. Влюбившись, мы летаем; вожделение напоминает нам, что мы – воздушные шары на привязи. Снова и снова убеждаемся мы, что человек двусоставен, что он сродни и ангелу, и коту. Плохо, если мы не примем этой шутки. Поверьте, Бог пошутил не только для того, чтобы придержать нас, но и для того, чтобы дать нам ни с чем не сравнимую радость.
У нас, людей, три точки зрения на наше тело. Аскеты-язычники зовут его темницей или могилой души, христиане – пищей для червей, постыдным, грязным источником искушений для грешника и унижением для праведника. Поклонники язычества (очень редко знающие греческий), нудисты, служители темных богов славят его вовсю. А святой Франциск называл его братом ослом.
«Осел» – то самое слово. Ни один человек в здравом уме не станет ненавидеть осла или ему поклоняться. Это полезная, двужильная, ленивая, упрямая, терпеливая, смешная тварь, которая может и умилить нас, и рассердить. Сейчас он заслужил морковку, сейчас – палку. Красота его нелепа и трогательна. Так и тело: мы не уживемся с ним, пока не поймем, что среди прочего оно состоит при нас шутом. Да это и понимают все – и мужчины, и женщины, и дети, – если их не сбили с толку теории.
То, что у нас есть тело, – самая старая на свете шутка. Смерть, живопись, изучение медицины и влюбленность велят нам иногда об этом забыть. Но ошибется тот, кто поверит, что так всегда и будет во влюбленности. На самом деле, если любовь их не кончится скоро, влюбленные снова и снова ощущают, как близко к игре, как смешно, как нелепо телесное ее выражение. Если же не чувствуют, тело их накажет. На таком громоздком инструменте не сыграешь небесной мелодии; но мы можем обыграть и полюбить самую его громоздкость. Высшее не стоит без низшего. Конечно, бывают минуты, когда и тело исполнено поэзии, но непоэтичного в нем гораздо больше. Лучше взглянуть на это прямо, как на комическую интермедию, чем делать вид, что мы этого не замечаем.
* * *
Интермедия нужна нам. Наслаждение, доведенное до предела, мучительно, как боль. От счастливой любви плачут, как от горя. Страсть не всегда приходит в таком обличье, но часто бывает так, и потому мы не должны забывать о смехе. Когда естественное кажется божественным, бес поджидает за углом.
Легкость особенно нужна, если мужчина, пусть ненадолго, ощутит себя властелином, победителем, захватчиком, женщина – добровольной жертвой. Любовная игра бывает и грубой, и жестокой. Разве могут нормальные люди на это идти?
Мне кажется, это не причинит вреда при одном условии. Мы должны помнить, что участвуем в некоем «языческом таинстве». В дружбе каждый представляет сам себя. Здесь мы тоже – представители, но совсем иные. Через нас все мужское и все женское начало мира, все активное – и все пассивное, приходят в единение. Мужчина играет Небо-Отца, Женщина – Мать-Землю; мужчина играет форму, женщина – материю. Поймите глубоко и правильно слово «играет». Тут и речи нет о притворстве. Мы участвуем, с одной стороны, в мистерии, с другой – в веселой шараде.
Женщина, приписавшая лично себе эту полную жертвенность, поклонится идолу – отдаст мужчине то, что принадлежит Богу. Мужчина, приписавший себе власть и силу, которой его одарили на считанные минуты, будет последним хлыщом, более того, богохульником. Но можно играть по правилам. Вне ритуала, вне шарады и женщина, и мужчина – бессмертные души, свободные граждане, просто два взрослых человека. Не думайте, что мужчина, особенно властный в соитии, властен и в жизни; скорей наоборот. В обряде же оба – бог и богиня, и равенства между ними нет, вернее отношения их асимметричны.
Спящая нимфа и два сатира. Художник Себастьяно Риччи
Многие удивятся, что я уподобляю маскараду то, что считается самым неприкосновенным, откровенным, истинным. Разве обнаженный человек не больше «похож на себя»? В определенном смысле, нет. Обнаженный – причастие прошедшего времени, результат какого-то действия. Человека облупили, как яйцо, очистили, как яблоко. Нашим предкам обнаженный представлялся ненормальным. На мужском пляже видно, что нагота стирает индивидуальное, подчеркивает общее. В этом смысле на себя похож одетый. Обнажившись, возлюбленные уже не только Петр или Анна, но Он и Она. Они облачились в наготу, как в ритуальные одежды, или обрядились в нее, как в маскарадный костюм. Напомню снова, неверная серьезность очень опасна. Небо-Отец – языческое мечтание о Том, кто выше Зевса и мужественней мужа. Смертный человек не вправе всерьез носить Его корону, он надевает ее подобие из фольги.
В моих словах нет пренебрежения. Я люблю ритуал, люблю домашний театр, люблю и шарады. Игрушечные короны в своем контексте серьезны. Они ничем не хуже земных знаков величия.
* * *
[Перейдем] от вожделения к влюбленности. Здесь все очень похоже. Как вожделение влюбленных не стремится к наслаждению, так влюбленность во всей своей полноте не стремится к счастью. Всякий знает, что бесполезно пугать несчастиями людей, которых мы хотим разлучить. Они не поверят нам, но не в этом дело. Вернейший знак влюбленности в том, что человек предпочитает несчастье вместе с возлюбленной любому счастью без нее. Даже если влюбились люди немолодые, которые знают, что разбитое сердце склеивается, они ни за что не хотят пройти через горе расставанья.
Все эти расчеты недостойны влюбленности, как холодный и неизменный расчет Лукреция недостоин вожделения. Когда самим влюбленным ясно, что союз их принесет одни мучения, влюбленность твердо отвечает: «Все лучше разлуки». Если же мы так не ответим, мы не влюблены.
В этом – и величие и ужас любви. Влюбленность не ищет своего, не ищет земного счастья, выводит за пределы самости. Она похожа на весть из вечного мира.
И все же она – не Любовь. Во всем своем величии и самоотречении она может привести и к злу. К жестокости, неправде, самоубийству и убийству ведет не преходящая похоть, а высокая, истинная влюбленность, искренняя и жертвенная свыше всякой меры.
Некоторые мыслители полагали, что голос влюбленности запределен и веления ее абсолютны. Согласно Платону, влюбившись, мы узнаем друг в друге души, предназначенные одна для другой до нашего рождения. Как миф, выражающий чувства влюбленных, это прекрасно и точно. Если же мы примем это буквально, возникнут затруднения. Придется вывести, что в том мире дела идут не лучше, чем в этом. Ведь влюбленность нередко соединяет совершенно неподходящих людей. Многие заведомо несчастные браки были браком по любви.
Если мы поклонимся влюбленности безусловно, она станет бесом. А она как раз и требует безусловного подчинения и поклонения. Она по-ангельски не слышит зова самости, по-бесовски не слышит ни Бога, ни ближнего. Когда я много лет назад писал о средневековой поэзии, я был так слеп, что счел культ любви литературной условностью. Сейчас я знаю, что влюбленность требует культа по самой своей природе. Из всех видов любви она, на высотах своих, больше всего похожа на Бога и всегда стремится превратить нас в своих служителей.
Когда влюбленные говорят: «Мы это сделали ради любви», прислушайтесь к их тону. «Я это сделал из трусости» или «… со зла» произносят совсем иначе. Заметьте, как гордо, почти благоговейно они выговаривают слово «любовь». Они не ссылаются на смягчающие обстоятельства, а взывают к высшему авторитету. Это не покаяние, а похвальба, иногда вызов; это оправдывает все, что бы они ни сделали. Я имею в виду не только и не столько грехи против целомудрия, сколько несправедливость и жестокость к «внешним». Влюбленные могут сказать: «Ради любви я обижаю родителей – оставляю детей – обманываю друга – отказываю ближнему». Все это оправдано законом любви. Влюбленные даже гордятся. Что дороже совести? А они принесли ее на алтарь своего бога.
Тем временем бог этот мрачно шутит. Влюбленность – самый непрочный вид любви. Мир полнится сетованиями на ее быстротечность, но влюбленные об этом не помнят. У влюбленного не надо просить обетов, он только и думает, как бы их дать. «Навсегда» – чуть ли не первое, что он скажет, и сам поверит себе. Никакой опыт не излечит от этого. Все мы знаем людей, которые то и дело влюбляются и каждый раз убеждены, что «вот это – настоящее!».
Долго ли мы пробудем в этом блаженном состоянии? Спасибо, если неделю. Как и после обращения, скоро окажется, что старая, недобрая самость не так уж мертва. И там и тут она сбита с ног, но отдышится, приподнимется, хотя бы на локоть, и снова примется за свое. А преображенное вожделение, вполне возможно, выродится в простейшую похоть.
* * *
Все эти неприятности опасны – смертельно опасны – для тех, кто поклонился влюбленности. Такие люди вознадеялись на нее, как на бога; сочли, что простое чувство обеспечит их навечно всем необходимым. Когда надежда эта рухнет, они винят любовь или друг друга.
Как и все виды естественной любви, влюбленность так сокрушительна, сладостна, страшна и возвышенна, что падение ее поистине ужасно. Хорошо, если она разобьется и умрет. Но она может выжить и безжалостно связать двух мучителей, которые будут брать, не давая, ревновать, подозревать, досадовать, бороться за власть и свободу, услаждаться скандалами.
Прочитайте «Анну Каренину» и не думайте, что «такое» бывает только у русских…
Влюбленность и любовь
(из книги М. С. Пека «Непроторенная дорога», перевод с английского В. Трилиса)
Среди всех заблуждений относительно любви самым действенным и распространенным оказывается представление, что влюбленность – это тоже любовь или, по меньшей мере, одно из ее проявлений. Действенным это заблуждение является потому, что влюбленность субъективно переживается так же ярко, как и любовь. Когда человек влюблен, его чувство, конечно же, выражается словами «Я ее (его) люблю». Однако сразу же возникают две проблемы.
Во-первых, влюбленность – это специфическое, сексуально ориентированное, эротическое переживание. Мы не влюбляемся в друзей одного с нами пола – если только мы не гомосексуально ориентированы, – хотя можем преданно заботиться о них. Мы влюбляемся только тогда, когда это сексуально мотивировано, – не имеет значения, осознается это или нет.
Во-вторых, переживание влюбленности всегда непродолжительно. В кого бы мы ни влюбились, раньше или позже это состояние проходит, если отношения продолжаются. Экстатичное, бурное чувство, собственно влюбленность, проходит всегда. Медовый месяц всегда быстротечен. Цветы романтики неминуемо увядают…
Итак, переживание влюбленности не может считаться настоящей любовью, и это можно подтвердить следующими рассуждениями.
Влюбленность не является результатом волевого акта, сознательного выбора. Независимо от того, насколько мы открыты этому переживанию и насколько жаждем его, оно вполне может миновать нас. И наоборот, мы можем оказаться в этом состоянии как раз в такой момент, когда вовсе не искали его, когда оно нежелательно и некстати. Влюбиться в человека, с которым у нас явно мало общего, столь же вероятно, как и в человека более близкого и соответствующего нашему характеру. Мы можем быть отнюдь не высокого мнения об объекте нашей страсти, а вместе с тем бывает, что не можем влюбиться в человека, которого уважаем, и с которым близкие отношения были бы во всех смыслах предпочтительны. Это не означает, что состояние влюбленности не подвластно дисциплине. Психиатры, например, часто влюбляются в своих пациентов (как и те – в психиатров), но, сознавая свою роль и свой долг перед пациентом, они обычно не допускают разрушения границ и находят в себе силы отречься от пациента как романтического объекта. При этом боль и страдания, обусловленные дисциплиной, бывают страшными. Но дисциплина и воля могут только контролировать ситуацию; они не могут создать ее. Мы можем выбирать, как реагировать на состояние влюбленности, но выбирать само это состояние нам не дано.
Влюбленность – это не расширение наших границ и пределов; это лишь частичное и временное разрушение их. Расширение пределов личности невозможно без усилий – влюбленность усилий не требует. Ленивые и недисциплинированные влюбляются столь же часто, как и энергичные и целеустремленные. После того, как минует бесценный миг влюбленности и границы личности восстановятся, эта личность, возможно, избавится от иллюзий, но никакого расширения границ не произойдет.
У влюбленности мало общего с сознательным, целенаправленным духовным развитием. Если мы и осознаем какую-либо цель, когда влюбляемся, то это разве что стремление покончить со своим одиночеством и, возможно, надежда закрепить эту победу бракосочетанием. Конечно же, у нас и в мыслях нет никакого духовного развития. И в самом деле, после того как мы влюбились – и пока еще не разлюбили, – мы чувствуем, что достигли вершины и нет ни возможности, ни потребности двигаться выше. Мы не ощущаем никакой нужды в развитии, нас вполне устраивает то, что есть. Наш дух почиет в мире. Не видим мы какого-либо стремления к духовному развитию и со стороны нашего возлюбленного (возлюбленной). Наоборот, мы воспринимаем его (ее) как существо совершенное, и если и замечаем отдельные недостатки, то расцениваем их как маленькие причуды и милые эксцентричности, как некий дополнительный шарм, приправу к отношениям.
* * *
Если влюбленность – не любовь, то что же она тогда представляет собой, кроме временного частичного разрушения границ эго? Я не знаю. Однако сексуальная специфика явления заставляет предположить, что это генетически определенный инстинктивный компонент брачного поведения. Другими словами, временное падение границ эго, представляющее собой влюбленность, – это стереотипная реакция человеческого существа на некую совокупность внутренних сексуальных побуждений и внешних сексуальных стимулов; эта реакция повышает вероятность сексуального сближения и совокупления, то есть служит выживанию человеческого рода.
Или, выражаясь еще прямее, влюбленность – это обман, трюк, который гены проделывают над нашим рассудком (в других случаях более сообразительным), чтобы одурачить нас и заманить в ловушку бракосочетания. Довольно часто трюк не срабатывает – когда сексуальные побуждения и стимулы гомосексуальны или когда внешние факторы, такие, как родительский контроль, душевная болезнь, конфликтующие обязанности или зрелая самодисциплина, вмешиваются и предотвращают связь.
Но, с другой стороны, без этого обмана, без этой иллюзорной и неизбежно временной регрессии к инфантильному всемогуществу, многие из нас, пребывающие сегодня в законном браке, отступили бы в чистосердечном ужасе перед реальностью супружеского обета. В сущности, миф о романтической любви убеждает нас в том, что для каждого молодого человека в мире существует где-то молодая женщина, «предназначенная ему», и наоборот. Более того, миф утверждает, что существует только один мужчина, предназначенный каждой отдельной женщине, как и каждому мужчине соответствует его единственная женщина, и все это предопределено «свыше». Если встречаются двое предназначенных друг другу, то это видно сразу: они влюбляются друг в друга.
Страстный поцелуй. Художник Франсуа Буше
И вот мы встречаем того, кто уготован нам небом, и, поскольку наш союз совершенен, удовлетворяем все взаимные потребности постоянно и до конца дней, а поэтому живем счастливо, в полном согласии и гармонии. Если же случится так, что мы друг друга перестанем удовлетворять, возникнут трения, и мы разлюбим друг друга, – что ж, произошла, очевидно, ужасная ошибка, мы неправильно прочитали указания небес, мы не являемся совершенной парой, а то, что мы приняли за любовь, не было настоящей любовью, и ничего тут не поделаешь, остается влачить несчастливую жизнь до конца. Или развестись.
* * *
Если обычно я признаю, что великие мифы велики именно потому, что представляют и олицетворяют собой великие универсальные истины, то миф о романтической любви я считаю чудовищной ложью. Может быть, эта ложь и необходима, поскольку обеспечивает выживание человеческого рода, поощряя и одобряя состояние влюбленности, которое заманивает нас к браку. Но сердце психиатра едва ли не ежедневно сжимается от боли при виде мучительных заблуждений и страданий, порождаемых этим мифом. Миллионы людей тратят массу энергии, отчаянно и безнадежно пытаясь согласовать реальность своей жизни с нереальностью мифа.
Замужняя женщина А. нелепо обвиняет себя в том, что ее муж ни в чем не виноват: «Когда мы поженились, я на самом деле не любила его. Я только делала вид. Получается, что я его обманула, и теперь мне нельзя жаловаться, я должна позволять ему все, что он пожелает».
Господин Б. жалуется: «Я сожалею, что не женился на мисс В., мы были бы хорошей парой. Но я тогда не был безумно влюблен в нее и поэтому решил, что она мне не подходит».
Госпожа Г. уже два года замужем и вдруг впадает в сильнейшую депрессию без видимой причины. Приступая к психиатрическому лечению, она заявляет: «Я не понимаю, в чем дело. У меня есть все, что мне нужно, в том числе идеальное замужество». И лишь несколько месяцев спустя она признает тот факт, что разлюбила мужа; но ведь для нее это не означает, что она совершила страшную ошибку.
Господин Д., также два года женатый, начал страдать по вечерам сильными головными болями, но не считает их психосоматическими: «У меня дома все в порядке. Я так же крепко люблю жену, как и в день свадьбы; она именно то, о чем я всегда мечтал». Но головные боли не оставляют его, и только через год он признает: «Она меня с ума сводит своими покупками. Ей постоянно что-то хочется купить; ей дела нет до того, как мне эти деньги достаются». И только после этого он сумел ограничить ее царские замашки.
Супруги Е. взаимно признаются, что разлюбили друг друга. А после этого начинают унижать и изводить друг друга открытой неверностью – якобы в поисках единственной, истинной любви, не понимая, что само их признание могло бы стать не концом, а началом работы по созданию настоящего союза.
Но даже в тех случаях, когда супруги сознают и признают, что медовый месяц миновал и что они уже не влюблены так романтически, – даже тогда они цепляются за миф и стараются согласовать с ним свою жизнь. Они рассуждают так: «Даже если мы и разлюбили друг друга, но будем чисто сознательно действовать так, будто все еще влюблены, то, быть может, к нам снова вернется прежняя любовь». Такие пары очень дорожат своим согласием; они выгораживают друг друга и держат единый фронт по отношению ко всем остальным, полагая, что такое единство является признаком относительного здоровья их семьи и предпосылкой дальнейшего улучшения отношений.
* * *
Здесь мы подходим еще к одному серьезному недоразумению относительно любви, которое следует внимательно рассмотреть. Любовь – не чувство. Очень многие люди, испытывающие чувство любви и даже действующие под диктовку этого чувства, совершают фактически акты нелюбви и разрушения. С другой стороны, подлинно любящий человек часто предпринимает любовные и конструктивные действия по отношению к лицу, которое ему явно не симпатично, к которому он в этот момент чувствует не любовь, а скорее отвращение.
Чувство любви – это эмоция, сопровождающая переживание катексиса. Катексис, – это событие или процесс, в результате которого некий объект становится важным для нас. В этот объект («объект любви» или «предмет любви») мы начинаем вкладывать свою энергию, как если бы он стал частью нас самих; эту связь между нами и объектом мы также называем катексисом. Можно говорить о многих катексисах, если у нас одновременно действует много таких связей. Процесс прекращения подачи энергии в объект любви, в результате чего он теряет для нас свое значение, называется декатексисом.
Заблуждение относительно любви как чувства возникает из-за того, что мы путаем катексис с любовью. Это заблуждение нетрудно понять, поскольку речь идет о подобных процессах; но все же между ними есть четкие различия. Прежде всего, как уже отмечалось, мы можем переживать катексис по отношению к любому объекту – живому и неживому, одушевленному и неодушевленному. Так, кто-то может испытывать катексис к фондовой бирже или к ювелирному изделию, может чувствовать к ним любовь.
Во-вторых, если мы испытываем катексис к другому человеческому существу, то это вовсе не значит, что нас сколько-нибудь интересует его духовное развитие. Зависимая личность практически всегда боится духовного развития собственного супруга, к которому она питает катексис. Мать, упорно возившая сына в школу и обратно, несомненно, испытывает катексис к мальчику: он был важен для нее – он, но не его духовный рост.
В-третьих, интенсивность наших катексисов обычно не имеет ничего общего ни с мудростью, ни с преданностью. Двое людей могут познакомиться в баре, и взаимный катексис окажется столь сильным, что никакие ранее назначенные встречи, данные обещания, даже мир и покой в семье не сравнятся по важности – на некоторое время – с переживанием сексуального наслаждения. Наконец, наши катексисы бывают зыбкими и мимолетными. Пара, испытав сексуальное наслаждение, тут же может обнаружить, что партнер непривлекателен и нежелателен. Декатексис может быть столь же быстрым, как и катексис.
Эротическая любовь
(из книги Л. Андреас-Саломе «Эротика», перевод с немецкого Л. Гармаш)
В реальной жизни трудно в каждом отдельном случае верно провести границы между слабостью и добром, между суровостью и силой духа, и то, как люди должны объединять в себе добро и силу, – предложений и мнений на этот счет существует множество, словно песка в море. Между тем это обстоятельство психологически интересно тем, что человек не может вступить ни в одно из этих состояний, не вредя себе, и что они, несмотря на их видимое противоречие, все же, в конце концов, могут находиться во взаимодействии.
Именно в абсолютном противоречии кроется новое, необыкновенно эффектное и плодотворное в них, поскольку оно вызывает такое состояние, что человек фактически уходит сам в себя и одновременно выходит из своей скорлупы обратно в целое жизни. Это касается и эротических отношений. Часто, – и не без основания, – замечают, что любовь – это вечная борьба, вечная враждебность полов и даже, если в отдельных случаях это звучит несколько преувеличенно, все же мало кто станет отрицать тот факт, что в любви встречаются две противоположности, два мира, между которыми нет мостов и не может быть никогда. Не случайно в природе действует тот закон, который самое близкородственное размножение наказывает неплодовитостью, дегенерацией, гибелью.
В любви каждого из нас охватывает влечение к чему-то иному, непохожему; это новое может быть предугаданным нами и страстно желанным, но никогда не осуществимым. Поэтому постоянно опасаются конца любовного опьянения, того момента, когда два человека слишком хорошо узнают друг друга – и исчезнет это последнее притяжение новизны. Начало же любовного опьянения связано с чем-то неизведанным, волнующим, притягательным; это озарение особенно волнующее, глубоко наполняющее все ваше существо, приводящее в волнение душу. Верно, что полюбившийся объект оказывает на нас такое воздействие, пока он еще не до конца знаком. Но как только рассеивается любовный пыл, он тут же становится для нас символом чужих возможностей и жизненных сил.
После того как влюбленные столь опасным образом открываются друг другу, они еще долгое время испытывают искреннюю симпатию. Но эта симпатия, увы, по своей окраске уже не имеет ничего общего с прошедшим чувством, и характеризуется часто, несмотря на честную дружбу, тем, что полна мелких обид, мелкой досады, которую, как правило, пытаются скрыть.
* * *
В любви эгоизм распространяется не добросердечно и мягко, он во много раз заостряется как сильное оружие захвата. Но этим оружием не пытаются как-то захватить облюбованный предмет для собственных целей, этим оружием он завоевывается лишь для того, чтобы оценить объект со всех сторон, чтобы переоценить его, вознести на трон, носить на руках. Эротическая любовь скрывает весь возросший эгоизм под доброжелательностью, возникшая страсть, беспечная к противоречиям, соединяет доброжелательность и эгоизм в едином чувстве.
Эротическое чувство само по себе является таким же своеобразным миром, как и все социально окрашенные чувства или чувства отдельного эгоистического человека; эротическое чувство проходит все ступени: от самых примитивных до сложнейших в своей собственной сфере.
Понятно, почему такое, по сути, противоречивое своеобразие, как своеобразие любовных ощущений, оценивается обыкновенно как зыбкое; почему это своеобразие лишь в незначительной степени считается эгоистичным и переоценивается скорее как альтруистское. Тут физические способы выражения смешиваются с духовными и, несмотря на противоречивость, все же уживаются. Мы привыкли отличать наши самые сильные физические потребности и инстинкты от наших духовных исканий, но мы также знаем и то, как тесно они связаны между собой и как непременно они сопровождают друг друга; таким образом, физические процессы не выступают с такой требовательностью, чтобы постоянно притягивать к себе наше внимание и чтобы через нас самих себя осознавать.
Эротическое чувство наполняет нас как никакое другое, насыщая всю душу иллюзиями и идеализациями духовного рода, и толкает нас при этом жестоко, без малейших поблажек на жертву такого возбуждения – на тело. Мы не можем его больше игнорировать, мы не можем больше от него отворачиваться: при каждом откровенном взгляде на сущность эротики мы словно содействуем древнему изначальному спектаклю – процессу рождения психического в своем полном великолепии из огромной, всеохватывающей утробы-матери – физического.
Но здесь мы связываем понятия «физическое» и «духовное» как отдельные представления, точно так же, как невольно пытаемся это сделать и с понятиями «эгоистическое» и «альтруистическое», чтобы по возможности целостно понять феномен любви и выразить это единым представлением. Отсюда – странный дуализм во мнениях об эротическом, и отсюда – изображение эротического, исходящее из двух совершенно противоположных сторон.
Резкости этих контрастов способствует еще одно обстоятельство. Наша половая жизнь – точно так же как и все остальное – физически в нас локализована и отдельна от прочих функций. Половая жизнь воздействует централизованно и так же обширно, как деятельность головного мозга, но отличие ее в том, что при этом она выступает на передний план намного грубее и выразительнее.
Да, «темное» чувство этого феномена любви может само прийти к влюбленным, и, возможно, это явится одной из самых сильных причин того глубокого инстинктивного стыда, который будут испытывать совершенно юные непорочные люди по отношению к своей физической связи. Этот первоначальный стыд не всегда восходит только к недостаточному опыту, а возникает спонтанно: они считали и ощущали любовь как целостность, всей их взволнованной сущности, и этот переход к специальному физическому процессу, к процессу, на который падает ударение, сбивает с толку: это походит на то, как ни парадоксально это звучит, как если бы между ними двоими присутствовал еще и третий. И это вызывает такое ощущение, будто они сблизились преждевременно, в безусловном расточительстве своей духовной общности.
* * *
Преходящий характер любой любовной страсти мог бы приводить к менее опасным кризисам, если бы к этому не добавлялись некоторые недоразумения.
Наибольшая опасность кроется не в том безрассудном ослеплении любовной страсти, когда человек в другом хочет увидеть больше, чем есть на самом деле: опасней, если вместо этого он попытается наоборот – представить свою собственную сущность искусственно, «по образу и подобию» другого. Ничего так не искажает любви, как боязливая приспособляемость и притирка друг к другу, и та целая система бесконечных взаимных уступок, которые хорошо выносят только те люди, которые вынуждены держаться друг друга лишь по практическим соображениям неличностной природы, и должны эту необходимость по возможности рационально признать.
Но чем больше и глубже два человека раскрыты, тем худшие последствия эта притирка имеет: один любимый человек «прививается» к другому, это позволяет одному паразитировать за счет другого, вместо того, чтобы каждый глубоко пустил широкие корни в собственный богатый мир, чтобы сделать это миром и для другого.
Свидание. Художник Анри Тулуз Лотрек
На деле быть «половинами» всегда плохо для обеих сторон и всегда бывает тесно в их «жилище», если они к тому же еще «притерлись» друг к другу: хотя они говорят теперь «мы» вместо «я», но «мы» уже не имеет никакой ценности, когда захвачено «я», – и это относится не только к духовно бедным личностям, но свойственно и для личностей с богатым внутренним миром, где один у другого наивно отнимает его содержание, присваивает и пытается жить сам, и для этого прячет внутрь свое собственное, до тех пор, пока они не разлучатся. Теперь они, может быть, были бы друг для друга по-братски родными, если бы они не любили друг друга – с воспоминаниями и страстными желаниями – были бы, если бы только по ошибке из привлекательной, плодотворной новизны – которой они были друг для друга – они не стали бы смертельной банальностью друг для друга.
Люди говорят о любви с громким преувеличением. Зачем они преувеличивают? Они вынуждены это делать, потому что они не могут объяснить это по-другому – а в объяснении они никогда не были сильны – как же это все-таки происходит, что становятся все больше уверенными в себе, когда любят другого, и что двое только тогда становятся одним, если ли они остаются двумя.
Они потому так редко остаются «двумя», потому что единство, по большей части, означает искажение. Отсюда постоянно растущее взаимное недовольство, столь сильно охватывающее любовную страсть. Опасаются стать ограниченными, опасаются отсутствия больших возможностей для развития и перемен, и смотрят с растущим недоверием на «возможность вечной любви в дальнейшем».
Современный человек уже лучше знает, что люди никогда друг другом не «владеют», что они получают или теряют друг друга в любой момент жизни, что любовь вообще «существует» только в их фактическом спонтанном воздействии. По этой причине сегодня трудней отделить легкомыслие или игру от подлинной любовной страсти, и все же они перемешаны не сильней, чем раньше. Но если раньше даже довольно незначительное и бедное в чувственном смысле, весьма малоплодотворное внутреннее отношение пытались представить божьей милостью, то теперь можно отказаться, при обстоятельствах, от относительно богатой и глубокой любовной связи спустя непродолжительный отрезок времени (так, как раньше «от флирта»), потому что приходит понимание того, что она все же не является абсолютно всем, что может дать любовь, и что лучше – идти дальше порознь.
Конечно, в таком понимании лежит определенная жестокость. Эта жестокость знает, что там, где любовь хочет быть большим, чем чувственное или мечтательное времяпрепровождение, она должна сотрудничать с той же самой великой задачей жизни, которой принадлежат наши самые высокие цели и самые святые надежды, – и что она из своей области, из самой себя должна завладеть отрезком жизни после другого. Самая совершенная любовь останется всегда такой, пока ей удается самым совершенным образом в большинстве моментов и областей «сделать» так, что человек переживает все посредством другого человека, – да, до тех пор, пока они в состоянии вместе быть «всем»: влюбленными, супругами, братом и сестрой, друзьями, родителями, товарищами, играющими детьми, строгими судьями, милосердными ангелами.
* * *
Если мы взглянем в мир простейших существ, то мы обнаружим, что маленькие амебы совокупляются и размножаются, причем они попарно вжимаются одна в другую, абсолютно сливаясь с другим существом. Нам кажется естественным, что люди в области физической уже не способны на столь полное слияние; наше тело удовлетворяется тем, что лишь частичка его самого должна «пойти» для оплодотворения, лишь она должна принять участие в этом полном слиянии и только в узкоограниченной функции.
Странным образом, но в том, что касается души, а не тела, нам хочется, чтобы это взаимопроникновение распространялось еще дальше, – так, как это происходит у амеб. Душой мы хотим того же самого, что и телом: не растворения в другом человеке, а – наоборот, благодаря своему контакту, – плодотворного становления, усиления, удвоения, вплоть до плодотворного роста. В таких же отношениях состоят художник и его творчество. Потому что автор, даже не соприкасаясь при этом с предметом, пребывает с ним в этом «амебообразном соитии», поскольку этот предмет оплодотворил его фантазию.
За этой полной аналогией физических и духовных способов выражения любовного восприятия стоит то, что при этом речь идет только о двух сторонах одного и того же процесса. Как творческое возбуждение коренится в процессах фантазии, так эротическое возбуждение, подобно процессу творчества, нельзя вычленить из фантазии, являющейся его порождающим центром. Несправедливо относятся к эротическому процессу, если его ограничивают лишь грубым физическим действием, а все дальнейшее больше не хотят признавать. Но с не меньшей несправедливостью относятся к нему те, которые его лишь морализуют и эстетизируют, искажая при этом половую жизнь. Эротическое – это все то, что относится к изначальной силе притяжения, преодолевая при этом существующую разделенность и несходство между телесными и духовными проявлениями его сути, подчеркивая физический момент в духовном и наоборот.
С этой суверенной областью – ведь эротическое являет свой собственный целый мир во всех его физических проявлениях – пребывают в разнообразных конфликтах другие области человеческой жизни и различные мнения человека. Пример тому – то, как часто люди могут одновременно любить и презирать. Я при этом предвижу, в очень частом случае, что наше «презрение» только привито и что именно любовь в действительности совпадает с нашей глубинной оценкой вещей.
Притягательность предмета остается источником сильного опьянения, но опьянение нашей целостной сущности существует лишь только в пределах определенных моментов, в то время как в другие моменты наступает уныние, разочарование. Если эта симпатия возникает в очень чувствительных местах души, ей противостоят в нашей сознательной личностной направленности очень сильные пристрастия и оценки: таков исток борьбы между любовью и презрением, и, странным образом, от каждого человека, без исключения, ожидается, что он преодолеет свою страсть, хотя никто – даже он сам – не может предугадать, какие боги в глубине глубин борются тут за его сердце и на какой стороне может быть самая тяжелая потеря, серьезное увечье.
* * *
Как своеобразный итог этих размышлений напрашивается вопрос: почему любимый предмет так часто настолько мало нам подходит – по сравнению с большинством симпатичных нам людей – и почему, тем не менее, для нас все сосредотачивается в нем одном? Почти в каждой любовной страсти живет это недоразумение и, невольно спрашивая себя о причине выбора и тайне своей зависимости, мы, как правило, не в состоянии их объяснить.
Это происходит тогда, когда в основе любовной страсти лежит физическое впечатление, причем это физическое впечатление говорит на совершенно «другом языке», так сказать, символизирует, обещает совершенно иное, нежели то, чем оказывается душа этого человека при более близком знакомстве. Это происходит так, как будто его походка, его вид, его улыбка, его интонация, короче, все, до самых мельчайших черточек его существа, рассказало о совершенно другом человеке, чем он есть на самом деле.
Если речь идет о страсти легкого рода, то этот парадокс не сильно ее разрушает, ведь она, собственно, и любит только физического человека, и потому она не находится в трагическом конфликте, подобно конфликту между любовью и презрением. В своих физических впечатлениях она не ошибается и никогда не ошибется: в этом человеческие инстинкты не могут заблудиться. Но может случиться так, что то, что она видит и чувствует в этом отдельном индивидууме, явственно подчеркнуто только физически – может быть, возрастом, предками, особенностями семьи, может быть, с детства – т. е. то, чего он лишился со временем, что было отрезано приобретенными позднее внутренними свойствами. Тело – более консервативная сила, и многое медленно в него «внедряется».
То, что мы любим, схоже со светом тех звезд, которые от нас так далеки, что их свет мы видим только после того, как они сами уже погасли. Мы любим потом нечто, что есть и чего, одновременно, нет, но даже потом мы любим не зря. Ибо даже потом этот еще видимый, уловимый луч угасающего света может зажечь огонь всей нашей сущности, который не смог бы так вспыхнуть ни от одной другой, самой богатой действительности.
Эротически мы любим только то, что в самом широком смысле физически выражено, что, так сказать, стало физическими символами, обрело материальность. Это подчеркивает всю окольность пути от одной человеческой души к другой. Это означает, что мы уже действительно никогда не приблизимся друг к другу, и нечто подобное только изображаем физически.
Любовь и «болезнь смерти»
(из книги М. Бланшо «Неописуемое сообщество», перевод с французского Ю. Стефанова)
Несомненно, что существует пропасть, которую не могут заполнить никакие лживые риторические ухищрения, – бездна между беспомощной мощью того, что именуется обманчивым словом народ, и странными антисоциальными обществами или группами, состоящими из друзей или влюбленных пар. Тем не менее, есть черты, что их разъединяют, а есть и такие, что сближают: народ (особенно если его не обожествляют) не является государством, а тем более олицетворением общества с его функциями, законами, определениями, потребностями, составляющими его конечную цель.
Инертный, неподвижный, представляющийся скорее рассеянием, чем сплочением, занимающий все мыслимое пространство и в то же время лишенный какого бы то ни было места (утопия), одушевленный своего рода мессианизмом, выдающим лишь его тягу к независимости и праздности (при условии, что мессианизм остается самим собой, иначе он тотчас вырождается в систему насилия, а то и в безудержный разгул): таков он, этот народ людей, который позволительно рассматривать как измельчавший суррогат народа Божия (его можно было бы сравнить с детьми Израиля, приготовившимися к Исходу, но позабывшими о своем замысле) и как нечто идентичное «бесплодному одиночеству безымянных сил».
Это «бесплодное одиночество» сравнимо с тем, что Жорж Батай называл «истинным миром любовников»; Батай остро воспринимал противостояние обычного общества и тех, кто «исподтишка ослабляет социальные связи», что предполагает существование мира, на самом деле являющегося забвением всего мирского, утверждение столь странных взаимоотношений между людьми, что даже любовь перестает для них быть необходимостью, поскольку она, будучи крайне зыбким чувством, может изливать свои чары в такой кружок, где ее наваждение принимает форму невозможности любить или превращается в неосознанную смутную музыку тех, кто, утратив «разуменье любви» (Данте), все еще тянутся к тем единственным существам, сблизиться с которыми им не поможет даже самая жаркая страсть.
* * *
Не эту ли муку Маргерит Дюра назвала «болезнью смерти»? Когда я принялся за чтение ее книги, привлеченный этим загадочным названием, я ничего о ней не знал и могу признаться, что, к счастью, ничего не знаю и теперь. Это и позволяет мне как бы заново взяться за ее прочтение и толкование: то и другое одновременно проясняет и затемняет друг друга.
Начать хотя бы с названия «Болезнь смерти», возможно позаимствованного у Кьеркегора: не содержит ли оно само по себе всю тайну книги? Произнеся его, мы чувствуем, что все уже сказано, даже не зная о том, что можно еще сказать, ибо знание тут ни при чем. Что это такое – диагноз или приговор? В самой его краткости есть нечто беспощадное. Это беспощадность зла. Зло (моральное или физическое) всегда чрезмерно. Невыносимо то, что не отвечает на расспросы. Зло в крайнем своем виде, зло как «болезнь смерти» не вписывается в рамки сознательного или бессознательного «я», оно касается прежде всего другого и этот другой – чужой – может быть простачком, ребенком, чьи жалобы звучат как «неслыханный» скандал, превосходящий возможность взаимопонимания, но взывающий к моему ответу, на который я неспособен.
Девушка и смерть. Художник Ханс Бальдунг
Эти замечания нисколько не отвлекают нас от предложенного или, вернее, навязанного нам текста, ибо это декларативный текст, а не просто рассказ, пусть даже похожий на него с виду. Все определяется начальным «Вы», звучащим более чем повелительно, и задающим тон всему, что произойдет или может произойти с тем, кто угодил в тенета неумолимой судьбы. Простоты ради можно сказать, что это «Вы» обращено к некоему режиссеру-постановщику, дающему указания актеру, которому предстоит вызвать из небытия зыбкую фигуру того, кого он должен воплотить. Пусть так оно и будет, но тогда позволительно видеть в нем Всевышнего Постановщика, библейского «Вы», нисходящего с небес и пророческим тоном возвещающего основной сюжет пьесы, в которой нам предстоит играть, хотя мы и пребываем в полном неведении относительно того, что нам предписано.
«Не надлежит вам знать того, что разом открылось повсюду – в гостинице, на улице, в поезде, в баре, в книге, в фильме, в вас самих…». Тот, кого мы обозначили местоимением «Вы», никогда не обращается к героине книги: он не властен над нею, зыбкой, неведомой, ирреальной, неуловимой в своей пассивности, в своей полусонной и вечно эфемерной кажимости.
После первого прочтения все это можно истолковать так: нет ничего проще – речь идет о мужчине, никогда не знавшем никого, кроме себе подобных, то есть других мужчин, являющихся всего лишь повторением его самого, – о мужчине и о молоденькой женщине, связанной с ним неким контрактом, оплаченным на несколько ночей подряд или на всю жизнь, каковое обстоятельство побудило чересчур скоропалительную критику говорить о ней как о проститутке, хотя она сама уточняет, что никогда таковой не была, а просто между нею и мужчиной заключен некий контракт, мало ли какой (брачный, денежный), поскольку она с самого начала смутно предчувствовала, хотя и не знала точно, что он не сможет сблизиться с нею без контракта, сделки, и хотя отдавалась ему вроде бы безоглядно, на самом деле жертвовала лишь частью своего существа, подпадающей под условия контракта, сохраняя или охраняя свою неотчуждаемую свободу.
Отсюда можно заключить, что отношения героя и героини были изначально извращены и что в продажном обществе между людьми могут существовать коммерческие связи, но никак не подлинная общность, никак не взаимопонимание, превосходящее любое использование «порядочных» приемов, будь они сколь угодно необычными. Такова игра противоборствующих сил, в которой тот, кто оплачивает и содержит, сам впадает в зависимость от собственной власти, являющейся лишь мерилом его бессилия.
Это бессилие не имеет ничего общего с банальной импотенцией, из-за которой мужчина не может вступить в интимную связь с женщиной. Герой делает все, что надо. Героиня решительно и без околичностей подтверждает: «Дело сделано». Более того, ему случается «ради забавы» исторгнуть из ее уст ликующий вопль, «глухой и отдаленный стон наслаждения, еле различимый из-за прерывистого дыхания»; ему случается даже услышать ее возглас: «Какое счастье!» Но, поскольку ничто в нем не отвечает этим страстным порывам (или они только кажутся ему страстными?), он находит их неуместными, он подавляет их, сводит на нет, потому что они суть выражение жизни, бьющей через край (бурно себя проявляющей), тогда как он изначально лишен подобных радостей.
* * *
Нехватка чувств, недостача любви равнозначны смерти, той смертельной болезни, которой незаслуженно поражен герой и которая вроде бы не властна над героиней, хотя она предстает ее вестницей и, следовательно, несет ответственность за эту напасть. Подобное заключение способно разочаровать читателя главным образом потому, что оно выводится из поддающихся объяснению фактов, на которых настаивает текст.
По правде говоря, он кажется загадочным лишь потому, что в нем нельзя изменить ни единого слова. Отсюда его насыщенность и краткость. Каждый может на свой лад составить себе представление о персонажах, особенно о молодой героине, чье присутствие-отсутствие в тексте таково, что оно почти затмевает обстановку действия, заставляя ее выступать как бы в одиночку. Известным образом она и впрямь существует в одиночку: молодая, красивая, наделенная ярко выраженной личностью, а герой только пялит на нее глаза да распускает руки, думая, что обнимает ее. Не будем забывать, что для него это первая женщина и что она становится первой для всех нас, первой в том воображаемом мире, где она реальней любой реальности. Она превыше всех эпитетов, которыми бы мы старались определить, закрепить ее существо. Остается лишь повторить нижеследующее утверждение (хотя оно и выражено в сослагательном наклонении): «Тело могло бы быть удлиненным, неподражаемо совершенным, словно выплавленным в один прием и из одного куска породы самим Господом богом». «Самим Господом Богом», как Ева и Лилит, за тем лишь исключением, что наша героиня безымянна, потому что ей не подходит ни одно из существующих имен.
И еще две особенности делают ее более реальной, чем сама реальность: она – существо до крайности беззащитное, слабое, хрупкое; и тело ее, и лицо, в зримых чертах которого таится его незримая суть, – все это словно бы взывает к убийству, к «удушению, насилию, диким выходкам, грязной брани, разгулу скотских, смертоносных страстей». Но эта слабость, эта хрупкость оберегают ее от гибели: она не может быть убита, она находится под защитой собственной наготы, она неприкасаема, недосягаема: «видя это тело, вы прозреваете в нем инфернальную силу (Лилит), чудовищную хрупкость, уязвимость, потаенную мощь бесконечной немощи».
Вторая особенность характера героини заключается в том, что она присутствует на страницах романа, в то же время как бы полностью отсутствуя: она почти все время спит и сон ее не прерывается даже тогда, когда ей случается обронить несколько слов: спросить о чем-то, о чем она не должна спрашивать, или изречь последний приговор своему любовнику, возвестить ему «болезнь смерти», его единственную судьбу.
Смерть ждет его не в будущем, она давно уже осталась позади, поскольку ее можно считать отказом от жизни, так никогда и не состоявшейся. Следует хорошенько осознать (лучше уж осознать самому, чем узнать со стороны) банальную истину: я умираю, даже не начав жить, я только тем и занимался, что умирал заживо, я и думать не думал, что смерть – это жизнь, замкнувшаяся на мне одном и потому заранее проигранная в результате оплошности, которой я не заметил (такова, быть может, главная тема новеллы Генри Джеймса «Зверь в джунглях», некогда переведенной Маргерит Дюра и переделанной ею в театральную постановку «Жил-был человек, с которым ничего не должно было случиться»).
«Она в спальне, она спит. Она спит. Вы (о, это неумолимое «вы», что превыше всякого закона, обращенное к человеку, которого оно не то удостоверяет, не то поддерживает) не будите ее. Чем крепче сон – тем страшнее затаившаяся в спальне беда… А она все спит безмятежным сном…»
Как же нужно беречь этот загадочный, нуждающийся в толковании сон, ведь он – это форма ее существования, благодаря ему мы не знаем о ней ничего, кроме ее присутствия-отсутствия, известным образом сообразного с ветром, близостью моря, чья белая пена неотличима от белизны ее постели – бескрайнего пространства ее жизни, бытия, мимолетной вечности. Конечно, все это порой напоминает прустовскую Альбертину, чей сон бережет сам рассказчик: она была ему особенно близка спящей, ибо тогда чувство дистанции, защищающее их от лжи и пошлости жизни, способствовало идеальной связи между ними, связи, что и говорить, чисто идеальной, сведенной к бесплодной красоте, к бесплодной чистоте идеи.
Но, в противоположность Альбертине, а может быть, и заодно с нею (если вдуматься в неразгаданную судьбу самого Пруста), наша героиня навсегда отгорожена от своего любовника именно в силу их подозрительной близости: она принадлежит к другому виду, другой породе, чему-то абсолютно другому: «Вам ведома лишь красота мертвых тел, во всем подобных вам самим. И вдруг вы замечаете разницу между красотой мертвецов и красотой находящегося перед вами существа, столь хрупкого, что вы одним мизинцем можете раздавить все его царственное величие. И вы осознаете, что здесь, в этом существе, вызревает болезнь смерти, что раскрывшаяся перед вами форма возвещает вам об этой болезни». Странный отрывок, внезапно выводящий нас к иной версии, к иному прочтению: ответственность за «болезнь смерти» несет не один только герой, который знать не знает ни о какой женственности и даже познавая ее, продолжает пребывать в незнании. Болезнь зреет также (и прежде всего) в находящейся рядом с ним женщине, которая заявляет о ней всем своим существом.
* * *
Попробуем же продвинуться хоть немного вперед в разрешении (но не прояснении) той загадки, которая становится все темней по мере того, как мы силимся ее истолковать, поскольку читатель и, хуже того, толкователь считает себя неподвластным болезни, которая так или иначе уже коснулась его. С уверенностью можно сказать, что герой-любовник, которому персонаж по имени «Вы» указывает, что он должен делать, занят, в сущности, одним только лицедейством. Если героиня – это воплощение сна, радушной пассивности, жертвенности и смирения, то герой, по-настоящему не описанный и не показанный, то и дело снует у нас перед глазами, всегда чем-то занят поблизости от инертной героини, на которую он поглядывает искоса, потому что не в силах увидеть ее полностью, во всей ее недостижимой целокупности, во всех ее аспектах, хотя она является «замкнутой формой» лишь в силу того, что постоянно ускользает из-под надзора, из-под всего, что сделало бы ее постижимой и тем самым свело бы к предсказуемой конечности.
Таков, быть может, смысл этой заранее проигранной схватки. Героиня спит, герой склонен к отказу от сна, его беспокойный нрав несовместим с отдыхом, он страдает бессонницей, он и в могиле будет покоиться с открытыми глазами, ожидая пробуждения, которое ему не суждено. Если слова Паскаля верны, то из двух героев романа именно он, с его безуспешными потугами на любовь, с его беспрестанными метаниями, более достоин, более близок к абсолюту, который он старается найти, да так и не находит. Он остервенело пытается вырваться за пределы самого себя, не посягая в то же время на устои собственной слабости, в которой она видит лишь удвоенный эгоизм (суждение, возможно, несколько поспешное); недостаток этот – дар слез, которые он льет понапрасну, расчувствовавшись собственной бесчувственностью, а героиня дает ему сухую отповедь: «Бросьте плакаться над самим собой, не стоит труда», тогда как всемогущий «Вы», которому вроде бы ведомы все тайны, изрекает: «Вы считаете, что плачете от неспособности любить, на самом же деле – от неспособности умереть».
Какова же разница между этими двумя судьбами, одна из коих устремлена к любви, в которой ей отказано, а другая, созданная для любви, знающая о ней все, судит и осуждает тех, кому не удаются их попытки любить, но со своей стороны всего лишь предлагает себя в качестве объекта любви (при условии контракта), не подавая при этом признаков способности перебороть собственную пассивность и загореться всепоглощающей страстью? Эта диссиметрия характеров служит камнем преткновения для читателя, потому что маловразумительна и для самого автора: это непостижимая тайна.
* * *
Не та ли это симметрия, которой отмечена двойственность этических взаимосвязей между «я» и «другим»: «я» никогда не выступает на равных с «другим»; это неравенство подчеркнуто впечатляющим присловьем: «другой всегда ближе к Богу, чем я» (какой, кстати, смысл вкладывается в это имя, которое именуют неизреченным?). Все это не слишком несомненно и не слишком ясно.
Любовь – это, быть может, камень преткновения для этики, если только она не ставит ее под сомнение, пытаясь ей подражать. Точно так же разделение рода человеческого на мужчин и женщин составляет проблему в различных версиях Библии. Всем отлично известно и без оперы Бизе, что «любовь свободна словно птица, законов всех она сильней». В таком случае возврат к дикости, не преступающей законов хотя бы потому, что они ей неведомы, или к «аоргике» (Гельдерлин), сотрясающей все устои общества, справедливого или несправедливого, враждебной к каждому третьему лицу и в то же время не довольствующейся обществом, где царит взаимопонимание между «я» и «ты», – такой возврат был бы возвратом к «тьме над бездною» до начала творения, к бесконечной ночи, кромешному мраку, хаосу (древние греки, согласно «Федру», считали Эрота божеством столь же древним, как и Хаос).
Привожу начало ответа на поставленный выше вопрос: «Вы спрашиваете, отчего нас так внезапно посещает любовь? Она вам отвечает: быть может, от неожиданного сомнения во вселенской логике. Она говорит: ну, например, по ошибке. Она говорит: но никогда по нашей воле». Проняла ли нас эта премудрость, если только она таковой является? Что она нам возвещает? Что нужно для того, чтобы в гомогенности, в утверждении одного и того же, что требует понимания, возникло гетерогенное, абсолютно Другое. Всякое отношение к нему подразумевает отсутствие отношений, невозможность того, чтобы воля или простое желание преступили границу неприступного в надежде на тайную и внезапную (вне времени) встречу, которая отменяется вместе с утратой всепожирающего чувства, незнакомого тем, кто направляет его на другого, лишаясь собственной «самости».
Любовь и смерть. Художник Эдвард Мунк
Всепожирающего чувства, пребывающего по ту сторону любых чувств, чуждого любому пафосу, выходящего за пределы сознания, несовместимого с заботой о себе самом и безо всяких на то оснований взыскующего того, чего невозможно взыскать, поскольку в моем требовании звучит не только запредельность желания, но и запредельность желаемого. Чрезмерность, крайность обещаний, даваемых нам жизнью, которая не может заключаться в себе самой и потому устает упорствовать в бытии, обрекая себя на бесконечное умирание или нескончаемое «блуждание».
Эту мысль в книге отражает еще один, последний ответ на без конца повторяемый вопрос: «Отчего нас так внезапно посещает любовь?» Он гласит: «Отчего угодно… от приближения смерти…». Здесь раскрывается двойственный смысл слов «смерть», «болезнь смерти», которые отражают и невозможность любви, и чистый любовный порыв – то и другое взывает к бездне, к черной ночи, открывающейся в головокружительном зиянии меж «раздвинутых ног».
* * *
Стало быть, не предвидится конца этому рассказу, который на свой лад утверждает то же самое: он не оканчивается, а только завершается – быть может, прощением, а быть может, и окончательным осуждением. Ибо юная героиня в один прекрасный день исчезает неведомо куда. Ее исчезновение не должно удивлять – ведь это растворение кажимости, проявлявшейся только во сне. Она скрывается, но столь незаметно, столь абсолютно, что ее отсутствие не замечается: напрасно было бы ее искать, хотя бы мысленно допуская, что она существовала только в воображении. Ничто не может нарушить одиночества, в котором без конца звучит ее прощальный шепот: «болезнь смерти».
А вот ее самые последние слова (да и последние ли?): «Вы очень быстро откажетесь от любых поисков, не станете искать ее ни в городе, ни в деревне, ни днем, ни ночью. Только так вам удастся снова пережить эту любовь, потерянную еще до того, как она вам явилась». Замечательное по своей краткости заключение, в котором говорится не об отдельной любовной неудаче, а о свершении всякой истинной любви, возможном лишь посредством утраты не того, что вам принадлежало, а того, чем вы никогда и не обладали, ибо «я» и «другой» не могут жить в одно и то же время, неспособны быть вместе (в синхронности), являться современниками: даже составляя пару, они отъединены один от другого формулами «еще нет» или «уже нет». Не говорил ли Лакан (цитата, возможно, неточна): «Желать – значит дарить то, чего у нас нет, тому, кто в этом даре не нуждается». Это не означает, что любовь может переживаться лишь как нескончаемое ожидание или ностальгия, поскольку подобные термины легко сводятся к чисто психологическому регистру, тогда как речь здесь идет о мировой игре, которая может завершиться не только исчезновением, но и полным крушением мира. Вспомним слова Изольды: «Мы потеряли мир, а мир – нас». И не будем забывать того, что обоюдность любовных отношений, как она представлена в истории Тристана и Изольды, эта парадигма разделенной страсти, исключает и простую взаимность, и полное единение, когда Другой растворяется в Том же.
Это наводит на мысль, что страсть ускользает от осуществления своих возможностей, ускользая в то же время из под власти охваченных ею любовников, не подчиняясь их решению и даже «хотению». Эта странная особенность, не имеющая отношения ни к тому, что они могут, ни к тому, что они хотят, влечет их к таким странным отношениям, когда они становятся посторонними даже к самим себе, к близости, которая делает их чужими друг другу. И, стало быть, навеки разделенными, как если бы в них и между ними находилась смерть? Нет, не разделенными, и не раздельными, а недостижимыми в недостижимом бесконечной связи.
Вот об этом-то я и читаю в безыскусном рассказе о невозможной любви (каково бы ни было ее происхождение), где страсть получает выражение с помощью расхожих этических понятий: бесконечное внимание к Другому, который ставит самоотречение превыше всякого бытия, неотложное и пылкое желание попасть в зависимость к кому-то, стать «заложником» и, как говорил еще Платон, сделаться рабом вне любых общепринятых форм рабства.
Но ведь мораль – это закон, а страсть бросает вызов любой законности? Этика возможна лишь в том случае, если онтология, всегда сводящая Другое к Тому же самому, уступив ей хотя бы на шаг, сумеет установить между ними отношения, при которых «я» будет вынуждено признать Другого и согласится принять за него ответственность, неограниченную и неиссякаемую. Ответственность или обязательства по отношению к Другому, зависящие не от закона, а от того, насколько он несводим ко всем формам законности, посредством которых регулируется, обретая характер исключения, невыразимого никаким языком уже установленных формул.
* * *
Эта ответственность – не обязательство во имя закона, она как бы предшествует бытию и свободе, когда та сливается с непосредственностью, стихийностью. «Я» свободно по отношению к Другому лишь тогда, когда оно вправе отклонить требования, исторгающие его из самого себя, исключающие его из собственных пределов. Но разве не так же обстоит дело в страстной любви? Она роковым образом и как бы помимо нашей воли побуждает нас взять ответственность за другого, который влечет нас к себе тем сильнее, чем яснее мы чувствуем невозможность соединения с ним, так как он далек от всего, чем мы дорожим.
Этот порыв, находящий свое оправдание в любви, символизируется поразительным прыжком Тристана к ложу Изольды, позволяющим скрыть земные следы их близости, – тем «сальто мортале», который, согласно Кьеркегору, необходим для достижения моральных и религиозных высот. Это «сальто мортале» отражено в таком вопросе: «Есть ли у человека право пойти на смерть во имя истины?». Во имя истины? Это само по себе проблематично, но еще проблематичней добровольная смерть ради другого, ради содействия ему. Ответ был высказан еще Платоном, вложившим его в уста Федра: «Нет сомнений в том, что отдать жизнь за другого способен только любящий».
Другой пример – Алкестида, из любви к мужу решившая занять его место в царстве мертвых (вот наглядный образец жертвенной «подмены» одного другим). Это решение, впрочем, не замедлила оспорить Диотима, как женщина и чужестранка, знавшая высшую суть любви: «Алкестида вовсе не стремилась умереть вместо своего мужа, ей хотелось посредством этого самопожертвования прославиться и обрести бессмертие в самой смерти. И не потому, что она его не любила, а потому, что нет иной цели у любви, кроме бессмертия». Все это выводит нас на окольную тропинку, следуя которой мы постигаем, что любовь – это диалектический способ, шаг за шагом ведущий нас к наивысшей духовности.
Какова бы ни была важность платонической любви, этого порождения жадной пустоты и хитроумной изворотливости, мнение Федра неопровержимо. Любовь сильнее смерти. Она не упраздняет смерть, но, переходя за ее грань, делает ее неспособной помешать нам принять участие в судьбе другого, прервать влекущее к нему бесконечное движение, не оставляющее нам времени на заботу о собственном «я». Не для того, чтобы прославить смерть, прославляя любовь, а, напротив, чтобы придать жизни трансцендентность, позволяющую ей посвятить себя служению другому.
Всем этим я не хочу сказать, что этика и страсть – явления однозначные. Присущий страсти порыв, неудержимое движение – это не помеха для спонтанности, для того, что древние звали conatus – все это, напротив, усиливает их, подчас ведя к гибели. И не стоит ли добавить, что любить – значит смотреть на другого как на единственного, затмевающего и упраздняющего всех прочих? Отсюда следует, что безмерность – это единственная мера любви, что насилие и сумеречная гибель не могут быть исключены из способов ее утоления.
Об этом и напоминает Маргерит Дюра: «Незнакомо ли вам желание оказаться на грани убийства любимой, чтобы сохранить ее для вас одного, присвоить, украсть, преступив тем самым все законы, все требования морали?». Нет, ему это желание незнакомо. Тем и объясняется неумолимый и презрительный приговор: «Значит, вы сами – всего-навсего пошловатый мертвец».
Он ничего не отвечает; на его месте и я воздержался бы от ответа или, возвращаясь к нашим грекам, сказал бы: «Я тоже знаю, кто вы такая. Вовсе не Афродита небесная или ураническая, довольствующаяся лишь любовью к душам (или мальчикам), не Афродита земная или площадная, влекущаяся лишь к плоти, включая и женскую плоть; вы – не та и не другая, вы – третья, самая безымянная и страшная, но именно поэтому и самая любимая. Вы таитесь за той и за другой, вы неотделимы от них; вы – Афродита тектоническая или подземная, которая принадлежит смерти и ведет к ней тех, кого избирает она, и тех, кто избирают ее. Она олицетворяет собою море, которое ее породило (и не перестает порождать), и ночь, равнозначную беспробудному сну и молчаливому призыву, обращенному к «сообществу любовников»; отвечая на этот зов, в котором звучит невозможное требование, любовники обрекают друг друга на неотвратимую смерть. Смерть, по определению, бесславную, безутешную, беспомощную, с которой не может сравниться никакой другой вид уничтожения, за исключением, пожалуй, того, что вписан в само письмо, когда вытекающее из него произведение заранее означает отказ от творчества и указывает лишь на пространство, в котором для всех и каждого, а, стало быть, ни для кого, звучит слово, исходящее из недеяния:
С бессмертья змеиным укусом Кончается женская страсть… (Марина Цветаева. «Эвридика – к Орфею»)* * *
Сообщество любовников. Не парадоксален ли этот романтический заголовок, предпосланный мною страницам, где нет ни разделенной страсти, ни настоящих любовников? Несомненно. Но этот парадокс объясним, быть может, экстравагантностью того, что мы пытаемся обозначить словом сообщество. Тем более, что нам пора, пусть ценой некоторых усилий, указать разницу между сообществом традиционным и сообществом избирательным.
Первое из них навязывается нам извне, без нашего на то согласия: это фактическая социальность или обоготворение почвы, крови, а то и расы. Ну, а второе? Его называют избирательным в том смысле, что оно не могло бы существовать помимо воли тех, кто свободно сделал свой выбор; но свободен ли он? Или, по меньшей мере, достаточно ли этой свободы для выражения, для утверждения выбора, на котором зиждется это сообщество?
Точно так же можно задаться и другим вопросом: можно ли без околичностей говорить о сообществе любовников? Жорж Батай писал: «Если бы мир не был беспрестанно сотрясаем судорожными порывами существ, ищущих друг друга, он был бы всего лишь насмехательством над теми, кому предстоит в нем родиться».
Но как понимать эти «судорожные порывы», благодаря которым мир обретает ценность? Идет ли здесь речь о любви (счастливой или неразделенной), которая порождает своего рода общество в обществе и получает от последнего право называться обществом законным или супружеским? Или здесь подразумевается порыв, которому нельзя подыскать никакого названия, будь то любовь или похоть, но который, тем не менее, влечет людей друг к другу, попарно или более-менее коллективно, вырывая их таким образом из обычного общества?
Одни стремятся к другим по зову плоти, другие – по сердечному зову, третьи руководствуются мыслью. В первом случае (определим его несколько упрощенно как супружескую любовь) становится ясно, что здесь «сообщество любовников» ослабляет свои требования из-за компромисса с коллективом, который позволяет ему выжить, заставив отречься от своей главной черты: тайны, за которой скрывается «неистовый разгул». Во втором случае сообщество любовников не заботится ни о традиционных формах, ни об одобрении со стороны общества, пусть даже самом сдержанном.
С этой точки зрения так называемые «веселые дома» или то, во что они теперь превратились, не говоря уже о замках де Сада, уже не представляются некой маргинальностью, способной поколебать устои общества. Как раз наоборот: эти особые заведения легализируются тем легче, чем кажутся более запретными…
Всякое сообщество любовников, хотят ли они этого или нет, рады этому или не рады, связаны ли между собой игрой случая, «безумной любовью» или «смертельной страстью», имеет главной целью только одно – разрушение общества. Там, где складывается эпизодическое сообщество двух существ, созданных или не созданных друг для друга, образуется некая военная машина или, правильней говоря, создается возможность угрозы, которую она в себе несет, какой бы минимальной эта угроза ни была – угрозы вселенского разрушения.
С этой-то позиции и нужно рассматривать «сценарий», придуманный Маргерит Дюра и неизбежно включивший в себя ее самое, как только она его сочинила. Изображенные в нем мужчина и женщина, не испытывающие ни радости, ни счастья и, в сущности, бесконечно друг от друга далекие, символизируют надежду на особость, которую им не дано разделить ни с кем другим, и не только потому, что они замкнуты в самих себе, но и потому, что в пору общественного безразличия к чужим судьбам, они замкнуты в себе вместе со смертью.
Плачущая девушка. Художник Эдвард Мунк
Женщина прозревает в мужчине воплощение смерти и смертельный удар, знак страсти, который она понапрасну стремится от него получить. Можно сказать, что изображая мужчину, навеки отъединенного от любого проявления женственности, даже тогда, когда он соединяется со случайной женщиной, даруя ей блаженство, которого не в силах испытать он сам, – изображая все это, Маргерит Дюра предвидела, что им предстоит каким-то образом вырваться из этого заколдованного круга, зачастую представляемого как романтический союз любовников, слепо влекомых скорее стремлением к гибели, чем друг к другу. И однако она воспроизводит одну из возможных ситуаций, которые так часто разыгрывались в воображении де Сада (и в его жизни), в качестве банального примера игры страстей. Апатия, невозмутимость, отсутствие чувств и импотенция во всех ее формах не только не мешают отношениям между людьми, но и приводят эти отношения к преступлению, которое является крайней и (если можно так сказать) раскаленной добела формой бесчувственности.
Но в том повествовании, которое мы крутим и вертим во все стороны, стараясь выведать скрытую в нем тайну, смерть хоть и призывается, но в то же время обесценивается, а бесчувствие героев столь ничтожно, что они не решаются преступить роковую черту, отделяющую их от смерти, либо, напротив, достигает такого безмерного размаха, который не снился и самому де Саду.
Действие происходит в спальне, замкнутом пространстве, открытом в природу, но недоступном для других людей, где в течение неопределенного времени, исчисляемого не днями, а ночами – и каждая из них никогда не кончается – мужчина и женщина силятся соединиться лишь для того, чтобы пережить (и некоторым образом отпраздновать) поражение, являющееся сутью их совершенного союза, почувствовать лживость этого союза, который вечно свершается, так и не свершаясь.
Можно ли сказать, что вопреки всему этому они образуют нечто вроде сообщества? Скорее, благодаря всему этому. Они живут бок о бок, и эта близость, насыщенная всеми видами пустой интимности, избавляет их от необходимости разыгрывать комедию «слитного или сопричастного» взаимопонимания. Это сообщество заключенных, организованное одним, поддержанное другой, цель которого – попытка любви, но любви впустую, попытка, итогом которой в конечном счете является все та же пустота, воодушевляющая любовников помимо их воли, обрекающая их всего лишь на тщету объятий.
Ни любви, ни ненависти – только неразделенные услады, неразделенные слезы, напор неумолимого «сверх-я», и в конечном счете – покорность единственной власти, власти смерти, блуждающей вокруг, которую можно мысленно призывать, но нельзя разделить, смерти, от которой немыслимо умереть, смерти бессильной, бесплодной, бездеятельной, как бы в насмешку таящей в себе притягательность «невыразимой жизни, той единственной реальности, с которой ты мог бы слиться» (Рене Шар). Вот так и живут в этом замкнутом пространстве, протянувшемся от вечерних сумерек до утренней зари, эти два существа, стремящиеся отдаться друг другу полностью, без остатка, целиком, абсолютно, чтобы явить не их собственным, а нашим глазам это одинокое сообщество, негативное сообщество тех, у которых нет ничего общего.
* * *
Должно быть, читатель заметил, что я уже не говорю, как следовало бы, о тексте Маргерит Дюра. А если он и сквозит в моих писаниях, то лишь для того, чтобы в них снова всплыл странный образ хрупкой юной женщины, готовой целую вечность соглашаться на все, что от нее ни попросят.
Едва написав эти последние строки, я понял, что мне следует кое-что уточнить. Героиня – это также и воплощенный отказ: она отказывается, например, называть своего любовника по имени, то есть номинально признать его существование; равным образом, она не обращает внимания на его слезливость, она и знать о ней не желает, ведь между ею и ее любовником – непроницаемый заслон; она сама занимает весь мир, не оставляя для него ни малейшего уголка; она не хочет выслушивать истории о его детстве, в которых он ищет оправдание своим жалобам: он, будто бы, так любил свою мать, что теперь у него не осталось сил на любовь к своей подруге – это казалось бы ему инцестом.
Единственная в своем роде история для него, банальная для нее: «она успела наслышаться таких историй, начитаться о них в книгах». Все это означает, что она не могла бы ограничиться ролью матери, стать ее заменой, ибо она выше всех этих понятий да и вообще всего абсолютно женского – ведь эта женщина живет в ожидании смерти, которую он неспособен ей причинить. Потому-то она и принимает от него все что угодно, лишь бы он оставался в своей мужской скорлупе, имея дело только с другими мужчинами: это она склонна считать его «болезнью» или одной из форм такой болезни, которая так многообразна. (Гомосексуальность – это слово здесь еще ни разу не произносилось – это вовсе не «болезнь смерти», она только кажется ею, только играет в нее, поскольку трудно отрицать, что между людьми возможны разные оттенки чувств, разные виды любовных отношений). Чем же является «болезнь» ее любовника?
Болезнью смерти? Она, эта «болезнь», проникнута тайной, она отталкивающа и притягательна. Вот почему молодая героиня подозревает, что он поражен этим недугом или чем-то еще более серьезным, чему и названия нет, что и побудило его заключить с нею контракт, по условиям которого они отгородились от всего мира. Она добавляет, что с самого начала их отношений знала об этой болезни, только не могла ее назвать: «В первые дни я не могла подыскать название для этой хвори. А теперь мне удалось это сделать».
Теперь ей все стало ясно: он умирает оттого, что вовсе и не жил, он умирает, хотя его смерть неспособна повредить никакой жизни (иными словами, он вовсе и не умирает или же эта смерть только избавляет его от какого-то недостатка, о котором он сам и не подозревал). Но все эти ее определения не имеют окончательной ценности. Тем более, что герой, мужчина, оказавшийся неспособным к жизни, предпринял попытку эту жизнь обрести, «познавая это самое» (женское тело, то есть саму экзистенцию), познавая то, в чем воплощена жизнь, «то совпадение между кожным покровом и жизнью, которая под ним таится», решаясь на рискованную попытку обладания телом, способным произвести на свет ребенка (это означает, что он видел в ней и свою собственную мать, хотя для нее это не имело особенного значения).
И он только и делает, что пытается, пытается: «день за днем… быть может, всю свою жизнь». Этого он у нее и просит, уточняя свою просьбу ответом на ее вопрос: «Что же вы пытаетесь сделать?» – «Вы же сами сказали: любить». Такой ответ может показаться наивным и трогательным в силу его незнания того, что любовь не может родиться из одной воли любить (вспомним, что ответила на его вопрос героиня: «Никогда по нашей воле»), ибо любовь, чувство, не нуждающееся в оправдании, вовсе не является следствием одной-единственной и непредвиденной встречи. И однако, при всей своей наивности, он, быть может, идет дальше сведущих в любви. В этой случайной женщине, с которой он все «пытается, пытается», он видит всех женщин во всем их великолепии, таинственности, царственности; они воплощают в себе неведомое, «последнюю реальность», на которую он то и дело наталкивается; женщины как таковой не существует; не по случайной прихоти писательницы ее героиня мало-помалу осознает свое тело как мифическую истину; это тело – дар свыше, вот она сама и дарит его, хотя этот ее дар не в силах принять никто, кроме, может быть, читателя. И тогда сообщество между этими двумя существами, никогда не опускающееся до уровня психологического и социологического, на редкость поразительное и в то же время наглядное, уже не умещается в рамках мифических и метафизических.
Их взаимоотношения разнообразны: с ее стороны – некое желание, желание неосуществимое, поскольку читатель не может с нею плотски соединиться; оно может считаться скорее желанием-знанием, попыткой познать через нее то, что ускользает от всякого познания, увидеть ее самое, хотя она остается невидимкой. Читатель сознает, что при всей ее зримости он так никогда ее и не увидит (в этом смысле она – некая анти-Беатриче, Беатриче-призрак, призрак, являющийся каждому в разных обличьях – от физического, ослепляющего подобно молнии, до абсолютно надматериального, неотличимого от Абсолюта: это Бог, theos, теория, последнее из того, что доступно взгляду) – и, в то же время, она не внушает ему ни малейшего отвращения, а только мысль о ее явной бесчувственности, в которой нет места равнодушию, поскольку она вызывает слезы, целый поток слез.
И, быть может, именно эта бесчувственность может даровать читателю высочайшее наслаждение, которому не подыскать имени («возможно, она подарит вам несказанное блаженство, почем мне знать»). Поэтому высшие инстанции лишаются здесь права голоса: блаженство ускользает от их компетенции. Кроме того, героиня открывает перед читателем суть одиночества – ведь он не знает, что сулит ему это недосягаемое тело – спасение от прежнего одиночества или, напротив, наступление нового и еще более худшего. Ведь прежде он не знал, что его взаимоотношения с другими, себе подобными, были, возможно, и взаимоотношениями с одиночеством, – не знал, пренебрегая условностями и обычаями, всеми этими излишествами, порожденными избытком женского начала.
Несомненно, что по мере того, как время проходит, читатель начинает понимать, что с нею, с героиней, оно и не думает проходить, лишая его таким образом всяких ничтожных видов собственности, ну, например, «личной комнаты», в которой теперь поселилась героиня, превратив ее в ничто, в пустоту – и что водворенная ею пустота делает излишним и ее пребывание, – и тогда он приходит к мысли, что она сама должна исчезнуть и что все уладится, если отправить ее обратно, на море, откуда она вроде бы и приехала – такова его последняя мысль или только поползновение на нее.
Но когда она и в самом деле отправится восвояси, он непременно затоскует по ней, захочет снова ее увидеть, потому что ее внезапное исчезновение удвоит его одиночество. Вот только не следовало бы ему говорить об этом другим, а уж тем более поднимать все это на смех, как будто попытки общения с героиней, предпринятые им с величайшей серьезностью, попытки, которым он готов был посвятить всю свою жизнь, могут теперь стать поводом для зубоскальства над иллюзией.
Во всем этом – одна из главных примет истинного сообщества: когда оно распадается, его участники испытывают впечатление, будто оно никогда и не существовало, даже если на самом деле это было вовсе не так.
* * *
Но кто же она сама, эта молоденькая женщина, такая таинственная, такая очевидная, хотя ее очевидность – последняя реальность – нагляднее всего подтверждается ее неминуемым исчезновением, когда она, целиком представ нашим взглядам, оставляет свое восхитительное тело, лишаясь тем самым возможности непосредственного, ежесекундного существования, поддерживаемого лишь силой любовной тяги (о, хрупкость бесконечно прекрасного, бесконечно реального, которую не сохранишь даже условиями любого контракта!) – так кто же она сама?
Есть известная развязность в попытке избавиться от нашей героини, сравнивая ее, как я уже делал, с языческой Афродитой, Евой, а то и Лилит. Все это – дешевая символика. Но, так или иначе, в течение ночей, которые она проводила вместе с любовником, она принадлежала к сообществу, она была рождена для сообщества, хотя в силу своей хрупкости, недосягаемости и великолепия чувствовала: особость того, что не может быть общим, как раз и составляет суть этого сообщества, вечно преходящего и с каждым мигом распадающегося.
В нем не сыскать счастья (даже если само сообщество твердит: какое счастье!); «чем крепче сон – тем страшнее затаившаяся в спальне беда». Но, по мере того, как герой романа начинает всем этим слегка кичиться, считая себя властелином несчастья, начинаются его посягательства на истинность и подлинность этого несчастья, и оно впрямь становится его собственностью, его богатством, его привилегией, над которыми он вправе и поплакать.
Тем не менее, ему есть чем поделиться со своей любовницей. Он рассказывает ей о мире, он рассказывает ей о море, он рассказывает ей о текучем времени и о заре, баюкающей ее во сне. Кроме того, он задает ей вопросы. Она для него – оракул, но оракул, дающий ответы лишь потому, что сам лишен способности вопрошать. «Она говорит вам: тогда задавайте мне вопросы, сама я не могу».
Поистине, существует всего один вопрос, и это единственный возможный вопрос, заданный во имя всех устами того, кто, пребывая в одиночестве, даже не подозревает о том, что вопрошает от лица всех: «Вы его спрашиваете, считает ли она, что вас можно любить. Она говорит, что это совершенно невозможно».
Ответ столь категоричный, что он не может исходить из обычных уст, но звучит откуда-то свыше, из страшного далека, из высшей инстанции, той самой, что диктует ему обрывочные и непритязательные истины. «Вы говорите, что любовь всегда казалась вам неуместной, что вы никогда ее не понимали, что вы всегда уклонялись от любви…»
Мужчина и женщина. Художник Эдвард Мунк
Такие замечания ставят первый вопрос с ног на голову, сводят его к психологическому упрощению (он по собственной воле держался подальше от круга любви: его не любят, потому что он всегда дорожил своей свободой, свободой не любить, иллюстрируя тем самым «картезианское» заблуждение, согласно которому свобода желаний, служащая продолжением свободы Божией, не может и не должна быть подорвана разгулом страстей). И все же повествование, столь краткое и столь емкое, принимает наряду с этими категорическими утверждениями положения, которые нелегко ввести в столь несложную систему взглядов.
Проще простого сказать (ему это говорят, и он соглашается), что он не любит никого и ничего; точно так же он соглашается признать, что никогда не любил ни одну женщину и не желал ее – ни единого раза, ни на единое мгновение. А ведь по ходу повествования он доказывает противоположное: его связывает с этой женщиной ничто иное, как желание (пусть самое скудное, но как его классифицируешь?). «Вы знаете, что могли бы распоряжаться ею на любой манер, даже самый рискованный». (Речь, без сомнения, идет об убийстве, которое сделало бы ее еще более реальной.) «А вы этого не делаете. Вместо этого вы ласкаете ее тело с тем большей нежностью, что оно избежало этой счастливой опасности…».
Поразительное признание, отменяющее все, что можно было бы в данном случае сказать, и показывающее, как велика власть женского начала даже над тем, кто считает, будто он враждебен ему. Ему, а не «вечной женственности» Гёте, этой бледной кальке с земной и одновременно небесной Беатриче Данте. Тем не менее, можно без тени опошления признать, что в самой ее уединенности есть нечто священное, особенно когда в конце повествования она предлагает любовнику свое тело точно так же, как предложила бы причастие, тело Господне, дар абсолютный, вневременной. Об этом говорится с торжественной простотой. «Она говорит: возьмите меня, чтобы это свершилось. Вы это делаете, вы берете. Это сделано. Она засыпает». После того, как таинство свершилось, она исчезает. Уходит в ночь, сливается с ночью. «Она никогда не вернется».
Относительно ее исчезновения можно делать самые разные догадки. Или он не смог ее удержать – ведь сообщество распадается так же случайно, как и создается; или она сделала свое дело, изменив своего любовника куда основательней, чем он сам полагает, оставив ему воспоминание о потерянной любви, на возвращение которой не стоит и надеяться. Такое же случилось с апостолами в Эммаусе: они убедились в присутствии Христа лишь тогда, когда он покинул их.
Или же, и это неописуемо, ее любовник, соединившись с нею по ее воле, даровал ей смерть, которую она так ждала, а он все не помогал ей дождаться, – смерть реальную, смерть воображаемую – разницы тут никакой. Смерть, которая освящает неизбежно сомнительный конец, предреченный любой сообщности…
Любовь и страх
(из книги Ф. Римана «Основные формы страха», перевод с немецкого Э. Гушанского)
Прообразом каждой любви являются отношения между матерью и ребенком, и, быть может, каждая любовь пытается восстановить то, что переживалось нами в раннем детстве: чувство безграничной и безусловной любви к нам, к нам таким, какие мы есть, и ощущение того, что наше существование совместно с другими переживается как счастье. Любовь воспринимается как чувство собственной ценности, и наша готовность любить возвращается к тому, кто принимает ее.
Когда один человек нуждается в другом, он стремится уменьшить дистанцию между ним и собой. Ему причиняет страдание пропасть, разделяющая «Я» и «Ты», отдаление от партнера означает оставленность, покинутость и заброшенность, что может привести к глубокой депрессии вплоть до отчаяния.
Что делать, чтобы избежать мучительного разрыва и уйти от страха утраты? Единственный способ состоит в развитии такой степени самостоятельности и независимости, чтобы полностью освободиться от партнера. Но именно это очень тяжело, например, для депрессивных личностей, у которых ослабление тесного контакта с другими тотчас же высвобождает страх утраты. Они делают попытки найти спасение в других людях, которые сняли бы подобные проблемы, но положение от этого лишь ухудшается. Им кажется, что такую безопасность дает им зависимость – и они ищут ее либо входя в зависимость от другого, либо поставив другого в зависимость от себя.
При любом типе зависимости они нуждаются в обещании – пусть лживом – не оставлять их. Как им, вероятно, кажется, связь с другим тем прочнее, чем выразительнее они демонстрируют беспомощность и зависимость – ведь не может быть другой человек столь жестоким и бессердечным, чтобы оставить их в таком положении.
Другая возможность заключается в том, чтобы поставить другого в зависимость от себя, как это делают дети, в противоположность описанным выше действиям; но, в любом случае, мотивация остается той же и состоит в том, чтобы удержать зависимость.
Для депрессивных личностей близость означает безопасность и защищенность, для шизоидов – угрозу и ограничение их автаркии, и наоборот, дистанцирование для шизоидов – это безопасность и независимость, а для депрессивных личностей – угроза их существованию и страх оставленности и одиночества. Если депрессивная личность узнает, что для партнера интересы существования «Я», индивидуальности неизбежно означают расставание, то они отказываются от самих себя, унижаясь и повергая себя в прах перед партнером. Говоря на языке нашей аллегории, депрессивные личности пытаются избежать страха, отказываясь от центробежного стремления к «Я» (от своего «Я») или делая других зависимыми от себя.
Депрессивные личности ищут зависимости, которая сулит им безопасность; вместе с зависимостью, однако, возникает страх утраты, поэтому они прилагают все усилия для удержания другого, панически реагируя даже на кратковременную разлуку. Таким образом, образуется типичный порочный круг, который может быть разорван только с риском для собственного существования, так как автономия субъекта в данном случае разрушительна…
Конфликты депрессивных личностей проявляются, в первую очередь, в форме соматических нарушений в воспринимающих органах. Символически представляя все, что они воспринимают, они делают это своим внутренним достоянием. Такого рода психосоматические расстройства легко возникают при конфликтных ситуациях, фиксируясь в области глотки, глоточных миндалин, пищевода и желудка. Ожирение и исхудание также могут быть психодинамически связаны с конфликтами.
В народе бытует выражение «печальное сало», или «ожирение от горя»; связано оно с тем, что разлука или утрата близкого человека нередко компенсируются неумеренным пьянством или обжорством. Это почти неотличимо от расстройств влечений, если рассматривать их как эрзац удовлетворенности или способ бегства от действительности.
Трудности, с которыми сталкиваются депрессивные личности, могут привести к умственной несостоятельности, при которой они не могут справиться со своими проблемами и нуждаются в уходе. Им так тяжело подумать о чем-то конкретном, они так быстро все забывают, что кажется, что это – органические симптомы поражения мозга. При более внимательном рассмотрении мы убеждаемся, что такое впечатление недостаточно обосновано.
Депрессивные личности воспринимают окружающее с недостаточным интересом и вниманием, потому что одержимы страхом; сильные раздражители до них не доходят, так как лишь усугубляют конфликт и ослабляют их способность к восприятию; они как бы включают фильтр для чрезмерных по силе раздражителей, чтобы предотвратить разочарование.
Сюда же относятся трудности в учебе или общая утомляемость и как бы безучастность, которые, с одной стороны, несут защитные функции, а с другой – по типу обратной связи – усиливают депрессию, так как приводят к невыполнению ожидаемых от них действий и функций и к разочарованию в себе самом.
* * *
Из приведенных выше описаний становится ясно, что именно в партнерских отношениях депрессивные личности приходят к кризису. Напряженность, столкновения, конфликты в таких отношениях мучительны и непереносимы для них, они угнетают их больше, чем следует из объективных обстоятельств, потому что конфликты активизируют страх утраты.
Для депрессивных личностей непонятно, почему их старания могут довести партнера до точки кипения, так как в судорожном цеплянии за него они находят облегчение. Депрессивные личности реагируют на кризис в партнерских отношениях паникой, глубокой депрессией; страх иногда приводит их к шантажированию партнера угрозой или даже попытками самоубийства. Они не могут себе представить, что партнер не столь нуждается в близости, как они сами, что душевная близость не доставляет ему удовольствия и радости. Потребность партнера в дистанцировании они расценивают как недостаточную склонность к ним или признак того, что их больше не любят.
О чем думает депрессивная личность и как она чувствует, можно догадаться по высказываемому желанию «читать в глазах» – зная о том, что он мешает партнеру, что тот хочет отвязаться от него, убрать со своей дороги, он принимает его взгляды, разделяет его мнения – короче говоря, он любит так, что вообще создается угроза стирания различий между существованием депрессивной личности и партнера.
Такое «слияние» для депрессивной личности является как бы заклинанием от страха утраты. Он весь в партнере и живет сознанием своей жертвенности и самоотречения. Истинность или неистинность такой любви определяется тем, что депрессивные личности решаются на любовь (так как она сама по себе смягчает страх утраты), отдавая себе отчет в опасности любви для них самих и понимая, что партнер должен иметь условия для свободного развития своей индивидуальности. Здесь принцип «я хочу того, что подходит тебе» абсолютизируется. Для партнера такого рода связь во многих отношениях удобна, но если от своего партнера депрессивные личности ожидают большего, чем быть его «эхом» или обслуживающим его бессловесным духом, то их ждет разочарование.
Более тяжелой является другая форма депрессивных партнерских взаимоотношений – так называемая шантажирующая любовь, или любовь-вымогательство. Она охотно рядится в повышенную заботливость, за которой скрывается господствующее влечение бежать от страха утраты. Если это недостижимо, депрессивные личности прибегают к более сильным методам, направленным на пробуждение у партнера чувства вины, – например, к угрозе самоубийства; если же и это не оказывает желаемого действия, они впадают в состояние глубокой депрессии и отчаяния.
Формулировка «если ты меня больше не любишь, то я не хочу больше жить» побуждает партнера к ответным действиям, чтобы освободиться от тяжкого бремени чужой жизни и изменить свои привязанности. Даже если партнер достаточно мягок, склонен испытывать чувство вины и не догадывается о причинах трагедии, он все равно склонен устраниться от участия в трагедии, тогда как противоположная сторона все сильнее запутывается в своих проблемах.
Таким образом, в глубине таких связей, где от партнера ожидают освобождения от страха, сострадания и чувства вины, тлеет ненависть и желание смерти.
Любовь и порок
Что означает соблазн
(из книги Ж. Бодрийяра «Соблазн», перевод с французского А. Гараджи)
…Быть обольщенным – значит быть совращенным от своей истины. Обольщать – значит совращать другого от его истины. Обольщение непосредственно, мгновенно обратимо, и эта обратимость составляется вызовом, вплетенным в его игру, и тайной, в которой оно утопает.
Сила привлекающая и отвлекающая, сила поглощающая и завораживающая, сила низвержения не только секса, но и вообще всего реального, сила вызова – не экономия пола и слова, но всегда только эскалация прелести и насилия, мгновенная вспышка страсти, в которую при случае и секс может нагрянуть, но которая с таким же успехом исчерпывается лишь самой собой, в этом процессе вызова и смерти, в радикальной неопределенности, отличающей ее от влечения, которое неопределенно в отношении своего объекта, но определенно как сила и как начало, тогда как страсть обольщения не имеет ни субстанции, ни начала: свою интенсивность она берет не от какого-то заряда либидо, не от какой-то энергии желания, но от чистой формы игры и чисто формальной эскалации взлетающих ставок.
Соблазнение. Древнеримская фреска
Таков и вызов. Он такая же дуально-дуэльная форма, которая исчерпывается в одно мгновение и чья интенсивность коренится в этой немедленной, непосредственной реверсии. Он тоже околдовывает, как какие-нибудь лишенные смысла слова, на которые мы по этой абсурдной причине не можем не ответить. Что заставляет отвечать на вызов? Вопрос таинственный, под стать другому: что соблазняет?
Есть ли что соблазнительней вызова? Вызов или обольщение – это всегда стремление свести другого с ума, но только взаимным умопомрачением, безумствуя объединяющим их умопомрачительным отсутствием, и взаимным поглощением. Вот неизбежность вызова, и вот почему невозможно не ответить на него: он вводит своего рода безумное отношение, резко отличающееся от отношений коммуникации или обмена: дуальное отношение, скользящее по знакам хотя и бессмысленным, но связанным каким-то фундаментальным правилом и тайным соблюдением его.
Вызов кладет конец всякому договору и контракту, всякому обмену под управлением закона (закона природы или закона стоимости), все это он заменяет неким пактом, в высшей степени условным и ритуализованным, неотступным обязательством отвечать и повышать ставки, управляемым фундаментальным правилом игры и скандированным согласно своему собственному ритму. В противоположность закону, который всегда куда-нибудь вписан, в скрижали, в сердце или в небо над головой, этому фундаментальному правилу не обязательно быть изложенным, оно вообще не должно излагаться. Оно непосредственно, имманентно, неизбежно (закон – трансцендентен и эксплицитен).
Нет и не может быть контракта обольщения, контракта вызова. Для появления вызова или обольщения всякое договорное отношение должно исчезнуть, уступив место дуальному отношению, которое составляется из тайных знаков, изъятых из обмена и всю свою интенсивность черпающих в своей формальной разделенности, в своей непосредственной реверберации. Таковы же чары обольщения, которое кладет конец всякой экономии желания, всякому сексуальному либо психологическому контракту и подставляет взамен умопомрачение ответа – никаких вкладов: только ставки – никакого контракта: только пакт – ничего индивидуального: только дуальное – никакой психологичности: только ритуальность – никакой естественности: только искусственность. Стратегия личности: судьба.
Вызов и обольщение бесконечно близки. Но не найдется ли все же между ними некоторого различия? Ведь если вызовом предполагается вытащить другого на территорию, где сами вы сильны и где другой тоже обретет силу в результате бесконечного повышения ставок, то стратегией обольщения, наоборот, предполагается выманить другого на территорию, где вы сами слабы и где другого тоже вскоре поразит эта же слабость. Слабость с расчетом, слабость вне расчета: вызов другому – приколоться и проколоться.
Соблазнять – значит делать хрупким. Соблазнять – значит давать слабину. Мы никогда не соблазняем своей силой или знаками силы, но только своей слабостью. Мы ставим на эту слабость в игре обольщения, которое только благодаря этому обретает свою мощь.
Мы обольщаем своей смертью, своей уязвимостью, заполняющей нас пустотой. Секрет в том, чтобы научиться пользоваться этой смертью вместо взгляда, вместо жеста, вместо знания, вместо смысла.
Все возвращается в пустоту, наши слова и жесты не исключение, но некоторые, прежде чем исчезнуть, улучают миг и в предвосхищении конца вспыхивают ярчайшим соблазном, какой другие так никогда и не узнают. Секрет обольщения – в этом призывании и отзывании другого жестами, чья медлительность, напряженная подвешенность поэтичны, как падение или взрыв в замедленной съемке, потому что тогда нечто, прежде чем свершиться, улучает миг, чтобы дать вам почувствовать свое отсутствие, что и составляет совершенство «желания», если таковое вообще достижимо.
* * *
Соблазн не в простой видимости, как и не в чистом отсутствии, но в затмении присутствия. Его единственная стратегия – разом наличествовать и отсутствовать, как бы мерцая или мигая, являя собой некое гипнотическое приспособление, которое концентрирует и кристаллизует внимание вне какого бы то ни было смыслового эффекта. Отсутствие здесь соблазняет присутствие.
Суверенная мощь обольстительницы: она «затмевает» какой угодно контекст, какую угодно волю. Она не может допустить установления других отношений, даже самых близких, аффективных, любовных, сексуальных – этих в особенности, – не ломая их тут же, чтобы обратить в прежнюю стороннюю завороженность. Не покладая рук старается она избежать любых отношений, при которых в тот или иной момент наверняка встал бы вопрос об истине. Она разрывает их с легкостью. Она не отвергает их, не разрушает: она сообщает им мерцающую прерывистость. В этом весь ее секрет: в мерцании присутствия. Ее никогда нет там, где ее думают застать, никогда там, где ее желают. Она сама «эстетика исчезновения», как сказал бы Вирилио.
Даже желание заставляет она выполнять функции приманки. Для нее не существует никакой истины желания или тела, как и любой другой вещи. Даже любовь и половой акт могут быть перекроены в элементы обольщения, всего-то и требуется, что придать им эклиптичную форму появления/исчезновения, т. е. прерывистой линии, внезапно обрывающей всякий аффект, всякое удовольствие, всякое отношение, чтобы вновь утвердить верховное требование соблазна, трансцендентную эстетику соблазна под имманентной этикой удовольствия и желания. Даже любовь и плотское общение оказываются обольстительным нарядом, самым тонким и изысканным из всех украшений, что изобретает женщина для обольщения мужчины. Но ту же самую роль могут сыграть стыдливость или отказ. Все тогда оказывается таким украшением, здесь раскрывается гений видимостей.
«Любить тебя, ласкать тебя, угождать тебе – не этого я хочу, а соблазнить тебя, но не затем, чтоб ты любил меня или доставлял удовольствие, – а только чтобы ты был соблазнен». Есть своего рода духовная жестокость в игре обольстительницы, в том числе и по отношению к ней самой. Перед лицом такой ритуальной требовательности, всякая аффективная психология просто слабость. Ни малейшей лазейки для бегства не оставляет этот вызов, в котором без остатка улетучиваются любовь и желание. И ни малейшей передышки: эта завороженность не может перестать ни на миг, иначе рискует пойти прахом и обратиться в ничто.
Настоящая обольстительница может существовать лишь в состоянии непрестанного обольщения: вне его она уже не женщина даже, она перестает быть объектом или субъектом желания, лишается лица и привлекательности – все потому, что там ее единственная страсть. Обольщение суверенно, это единственный ритуал, затмевающий все прочие, но такая суверенность жестока и жестоко оплачивается.
В стихии обольщения у женщины нет ни собственного тела, тела в собственном смысле, ни собственного желания. Что такое тело, что такое желание? Она в них не верит и играет на этом. Не имея собственного тела, она делает себя чистой видимостью, искусственной конструкцией, ловушкой, в которую попадается желание другого.
Вот в чем все обольщение: другому она позволяет думать, что он является и остается субъектом желания, сама же не попадается на эту удочку. А может быть, и в ином: она делает себя «соблазнительным» сексуальным объектом, если именно таково «желание» мужчины: соблазн просвечивает и в этой «соблазнительности» – чары соблазна сквозят в притягательности секса. Но именно сквозят – и проходят насквозь. «У меня только привлекательность, у вас же очарование» – «У жизни есть своя привлекательность, у смерти – свое очарование».
* * *
Для соблазна желание – не цель, но лишь предположительная ставка. Точнее, ставка делается на возбуждение и последующее разочарование желания, вся истина которого в этой мерцающей разочарованности, – и само желание обманывается насчет своей силы, которая ему дается лишь затем, чтобы снова быть отобранной. Оно даже никогда не узнает, что с ним творится. Ведь та или тот, кто соблазняет, может действительно любить и желать, однако на более глубоком уровне – или более поверхностном, если угодно, в поверхностной бездне видимостей, – играется другая игра, о которой никто из двоих и не подозревает и где протагонисты желания выступают простыми статистами.
Для соблазна желание – миф. Если желание есть воля к власти и обладанию, то соблазн выставляет против нее равносильную, но симулированную волю к власти: хитросплетением видимостей возбуждает он эту гипотетическую силу желания и тем же оружием изгоняет. Как кьеркегоровский обольститель считает наивную прелесть юной девушки, ее спонтанную эротическую силу мифичной, не имеющей иной реальности, кроме той, где она разжигается, чтобы затем быть уничтоженной (возможно, он ее любит и желает, но на ином уровне, в сверхчувственном пространстве соблазна девушка не более чем мифическая фигура жертвы), так и сила мужского желания, с точки зрения обольстительницы, есть только миф, из которого она плетет свое кружево, чтобы вызвать и затем отменить это желание.
И хитрости обольстителя, которыми тот искушает девушку ради ее мифической прелести, в принципе ничем не отличаются от ухищрений обольстительницы, превращающей тело свое в искусственную конструкцию ради мифического желания мужчины, – в том и другом случае имеется в виду в конечном счете обратить в ничто эту мифическую силу, будь то прелесть или желание. Обольщение всегда имеет в виду обратимость и экзорцизм какой-то силы. И обольщение – не только искусственность, это еще и жертвенность. Смерть играет в игре соблазна, в которой всегда речь идет о том, чтобы пленить и предать закланию желание другого.
Сам же соблазн в отличие от желания бессмертен. Обольстительница, подобно истеричке, прикидывается бессмертной, вечно юной, знать не знающей никакого завтра, что вообще-то не может не изумлять, учитывая атмосферу отчаяния и разочарования, которой она окружена, учитывая жестокость ее игры. Но выживает она здесь как раз потому, что остается вне психологии, вне смысла, вне желания. Людей больше всего убивает и грузит смысл, который они придают своим поступкам – обольстительница же не вкладывает никакого смысла в то, что делает, и не взваливает на себя бремени желания.
Даже если она пытается объяснить свои действия теми или иными причинами и мотивами, с сознанием вины либо цинично, – все это лишь очередная ловушка – последняя же ловушка заключается в ее требовании разъяснений относительно себя самой: «Скажи мне, кто я такая», когда она никто и ничто, безразлична к тому, кто и что она есть, когда она существует имманентно, без памяти и без истории, а сила ее как раз в том, что она просто есть, ироничная и неуловимая, слепая к собственному существу, но в совершенстве знающая все механизмы разума и истины, в которых другие нуждаются, чтобы защититься от соблазна, и под прикрытием которых, если уметь с ними обращаться, они беспрестанно будут давать себя соблазнять.
«Я бессмертна», иными словами неуемна. То же самое подразумевает фундаментальное правило: игра никогда не должна прерываться. Ведь как ни один игрок не в состоянии перерасти саму игру, так и ни одна соблазнительница не может подняться над соблазном. Во всех своих превратностях любовь и желание никогда не должны идти ему наперекор. Нужно любить, чтобы соблазнять, а не наоборот. Соблазн наряден, им сплетается и расплетается кружево видимостей, как Пенелопа ткала и распускала свое полотно, и даже узлы желания вяжутся и разрываются тем же соблазном. Потому что видимость превыше всего, и верховную власть дает власть над видимостями.
* * *
Ни одна женщина никогда не утрачивала этой фундаментальной формы власти, никогда не лишалась этой сопряженной с соблазном и его правилами силы. Своего тела – да, своего удовольствия, желания, прав – всего этого женщины действительно были лишены. Но они всегда оставались повелительницами затмения, соблазнительной игры исчезновений и проблесков, и тем самым всегда имели возможность затмить власть своих «повелителей».
«Женщина реализует свое право и даже выполняет своего рода долг, стараясь выглядеть волшебной и сверхъестественной; она должна изумлять, должна очаровывать; будучи кумиром, она должна позлащать себя, дабы ей поклонялись. Поэтому она должна во всех искусствах черпать средства, которые позволят ей возвыситься над природой, дабы сильнее покорить сердца и поразить умы. Не суть важно, что хитрости и уловки эти всем известны, если их успех неоспорим, а воздействие неотразимо.
Лебедь и Леда. Художник Франсуа Буше
Учитывая эти соображения, художник-философ легко найдет законное обоснование приемам, использовавшимся во все времена женщинами, чтобы упрочить и обожествить, так сказать, свою хрупкую красоту; Их перечисление оказалось бы бесконечным; но если мы ограничимся лишь тем, что в наше время в просторечии именуется макияжем, то каждый легко сможет увидеть, что использование рисовой пудры, столь глупо предаваемое анафеме простодушными философами, имеет целью и результатом обесцвечивание пятен, которыми природа обидно усеяла кожу, и создание абстрактного единства крупиц и цвета кожи, каковое единство, подобно тому, что порождается благодаря использованию трико, немедленно сближает человеческое существо со статуей, то есть с неким божественным и высшим существом.
Что до искусственных теней, обводящих глаза, и румян, выделяющих верхнюю половину щек, то, хотя их использование обусловлено все тем же принципом, потребностью превзойти природу, результат удовлетворяет прямо противоположную потребность. Румяна и тени передают жизнь, жизнь сверхъестественную и избыточную; черное обрамление наделяет взор большей глубиной и загадочностью, с большей определенностью придает глазам вид окон, открытых в бесконечность; воспламеняющие скулы румяна еще ярче делают блеск очей и запечатлевают на прекрасном женском лице таинственную страстность жрицы» (Бодлер «Похвала макияжу»).
Если желание существует (гипотеза современности), тогда ничто не должно нарушать его естественной гармонии, а макияж просто лицемерие. Но если желание – миф (гипотеза соблазна), тогда ничто не воспрещает разыгрывать желание всеми доступными знаками, не процеживая их сквозь сито естественности. Тогда знаки, то показываясь, то исчезая из виду, уже одним этим являют свое могущество: так они способны стереть лицо земли. Макияж – еще один способ свести лицо на нет, вытравить эти глаза другими, более красивыми, стереть эти губы более яркими, более красными.
«Абстрактное единство, сближающее человеческое существо с божественным», «сверхъестественная и избыточная жизнь», о которых говорит Бодлер, – все это эффект легкого налета искусственности, который гасит всякое выражение.
Искусственность не отчуждает субъекта в его бытии – она его таинственным образом меняет. Ее действие видно по тому радикальному преображению, какое женщины узнают на себе перед своим зеркалом: чтобы накраситься, они должны обратиться в ничто и начать с белого листа, а накрасившись, они облекаются чистой видимостью существа с обнуленным смыслом.
Как можно настолько заблуждаться, чтобы смешивать это «избыточное» действие с каким-то заурядным камуфлированием истины? Только лживое может отчуждать истинное, но макияж не лжет, он лживее лживого (как игра травести), и потому ему выпадает своего рода высшая невинность и такая же прозрачность – абсорбция собственной наружностью, поглощение собственной поверхностью, резорбция всякого выражения без следов крови, без следов смысла – жестокость, конечно, и вызов – но кто же тут отчуждается? Только те, кто не может вынести этого жестокого совершенства, кто не может защититься от него иначе, как моральным отвращением.
Но все сбиты с толку. Как еще ответить чистой видимости, подвижной либо иератически застывшей, если не признанием ее суверенности? Смыть грим, сорвать этот покров, потребовать от видимостей немедленно исчезнуть? Чушь какая: утопия иконоборцев. За образами нет никакого Бога, и даже скрываемое ими небытие должно оставаться в тайне. Что наделяет все величайшие блоки воображения соблазном, гипнотизмом, «эстетическим» ореолом, так это полное стирание всякой инстанции, пускай даже лица, стирание всякой субстанции, пусть даже желания – совершенство искусственного знака.
* * *
Несомненно, самый замечательный пример тому мы находим в кумирах и звездах кино – это единственная великая коллективная констелляция соблазна, которую оказалась способна произвести современность. Кумиры всегда женственны, неважно, женщина это или мужчина, звезда всегда женского рода, как Бог – мужского.
Женщины здесь высоко вознеслись. Из вожделенных существ из плоти и крови они сделались транссексуальными, сверхчувственными созданиями, в которых конкретно сумел воплотиться этот разгул суеты, то ли суровый ритуал, что превращает их в поколение священных монстров, наделенных невероятной силой абсорбции, которая не уступает, а то и соперничает с силами производства в реальном мире. Вот наш единственный миф в скудную эпоху, не способную породить ничего сопоставимого с великими мифами и фигурами соблазна древней мифологии и искусства.
Только мифом своим сильно кино. Его нарративы, его реализм или образность, его психология, его смысловые эффекты – все это вторично. Силен только миф, и соблазн живет в сердце кинематографического мифа – соблазн яркой пленительной фигуры, женской или мужской (женской особенно), неразрывно связанный с пленяющей и захватывающей силой самого образа на кинопленке. Чудесное совпадение.
Звезда ничего общего не имеет с каким-то идеальным или возвышенным существом: она целиком искусственна. Ей абсолютно ничего не стоит быть актрисой в психологическом смысле слова: ее лицо не служит зеркалом души и чувств – таковых у нее просто нет. Наоборот, она тут для того только, чтобы заиграть и задавить любые чувства, любое выражение одним ритуальным гипнотизмом пустоты, что сквозит в ее экстатическом взоре и ничего не выражающей улыбке. Это и позволяет ей подняться до мифа и оказаться в центре коллективного обряда жертвенного поклонения.
Сотворение кинематографических кумиров, этих божеств массы, было и остается нашим звездным часом, величайшим событием современности – и сегодня оно по-прежнему служит противовесом для всей совокупности политических и социальных событий. Не годится списывать его в разряд воображения мистифицированных масс. Это событие соблазна, которое уравновешивает всякое событие производства.
Конечно, в эпоху масс соблазн уже далеко не такой, как в «Принцессе Клевской», «Опасных связях» или «Дневнике обольстителя», и даже не такой, каким дышат фигуры античной мифологии, которая, несомненно, больше всех других известных нарративов насыщена соблазном – но соблазном горячим, тогда как соблазн наших современных кумиров холоден, возникая на пересечении холодной среды масс и столь же холодной среды образа на пленке.
Такой соблазн отличает призрачная белизна звезд, что так впопад дали свое имя кинокумирам. Есть только два значительных события, которые раз за разом светом своим «обольщают» массы в современную эпоху: белые вспышки кинозвезд и черные сполохи терроризма. У этих двух явлений много общего. Подобно звездам, мерцающим на небе, и кинозвезды, и теракты «мигают»: не озаряют, не испускают непрерывный белый поток света, но мерцают холодным пульсирующим свечением, они распаляют и в тот же миг разочаровывают, они завораживают внезапностью своего появления и неминуемостью угасания. Они сами себя затмевают, захваченные игрой, в которой ставки взвинчиваются бесконечно.
Великие обольстительницы и великие звезды никогда не блещут талантом или умом, они блистают своим отсутствием. Они блистательны своим ничтожеством и своим холодом, холодом макияжа и ритуальной иератики. Они – воплощенная метафора необъятного ледникового процесса, который завладел нашей вселенной смысла, пойманной в мигающие сети знаков и картинок, – но одновременно они в какой-то момент истории и при стечении обстоятельств, выпадающем только раз, преображают эту вселенную в эффект соблазна.
Искрящийся блеск кино всегда был только этим чистым соблазном, этим чистым трепетанием бессмыслицы – горячим трепетом, который тем прекрасней, что рождается холодом.
Искусственность и бессмысленность: таков эзотерический лик звезды, ее посвятительная маска. Соблазн лица, где вытравлено всякое выражение, за вычетом ритуальной улыбки и столь же условной красоты. Отсутствующее белое лицо – белизна знаков, всецело отдавшихся своей ритуализованной видимости и не подчиненных более никакому глубинному закону обозначения. Пресловутая стерильность звезд: они не воспроизводят себя, но всякий раз умеют фениксом воспрянуть из собственного пепла, как обольстительная женщина – из своего зеркала.
Эти великие обольстительные личины – наши маски, наши изваяния, не хуже тех, что на острове Пасхи. Впрочем, не будем обманываться: из истории мы знаем горячие толпы, пылающие обожанием, религиозной страстью, жертвенным порывом или бунтом; сегодня же есть только холодные массы, пропитанные соблазном и завороженностью. Их личина создается кинематографом, и жертвы ее творятся по иному обряду.
Смерть звезд лишь неизбежное следствие их ритуального обожания. Они должны умирать, они всегда должны быть уже мертвы. Это необходимо, чтобы быть совершенным и поверхностным – того же требует макияж.
Впрочем, на какие-то мрачные размышления нас это не должно наводить. Ведь здесь мысль о единственно возможном бессмертии, а именно бессмертии искусственного творения, только оттеняет собой другую идею, которую и воплощают кинозвезды, – что сама смерть может блистать своим отсутствием, что вся она разрешается видимостью, искрящейся и поверхностной, что она – обольстительная внешность…
* * *
Но пусть даже соблазн – страсть или судьба, чаще всего верх одерживает обратная страсть: не поддаться соблазну. Мы бьемся, чтобы укрепить себя в своей истине, мы бьемся против того, что хочет нас совратить. Мы отказываемся соблазнять из страха быть соблазненными.
Все средства хороши, чтобы этого избежать. Мы можем без передышки соблазнять другого, только бы самим не уступить соблазну – можно даже притвориться обольщенным, чтобы положить конец всякому обольщению.
Истерия соединяет страсть обольщения со страстью симуляции. Она защищается от соблазна, расставляя знаки-ловушки: всякая вера в них у нас отнимается как раз тогда, когда они поддаются прочтению подчеркнуто обостренно. Все эти терзания, преувеличенные угрызения совести, патетические шаги к примирению, нескончаемые увещевания и подзуживания, вся эта круговерть с целью разрушить цепь событий и обеспечить собственную неприкосновенность, это навязываемое другим умопомрачение и эта ложь – все это род окрашенного соблазном устрашения-сдерживания со смутным намерением не столько соблазнить самому, сколько ни в коем случае не дать соблазнить себя.
Ни задушевности, ни тайны, ни аффекта – такова истеричка, которая целиком отдается внешнему шантажу, погоне за эфемерным, зато тотальным правдоподобием своих «симптомов», абсолютному требованию заставить других поверить (как мифоман со своими историями) и одновременному развенчанию всякой веры – причем не пытаясь даже использовать иллюзии, разделяемые другими.
Абсолютный запрос при полной невосприимчивости к ответу. Запрос, растворяющийся в знаковых и постановочных эффектах. Соблазн тоже смеется над истиной знаков, но он-то ее превращает в обратимую видимость, тогда как истерия играет ею, но ни с кем не желает разделить эту игру. Как если бы она себе одной присвоила весь процесс обольщения, перебивая собственные ставки и сама себя взвинчивая, другому же не оставляя ничего, кроме ультиматума своей истерической конверсии, без какой-либо надежды на реверсию.
Истеричке удается сделать преградой соблазну свое собственное тело: соблазн, обращаемый в камень собственным телом, завораживаемый своими же симптомами. С единственной целью, чтобы другой окаменел в ответ, сбитый с толку патетической психодрамой разыгранной подмены: если соблазн – вызов, то истерия – шантаж.
Сегодня большинство знаков, сообщений (в числе прочего) навязывается нам именно таким истерическим способом, предполагающим устрашением заставить нас говорить, верить, получать удовольствие, способом шантажа, вынуждающего на слепую психодраматическую сделку лишенными смысла знаками, которые между тем все умножаются и гипертрофируются как раз по причине того, что в них нет больше тайны и что им нет больше доверия. Знаки без веры, без аффекта, без истории, знаки, которых ужасает сама идея обозначать что-либо – совсем как истеричку ужасает мысль, что она может быть соблазненной.
В действительности истеричку ужасает бездна отсутствия, зияющая в самом сердце нашем. Ей нужно себя опустошить, своей нескончаемой игрой изгнать это отсутствие, в тайнике которого еще могла бы расцвести любовь к ней, где она сама могла бы еще себя любить. Зеркало, позади которого, на грани самоубийства, но умея приплести самоубийство, как и все прочее, к процессу театрального и запирательского обольщения, – она остается бессмертна в своей показной изменчивости.
Сусанна. Художник Франц Риттер фон Штюк
Тот же процесс, но как бы обратной истерии, при анорексии, фригидности, импотенции: превратить свое тело в изнанку зеркала, стереть с него все знаки соблазна, лишить его очарования и сексуальности точно так же предполагает шантаж и ультиматум: «Вы меня не соблазните, только попробуйте, я бросаю вам вызов». Тем самым соблазн проступает даже там, где он отвергнут – в отказе от соблазна, поскольку вызов – одна из основных его модальностей. Только вызов должен все-таки оставлять место для ответа, должен быть готов (сам того не желая) уступить ответному соблазну, в данном же случае игра прерывается. Прерывается опять-таки телом, но если здесь инсценируется отказ от соблазна, то истеричка отделывается постановкой запроса на соблазн. В любом случае, речь идет о неприятии возможности соблазнять и быть соблазненным.
Проблема, таким образом, не половая или пищеварительная импотенция, со всем ее кортежем психоаналитических резонов и не-резонов, но импотенция в отношении соблазна. Разочарование, неврозы, тревога, фрустрация – все, с чем сталкивается психоанализ, конечно же, обусловлено неспособностью любить и быть любимым, наслаждаться и дарить наслаждение, но радикальная разочарованность вызывается соблазном и его осечкой.
Действительно больны лишь те, кто радикально недосягаем для соблазна, пусть даже они прекрасно могут любить и получать наслаждение. И психоанализ, воображая, будто занимается болезнями желания и пола, в действительности имеет дело с болезнями соблазна (хотя именно психоанализ немало потрудился, чтобы вывести соблазн из его собственной сферы и запереть в дилемме пола). Дефицит, переносимый тяжелей всего, имеет отношение не столько к наслаждению, удовлетворению (насущных и сексуальных потребностей) или символическому Закону, сколько к прельщению, очарованию и правилу игры. Лишиться соблазна – вот единственно возможная кастрация.
К счастью, подобная операция раз за разом прогорает, соблазн фениксом возрождается из пепла, а субъект не в силах помешать тому, чтобы все обернулось последней отчаянной попыткой обольщения (как происходит, скажем, в случае импотенции или анорексии), чтобы отказ обернулся вызовом. Наверное, то же самое происходит даже в обостренных случаях отречения от собственной сексуальности, где соблазн выражается в своей наиболее чистой форме, поскольку и тут другому брошен вызов: «Докажи мне, что речь не об этом»…
* * *
Одно из часто приводимых свидетельств угнетения женщин – лишения, которые они претерпевают в плане сексуального наслаждения, неадекватность их наслаждения. Но «традиционной» женщине ни вытеснением, ни запретом в наслаждении не отказывалось: она целиком соответствовала своему статусу, вовсе не была закрепощенной или пассивной и не мечтала из-под палки о своем грядущем «освобождении». Это только добрым душам женщина видится в ретроспективе извечно отчужденной – а затем обретающей свободу для своего желания. Теперь каждому надлежит поднапрячься и незамедлительно возместить убытки по схеме сексуального марафона или гонки на выживание.
Наслаждение приняло облик насущной потребности и фундаментального права. Младшее в семействе человеческих прав, оно быстро обрело достоинство категорического императива. Перечить ему безнравственно. Но оно лишено даже обаяния кантовских бесцельных целесообразностей. Оно навязывается под видом учета и менеджмента желания, контроля и самоконтроля, который никто не вправе игнорировать, точно так же как и закон.
Это означает закрывать глаза на то, что и наслаждение обратимо, т. е. отсутствие или отказ от оргазма может подарить высшую интенсивность. Как раз здесь, когда сексуальная цель снова обретает алеаторный характер, и возникает нечто такое, что может быть названо соблазном или удовольствием.
С другой стороны, само наслаждение может оказаться лишь предлогом для иной, более захватывающей, более страстной игры – так в «Империи чувств», где цель, а точнее ставка любовной игры – не столько оргазм, сколько достижение его предела и запредельности по ту сторону наслаждения, вызов, который забивает чистый процесс желания, потому что логика его умопомрачительней, потому что он страсть, а противник – всего лишь влечение.
Но это же умопомрачение может разыгрываться и при отказе от наслаждения. Кто знает, что скрывается за «обделенностью» женщин – не играли на праве сексуальной сдержанности, которым они во все времена с успехом пользовались, парадируя своей неудовлетворенностью, бросая вызов мужскому наслаждению как всего лишь наслаждению? Никто не знает, каких разрушительных глубин может достигать эта провокационная стратегия, какое в ней скрыто могущество. Мужчина так и не вырвался из этой ловушки, оставленный наслаждаться в одиночку, ограниченный простым суммированием своих удовольствий и побед.
Кто одержал верх в этой игре со столь непохожими стратегиями? На первый взгляд по всей линии противостояния торжествует мужчина. Но на самом деле нет уверенности, что он не потерялся и не увяз на этой зыбкой почве, как и на поле битвы за власть, обратившись в странное бегство вперед, когда уже никакое механическое накопление, никакой расчет не гарантируют ему спасения, не избавляют от затаенного отчаяния по тому, что все время от него ускользает.
С этим надо было кончать – женщины обязаны кончать. Так или иначе, их требовалось освободить и заставить получать наслаждение – положив конец этому невыносимому вызову, который в конечном счете аннулирует наслаждение всегда возможной стратегией ненаслаждения. Ведь у наслаждения нет стратегии – это просто энергия, текущая к своей цели. Наслаждение, таким образом, ниже стратегии – конкретная стратегия может использовать его как материал, а само желание – как тактический элемент.
Женское всегда имело собственную стратегию, неуемную и победоносную стратегию вызова (одна из высших форм которого – обольщение). Что толку слезно сожалеть об ущербе, нанесенном женскому, и стремиться его возместить? Что толку играть в заступников слабого пола? Игры всегда, в любой момент истории, разыгрываются сразу целиком, с выкладыванием всех карт и всех козырей. И в этой игре мужчины не выиграли, совсем нет. Скорее, это женщины вот-вот проиграют в ней сегодня, как раз под знаком наслаждения.
Все сексуальное освобождение сводится к стратегии навязывания женского права, женского статуса, женского наслаждения. Передержка и постановка женского как секса, оргазма – как размноженного доказательства секса.
Об этом ясно свидетельствует порнография. Агрессивная реклама кончающей женственности в порнотрилогии зияния, оргазма и значности – лишь средство как можно надежнее схоронить неопределенность, витавшую некогда над этим «черным континентом». Кончилась «вечная ирония женского», о которой говорил Гегель. Отныне женщина будет кончать и знать – почему. Женственность станет видна насквозь – женщина как эмблема оргазма, оргазм как эмблема сексуальности. Никакой неопределенности, никакой тайны. Торжество радикальной непристойности.
* * *
Женское – не только соблазн, это и вызов, бросаемый мужскому, ставящий под вопрос существование мужского как пола, его монополию на пол и наслаждение, его способность пойти до конца и отстаивать свою гегемонию насмерть.
Вся сексуальная история нашей культуры отмечена неослабевающим давлением этого вызова: не находя в себе сил принять его, и терпит сегодня крах фаллократия. Наверно, и вся наша концепция сексуальности рушится вместе с нею, поскольку она была выстроена вокруг фаллической функции и позитивной дефиниции пола. Всякая позитивная форма запросто приноравливается к своей негативной форме, но встречает смертельный вызов со стороны обратимой формы. Всякая структура приспосабливается к инверсии или субверсии своих терминов – но не к их реверсии. И эта обратимая форма есть форма соблазна.
Это не тот соблазн, с которым в исторической перспективе ассоциируются женщины, культура гинекея, косметики и кружев, не соблазн в редакции теорий зеркальной стадии и женского воображаемого, пространства сексуальных игр и ухищрений (хотя именно здесь сохраняется единственный ритуал тела, еще оставшийся у западной культуры, когда все прочие, включая и ритуальную вежливость, безвозвратно утеряны), но соблазн как ироническая и альтернативная форма, разбивающая сексуальную референцию, пространство не желания, но игры и вызова.
Сценарий, который легко угадывается даже в простейшей игре соблазна: я не поддамся, ты не заставишь меня кончить, а я заставлю тебя играть и украду твое наслаждение. Едва ли верно низводить эту динамичную игру до уровня сексуальной стратегии. Правильней будет назвать ее стратегией смещения, совращения, отклонения истины пола: играть – не кончать. Здесь обнаруживается суверенность соблазна, который есть страсть и игра, принадлежащие к строю знака, и в перспективе соблазн всегда торжествует, потому что обратимость и неопределенность – основные черты этого строя.
Закон обольщения – прежде всего закон непрерывного ритуального обмена, непрестанного повышения ставок обольстителем и обольщаемым – нескончаемого потому, что разделительная черта, которая определила бы победу одного и поражение другого, в принципе неразличима – и потому, что этот бросаемый другому вызов (уступи еще больше соблазну, люби меня больше, чем я тебя!) может быть остановлен лишь смертью…
Изрядная ирония женственности всегда окрашивала соблазн, не менее яркой иронией расцвечена и ее сегодняшняя индетерминация, и та двусмысленность, в силу которой раскрутка женственности как субъекта сопровождается укоренением ее объектного статуса, т. е. порнографии в самом широком смысле. Это странное совпадение – камень преткновения для всякого освободительного феминизма, которому, конечно же, хотелось бы четко отмежевать одно от другого. Безнадежное это дело: вся значимость освобождения женственности как раз-таки в его радикальной двусмысленности.
Двусмысленность эта обнаруживается и со стороны увядающей мужественности. Панике, внушаемой мужчине «освобожденным» женским субъектом, под стать разве что его беззащитность перед порнографическим зиянием «отчужденного» пола женщины, женского сексуального объекта. Приводит ли женщину «осознание рациональности ее собственного желания» к требованию наслаждения или, захваченная тотальной проституцией, она саму себя предлагает как средство наслаждения, выступает ли женственность субъектом или объектом, освобожденной или выставленной на продажу – в любом случае она предстает как сумма пола, ненасытная прорва, прожорливая разверстость.
Не случайно порнография концентрируется на женских половых органах. Ведь эрекция – дело ненадежное (никаких сцен импотенции в порнографии – все плотно ретушируется галлюцинацией безудержной раскрытости женского тела). Сексуальность, от которой требуется постоянно, непрерывно доказывать и показывать себя, становится проблематичной в смысле шаткости маркированной (мужской) позиции.
Пол женщины, напротив, всегда самому себе равен: своей готовностью, своим зиянием, своей нулевой ступенью. И эта непрерывность, контрастирующая с прерывистостью мужского, обеспечивает женственности решительное превосходство в плане физиологического изображения наслаждения, в плане сексуальной бесконечности, сделавшейся фантазматическим измерением нашего бытия.
* * *
Потенциально сексуальное освобождение, как и освобождение производительных сил, не знает пределов. Оно требует достижения реального изобилия. Нельзя терпеть, чтобы сексуальные блага, равно как и блага материальные, оставались для кого-то редкостью. Пол женщины как нельзя лучше воплощает эту утопию сексуальной непрерывности и готовности. Потому-то все в этом обществе феминизируется, сексуализируется на женский лад: товары, блага, услуги, отношения самого разного рода – тот же эффект в рекламе, но это, конечно, не значит, что какой-нибудь стиральной машине приделываются реальные половые органы (чушь какая) – просто товару придается некое воображаемое свойство женственности, благодаря которому он кажется в любой момент доступным, всегда готовым к использованию, абсолютно безотказным и не подверженным игре случая.
Такой вот зияющей монотонностью и тешится порносексуальность, в которой роль мужского, эректирующего либо обмякшего, смехотворно ничтожна. Хардкор дела не меняет: мужское вообще больше не интересует, поскольку оно слишком определенно, слишком маркировано (фаллос как каноническое означающее) и потому слишком непрочно. Надежней завораживающая привлекательность нейтрального – неопределенного зияния, сексуальности расплывчатой и рассеянной.
Олимпия. Художник Эдуард Мане
Исторический реванш женственности после долгих столетий вытеснения и фригидности? Возможно. Но верней сказать – истощение и ослабление половой маркировки, причем не только исторически памятной марки мужского, крепившей некогда все схемы эректильности, вертикальности, роста, происхождения, производства и т. п., а ныне бесследно изгладившейся в хаосе навязчивой симуляции всех этих тем, – но и метки женственности, во все времена запечатлявшей соблазн и обольщение. Сегодня механическая объективация знаков пола скрывает под собой торжество мужского как воплощенной несостоятельности и женского как нулевой ступени.
Не правда ли, мы оказались в оригинальной сексуальной ситуации изнасилования и насилия – «предсуицидальная» мужественность насилуется неудержимым женским оргазмом. Но это не простая инверсия исторического насилия, чинившегося над женщиной сексуальной властью мужчин. Насилие, о котором идет речь, означает нейтрализацию, понижение и падение маркированного термина системы вследствие вторжения термина немаркированного. Это не полнокровное, родовое насилие, а насилие устрашения, насилие нейтрального, насилие нулевой ступени,
Нет смысла выяснять, какие фантазмы таятся в порнографии (фетишистские, перверсивные, первосцены и т. п.): избыток «реальности» перечеркивает и блокирует любой фантазм. Возможно, впрочем, порнография – своего рода аллегория, т. е. некое форсирование знаков, барочная операция сверхобозначения, граничащая с «гротескностью» (в буквальном смысле: естественный ландшафт в «гротескно» оформленных садах искусственно дополняется природными же объектами вроде гротов и скал – так и порнография привносит в сексуальное изображение красочность анатомических деталей).
Непристойность выжигает и истребляет свои объекты. Это взгляд со слишком близкой дистанции, вы видите, чего прежде никогда не видели, – ваш пол, как он функционирует: этого вы еще не видели так близко, да и вообще не видели – к счастью для вас. Все это слишком правдиво, слишком близко, чтобы быть правдой. Это-то и завораживает: избыток реальности, гиперреальность вещи.
Так что если и сказывается в порнографии игра фантазии, то единственный фантазм здесь относится не к полу, но к реальности и ее абсорбции чем-то совершенно иным – гиперреальностью. Вуайеризм порнографии – не сексуальный вуайеризм, но вуайеризм представления и его утраты, умопомрачительность утраты сцены и вторжения непристойного.
* * *
Однако непристойность и порнография – не одно и то же. Традиционная непристойность еще наполнена сексуальным содержанием (трансгрессия, провокация, перверсия). Она играет на вытеснении с неистовством подлинной фантазии. Такую непристойность хоронит под собой сексуальное освобождение: так случилось с маркузевской «репрессивной десублимацией» (даже если нравы в целом этим не затронуты, мифический триумф «развытеснения» столь же тотален, как прежнее торжество вытеснения).
Новая непристойность, как и новая философия, взрастает на месте смерти старой, и смысл у нее иной. Раньше ставка делалась на пол неистовый, агрессивный, на реальный подтекст пола – теперь в игру вступает пол, нейтрализованный терпимостью. Конечно, он «передается» открыто и броско – но это передача чего-то такого, что прежде было скрадено. Порнография – искусственный синтез скраденного пола, его праздник – но не празднество. Нечто в стиле «нео» или «ретро», без разницы, нечто вроде натюрмортной зелени мертвой природы, которая подменяет естественную зелень хлорофилла и потому столь же непристойна, как и порнография.
Современная ирреальность не принадлежит больше к строю воображаемого – она относится к строю гиперреференции, гиперправдивости, гиперточности: это выведение всего в абсолютную очевидность реального. Как на картинах гиперреалистов, где различимы мельчайшие поры на лицах персонажей, – жутковатая микроскопичность.
Гиперреализм – не сюрреализм, это видение, которое напускается на соблазн и травит его силой зримости. Вам все время «дают больше». Цвет в кино и на телеэкране был только началом. Сегодня, показывая секс, вам дают цветную, объемную картинку, хайфай звук со всеми низкими и высокими частотами (жизнь как-никак!) – дают столько всего, что вам уже нечего добавить от себя, нечего дать взамен. Абсолютное подавление: давая вам немного слишком, у вас отнимают все. Берегитесь того, что так полно вам «передается», если сами в передаче не участвовали!
«Нормальное» трехмерное пространство по сравнению, например, с обманкой, где одно измерение опущено, – уже деградация, обеднение вследствие избыточности средств (вообще все, что является или старается выглядеть реальным, деградация такого рода). Квадрофония, гиперстерео, хайфай – это явная деградация.
Порнография – квадрофония секса. Половому акту в порнографии придаются третья и четвертая дорожки. Галлюцинаторное господство детали – наука уже приучила нас к этой микроскопии, к этому эксцессу реального в микроскопических деталях, к этому вуайеризму точности, крупного плана невидимых клеточных структур, к этой идее непреложной истины, которая уже абсолютно несоизмерима с игрой видимостей и может быть раскрыта лишь при помощи сложного технического оборудования. Конец тайны.
Разве порнография, со всеми своими фокусами, не точно также нацелена на раскрытие этой непреложной микроскопической истины – истины пола? Так что порнография – прямое продолжение метафизики, чьей единственной пищей всегда был фантазм потаенной истины и ее откровения, фантазм «вытесненной» энергии и ее производства – т. е. выведения на непристойной сцене реального.
Потому и заходит в тупик просвещенное мышление, пытаясь решить проблему порнографии: надо ли подвергать ее цензуре и допускать только хорошо темперированное вытеснение? Вопрос неразрешимый, так как порнография имеет резон: она участвует в разгроме реального – бредовой иллюзии реального и его объективного «освобождения». Невозможно освобождать производительные силы, не имея также в виду и «освобождения» пола в самой откровенной форме: то и другое равно непристойно. Коррупция пола реализмом, коррупция труда производством – все это один симптом, одна битва.
Рабочий в цепях, говорите? А как насчет японского гегемона на этих замечательных вагинальных представлениях, которые и стриптизом-то трудно назвать: девушки на краю сцены, ноги врозь, тут же зрители в одних рубахах (это как бы популярное зрелище), им разрешается куда угодно совать свой нос, разглядывать вагины хоть в упор, они толкаются, лезут, только бы получше разглядеть – что? – а девушки мило болтают с ними или же одергивают для проформы.
Все прочее в таком спектакле – бичевание, взаимная мастурбация, традиционный стриптиз – отступает в тень перед этим моментом абсолютной непристойности, ничто не сравнится с этой прожорливостью зрелища, далеко превосходящей простое сексуальное обладание.
Возвышенное порно: если бы такое было возможно, этих ребят с головы до ног затянуло бы меж раздвинутых ляжек – экзальтация смерти? Может и так, но они не просто смотрят, а еще и обмениваются замечаниями, сравнивают щелки, в какую кто уперся, причем без тени улыбки, с убийственной серьезностью, и руками ничего трогают, разве что играючи. Никакой похоти: предельно серьезный и предельно инфантильный акт, неразделенная завороженность зеркалом женского полового органа – как Нарцисс был заворожен собственным отражением.
Далеко за рамками традиционного идеализма стриптиза (там еще, возможно, и был хоть какой-то соблазн), у своего возвышенного предела порнография инвертируется в предельно очищенную непристойность, – зачем останавливаться на ню, на генитальном: коль скоро непристойное относится к строю представления, а не просто секса, оно должно исследовать всю внутренность тела и скрытых в нем органов – кто знает, сколь глубокое наслаждение может доставить его визуальное расчленение, вид всех этих слизистых и мышечных тканей?
По сравнению с японской наша порнография определяется пока еще слишком узко. У непристойности поистине бескрайнее будущее.
* * *
Но – внимание! Здесь имеется в виду не какое-то там углубление влечения, а единственно оргия реализма и оргия производства. Некий раж (тоже, наверное, влечение, но подменяющее собой все прочие), лихорадочное стремление все вывести на чистую воду и подвести под юрисдикцию знаков. Все представить в свете знака, в свете зримой энергии. И пусть всякое слово будет свободно, и пусть в точности отвечает желанию. Мы погрязли в этой либерализации, которая не что иное, как всепоглощающее разрастание непристойности. Потаенному недолго наслаждаться запретом – в конце концов до всего докопаются, все будет извлечено на свет, предано огласке и досмотру. Реальное растет, реальное ширится – в один прекрасный день вся вселенная станет реальной, реальное вселенским, и это будет смерть.
Чем дальше заводит нас безудержная тяга к «правдивости» пола, к полнейшему разоблачению сексуальной функции, тем глубже мы втягиваемся в пустую аккумуляцию знаков, тем плотнее замыкаемся в бесконечном сверхобозначении – реальности, которой больше нет, и тела, которого никогда не было. Вся наша культура тела, включая сюда способы «выражения» его «желания», всю стереофонию телесного желания, – отмечена неизгладимой печатью монструозности и непристойности.
Гегель: «Подобно тому, как на поверхности человеческого тела, в противоположность телу животного, везде раскрывается присутствие и биение сердца, так и об искусстве можно утверждать, что оно выявляет дух и превращает любой образ во всех точках видимой поверхности тела в глаз, образующий вместилище души». Значит, нет и не может быть наготы как таковой, нет и не может быть нагого тела, которое было бы только нагим, – нет и не может быть просто тела. Как в том анекдоте: белый человек спрашивает индейца, почему тот ходит голый, а индеец в ответ: «У меня все – лицо».
В нефетишистской культуре (где отсутствует фетишизация наготы как объективной истины) тело не противопоставляется, как у нас, лицу, которое одно наделяется взглядом и вообще завладевает всем богатством выражения: там само тело – лицо, и оно глядит на вас. Поэтому оно не может показаться непристойным, т. е. нарочно быть показано голым. Оно не может быть увидено голым, как у нас – лицо, потому что в действительности оно есть символическая завеса, только это и ничто иное, и соблазн рождается как раз в игре таких завес, когда тело, собственно, упраздняется «как таковое». Здесь играет соблазн – но его нет там, где завесу срывают во имя прозрачности желания или истины.
Неразличенность тела и лица в тотальной культуре видимостей – различение тела и лица в культуре смысла (здесь тело становится монструозно видимым, делается знаком монстра по имени желание) – затем тотальный триумф этого непристойного тела в порнографии, вплоть до полного стирания лица: эротические модели и актеры порнофильмов не имеют лица, они просто не могут быть ни красивыми, ни уродливыми, ни выразительными – все это несовместимо с жанром, функциональная нагота стирает все прочее, остается одна зрелищность пола.
В некоторых фильмах дается просто крупный план совокупления в сопровождении утробных шумов: само тело отсюда исчезло, разлетевшись на самостоятельные частичные объекты. Лицо, неважно какое, здесь неуместно, так как нарушает непристойность и восстанавливает смысл там, где все нацелено на полное его уничтожение в умопомрачительном исступлении пола.
Деградация, которая приводит к террористической очевидности тела (вместе с его «желанием») и кончается тем, что мир видимостей лишается последних тайн. Культура десублимации видимостей: все здесь материализуется, в самом что ни на есть объективном виде.
Во всем этом нет места соблазну: не знает его порнография, моментальное производство половых актов, жестокая актуальность удовольствия, эти тела лишены соблазна, взгляд пронизывает их насквозь и увязает в пустоте прозрачности.
Неразрешимая двусмысленность: в порнографии пол вытравливает соблазн, но и сам не выдерживает давления аккумулированных знаков пола. Пародия триумфа, симуляция агонии: порнография во всей своей неоднозначности. В этом смысле она правдива, поскольку отражает состояние системы сексуального устрашения галлюцинацией, устрашения реального гиперреальностью, устрашения тела его насильственной материализацией.
Скульптура «Лавка порока». Прага
В действительности порно не что иное, как парадоксальный предел сексуального. Реалистическое обострение реального, маниакальная одержимость реальным: вот что непристойно, этимологически и вообще во всех смыслах.
Раздробленное желание
(из работ, докладов и семинаров Ж. Лакана «Телевидение», «Значение фаллоса», «К Якобсону» и др., перевод с французского А. Черноглазова)
Как возникает желание? Сперва субъект находит в Другом лишь ряд амбивалентных плоскостей, отчуждений собственного желания – желания еще раздробленного. Все, что мы знаем об инстинктивных изменениях, представляет нам схему такого раздробленного желания, поскольку теория либидо у Фрейда зиждется на сохранении, постепенном сложении определенного количества частичных влечений, которым удается или не удается вылиться в сложившееся желание.
Тело как раздробленное, ищущее себя желание, и тело как идеал себя взаимопроецируются и предстают для субъекта как раздробленное тело, в то время как другого он видит в качестве совершенного тела. Для субъекта раздробленное тело является, по сути, расчлененным образом собственного тела.
Более того, именно образ образа и приносит человеку ущерб той зрелости либидо, тому соответствию реальности воображаемому, которое, предположительно (ведь что мы на самом деле об этом знаем?), существует у животного. Животное настолько более уверенно руководствуется воображаемым, что отсюда даже возник фантазм «Матери-природы», сама идея природы, которой человек, по его собственному представлению, изначально не соответствует и тысячью способов пытается это несоответствие выразить.
Такое несоответствие вполне объективно обнаруживается в его исключительной беспомощности в начале жизни. Как свидетельствуют гистологи, аппарат, играющий в организме роль нервного аппарата, является при рождении незавершенным. Либидо человека достигает завершенности раньше, чем к нему присоединяется объект.
Вот каким путем вторгается в жизнь человека тот особый недостаток, который увековечивается в его отношении к Другому, гораздо более смертоносному для человека, чем для любого другого животного.
Тот образ господина, который видит человек в форме зрительного образа, сливается у него с образом смерти, – в его присутствии он находится изначально, поскольку он подчинен этому образу.
* * *
Мазохистский исход нельзя разобрать без измерения символического. Он располагается на стыке воображаемого и символического. Именно в этой точке стыка располагается в своей структурирующей форме то, что обычно называют первичным мазохизмом. Здесь же следует поместить и так называемый инстинкт смерти, конституирующий фундаментальную позицию человеческого субъекта.
Мазохизм связан с перверсией, а что такое перверсия? Она не является лишь отклонением в отношении социальных критериев, аномалией, противоречащей добропорядочным нравам (хотя такой регистр и не отсутствует), или же атипией в отношении естественных критериев, то есть более или менее серьезным нарушением репродуктивной цели сексуального соединения. Уже в самой своей структуре она представляет собой нечто совершенно иное.
Не случайно говорят, что определенные склонности к перверсии происходят от желания, которое не решается назвать своего имени. Перверсия и вправду располагается на границе регистра признания, из-за чего и происходит ее фиксирование, стигматизация ее как таковой. Структурно перверсия всегда имеет статус очень непрочный, который изнутри ежесекундно субъектом оспаривается. Перверсия всегда хрупка, готова опрокинуться, измениться в свою противоположность; это свойство ее напоминает эффект перемены знака в некоторых математических функциях: в момент перехода от одного значения переменной к значению, непосредственно следующему за первым, коррелирующая величина меняет плюс бесконечность на минус.
Опыт перверсии позволяет нам углубить понимание того, что можно с полным основанием назвать термином Спинозы – «человеческой страстью», где человек открыт разделению с самим собой. Такой опыт и в самом деле открывает перспективу более глубокую, ибо в этом зиянии человеческого желания выявляются все нюансы, от стыда до престижа, от шутовства до героизма, в которых человеческое желание целиком открыто навстречу и отдано на милость желанию Другого.
Интерсубъективное отношение, лежащее в основе перверзивного желания, поддерживается лишь сведением на нет либо желания Другого, либо желания субъекта. Оно уловимо лишь в пределе, в моменты тех превращений, смысл которых проблескивает лишь на мгновение. Можно сказать – вдумайтесь хорошенько в эти слова, – что как для одного, так и для другого подобное отношение разлагает бытие субъекта. Бытие другого субъекта сводится лишь к тому, чтобы быть инструментом первого, и соответственно, остается лишь один субъект как таковой, да и тот существует лишь как идол, предоставленный желанию другого.
Перверзивное желание опирается на идеальность неодушевленного объекта. Однако оно не может довольствоваться осуществлением такого идеала. С тех пор, как желание осуществляет такой идеал, в момент слияния с ним, желание теряет свой объект.
Таким образом, желанию суждено, в силу самой структуры его, утолиться еще прежде любовного объятия, виной чему будет либо угасание желания, либо исчезновение его объекта.
* * *
Когда мужчина хочет женщину, то получает он ее лишь ценой крушения на мели перверсии. Я утверждаю, что именно так и есть, тем более, что последствий это иметь не будет, ибо женщины как вне-существующей не существует. Но то, что ее не существует, не исключает возможности сделать ее объектом желания. Наоборот – откуда и результаты. Как правило, мужчина, обманываясь, встречает некую женщину, с которой все и происходит – с которой совершает он тот промах, в котором как раз успех полового акта и состоит.
В отношении женщин действует то отрицательное суждение, которое избегает Аристотель относить к всеобщему: они не-все. Но это «не-все» не утверждает своего вне-существования, иначе как в отношении частного, не отдавая, строго говоря, себе в этом отчета, то есть не зная почему, – вот оно, бессознательное! Откуда как раз и следует, что та или иная женщина встречает мужчину только в психозе.
Примем это за аксиому – не то, что мужчина не вне-существует (это случай женщины), а что та или иная женщина это себе запрещает – не оттого что есть Другой, а оттого что «для Другого Другого нет». Таким образом, всеобщее того, что они желают, принадлежит безумию – недаром говорят, что все женщины безумны.
Что же касается фантазмов женщины, то в данном случае он, скорее, идет навстречу перверсии, которую я считаю свойственной мужчине. Это и вынуждает ее прибегнуть к известному маскараду, который вовсе не является тем обманом, что неблагодарные, ориентируясь исключительно на мужчину, ей приписывают. Речь идет, скорее, о подготовке себя, «на всякий случай», к тому, чтобы фантазм мужчины мог встретить в ней свой момент истины. Никакого преувеличения в этом нет, ведь истина по природе своей женщина – хотя бы потому, что она не вся, во всяком случае, не вся говорится.
* * *
Отсюда можно наметить структуры, которым будут подчинены отношения между полами. Скажем, что такие отношения станут вращаться вокруг «быть» и «иметь», относящихся (по теории Фрейда) к фаллосу, и поэтому приводящих к противоречивому эффекту: с одной стороны, придавая реальность субъекту в этом означающем, а с другой – ирреализуя отношения, подлежащие означиванию.
Это происходит благодаря вмешательству кажимости, которая замещает «иметь», чтобы защитить его, с одной стороны, и – чтобы скрыть его нехватку в другом, и которая, как следствие, целиком проецирует в комедию идеальные или типичные проявления в поведении каждого из полов вплоть до завершающего акта совокупления.
Такие идеалы черпают мощь из запроса, который они властны удовлетворить, и который всегда есть запрос любви с его дополнением сведения желания к запросу. Какой бы парадоксальной ни казалась эта формулировка, мы скажем, что женщина, именно для того, чтобы быть фаллосом, то есть означающим желания Другого, отбрасывает главную часть своей женственности, а именно, все ее атрибуты в маскараде. Потому, что она не есть, как она это понимает, существо желаемое и в то же время любимое. Но, что касается ее собственного желания, она находит его означающее в теле того, кому адресован ее запрос любви.
Конечно, не следует забывать, что благодаря функции «означающего» орган, в нее облаченный, приобретает ценность фетиша. Но результат для женщины остается тот же: на одном объекте сходятся опыт любви, который как таковой в идеале лишает ее того, что дает, – и желание, обретающее здесь свое означающее. Поэтому можно видеть, что отсутствие удовлетворения, свойственного сексуальной потребности, то есть фригидность, у нее относительно более терпимо, a запрос желания меньше, чем у мужчины.
У мужчины, напротив, диалектика запроса и желания порождает эффекты, которые Фрейд с лишний раз восхищающей нас точностью поместил на тех самых стыках, к которым они принадлежат, под рубрикой специфического унижения любовной жизни. Если мужчине действительно удается удовлетворить в отношении к женщине свой запрос любви настолько, насколько означающее фаллоса конституирует ее как дающую в любви то, чего она не имеет, – тогда наоборот, собственное желание фаллоса заставит появиться его «означающее» в остающейся склонности к «другой женщине», которая может означать этот фаллос в различных планах, будь то девственница или проститутка. Отсюда вытекает центробежная тенденция полового влечения в любовной жизни, благодаря которой у него гораздо хуже выносима импотенция, и в то же время гораздо значительней присущ запрос желания.
Вовсе не следует, однако, делать вывод, будто судьба неверности, которая могла бы показаться здесь конституирующей для мужской функции, есть его особенность. Ведь если приглядеться, точно такое же раздвоение можно обнаружить и у женщины, с тем лишь отличием, что Другой Любви как таковой, поскольку он лишен того, что дает, бывает плохо заметен в обратном движении, где он заменяется бытием того же мужчины, атрибутами которого она дорожит.
Можно к тому же добавить, что мужская гомосексуальность, соответствуя фаллической метке, конституирующей желание, сама конституируется на его обороте, – а женская гомосексуальность, напротив, как показывает наблюдение, ориентирована разочарованием, усиливающим обратную сторону запроса любви.
Факт, что женственность находит себе убежище под такой маской благодаря факту запроса, присущего фаллической метке желания, приводит к тому интересному следствию, что у человека само мужское щегольство кажется женственным.
Соответственно, угадывается основание той никогда не разъяснявшейся детали, в которой лишний раз отражается глубина интуиции Фрейда: а именно, почему он считает, что есть лишь одно libido, причем, как можно судить по его тексту, понимается оно как мужское по природе. Функция фаллического означающего ведет здесь к его наиболее глубокому отношению: тому, посредством которого воплощали в нем в древности Логос.
* * *
Я предлагаю вам поразмыслить еще над выражением «наслаждаться телом», что позволит выработать понятие о еще одной форме субстанции – субстанции наслаждающейся. Но насладиться телом можно только при условии, что телесность его становится значащей. Как прекрасно замечает де Сад, этот своего рода кантианец, наслаждаться можно лишь частью другого, но той причине, что для тела невозможно настолько обвиться вокруг тела другого, чтобы включить его в свое и переварить подобно фагоциту. Поэтому и приходится довольствоваться небольшим объятием, вот так, за плечики, а там и еще за что-нибудь – ой, больно!
Наслаждение отличается тем фундаментальным свойством, что все тело одного наслаждается частью тела Другого. Но и эта часть тела наслаждается тоже – Другому это может больше или меньше по вкусу, но в любом случае равнодушным он остаться не может. Бывает даже, что происходит нечто выходящее за пределы феномена, мною описанного, нечто отмеченное характерной для означающего двусмысленностью; телесное наслаждение можно понять либо в духе Сада, чем я здесь и воспользовался (наслаждение телом), либо, напротив, в экстатическом, субъектном смысле (наслаждение тела), в котором выходит, что наслаждается-то, в конечном счете, Другой. Но и то, что я называю наслаждением (телом) Другого, выступающего здесь лишь в символической форме, – это уже нечто опять же совсем другое, это «не-все».
Завтрак на траве. Художник Эдуард Мане
Но что же в этом будет «означающим»? Я сказал бы, что означающее располагается на уровне наслаждающейся субстанции. Означающее – это причина наслаждения. Как могли бы мы даже просто приблизиться к этой части тела без означающего? Как без помощи означающего поместить в фокус нашего зрения нечто такое, что является материальной причиной наслаждения? Пусть туманно и путано, но роль этой части тела всегда обозначена.
Она конечная причина– «конечная» во всех смыслах этого слова. Будучи границей наслаждения, означающее – это то, что его прерывает. Обнимались – умаялись. А устали – перестали. Здесь перед нами другой полюс означающего – резкое прекращение; полюс столь же изначальный, сколь звательный падеж веления. Действующая причина – третий из приводимых Аристотелем типов причины – есть, в конечном счете, не что иное как замысел, которым наслаждение ограничивается.
Сексуальная свобода и отчуждение
(из эссе Р. Мэя «Парадоксы любви и секса», перевод с английского А. Марина)
Древние воспринимали секс, как нечто само собой разумеющееся, точно так же, как они воспринимали смерть. Только наш век сумел сделать секс чуть ли не самой главной нашей заботой, взвалив на него бремя всех остальных форм любви. Если бы сегодня на Таймс-Сквэр приземлился пришелец с Марса, то кроме как о сексе нам не о чем было бы с ним поговорить.
Какой бы банальностью ни обернулся секс в наших книгах и пьесах, как бы мы ни защищались от его силы с помощью цинизма и хладнокровия, половое влечение готово в любой момент захватить нас врасплох и доказать, что оно по-прежнему остается ужасной тайной.
Один из парадоксов заключается в том, что просвещение не решило половых проблем нашей цивилизации. Разумеется, просвещение принесло свои положительные плоды, в основном, в плане упрочения свободы индивида. Большинство внешних проблем решено: «знания» о сексе можно приобрести в любом книжном магазине, противозачаточные средства продаются повсюду. Пары могут без стеснения и ощущения вины обсуждать свои половые отношения и пытаться прийти к взаимному удовлетворению в сексе и придать ему больший смысл.
Чувство вины перед окружающими и обществом ослабло, и глупец тот, кто этому не порадуется. Но внутреннее ощущение вины и беспокойства только усилилось. И в определенном смысле с ним труднее справиться, оно острее и тягостнее для индивида, чем ощущение вины перед внешним миром…
Любопытный факт: учащиеся колледжей борются с администрацией за право девушек посещать мужское общежитие в любое время суток, совершенно не подозревая, что ограничения зачастую являются благодеянием. Они дают студенту возможность найти себя. Студент имеет запас времени, чтобы обдумать свое поведение и не принимать никаких решений прежде, чем будет готов к этому, он имеет возможность испытать себя, проявить осторожность в отношениях, что является частью любого процесса взросления. Лучше иметь возможность открыто и спокойно не вступать ни в какие половые отношения, чем вступать в них под давлением – насилуя свои чувства физической связью без связи психологической. Юноша может пренебречь правилами, но, по крайней мере, ему есть чем пренебрегать.
Смысл сказанного мною не меняется от того, подчиняется юноша правилам или нет. Многие современные студенты, у которых их новая сексуальная свобода по вполне понятным причинам вызывает тревогу, подавляют это беспокойство («человек должен любить свободу»), а затем компенсируют вызванное этим подавлением дополнительное беспокойство нападками на администрацию, обвиняя ее в том, что она не дает им еще больше свободы!
Произведя недальновидную либерализацию сферы сексуальной, мы не заметили, что предоставленная индивиду ничем не ограниченная свобода выбора сама по себе свободой не является, зато способствует обострению внутренних противоречий. Сексуальной свободе, которой все мы поклоняемся, явно не хватает человечности.
* * *
В искусстве мы тоже постепенно приходим к пониманию иллюзорности веры в то, что для решения проблемы достаточно одной только свободы. Возьмем, к примеру, драматургию. В статье под названием «Сексу – капут?» Говард Таубманн, бывший театральный критик «Нью-Йорк таймс», подытожил то, что кочевало из пьесы в пьесу: «Занятия сексом напоминают поход по магазинам «от нечего делать»: желание не имеет с этим ничего общего, даже особого любопытства тоже не наблюдается».
Или обратимся к художественной литературе. Леон Идель пишет: «В битве против викторианцев поле боя осталось за экстремистами. В результате наш роман скорее обеднел, чем обогатился». Своим зорким оком Идель увидел главное – при исключительно реалистичном «просвещении» произошла «дегуманизация» секса в художественной литературе. «Половые отношения у Золя, – настаивает он, – отличаются большей правдивостью и человечностью, чем любой половой акт, описанный Лоуренсом».
Выигранная битва против цензуры за свободу выражения действительно была великой победой, но не превратились ли ее достижения в новую смирительную рубашку? Писатели, как романисты, так и драматурги, «скорее заложат свои печатные машинки, чем отдадут издателю рукопись без обязательной сцены откровенно-анатомического описания сексуального поведения своих персонажей…»
Наше «догматическое просвещение» обернулось поражением: оно привело к уничтожению той самой половой страсти, которую было призвано защитить. Безоглядно увлекшись реалистическими изображениями на сцене, в художественной литературе и даже в психотерапии, мы забыли, что пищей эроса является воображение, и реализм как не сексуален, так и не эротичен.
И в самом деле, нет ничего менее сексуального, чем полная нагота, в чем можно убедиться, проведя час-другой на нудистском пляже. Для того чтобы трансформировать физиологию и анатомию в межличностный опыт – в искусство, в страсть, в эрос, миллионы форм которого способны потрясать или очаровывать нас, требуется инъекция воображения (которое я далее буду называть «интенциональностью»).
Может быть, «просвещение», которое сводится к подробному изучению всех реалий, является бегством от беспокойства, вызванного связью человеческого воображения с эротической страстью?
* * *
Второй парадокс заключается в том, что увлечение техникой секса дает результат, противоположный ожидаемому. У меня часто возникает ощущение, что половая страсть или даже удовольствие, получаемое людьми от полового акта, обратно пропорциональны количеству прочитанных этими людьми пособий или тиражам такого рода изданий. В технике, как таковой, разумеется, нет ничего дурного, будь то техника актерского мастерства, игры в гольф или занятий любовью. Но когда увлечение техникой секса переходит определенную границу, то занятие любовью вырождается в механический процесс и идет рука об руку с отчуждением, чувством одиночества и обезличиванием.
Один из аспектов отчуждения заключается в том, что искусного любовника прежних времен сменяет компьютерный программист с его современной эффективностью. Пары уделяют очень много внимания соблюдению графика занятий любовью – если они отстают от графика, то начинают беспокоиться и считают своим долгом заниматься любовью вне зависимости оттого, хочется им этого или нет. Мой коллега, доктор Джон Шимель, замечает: «Мои пациенты стоически выносили отчаянное рукоприкладство своих партнеров или вообще не придавали ему значения, но отставание от графика занятий сексом они воспринимали как уход любви. Если мужчина не поспевает за графиком, то ему кажется, что он теряет свой мужской авторитет, а если женщина долгое время не вступала в связь с мужчиной или с ней, по крайней мере, не заигрывали, то ей кажется, что она утратила свою женскую привлекательность.
Выражение «простой», которым женщины обозначают такое положение дел, также предполагает какой-то временной перерыв, типа антракта. При таком бухгалтерском учете – сколько раз мы занимались любовью на этой неделе? уделил(ла) ли он(она) мне достаточно внимания этим вечером? была ли достаточно долгой прелюдия? – остается только удивляться, что это самое спонтанное из всех проявлений умудряется сохранить свою спонтанность. Если Фрейд говорил, что за кулисами сцены, на которой происходит половой акт, прячутся родители, то теперь можно сказать, что там прячется компьютер».
При этой зацикленности на технике нет ничего странного в том, что типичным вопросом по поводу акта любви является не «Были ли в этом акте страсть, или смысл, или удовольствие?», а «Насколько хорошо я справился со своей задачей?». Возьмем, к примеру, то, что Сирил Коннолли называет «тиранией оргазма», и озабоченность достижения одновременного оргазма, которая является еще одним аспектом отчуждения. Признаюсь, разговоры об «апокалипсическом оргазме» вызывают у меня недоумение. Почему эти люди прилагают такие страшные усилия? Какую безграничную неуверенность в себе, какую внутреннюю пустоту и какое одиночество они пытаются замаскировать этим стремлением к грандиозным результатам?
Даже сексологи, которые, как правило, утверждают, что чем больше секса, тем он приятнее, сегодня удивляются этой одержимости стремлением к оргазму и тому значению, которое придается «удовлетворению» партнера. Мужчина считает своим долгом спросить женщину, все ли у нее «получилось», или все ли с ней в «порядке», или использует какой-нибудь другой эвфемизм, говоря об ощущении, к которому неприменимы никакие эвфемизмы. Симона де Бовуар и другие женщины, пытающиеся дать объяснения акту любви, напоминают нам, мужчинам, что в этот момент женщина меньше всего хочет услышать такой вопрос. Более того, зацикленность на технике лишает женщину того, чего она больше всего хочет, как в физическом, так и в эмоциональном смысле, а именно – чтобы в пиковый момент мужчина забыл обо всем на свете. Именно это состояние мужчины дает ей тот восторг или экстаз, на какой она только способна.
Когда мы отбросим всю эту чушь о «ролях» и их «исполнении», то становится ясно, сколь важное значение имеет сам факт близости – знакомство, развитие отношений, возбуждение от незнания, к чему это приведет, самоутверждение и желание отдать себя партнеру – для того, чтобы половой акт стал запоминающимся событием, разве не эта близость заставляет нас вновь и вновь вызывать в памяти это событие, когда нам хочется хоть какого-то тепла?
Чудные дела творятся в нашем обществе: составляющие человеческих отношений – общность вкусов, фантазий, мечтаний, надежд на будущее и прошлых неудач – вызывают у людей скорее смущение, чем желание лечь друг с другом в постель. Люди больше стесняются нежности, которая идет рука об руку с психологической и духовной обнаженностью, чем физической наготы половой близости.
* * *
Третий парадокс заключается в том, что наша хваленая сексуальная свобода превратилась в новую форму пуританства. Я пишу это слово с маленькой буквы, потому что не хочу, чтобы это явление путали с истинным пуританством. То пуританство (вспомним страсти Эстер и Диммсдейла в «Алой букве» Хоуторна) имеет с нынешним мало общего. Я говорю о пуританстве, которое пришло к нам от наших викторианских бабушек и дедушек, вместе с индустриализацией, и возведением нравственных и эмоциональных перегородок.
Я считаю, что нынешнее пуританство состоит из трех элементов. Первый элемент – отчуждение от тела. Второй – отделение эмоций от разума. Третий – использование тела как машины.
Новое пуританство считает слабое здоровье синонимом греха. Когда-то грехом считалось удовлетворение своих сексуальных желаний; теперь грех – это неполное сексуальное самовыражение. Современный пуританин считает, что не выражать свое либидо аморально. По обе стороны океана дела обстоят следующим образом: «Вряд ли можно найти более угнетающее зрелище, – пишет лондонская The Times Literary Supplement, – чем прогрессивный интеллектуал, готовый лечь с кем-нибудь в постель из чувства нравственного долга… Самым великодушным пуританином в мире является человек, проповедующий спасение посредством правильно направленной страсти…»
Скульптура «Оральный секс». Прага
В викторианскую эпоху человек искал любви без секса; современный человек ищет секса без любви. Однажды я развлечения ради набросал импрессионистски эскиз отношения современной просвещенной личности к сексу и любви. Мне хотелось поделиться с читателем своим представлением о том, кого я считаю «новым снобом». «Новый сноб кастрирован не обществом. Подобно Оригену, он сам себя кастрировал. Секс и тело являются для него уже не чем-то само собой разумеющимся, а орудиями, которые нужно оттачивать, подобно тому, как телеведущий оттачивает свой голос. Новый сноб выражает свою страсть в страстном поклонении нравственному принципу отказа от любой страсти, любви ко всем и каждому, которая тем самым теряет силу для кого бы то ни было. Он смертельно боится необузданных страстей, а уздой для них становится именно теория полного самовыражения. Проповедуемая им догма свободы – это его орудие подавления; а его принцип полного либидозного здоровья, полного сексуального удовлетворения – это его отрицание эроса. Старый пуританин боролся с сексом и при этом был человеком страсти; наш новый пуританин борется со страстью и при этом является человеком секса. Его целью является укрощение тела, превращение природы в своего раба. Исповедуемый новым снобом железный принцип полной свободы – это вовсе не свобода, а новая смирительная рубашка. Он поступает так только потому, что боится своего тела и дремлющей в его природе страсти, боится примитивных желаний и своей способности к воспроизводству. Это современный бэконианец, стремящийся покорить природу, умножить свои знания с целью упрочения своей власти. И именно с помощью полного самовыражения вы получаете власть над половым влечением (так рабов заставляли работать до изнеможения, чтобы у них не было сил даже думать о бунте). Для нас секс становится таким же орудием, каким для пещерного человека были лук и стрелы, палица или топор. Секс – новое орудие».
Это новое пуританство пробралось в современную психиатрию и психологию. В некоторых книгах по консультациям для семейных пар утверждается, что при обсуждении полового акта терапевт должен пользоваться исключительно словом «трахаться» и должен настаивать на том, чтобы им пользовались и пациенты; дескать, любое другое слово вызывает скованность у пациентов.
Дело здесь не в слове самом по себе; конечно же, чистое вожделение, животное, хотя осознанное, самозабвенное плотское удовольствие, которое вполне уместно называть таким образом, не может быть выведено за рамки спектра человеческих ощущений. Но вот что интересно – употребление некогда запрещенного слова теперь становится обязанностью – во исполнение долга нравственной честности. Отказ говорить о биологической стороне совокупления, разумеется, способствует скованности пациента. Но его скованности также способствует и употребление слов вроде «трахаться» как определения сексуального события, когда целью наших поисков является близость двух людей, о которой они должны помнить завтра и еще отнюдь не одну неделю.
В первом случае скованность призвана служить сокровенности, во втором – это симуляция откровения на службе у отчуждения личности, ее защита от тревог, внушаемых близостью. Если первый тип скованности был проблемой во времена Фрейда, то второй тип стал проблемой современности.
* * *
Новое пуританство несет с собой обезличивание всего нашего языка. Мы уже не занимаемся любовью, а «имеем секс»; мы уже не ложимся в постель, а «уламываем» кого-нибудь или (Боже, спаси нас и наш язык) нас «уламывают».
Это отчуждение становится настолько нормальным явлением, что в некоторых психотерапевтических учебных заведениях молодых психиатров и психологов учат, что использование во время приема слова «трахать» имеет чисто «терапевтическое» значение; что пациент наверняка подавляет какие-то эмоции, если он говорит «заниматься любовью»; стало быть, нашей священной обязанностью (вот оно воплощенное новое пуританство!) является доведение до его сведения, что он исключительно «трахается».
Все так горят желанием сбросить последние оковы стыдливости, что позабыли, что разного рода человеческие ощущения обозначаются разными словами. Большинство людей, скорее всего, испытывают различные формы сексуальных отношений, обозначаемые различными терминами, и им не составляет труда разобраться, чем они отличаются друг от друга.
Я не собираюсь оценивать различные типы ощущений; любой из них относится к соответствующему типу отношений. Любой женщине иногда хочется, чтобы ее подхватили на руки, похитили, вызвали в ней страсть тогда, когда ей поначалу этого совсем не хочется, как в знаменитой сцене между Ретом Батлером и Скарлет О’Хара в «Унесенных ветром». Но если всю жизнь ее только «уламывают», то, поверьте, ее ощущение отчуждения и отвращения к сексу не за горами.
Главный недостаток нового пуританства заключается в том, что оно чудовищно ограничивает чувства, лишает любовный акт его безграничного разнообразия и богатства, способствует эмоциональному обнищанию. Нет ничего удивительного в том, что новое пуританство сеет откровенную враждебность между членами нашего общества. И эта враждебность, в свою очередь, часто выражается словами из области секса. Мы говорим презрительно «отье…» или «пошел на х…», чтобы показать человеку, что совершенно в нем не нуждаемся.
В данном случае, биологическое вожделение подвергается сведению к абсурду. И в самом деле, в современном языке ругательства вроде «х…» и «трахаться» представляют собой самый распространенный способ выражения откровенной враждебности. И я думаю, что это не случайно.
Сексуальные фантазии
(из книги К. Хорни «Невротическая личность нашего времени», перевод с английского В. Данченко)
Потребность в любви и привязанности часто принимает форму половой страсти или ненасытной потребности в половом удовлетворении. Но связи между чувствами любви, привязанности, проявлениями нежности и сексуальностью не являются столь тесными, как мы иногда полагаем.
Бриффолт полагает, что сексуальность имеет более близкое отношение к жестокости, чем к нежности. Из наблюдений, почерпнутых в нашей культуре, мы знаем, что сексуальность может существовать без любви или нежности, а любовь или нежность – без сексуальных чувств. Если потребность в любви была бы только сексуальным феноменом, нам было бы затруднительно понять многообразные, связанные с ней проблемы, такие, как собственническое отношение, требование безоговорочной любви, чувство отверженности.
Надо признать, что различные проблемы (любви) были установлены и детально описаны: например, ревность прослеживалась вплоть до соперничества детей в семье или Эдипова комплекса; безоговорочная любовь– до орального эротизма; собственническое отношение – до анального эротизма и так далее.
Но при этом не было понимания, что без признания тревоги как движущей силы, стоящей за потребностью в любви, мы не сможем понять всех тех условий, при которых данная потребность возрастает или уменьшается. Повышенная потребность в любви, по-видимому, столь постоянно представляет собой результат тревожности, что ее вполне можно рассматривать как сигнал неблагополучия, указывающий на то, что тревожность близка к выходу наружу и требует успокоения.
В то же время, о чрезмерно сильной преданности, маскирующей, как правило, скрываемую ненависть, оправданно говорить как о «сверхкомпенсации». Например, в браке муж может навязчиво льнуть к своей жене, быть ревнивым собственником, идеализировать ее и восхищаться ею, хотя в глубине души ненавидеть и бояться ее…
В определенной мере сексуальная форма выражения потребности в любви зависит от того, благоприятствуют этому внешние обстоятельства или нет. До некоторой степени она зависит от особенностей культуры, различий в жизненной энергии и сексуальном темпераменте. И, наконец, она зависит от того, является ли половая жизнь человека удовлетворительной, ибо, если она таковой не является, он с большей вероятностью будет реагировать сексуальным образом, нежели удовлетворенные половой жизнью лица.
Хотя все эти факторы самоочевидны и оказывают определенное влияние на реакцию индивида, они не объясняют в достаточной степени основополагающие индивидуальные различия. Так, имеется некоторая категория лиц, чьи контакты с другими немедленно, почти принудительно, принимают сексуальную окраску большей или меньшей интенсивности, в то время как у большинства лиц сексуальная возбудимость или сексуальные действия находятся в границах нормального диапазона чувств и поведения.
К первой группе относятся люди, которые непрерывно переходят от одной половой связи к другой. Более близкое знание их реакций показывает, что они чувствуют свою небезопасность, незащищенность и крайнюю неустойчивость, когда находятся вне какой-либо связи или не видят прямой возможности установить ее. К той же группе, хотя и подчиняясь большему числу внутренних запретов, относятся люди, которые имеют ограниченные связи, но склонны создавать эротическую атмосферу в отношениях с другими людьми независимо от того, чувствуют они к ним особую привязанность или нет. Наконец, сюда можно отнести и третью группу лиц с еще большими сексуальными запретами, которые, однако, легко возбуждаются сексуально и навязчиво ищут потенциального полового партнера в каждом мужчине или женщине. В этой последней подгруппе навязчивая мастурбация может – но не обязательно должна – занимать место половых отношений.
Для этой группы характерны многочисленные вариации в степени достигаемого физического удовлетворения, но общей чертой представителей данной группы, помимо навязчивой природы их половых потребностей, является определенная неразборчивость в выборе партнеров. Кроме того, поражает несоответствие между их готовностью иметь половые отношения, реальные или воображаемые, и глубоким нарушением их эмоциональных отношений с другими людьми. Эти люди не только не могут верить в любовь, но приходят в полное смятение (или, если речь идет о мужчинах, становятся импотентами), если им предлагается любовь. Они могут осознавать свое защитное отношение или склоняться к обвинению своих партнеров. В последнем случае они убеждены в том, что им никогда не доводилось и не доведется встретить хорошую девушку или добродетельного мужчину.
Сексуальные отношения означают для них не только облегчение специфического сексуального напряжения, но также являются единственным путем установления человеческого контакта. Если у человека выработалось убеждение, что для него практически исключена возможность получения любви, то тогда физический контакт может служить заменителем эмоциональных связей. В этом случае сексуальность является основным, если не единственным, мостом, связывающим его с другими людьми, и поэтому приобретает чрезмерное значение.
* * *
У некоторых людей недостаток разборчивости проявляется в отношении пола потенциального партнера; они будут активно искать отношений с обоими полами или будут пассивно уступать сексуальным притязаниям безотносительно к тому, исходят ли они от лица противоположного или одного с ними пола.
Первый, активный, тип нас здесь не интересует, потому что, несмотря на то, что у его представителей сексуальность также поставлена на службу установления человеческого контакта, который труднодостижим иным образом, основополагающим мотивом является не столько потребность в любви, сколько стремление подчинять себе, или, точнее, покорять и подавлять других. Это стремление может быть столь властным, что половые различия стираются. Как мужчины, так и женщины должны быть подчинены – сексуально или иным путем.
Но лиц второй группы, которые склонны уступать сексуальным притязаниям обоих полов, толкает на это неослабевающая потребность в любви, особенно страх потерять очередного партнера из-за своего отказа на предложение сексуального плана или если они осмелятся защищать себя от каких-либо, справедливых или несправедливых, притязаний по отношению к ним…
То, что говорилось о бисексуальных отношениях, может также пролить некоторый свет на проблему гомосексуализма. В действительности имеется много промежуточных стадий между описанным «бисексуальным» и собственно гомосексуальным типом. В истории последнего имеются определенные факторы, ответственные за то, что он не признает человека противоположного пола в качестве полового партнера.
В последние несколько лет некоторые психоаналитики укрывали на возможность усиления сексуальных желаний вследствие того, что половое возбуждение и удовлетворение служат выходом для тревожности и скапливающегося психологического напряжения.
Любовь втроем. Художник Теодор Жерико
Большая доля того, что предстает как сексуальность, в реальности имеет очень мало общего с ней, но является выражением желания получить успокоение. Человек, чьи половые потребности возрастают под неосознаваемым влиянием тревожности, наивно склонен приписывать интенсивность своих половых потребностей врожденному темпераменту или свободе от общепринятых табу. Делая это, он совершает ту же самую ошибку, что и люди, переоценивающие свою потребность во сне, воображая, что их конституция требует десяти или более часов сна, в то время как в действительности их повышенная потребность во сне может быть вызвана различными, не находящими выхода эмоциями. Сон может служить в качестве одного из средств ухода от всех конфликтов.
То же самое относится к еде или питью; еда, питье, сон, сексуальность являются жизненно важными потребностями. Их интенсивность колеблется не только вместе с индивидуальной конституцией, но также зависит от многих других условий: климата, источников удовлетворения, внешней стимуляции, степени тяжести работы, физических условий. Но все эти потребности также могут возрастать в результате действия бессознательных факторов.
Связь между сексуальностью и потребностью в любви проливает свет на проблему полового воздержания. Насколько легко человек может переносить половое воздержание, зависит от культуры и индивидуальных особенностей, а также от различных психологических и физических факторов. Однако нетрудно заметить, что человек, нуждающийся в сексуальности как средстве ослабления тревожности, особенно неспособен терпеть какое-либо воздержание, даже кратковременное.
Эти соображения ведут к определенным размышлениям относительно той роли, которую сексуальность играет в нашей культуре. Мы имеем тенденцию с определенной гордостью и удовлетворением смотреть на наше либеральное отношение к сексуальности. Конечно, со времен викторианской эпохи произошли изменения к лучшему. У нас больше свободы в половых отношениях и больше возможностей получить удовлетворение. Последнее в особенности справедливо для женщин; фригидность более не считается нормальным состоянием женщин, а общепризнана в качестве недостатка.
Однако, несмотря на такое изменение, улучшение далеко еще не является столь обширным, как это может представляться, потому что в настоящее время весьма значительная часть половой активности является скорее выходом для психологических напряжений, чем подлинным половым влечением, и поэтому должна рассматриваться скорее как средство успокоения, а не как подлинное сексуальное наслаждение или счастье.
* * *
Исходя из подобного понимания сексуальности, можно определить, что такое мазохизм. Термин «мазохизм» первоначально имел отношение к половым извращениям и фантазиям, в которых половое удовлетворение достигается посредством страдания, с помощью избиений, пыток, изнасилования, порабощения, унижения. Фрейд пришел к мысли о том, что эти половые извращения и фантазии родственны общим тенденциям к страданию, то есть таким тенденциям, которые не имеют явной сексуальной основы; эти последние тенденции были отнесены к разделу «моральный мазохизм». Считается, что различие между половым извращением и так называемым «моральным мазохизмом» связано с различием в осознании. При извращениях и стремление к удовлетворению, и самоудовлетворение осознаются; при мазохизме оба они бессознательны.
Проблема получения удовлетворения посредством страдания является сложной даже в извращениях, но она становится еще более озадачивающей при общих тенденциях к страданию. Предпринимались многочисленные попытки объяснить явление мазохизма. Наиболее яркой из них является гипотеза Фрейда об инстинкте смерти. В ней, кратко говоря, утверждается, что внутри человека действуют две основные биологические силы: инстинкт жизни и инстинкт смерти. Когда сила инстинкта смерти, который направлен на саморазрушение, соединяется с либидиозными влечениями, результатом будет феномен мазохизма.
Я хочу здесь поднять вопрос, вызывающий огромный интерес, – это вопрос о том, можно ли понять стремление к страданию психологически, не прибегая к помощи биологической гипотезы.
Для начала нам придется разобраться с ошибочным пониманием, суть которого заключается в смешении действительного страдания со стремлением к нему. Нет никакого основания делать поспешное заключение о том, что если налицо факт страданий, то должна иметь место и тенденция подвергать себя им или даже извлекать из них удовольствие. Например, мы не можем интерпретировать тот факт, что женщины рожают детей в муках, как доказательство того, что женщины тайно, мазохистски наслаждаются этими болями, даже если это в исключительных случаях может быть вполне справедливо.
Для того чтобы ответить на вопрос, поставленный выше, необходимо вначале выделить общие для всех мазохистских наклонностей элементы, или, точнее, то фундаментальное отношение к жизни, которое лежит в основе таких тенденций. Когда они исследуются с этой точки зрения, их общим знаменателем определенно является ощущение внутренней слабости. Это чувство проявляется в отношении к себе, к другим людям, к судьбе в целом. Кратко оно может быть описано как глубинное ощущение собственной незначительности, или, скорее, ничтожности. Например, ощущение себя тростинкой, открытой всем ветрам; ощущение того, что ты находишься во власти других, будучи всецело в их распоряжении, что проявляется в тенденции к сверхугодничеству и в защитном чрезмерном упоре на самообладании и желании не сдаваться; ощущение своей зависимости от любви, расположения и суждения других людей, причем первое проявляется в чрезмерной любви и привязанности, второе – в чрезмерном страхе неодобрения; ощущение того, что не в силах изменить что-либо в собственной жизни, предоставляя другим нести за нее всю ответственность; чувство полной беспомощности перед судьбой, проявляемое в негативном плане в ощущении неминуемого рока, а в позитивном – в ожидании чуда; ощущение невозможности существования без побудительных стимулов, средств и целей, задаваемых другими людьми; ощущение себя воском в руках ваятеля.
Как еще должны мы понимать это ощущение внутренней слабости? Является ли оно, в конечном счете, выражением отсутствия жизненной силы? Является ли оно простым следствием тревожности? Определенно тревожность некоторым образом связана с этим ощущением, но одна лишь тревожность могла бы вызвать противоположный эффект, побуждая человека стремиться и достигать все большей силы и могущества ради собственной безопасности.
Ответ заключается в том, что на самом деле такого ощущения внутренней слабости вовсе нет. То, что ощущается как слабость, является лишь результатом склонности к слабости. Обычно страдания, обусловленные этой склонностью к слабости, не приносят какого-либо сознательного удовлетворения, а, напротив, безотносительно к той цели, которой они служат, определенно составляют часть общего осознания своего несчастья. Тем не менее, эта склонность направлена на удовлетворение, даже когда она не достигает его, по крайней мере, внешне. Иногда можно наблюдать эту цель, а подчас может показаться, что цель достигнута. Погружение в ощущение горя не только успокаивает боль, но воспринимается как определенно приятное.
* * *
Достижение удовлетворения встречается гораздо чаще и гораздо очевиднее в таких сексуальных фантазиях и извращениях мазохистского характера, как воображаемые изнасилования, избиения, уничтожения, порабощения или их действительное воплощение. На самом деле они представляют собой лишь еще одно проявление той же самой общей склонности к слабости.
Достижение удовлетворения посредством погружения в горе является выражением общего принципа нахождения удовлетворения через потерю собственного «Я» посредством растворения своей индивидуальности в чем-то большем, путем избавления «Я» от сомнений, конфликтов, болей, ограничений и изоляции. Это то, что Ницше называл освобождением от «принципа индивидуальности». Это то, что он имел в виду под «дионисийским» началом, которое считал одним из основных стремлений, свойственных человеческим существам, в противоположность тому, что он называл «аполлоновским» началом, которое работает в направлении активного преобразования и подчинения жизни.
Сам термин «дионисийский» взят из культов Дионисия в Греции. Они, так же как и более ранние фракийские культы, преследовали ту же цель максимальной стимуляции всех чувств – вплоть до стадии перехода в галлюцинаторные состояния. Средствами вызывания экстатических состояний были музыка, однообразный ритм флейт, неистовые ночные пляски, одурманивающие напитки, половая несдержанность – все, способствующее возникновению возбуждения и экстаза. По всему миру распространены обычаи и культы, следующие тому же самому принципу: в групповой форме – в виде разгула в период праздников и в религиозном экстазе, и среди отдельных людей, ищущих забвения в наркотиках.
Боль также играет некоторую роль в формировании «дионисийского» состояния. В некоторых равнинных индейских племенах видения вызываются посредством поста, отсечения части телесной плоти, связывания человека в болезненной позе. В «солнечных плясках» – одной из наиболее важных церемоний равнинных индейцев – физические пытки были весьма распространенным способом вызывания исступленных экстатических переживаний. Флагеллянты в средние века применяли избиение для вхождения в экстаз, кающиеся грешники в Нью-Мехико использовали для этой цели колючки, битье, ношение тяжестей. Сам термин «экстаз» буквально означает «быть вовне» или «вне себя».
Хотя в этих культах выражение «дионисийских» начал далеко от переживаний, принятых в нашей культуре, они не полностью чужды нам. До некоторой степени все мы знаем об удовлетворении, получаемом от состояния «забытья». Мы ощущаем его в процессе засыпания после физического или умственного напряжения или входя в наркоз. Тот же самый эффект может быть вызван алкоголем. Одним из факторов, обусловливающих использование алкоголя, определенно является снятие внутренних запретов, другим – ослабление печали и тревожности, но и в этом случае также первичное удовлетворение, к которому стремятся, – это удовлетворение от забытья и утраты сдерживающих начал.
* * *
Не много найдется людей, не знающих удовлетворения от своей полной поглощенности каким-либо сильным чувством, например любовью или сексуальным разгулом. Как можем мы объяснить явную универсальность этих стремлений? Несмотря на счастье, которое может подарить жизнь, она в то же самое время полна неизбежных трагедий. Даже если нет какого-либо особого страдания, все же остаются старость, болезни и смерть. Говоря еще более общим языком, человеческой жизни неотъемлемо присуще то, что человек ограничен и изолирован: ограничен в том, что он может понять, достичь или чем может насладиться, изолирован – потому что является единственным в своем роде существом, отделенным от своих ближних и от окружающей природы.
В действительности большая часть принятых в культуре способов достижения забвения направлена на преодоление этой индивидуальной ограниченности и изолированности. Наиболее проницательное и прекрасное выражение это стремление получило в Упанишадах, в образе рек, которые текут и, растворяясь в океане, теряют свои названия и очертания. Растворяя себя в чем-то большем, становясь частью большей сущности, человек до определенной степени преодолевает свои границы, как это выражено в Упанишадах: «Полностью растворяясь, мы становимся частью творческого принципа Вселенной». В этом, по-видимому, и состоит великое утешение и удовлетворение, которое религия может предложить людям; теряя себя, они могут войти в единство с Богом или природой. Такого же удовлетворения можно достичь преданностью великому делу: полностью отдавая себя ему, мы ощущаем единство с более великим целым.
В нашей культуре мы более знакомы с противоположным отношением к собственной личности, с отношением, которое подчеркивает и высоко оценивает своеобразие и уникальность индивидуальности. Человек в нашей культуре слишком сильно чувствует, что его собственное «Я» – это отдельная сущность, отличная от внешнего мира или противоположная ему. Он не только отстаивает свою индивидуальность, но и получает в этом громадное удовлетворение; он находит счастье в развитии присущих ему потенциальных возможностей, овладевая собой и миром в процессе его активного покорения, занимаясь продуктивной деятельностью и выполняя творческую работу. Об этом идеале личного совершенствования Гете сказал: «Высшее счастье для человека – стать личностью».
Но противоположная тенденция, – пробиваться сквозь скорлупу индивидуальности и освобождаться от ее ограничений и изоляции, – в равной степени выражает глубочайшее и коренное стремление человека и также обладает потенциальной способностью приносить удовлетворение. Ни одна из этих тенденций сама по себе не является патологической; как сохранение и развитие индивидуальности, так и принесение индивидуальности в жертву оправданы при решении человеческих проблем.
Сражение за женщину. Художник Франц Риттер фон Штюк
Тенденция к избавлению от собственного «Я» может проявляться в виде воображаемого человеком ухода из собственного дома и превращения в изгоя или в потере собственной личности; в отождествлении себя с литературным героем; в чувстве «затерянности среди темноты и волн», в ощущении единения с «темнотой и волнами». Эта тенденция представлена в желаниях быть загипнотизированным, в наклонности к мистицизму, в чувстве нереальности, в чрезмерной потребности во сне, в соблазне заболеть, сойти с ума, умереть.
И как я упоминала ранее, общим знаменателем в мазохистских фантазиях является чувство, что ты воск в руке мастера, лишенный всякой воли, всякой силы, предоставленный в полное распоряжение другого. Конечно, любое иное ее проявление имеет свои причины и собственный смысл. Например, чувство собственной порабощенности может быть частью общей тенденции ощущать себя жертвой и как таковое является защитой от побуждений порабощать других, а также обвинением против других за то, что они не позволяют над собой властвовать. Но одновременно с этим значением – быть формой выражения защиты и враждебности – оно имеет также и тайное позитивное значение – признание собственной капитуляции.
* * *
Когда мазохистские стремления интегрируются таким образом в общий феномен стремления к освобождению от индивидуального «Я», тогда удовлетворение, которого ищут или достигают, вследствие слабости и страдания, перестает быть странным, оно укладывается в парадигму, которая вполне знакома. Тогда живучесть мазохистских стремлений объясняется тем фактором, что они служат одновременно защитой от тревожности и дают потенциальное или реальное удовлетворение. Это удовлетворение редко является реальным, за исключением сексуальных фантазий или извращений, даже если стремление к нему составляет важный элемент в общих склонностях к слабости и пассивности.
Большинство мазохистских явлений имеют общий с невротическими симптомами характер компромиссного соединения несовместимых стремлений. Невротик склонен ощущать себя жертвой посторонней воли, но в то же самое время он настаивает на том, чтобы мир приспосабливался к нему. Он склонен ощущать себя порабощенным, но в то же самое время настаивает на безусловности своей власти над другими. Он хочет быть беспомощным, быть объектом внимания и заботы, но в то же самое время настаивает не только на своей самодостаточности, но и на своем всемогуществе. Он склонен ощущать себя ничтожеством, но раздражается, когда его не принимают за гения. Нет абсолютно никакого удовлетворительного решения, которое могло бы примирить такие крайности, в особенности потому, что оба эти стремления столь сильны.
В реальности человек с мазохистскими склонностями совершенно неспособен принести себя в жертву чему-либо или кому-либо; например, он неспособен посвятить все свои силы служению какому-то делу или полностью отдаться чувству любви. Он может подчинять себя страданию, но в этом подчинении быть полностью пассивным. Он использует чувство, интерес или человека, который является причиной его страдания, лишь как средство забвения. Нет никакого активного взаимодействия между ним и другим, налицо лишь его эгоцентричная поглощенность собственными целями. Подлинное подчинение какому-либо человеку или делу – это признак внутренней силы; мазохистская капитуляция составляет, как уже говорилось, проявление слабости.
Еще одна причина того, почему редко достигается удовлетворение, которого ищут в мазохизме, заключается в определенных разрушительных элементах. Они отсутствуют в культурных «дионисийских» началах. В последних нет ничего общего с деструктивностью всего, что составляет личность, всех ее потенциальных возможностей в плане достижений и счастья. Давайте сравним греческий «дионисийский» культ, например, с невротическими фантазиями о собственном сумасшествии. В первом случае желание состоит в достижении временного экстатического переживания, служащего увеличению радости жизни; во втором – то же самое стремление к забвению и раскрепощению не ведет ни к временному растворению с последующим обновлением, ни к обогащению и полнокровной жизни. Его целью является избавление от всего, мучающего «Я», невзирая на всю его ценность, и поэтому неповрежденная сфера личности реагирует на это страхом.
* * *
Один фактор, присущий нашей культуре, служит усилению тревожности, связанной со стремлением к забвению. В западной цивилизации найдется мало, если вообще найдется, культурных форм и образований, в которых эти стремления можно было бы удовлетворить. Религия, которая предлагала такую возможность, потеряла свое влияние и привлекательность для большинства людей. Не только нет каких-либо эффективных культурных способов такого удовлетворения, но их развитие активно тормозится, ибо в индивидуалистической культуре человеку предписывается прочно стоять на собственных ногах, утверждать себя и, если необходимо, уметь прокладывать себе дорогу. В нашей культуре действительное следование склонности к отказу от себя влечет за собой опасность остракизма.
В свете тех страхов, которые обычно не дают человеку возможности получить специфическое удовлетворение, к которому он стремится, становится возможным понять важное значение для него мазохистских фантазий и извращений. Если его стремления к отказу от себя изживаются в фантазиях или в сексуальных действиях, он, возможно, сможет избежать опасности полного самоуничтожения.
Подобно «дионисийским» культам, эти мазохистские привычки дают временное забвение и раскрепощение со сравнительно небольшим риском нанести себе вред. Обычно они затрагивают всю структуру личности; иногда они сосредоточиваются на сексуальных действиях, тогда как другие сферы личности остаются от них сравнительно свободными. Существуют мужчины, способные быть активными, напористыми и удачливыми в своей работе, но вынужденные время от времени предаваться таким мазохистским извращениям, как переодевание в женскую одежду или игра в непослушного мальчика с поркой самого себя.
С другой стороны, те страхи, которые не дают человеку возможности найти удовлетворительного разрешения своих затруднений, могут также пронизывать его мазохистские побуждения. Если эти побуждения имеют сексуальную природу, тогда, несмотря на интенсивные мазохистские фантазии по поводу половых отношений, он будет полностью воздерживаться от секса, показывая отвращение к противоположному полу или, по крайней мере, подчиняясь строгим сексуальным запретам.
* * *
Фрейд считал мазохистские побуждения по существу сексуальным явлением. Для их объяснения он выдвинул следующие теории. Первоначально он считал мазохизм одной из сторон определенной, биологически заданной стадии полового развития, так называемой анально-садистической стадии; позднее он добавил гипотезу, согласно которой мазохистские побуждения имеют внутреннее родство с женской природой и означают что-то подобное изживанию желания быть женщиной. Его последнее предположение, как упоминалось ранее, заключалось в том, что мазохистские побуждения состоят из сочетания саморазрушительных и половых влечений.
Моя точка зрения коротко может быть суммирована следующим образом. Мазохистские побуждения не являются, в сущности, ни сексуальным феноменом, ни результатом биологически заданных процессов, а берут свое начало в личностных конфликтах. Их цель не в страдании; страдание, – это не то, чего индивид хочет, а то, чем он платит. Что же касается удовлетворения, к которому он стремится, то это не страдание в собственном смысле слова, а отказ от своего «Я».
Сексуальная агрессия
(из книги О. Ф. Кенберга «Отношения любви», перевод с английского М. Георгиевой)
Сексуальное возбуждение занимает совершенно особое место среди прочих аффективных состояний. Сознательная и бессознательная концентрация на определенном выборе сексуального объекта преобразует сексуальное возбуждение в эротическое желание. Эротическое желание включает в себя стремление к сексуальным отношениям с определенным объектом. При нормальных обстоятельствах сексуальное возбуждение зрелого индивида активируется в контексте эротического желания.
Каковы клинические характеристики эротического желания? Прежде всего, это поиск удовольствия, всегда направленный на другого человека – объект, в который проникаешь, вторгаешься, которым овладеваешь или который проникает, вторгается в тебя или овладевает тобой. Это стремление к близости и слиянию, подразумевающее, с одной стороны, насильственное преодоление барьера и, с другой – соединение в одно целое с выбранным объектом.
Сознательные или бессознательные сексуальные фантазии выражаются во вторжении, проникновении или овладении и включают в себя соединение выпуклых частей тела с естественными впадинами – пениса, сосков, языка, пальцев вторгающейся стороны, проникающих или вторгающихся во влагалище, рот, анус «принимающей» стороны. Получение эротического удовольствия от ритмических движений этих частей тела снижается или исчезает, если сексуальный акт не служит более широким бессознательным функциям слияния с объектом.
Роли «принимающего» и «отдающего» не следует смешивать с маскулинностью и фемининностью, активностью и пассивностью. Эротическое желание включает фантазии активного поглощения и пассивного состояния, когда в тебя проникают, и в то же время активного проникновения и пассивного состояния, когда тебя поглощают. В этом плане бисексуальность – прежде всего функция идентификации с обоими участниками сексуальных отношений или с тремя («исключенная третья сторона») в триадном сексуальном опыте.
Второй характерной особенностью сексуального желания является идентификация с сексуальным возбуждением партнера и оргазмом, чтобы получить удовольствие от двух дополняющих друг друга переживаний слияния. При этом также возникает чувство принадлежности к обоим полам, на время устраняющее непреодолимые барьеры между полами, а также ощущение некой завершенности и блаженства от обоих аспектов сексуального опыта – проникновения и внедрения, а также чувства, когда в тебя проникают и заключают в себя.
В этой связи символическое смещение всех «проникающих» анатомических частей и всех «принимающих» или «проницаемых» углублений служит признаком сгущения эротизма всех «зон» и ожидаемой регрессии сексуального возбуждения в «зональную спутанность» с последующим слиянием в сексуальной активности и сексуальном контакте фантазий и ощущений всей поверхности тела обоих участников. В такой идентификации с другим заключается удовлетворение желания слияния, гомосексуального желания и эдипова чувства соперничества. То есть при этом все другие отношения исчезают в уникальной и слитой в одно целое сексуальной паре.
К тому же, бессознательная идентификация с обоими полами устраняет необходимость завидовать другому полу, и, оставаясь самим собой, индивид в то же время превращается в другого; при этом возникает ощущение перетекания в иное состояние, в котором достигается межличностное взаимопроникновение.
* * *
Третьей характерной чертой эротического желания является чувство выхода за пределы дозволенного, преодоления запрета, присутствующего во всех сексуальных контактах, запрета, происходящего из эдиповой структуры сексуальной жизни. Это чувство принимает многочисленные формы, и самым простым и универсальным из них является нарушение традиционных социальных ограничений, налагаемых обществом на открытую демонстрацию интимных частей тела и чувство сексуального возбуждения. Стендаль первым обратил внимание на то, что сам акт раздевания отвергает социальные взгляды на чувство стыда и дозволяет любовникам прямо смотреть друг на друга, не испытывая стыда. А облачение в одежду после сексуального акта есть возвращение в прежнее обыденное состояние стыдливости.
Конвенциональная мораль имеет тенденцию к подавлению или регулированию таких аспектов сексуального общения, которые наиболее непосредственно связаны с инфантильными полиморфными сексуальными целями, и именно эти цели, являющиеся прототипами сексуальных перверсий, наиболее прямо выражают сексуальное возбуждение, эротическую близость и выход за рамки социальных условностей.
Мученичество Святой Агаты. Художник Себастьяно дель Пьомбо
Выход за рамки дозволенного включает нарушение эдиповых запретов, вызов эдипову сопернику (комплексу) и триумф над ним. Но это нарушение также распространяется на сам сексуальный объект и проявляется в соблазнительном поддразнивании и одновременно удерживании на расстоянии. Эротическое желание включает в себя ощущение того, что объект предлагает себя и в то же время отказывает, и сексуальное проникновение или поглощение объекта является насильственным нарушением чужих границ. В этом смысле нарушение запретов также включает агрессию, направленную на объект; агрессию, возбуждающую в своем удовлетворении, сплавленную со способностью ощущать удовольствие от боли и с проецированием этой способности на объект. Агрессия приносит удовольствие, поскольку она является элементом любовных отношений.
Экстатические и агрессивные черты попытки преодоления границ «Я» представляют собой сложный элемент эротического желания. Самые сильные переживания человек испытывает в минуты крушения границ между «Я» и другим. Это происходит в моменты глубочайшей регрессии в экстатической любви и под воздействием чрезвычайно сильной боли. Интимность, возникающая между мучителем и тем, кого он мучает, и продолжительный эффект этого психического опыта для обоих участников возникает из самого примитивного, обычно диссоциированного или вытесняемого ощущения слияния «абсолютно плохих» отношений между «Я» и объектом, представляющих собой другую сторону отщепленного «абсолютно хорошего» объекта на симбиотической стадии развития.
Эротическое желание преобразует генитальное возбуждение и оргазм в чувство слияния с другим, что обеспечивает неизъяснимое чувство осуществления желаний, преодоления ограничений «Я». Это слияние также способствует возникновению во время оргазма чувства единения с биологическими аспектами своего опыта. Вместе с тем, у объекта, которому другой причиняет боль и который идентифицирует себя с агрессором, одновременно ощущая себя жертвой, возникает чувство единения в боли, усиливающее ощущение слияния в любви.
Причинение боли другому и идентификация с его эротическим удовольствием от боли есть эротический садизм – противоположная сторона эротического мазохизма. Эротическое желание в этом смысле включает элемент подчинения, рабской покорности другому, так же как и чувство властелина судьбы другого. Степень, до которой это агрессивное слияние будет удерживаться любовью, регулируется «Супер-Эго», стоящим на страже любви, содержащей агрессию. И в наслаждении, и в боли совершается поиск интенсивных эмоциональных переживаний, стирающих на время границы Я и наполняющих жизнь особым смыслом, – переживаний выхода за пределы, что связывает чувства сексуального и религиозного экстаза, опыт свободы от запретов и ограничений будничного существования.
* * *
Идеализация тела другого объекта и объектов, символически его представляющих, является существенным аспектом эротического желания. Такая идеализация является защитой, представляющей собой отрицание анальной регрессии в перверсии и кастрационной тревоги.
У мужчин идеализация отдельных частей тела женщины может восходить к идеализации тела матери. Идеализация мужских частей тела первоначально в гораздо меньшей степени выражена у женщин, но эта способность развивается в контексте приносящих удовлетворение сексуальных отношений с мужчиной, который бессознательно представляет эдипова отца, вновь подтверждая красоту и ценность тела женщины, освобождая таким образом ее генитальную сексуальность от прежних инфантильных запретов.
Тело партнера становится «географией» личностных смыслов; так что фантазийные ранние полиморфные перверзные отношения к родительским объектам сгущаются в восхищение отдельными частями тела партнера и желание агрессивного вторжения в них. Эротическое желание основано на удовольствии бессознательного проигрывания полиморфных перверзных фантазий и действий, включая символическую активацию самых ранних объектных отношений младенца с матерью и маленького ребенка с обоими родителями.
Все это находит свое выражение в перверзных компонентах сексуальных отношений и игр – фелляции, куннилинге и анальном проникновении, а также в эксгибиционизме, вуайеризме и садистических сексуальных играх. Здесь связь между ранними отношениями детей обоих полов с матерью и чувством удовольствия от взаимопроникновения поверхностей тела, выпуклостей и полостей – наиболее очевидна. Физические ухаживания матери активизируют в ребенке эротическое знание о поверхности его собственного тела и, путем проекции, – эротическую осведомленность о поверхности тела матери. Любовь, получаемая в форме эротической стимуляции поверхности тела, стимулирует возникновение эротического желания как двигателя для проявлений любви и благодарности.
Женщина испытывает эротическое возбуждение от интимных частей тела любимого мужчины, и, что примечательно, когда любовь проходит, ее интерес и идеализация тела партнера также прекращаются. Соответственно, нарциссические мужчины, у которых наблюдается быстрый спад интереса к ранее идеализированным частям женского тела, способны поддерживать этот интерес, если – в результате психоаналитического лечения – у них будет скорректировано бессознательное нарушение интернализованных объектных отношений (обычно связанных с сильной завистью к женщинам).
Я полагаю, что у обоих полов, несмотря на разницу историй их сексуального развития, идеализация поверхности тела, являющейся ключевым аспектом возникновения эротического желания, является функцией примитивных интернализованных объектных отношений. И личный опыт любовных отношений человека символически вписывается в различные аспекты анатомии партнера.
Желание дразнить, чтобы тебя поддразнивали, является еще одним ключевым моментом эротического желания. Это желание не может быть полностью отделено от возбуждения, связанного со стремлением перешагнуть барьер, отделяющий дозволенное от запретного, которое переживается как греховное и аморальное. Сексуальный объект – бессознательно всегда запретный эдипов объект, а сексуальный акт – символическое повторение и преодоление первичной сцены (коитуса родителей). Но здесь я особо хочу подчеркнуть, что «убегание» самого объекта – это «дразнение», соединяющее в себе обещание и избегание, обольщение и фрустрацию. Обнаженное тело может служить сексуальным стимулом, но частично прикрытое тело возбуждает намного больше. Это объясняет то, почему заключительная часть стриптиз-шоу – полная нагота – быстро завершается уходом со сцены.
Сексуальное «дразнение» обычно, хотя и необязательно, связано с эксгибиционизмом и демонстрирует тесную связь между эксгибиционизмом и садизмом: желание возбуждать и фрустрировать значимого Другого. Вуайеризм – наиболее простой ответ на эксгибиционистское «дразнение»; он проявляется в садистском проникновении в объект, который не дает себя. Как и другие перверсии, эксгибиционизм – типичное сексуальное отклонение у мужчин; однако эксгибиционистское поведение гораздо чаще вплетается в стиль поведения женщин. Эксгибиционизм может быть способом сексуального утверждения на расстоянии.
Проявление женской сексуальности – и эксгибиционистское, и отвергающее, то есть дразнящее, – является мощным стимулом, вызывающим эротическое желание у мужчин. «Дразнение» мужчины провоцирует у него агрессию, мотив для агрессивного вторжения в женское тело; это источник аспекта вуайеризма в сексуальных отношениях, заключающий в себе желание доминировать, разоблачать, бороться, преодолевать барьеры истинного и ложного стыда в любимой женщине. Преодоление стыда – не то же самое, что унижение; желание унизить обычно включает третью сторону, свидетеля унижения, и подразумевает большую степень агрессии, способной стать причиной разрыва отношений с данным сексуальным объектом.
Вуайеристическое побуждение подсматривать за парой во время сексуального акта – символическое выражение желания насильственно прервать первичную сцену – является концентрацией желания проникнуть за завесу глубоко личного и тайного эдиповой пары и отомстить дразнящей матери. Вуайеризм – очень важный компонент сексуального возбуждения в том смысле, что любая сексуальная интимность включает элемент личного и тайного и, как таковая, является идентификацией с эдиповой парой и потенциальным триумфом над ней. Многие пары способны получать удовольствие от секса только в уединенном месте, вдали от собственного дома и от детей, что демонстрирует запрет этого аспекта сексуальной близости.
* * *
Это подводит нас к еще одной стороне эротического желания – к колебанию между стремлением к тайне, интимности и неповторимости в отношениях, с одной стороны, и желанием отказаться от сексуальной близости и внезапно оборвать контакт – с другой. Существует сложившееся мнение о том, что именно женщина хочет сохранить близость и «единственность» отношений, а мужчина желает поскорее вырваться после сексуального удовлетворения. Клинические данные свидетельствуют о противоположном: у многих мужчин стремление к близости разбивается о барьер ощущения, что эмоционально жена целиком принадлежит ребенку, а многие женщины жалуются на неспособность мужа поддерживать в них сексуальный интерес.
Эротическое желание и зрелая сексуальная любовь вбирают в себя и представляют собой все аспекты обычной амбивалентности в интимных объектных отношениях. Интенсивность чувств любящих, нежность, полиморфные перверсии, особенно садомазохистские – все эти аспекты сексуальных отношений являются отражением данной амбивалентности и составляют основной стержень любовных отношений.
Но в наиболее специфическом виде эта амбивалентность проявляется в том, что я называю простым и перевернутым треугольником сексуальных отношений, – в бессознательных и сознательных фантазиях, сопровождающих эротическое желание и коитус. Желание быть уникальным, предпочитаемым, одержавшим победу, единственным и исключительным объектом любви сексуального партнера (что актуализирует победу над эдиповым соперником в каждом сексуальном акте) является составляющей частью другого желания – быть одновременно с двумя партнерами противоположного пола – как месть фрустрирующему, дразнящему, отказывающему эдипову родителю.
В этой эдиповой динамике примитивные предвестники глубокой амбивалентности по отношению к матери и элиминации отца привносят угрозу слияния в агрессии с разрушением объекта любви, пугающую обратную сторону идиллического мира экстатического слияния с идеализированной примитивной матерью.
Страсть в сфере сексуальной любви – это, на мой взгляд, эмоциональное состояние, выражающее нарушение границ. Наиболее серьезными границами, нарушающимися в сексуальной страсти, являются границы «Я».
Центральной динамической характеристикой сексуальной страсти и ее кульминацией является переживание оргазма при коитусе. При переживании оргазма нарастающее сексуальное возбуждение достигает вершины в автоматическом, биологически детерминированном отклике, сопровождающемся примитивным экстатическим аффектом, требующим для своего полного воплощения временно отказаться от границ «Я» – расширить границы «Я» до ощущения субъективно диффузных биологических основ существования.
При страстной любви оргазм интегрирует одновременный выход за границы «Я» в ощущение биологического функционирования вне контроля «Я», с нарушением границ в сложной идентификации с любимым объектом при сохранении чувства отдельной идентичности. Разделенное переживание оргазма в дополнение к временной идентификации с сексуальным партнером включает выход за пределы переживания «Я» к переживанию опыта фантазийного союза эдиповых родителей, а также преодоление повторения эдиповых отношений и отказ от них в новых объектных отношениях, которые подтверждают отдельную идентичность человека и автономию.
В сексуальной страсти нарушаются временные границы «Я», и прошлый мир объектных отношений переходит в новый, лично созданный. Оргазм как часть сексуальной страсти может также символически выражать опыт умирания, сохранения осознавания себя во время того, как тебя устремляет в пассивное приятие нейровегетативной последовательности, включая возбуждение, экстаз и разрядку.
Но приятие опыта слияния с другим является также бессознательным повторением насильственного проникновения в опасную внутренность тела другого (тела матери) – то есть в мистическую область примитивно спроецированной агрессии. Таким образом, слияние представляет собой рискованное мероприятие, которое предполагает превалирование доверия над недоверием и страхом, всецелое вверение себя другому в поиске экстатического слияния, что всегда пугает неизвестностью (слияние и в агрессии).
Следовательно, сексуальная страсть подразумевает бесстрашное предоставление всего себя желаемому соединению с идеальным другим перед лицом неизбежной опасности. А это означает приятие риска полного отказа от себя во взаимоотношениях с другим, в противоположность опасностям, исходящим из многих источников и пугающим при соединении с другим человеком…
Мечта садиста. Художник Отто Дикс
Психотические идентификации с растворением границ «Я» и объекта, служат помехой способности к страсти. Но поскольку переживание состояния выхода за границы «Я» скрывает в себе опасность потерять себя или столкнуться с пугающей агрессией, в психотическом слиянии страсть связывается со страхом агрессии. В случае если существует сильная агрессия с расщеплением между идеализированными и преследующими объектными отношениями, в примитивной идеализации у пациентов с пограничной личностной организацией, такая страстная любовь может внезапно обратиться в такую же страстную ненависть.
Отсутствие интеграции «абсолютно хороших» и «абсолютно плохих» интернализованных объектных отношений усиливает внезапные и драматичные изменения в отношениях пары. Переживание отвергнутого любовника, который убивает предавший его любимый объект, своего соперника, а затем и себя, указывает на взаимоотношения между страстной любовью, механизмами расщепления, примитивной идеализацией и ненавистью.
* * *
Существует завораживающее противоречие в комбинации этих важнейших черт сексуальной любви: четкие границы «Я» и постоянное осознание несоединимости индивидуумов, с одной стороны, и чувство выхода за границы «Я», слияния в единое целое с любимым человеком – с другой. Отделенность ведет к чувству одиночества, стремлению к любимому и страху хрупкости всяческих отношений; выход за границы «Я» в единении с другим вызывает ощущение единства с миром, постоянства и творения нового. Можно сказать, что одиночество есть необходимое условие для выхода за границы «Я».
Оставаться в пределах границ «Я», в то же время преодолевая их с помощью идентификации с объектом любви, – это волнующее, трогательное и связанное с горечью и болью состояние любви. Мексиканский поэт Октавио Паз описал эту сторону любви с необыкновенной выразительностью, заметив, что любовь – это точка пересечения между желанием и реальностью. Любовь, говорит он, открывает реальность желанию и создает переход от эротического объекта к любимому человеку. Это открытие почти всегда болезненно, поскольку любимый(ая) представляет собой одновременно и тело, в которое можно проникнуть, и сознание, в которое проникнуть невозможно. Любовь – это открытие свободы другого человека. Противоречие самой природы любви в том, что желание стремится к осуществлению с помощью разрушения желанного объекта, и любовь обнаруживает, что этот объект невозможно разрушить и невозможно заменить.
Преодоление границы себя в сексуальной страсти и интеграция любви и агрессии, гомосексуальности и гетеросексуальности во внутренних отношениях с любимым человеком выразительно проиллюстрированы в книге Томаса Манна «Волшебная гора» (1924). Освободившись от своего рационального и зрелого «наставника» Сеттембрини, Ганс Касторп объясняется в любви Клаудии Шоша. Он делает это на французском языке, который звучит очень интимно в соседстве с немецким языком всего произведения. Возбужденный и одухотворенный теплым, хотя и немного ироничным ответом мадам Шоша, он рассказывает ей о том, что всегда любил ее, и намекает на свои прошлые гомосексуальные отношения с другом юности, который похож на нее и у которого он однажды попросил карандаш, так же как несколько раньше он попросил его у мадам Шоша. Он говорит ей, что любовь – ничто, если нет сумасшествия, чего-то безрассудного, запретного и рискованного; что тело, любовь и смерть – одно целое. Он говорит о чуде органической жизни и физической красоты, которое складывается из жизни и гниения.
Сексуальное возбуждение и оргазм также теряют свои функции преодоления границ и становятся биологическими явлениями, когда механическое повторяющееся сексуальное возбуждение и оргазм встраиваются в структуру опыта, отделенную от углубляющихся интернализованных объектных отношений. Именно в этой точке сексуальное возбуждение дифференцируется от эротического желания и сексуальной страсти, порождая мастурбацию.
Чаще мастурбация выражает объектные отношения – как правило, различные аспекты эдиповых отношений, начиная с самого раннего детства. Но мастурбация как компульсивная повторяющаяся деятельность, возникающая как защита от запрещенных сексуальных импульсов и других бессознательных конфликтов в контексте регрессивной диссоциации от конфликтных объектных отношений, в конце концов, утрачивает функцию преодоления границ. Я предполагаю, что это не бесконечное, компульсивно повторяемое удовлетворение инстинктивных желаний, вызывающее разрядку возбуждения и доставляющее удовольствие, а потеря критической функции преодоления границ Я-объекта, служащей гарантией нормальной нагруженности объектных отношений. Другими словами, именно мир интернализованных и внешних объектных отношений поддерживает сексуальность и предоставляет потенциал для возможности продолжительного получения удовольствия.
Интеграция любви и ненависти в Я– и объект-репрезентациях, трансформация частичных объектных отношений в целостные (или константность объекта) – основные условия для способности к установлению стабильных объектных отношений. Это необходимо для преодоления границ стабильной идентичности «Я» и перехода в идентификацию с любимым объектом.
Но установление глубоких объектных отношений высвобождает также примитивную агрессию в отношениях в контексте реципрокной активизации у обоих партнеров подавленных или отщепленных с младенчества и детства патогенных объектных отношений. Чем более патологичны и деструктивны подавленные или расщепленные объектные отношения, тем более примитивны соответствующие защитные механизмы. Так, в частности, проективная идентификация может вызвать у партнера переживание или реакции, воспроизводящие пугающие объект-репрезентации; идеализированные и обесцененные, оплаканные и преследующие.
Объект-репрезентации накладываются на восприятие и взаимодействие с любимым объектом и могут угрожать отношениям, но также и усиливать их. По мере того, как партнеры начинают лучше понимать последствия нарушений в своем восприятии и поведении по отношению друг к другу, они начинают мучительно осознавать обоюдную агрессию, но при этом не обязательно могут исправить сложившиеся межличностные модели поведения. Таким образом, неосознанные связи во взаимоотношениях пары также могут нести в себе скрытую угрозу и приводят к конфликтам.
Конфликты во взаимоотношениях пары проявляются не только в бессознательной зависти, обесценивании, избалованности и изолированности, но также в бессознательном желании дополнить себя любимым партнером, относясь к нему как к воображаемому двойнику. Бессознательный выбор объекта любви можно описать как гомосексуальное и/или гетеросексуальное дополнение себя самого: гомосексуальное дополнение в том смысле, что отношение к гетеросексуальному партнеру строится как отношение к зеркальному образу «Я». И любая сторона в партнере, не вписывающаяся в эту дополняющую схему, не принимается. Если подобное неприятие включает сексуальный аспект партнера, это может привести к жесткому сексуальному сдерживанию.
За такой нетерпимостью к чужой сексуальности скрывается нарциссическая зависть к другому полу. В противоположность этому, если избирается гетеросексуальный двойник, бессознательная фантазия завершенности как объединения двух полов в один может способствовать укреплению отношений. В бессознательных фантазиях нарциссические личности представляют себя двуполыми.
Бессознательно проигрываемые перспективные сценарии могут запускать фантазии, в которых исполняются желания, включающие чувство бессознательной вины, отчаянный поиск выхода из ужасных, бесконечно повторяющихся травматических ситуаций и случайное вмешательство цепной реакции, разрушающей самый ход сценария.
* * *
Перевернутые треугольники, о которых я уже упоминал, составляют наиболее типичные бессознательные сценарии, которые могут привести к распаду пары. Перевернутый треугольник обозначает компенсирующие мстительные фантазии по отношению к какому-то другому человеку, но не своему партнеру, а идеализируемому представителю другого пола, символизирующему желаемый Эдипов объект, и установление, таким образом, «треугольных» отношений, в которых субъект соблазняется двумя представителями другого пола, вместо того чтобы покончить с Эдиповым соперником того же пола за идеализируемый Эдипов объект другого пола.
Я полагаю, что, учитывая эти две универсальные фантазии, потенциально в фантазии существует шесть человек в одной постели: собственно пара, их соответствующие бессознательные эдиповы соперники и их соответствующие бессознательные эдиповы идеалы. Если эта фраза напомнит фрейдовский ответ Фляйсу: «Я приучил себя к мысли, что в каждом сексуальном акте принимают участие четыре человека», то следует заметить, что его комментарий был сделан в дискуссии о бисексуальности. Моя формулировка возникает в контексте бессознательных фантазий, основанных на эдиповых объектных отношениях и идентификациях.
Одной из форм, которую может принимать агрессия, связанная с эдиповыми конфликтами, является бессознательное молчаливое согласие обоих партнеров о поиске реального третьего, представляющего собой сгущенный идеал одного и соперника другого. Дело в том, что супружеская неверность – кратковременные и продолжительные отношения любовного треугольника – чаще является бессознательным согласием пары, искушаемой воплотить свои наиболее глубокие стремления.
В картину вклинивается гомосексуальная и гетеросексуальная динамика, поскольку бессознательный соперник является также сексуально желаемым объектом в негативном эдиповом конфликте: часто происходит бессознательная идентификация жертвы измены с партнером-изменником в сексуальных фантазиях об отношениях партнера с ненавидимым конкурентом. Если тяжелая нарциссическая патология в одном или обоих членах пары препятствует выражению нормальной ревности – способности, подразумевающей некоторую долю терпимости по отношению к эдипову сопернику, – такие треугольники легко воплощаются.
На извечные вопросы «Чего хочет женщина?» и «Чего хочет мужчина?» можно ответить, что мужчины хотят видеть женщину одновременно в нескольких ролях: в качестве матери, маленькой девочки, сестры-близнеца и взрослой сексуальной женщины. Женщины, в силу неизбежности смены первичного объекта, хотят, чтобы мужчина совмещал отцовскую и материнскую роли, и желают видеть в нем отца, маленького мальчика, брата-близнеца и взрослого сексуального мужчину.
На различных стадиях, как у мужчин, так и у женщин может возникнуть желание поиграть в гомосексуальные отношения или поменяться сексуальными ролями в попытках преодолеть границы между полами, неизбежно ограничивающие нарциссическое удовлетворение в сексуальной интимности – страстное стремление к полному слиянию объекта любви с эдиповыми и доэдиповыми элементами, которое никогда не может воплотиться.
По существу, ощущение границ между полами может быть преодолено только с помощью символического разрушения Другого как человека, что позволяет использовать его или ее половые органы как механические инструменты, без эмоциональной включенности. Садист-убийца – крайнее, но логическое выражение попытки проникнуть в другого человека, до самой сути его или ее существования, и стереть все ощущения исключенности из этой сути.
* * *
Сексуальные перверсии могут быть проиллюстрированы в обстоятельствах, типичных для пар, которые долгое время занимались групповым сексом. При долгом участии (от 6 месяцев до 1 года) в такой полиморфной перверзивной деятельности их способность к сексуальной близости (и, по этой же причине, всякая близость) прекращается. При таких обстоятельствах эдипова структура может быть разрушена.
Это в значительной степени отличается от стабилизирующего воздействия на пары реальных отношений любовного треугольника. Достигается равновесие, позволяющее действовать неинтегрированной агрессии с помощью отщепления любви от агрессии в отношениях с двумя объектами. Преобладание бессознательного чувства вины над эдиповым триумфом достигается установлением любовных отношений, более чем далеких от удовлетворительных.
В эмоциональном взаимодействии пары могут наблюдаться соответствующие перверсии при длительных садомазохистских отношениях, когда один из партнеров выполняет функции жестокого Супер-Эго и удовлетворяет садистские наклонности, самодовольно унижая другого, в то время как партнер мазохистски искупает свою вину, берущую начало в эдиповых, а чаще всего в доэдиповых конфликтах.
Такое перверзивное равновесие может не включать разрешенное Супер-Эго выражение агрессии, а являться воплощением более примитивных садомазохистских сценариев с угрожающими жизни формами агрессии и примитивной идеализации сильного и жестокого объекта без каких бы то ни было моральных установок. Один партнер, к примеру, может согласиться на стерилизацию или даже на реальное истязание или самоистязание в качестве аналога символической кастрации. Примитивные диссоциативные механизмы могут сдерживать перверсии в рамках стабильного равновесия пары, которой удается достичь чрезвычайной близости при доминирующей роли агрессии.
Активация диссоциативных примитивных объектных отношений во взаимодействии партнеров может создавать замкнутые реакции, приобретающие фиксированное качество, которого может и не быть при обычном разрыве отношений пары. Например, вспышки ярости одного из партнеров могут спровоцировать справедливое негодование и идентификацию с примитивными функциями Супер-Эго. Это приводит к мазохистскому подчинению, провоцирующему его или ее партнера, превращаясь в новый всплеск ярости или моментальное усиление ярости в качестве вторичного механизма защиты от бессознательной вины. Эти реакции могут усиливаться до тех пор, пока такие диссоциативные примитивные объектные отношения не приобретут повторяющийся характер.
Еще одним видом перверсии является фиксация отношений на одном паттерне бессознательных комплементарных объектных отношений прошлого. Обычно прошлые взаимоотношения взаимодействуют с реальными отношениями. Иллюстрацией типичной гибкости взаимодействия партнеров может служить неосознанная смена мужем роли сексуального и возбуждающего лидера, который символически воплощает любящего и понимающего отца, на роль ребенка, получающего удовольствие от кормления матерью, символически представленной женщиной, подарившей ему свой оргазм. В дальнейшем он может превратиться в ребенка, нуждающегося в матери, кормящей его, укладывающей в постель, но может быстро сменить эту роль на роль отца, заботящегося о дочери, чинящего разбитую лампу, которую она не может (или делает вид, что не может) починить.
Жена также может изменить свою роль взрослого сексуального партнера на роль дочери, о которой заботится мать, или на роль матери, кормящей мальчика-мужчину. Она также может превратиться в маленькую виноватую девочку, соблазненную садистическим отцом, или представить себе во время полового акта, что ее «насилуют», подтверждая, таким образом, отсутствие вины за получение сексуального удовольствия; или стыдливо выставлять себя напоказ, искупая, таким образом, сексуальное удовольствие, получаемое от того, что любящий мужчина восхищается ею.
Или мужчина может сменить роль виноватого маленького мальчика, распекаемого строгой матерью, на ревнивого маленького мальчика, подглядывающего за тайными занятиями взрослых женщин. Или он может испытывать чувство обиды по отношению к женщине, полностью посвятившей себя своей профессии или воспитанию их общего ребенка; при этом он испытывает чувство отверженного ребенка – противоположность скрытому женскому чувству обиды по отношению к профессиональным успехам мужа, воспроизводящему раннюю зависть к мужчинам.
Проигрывание этих и других ролей может быть взаимоприемлемым, поскольку они одновременно включают любовь и ненависть, то есть интеграцию агрессии в рамках любовных отношений. Но эти скрытые роли могут разрушиться, а агрессия может проявиться в бессознательной «фиксации» себя и сексуального партнера на определенных ролях, что приводит к типичным случаям постоянных супружеских конфликтов: зависимая, цепляющаяся, ищущая любви женщина и нарциссический, безразличный, эгоцентричный мужчина; властная, сильная женщина, желающая видеть своим партнером взрослого мужчину и испытывающая фрустрацию из-за его роли ненадежного, инфантильного мальчика-мужчины, неспособного осознать застывший характер их отношений. Или «голодный» мужчина, неспособный понять ограниченный сексуальный интерес своей жены. Ну и, конечно, виновник и обвинитель во всех возможных вариациях…
* * *
Мазохизм, как мы видели, является ключевым аспектом сексуального возбуждения, в основе которого лежит потенциально эротическая реакция на переживание дискретной физической боли и символическое превращение этой способности (то есть трансформации боли в сексуальное возбуждение) в способность растворять, или интегрировать, ненависть в любви.
В оптимальных обстоятельствах связанные с болью аспекты эротического возбуждения трансформируются в удовольствие, усиливая сексуальное возбуждение и ощущение близости с эротическим объектом. Интернализация эротического объекта, объекта желания, включает также и требования, предъявляемые этим объектам как условия сохранения любви. Основная бессознательная фантазия может быть выражена следующим образом: «Ты причиняешь мне боль – это часть твоего ответа на мое желание. Я принимаю боль как часть твоей любви – она скрепляет нашу близость. Испытывая наслаждение от причиненной тобой боли, я уподобляюсь тебе».
Требования со стороны объекта также могут быть трансформированы в неосознаваемый моральный кодекс, находящий выражение в базисной бессознательной фантазии, которая может быть выражена примерно так: «Я принимаю твое наказание – оно должно быть справедливо уже потому, что исходит от тебя. Я заслуживаю его тем, что удерживаю твою любовь, и в страдании я сохраню тебя и твою любовь».
Агрессивные импликации боли (агрессия, исходящая от желаемого объекта или приписываемая ему, и гневная реакция на боль), таким образом, переплетены или сплавлены с любовью как неотъемлемая часть эротического возбуждения и как часть «моральной защиты».
В качестве иллюстрации может быть рассмотрен случай одной сорокалетней женщины с депрессивно-мазохистической личностной структурой. В процессе психоанализа она после многих лет брака сумела избавиться от неспособности достигать оргазма со своим мужем. На одной из сессий у пациентки появилась фантазия: она приходит на сессию, полностью раздевается, а я так впечатлен ее грудью и гениталиями, что становлюсь полным рабом ее желаний, сексуально возбуждаюсь, и у нас происходит половой акт. И тогда она, в свою очередь, готова стать моей рабыней, пренебречь всеми своими обязательствами и следовать за мной.
Единственная дочь строгой матери, нетерпимой к любым проявлениям сексуальности, и сердечно относившегося к ней, но в то же время дистанцированного отца, который подолгу не бывал дома, она мгновенно осознала связь между своим желанием сексуальных отношений со мной и своим бунтом против матери, выраженным в желании отобрать у нее отца. Делая меня рабом, она одновременно удовлетворяла свое желание полного принятия мною ее гениталий и ее сексуальности и наказывала меня за предпочтение других женщин (ее матери). Предлагая себя в качестве рабыни, она искупала свою вину.
Кроме того, пациентка переживала отыгрывание фантазии рабства как возбуждающее выражение агрессии, при котором она могла не опасаться ее блокирующего эффекта в отношении сексуального удовольствия. Напротив, она знала, что эта агрессия усилит удовлетворенность полной близости и слияния благодаря дихотомии позиций раб-хозяин.
После этой сессии она впервые в жизни попросила своего мужа в процессе сексуального акта сильно сдавить ей соски; он сделал это, придя в сильное сексуальное возбуждение, и в свою очередь позволил ей расцарапать ему спину до крови, и они впервые вместе пережили мощный оргазм.
Когда мы анализировали этот опыт, у пациентки возникла фантазия о муже как о голодном, фрустрированном младенце, кусающем груди своей матери, и о себе как о могущественной, понимающей, дающей матери, которая в состоянии удовлетворить его нужды, терпя его агрессию. Одновременно она ощущала себя сексуальной женщиной, находящейся в отношениях с мужем-младенцем, – который, таким образом, отнюдь не является грозным отцом, – а также мстящей отцу, покинувшему ее, и мужу, причинившему ей боль, заставляя последнего, в свою очередь, истекать кровью.
И пациентка чувствовала: когда она царапает и одновременно крепко обнимает мужа, их слияние усиливается, так же как усиливается ее ощущение возможности своего участия в его оргазме, а его – в своем оргазме.
* * *
Слиянию с объектом желания, однако, способствует не только сильное эротическое возбуждение и любовь, но также интенсивная боль и ненависть. Когда взаимодействие с матерью носит хронически агрессивный – насильственный, фрустрирующий, провоцирующий характер, интенсивная физическая или психическая боль младенца не может быть интегрирована в нормальную эротическую реакцию или, хотя и садистические, но защищающие и внушающие доверие предшественники Супер-Эго, и потому эта боль непосредственно трансформируется в агрессию.
В экстремальных случаях чрезмерная агрессия находит выражение в примитивной аутодеструктивности. Тяжелые заболевания в раннем возрасте, сопровождающиеся продолжительной болью, физическое или сексуальное насилие, хронически травмирующие и хаотические отношения с родительским объектом – все это может вести к тяжелой деструктивности и аутодеструктивности, порождающей синдром злокачественного нарциссизма. Этот синдром характеризуется патологически грандиозным «Я», пропитанным агрессией, обусловленной слиянием «Я» с садистическим объектом. Соответствующая фантазия может быть описана следующим образом: «Я – наедине с моими страхом, яростью и болью. Становясь единым целым со своим мучителем, я могу защитить себя путем разрушения себя или своего самосознавания. Теперь мне уже не нужно бояться боли или смерти: причиняя их себе или другим, я приобретаю превосходство над всеми остальными, навлекающими на себя эти беды или страшащимися их».
В менее экстремальных случаях садистический объект может быть интернализован в целостное, однако садистическое Супер-Эго, слияние с которым отражается в морально оправдываемом желании разрушить себя. Эта ситуация может приводить к иллюзорному убеждению в собственной «плохости», характерному для психотической депрессии, к стремлению уничтожить фантазийное плохое «Я» и неосознаваемой фантазии воссоединения с любимым объектом посредством самопожертвования. При еще менее тяжелых обстоятельствах мазохистические страдания могут создавать ощущение нравственного превосходства; тип пациентов, который можно назвать «копилкой несправедливостей», репрезентирует это более умеренное компромиссное образование морального мазохизма.
Не только Супер-Эго впитывает агрессию в форме интернализации наказующего, но все-таки нужного объекта желаний: эротический мазохизм также может «контейнировать» агрессию, причем не в обычных садо-мазохистических аспектах сексуального возбуждения, а в своеобразии сексуального возбуждения, связанного с полным подчинением объекту желания и стремлением быть униженным этим объектом.
Мазохизм как ограничительная, жертвенная сексуальная практика трансформирует, таким образом, обычную полиморфную перверзивную инфантильную сексуальность в «парафилию», или перверсию в строгом смысле этого слова. К тому же в этом случае мазохизм, интернализируя садистический объект, способствует ограждению психического развития от генерализованного насыщения Супер-Эго агрессией. Похоже, что эти два вида психической организации формируются отдельно друг от друга в случаях, когда физическое или сексуальное злоупотребление или насилие было относительно ограниченным, или при инцесте, имевшем место в контексте других, сравнительно нормальных объектных отношений, или когда наказание само по себе носило эротическую окраску при избиении и подобных взаимодействиях.
Ранняя сексуальная перверсия может впоследствии быть усилена защитами от кастрационной тревоги и бессознательного чувства вины, проистекающих из более поздних эдиповых конфликтов, и, в конечном счете, «контейнировать» эти конфликты. Однако господство жесткого, но хорошо интегрированного Супер-Эго, интернализирующего репрессивную сексуальную мораль, может способствовать трансформации раннего сексуального мазохизма в моральный мазохизм, на символическом уровне преобразуя сексуальную боль, подчинение и унижение в психическое страдание, подчинение Супер-Эго и реагирование бессознательного чувства вины в унижении или самоуничижительном поведении.
* * *
Между мужчинами и женщинами существуют как сходство, так и отличия в сексуальных мазохистских фантазиях и проявлениях. Необходимым условием оргазма у мужчины являются фантазии и сексуальная активность, отражающие стремление к тому, чтобы быть подчиняемым, поддразниваемым, возбуждаемым, принуждаемым к повиновению могущественной жестокой женщиной. У женщины фантазии и активность связаны с унижением в результате демонстрации себя другим и изнасилования сильным, опасным, незнакомым мужчиной.
Мужской мазохизм обычно сопряжен с большей болью и страданием и с большим акцентом на унижении, неверности сексуального партнера, участии публики и трансвестизме. В противоположность этому, женский мазохизм чаще связан с болью менее сильной, с наказанием в контексте интимных отношений, сексуальных проявлений как унижения и с пассивными зрителями. Мужской мазохизм обычно достигает кульминации в оргазме вне генитального акта, в то время как женский мазохизм обычно получает кульминацию в генитальном сексе, хотя не обязательно завершается оргазмом.
У женщины с мазохистической направленностью проявления сексуальных страхов и запретов могут чередоваться с импульсивными сексуальными контактами при неприятных или даже опасных обстоятельствах. Мазохистические женщины с хорошо интегрированными функциями Супер-Эго в начале своей сексуальной жизни могут испытывать некоторую сексуальную скованность, а затем, порой случайно, им доводится пережить в сексуальном взаимодействии опыт, связанный с особенной болезненностью, унизительностью или подчиненностью, вокруг которого и формируется сексуальная перверсия.
Например, когда во время сексуального акта одной пациентки ее любовник, игриво демонстрируя ей свое доминирование, так сильно вывернул ее руку, что боль стала невыносимой, она впервые испытала оргазм при сексуальном акте. Этот опыт положил начало паттерну мазохистических сексуальных отношений: для максимального возбуждения и оргазма ее руки должны были быть скручены за спиной.
Дамские романы, эти ориентированные на женщин продукты массовой культуры (столь не похожие на стандартные порнографические романы для мужчин), обычно повествуют об отношениях неопытной молодой женщины со знаменитым, неприступным, непостоянным, привлекательным, но опасным или угрожающим мужчиной, зачастую пользующимся дурной славой. Вопреки всему, после многочисленных разочарований и неудач, после опасностей соперничества с другими, могущественными женщинами, героиня, в конце концов, оказывается в объятиях этого великого мужчины (чьи положительные качества к тому моменту восстановлены в правах) и теряет сознание на его руках.
Типично мужские фантазии и переживания ранней юности типа «мадонна-проститутка» под влиянием мазохистической психопатологии непомерно разрастаются. Обычно «невозможная любовь» включает в себя крайнюю идеализацию любимой женщины – доступной или недоступной, и связанный с этим запрет препятствует установлению отношений, в то время как сексуальная активность мужчины ограничена мастурбационными фантазиями отношений или самими сексуальными отношениями с обесцененными женщинами, которые могут включать черты садизма, но при этом переживаются как фрустрирующие, постыдные или унизительные. Идеализация сопровождается скованностью, недостатком напора, бессознательной тенденцией оставлять поле боя сопернику или провоцировать обстоятельства, заранее гарантирующие неуспех.
Как у женщин, так и у мужчин безответное чувство усиливает любовь, вместо того что бы ослаблять ее, как положено при нормальной печали. У мазохистических мужчин и женщин годами можно наблюдать обыкновение влюбляться в «невозможных» людей, чрезмерно подчиняться идеализированному партнеру и именно этой подчиненностью бессознательно подрывать отношения.
Мазохизм – моральный и сексуальный
(из статьи М. де М`Юзана «Перверзный мазохизм и вопрос количества», перевод с английского А. Марина)
Ранее я уже писал о перверзном мазохизме. И однажды я наткнулся на исключительный случай, сущностные «клинические» аспекты которого я здесь и намерен описать. Этот случай имел место несколько десятилетий назад. Ко мне как к врачу обратился мужчина, переживший приступ кровохарканья. И хотя подобных случаев далее не повторялось, все же требовалась тщательная проверка, поскольку ранее клиент перенес туберкулез.
Моя коллега провела полную проверку физического состояния пациента. Наверное, она «упала со стула», поскольку то, что она обнаружила, превзошло все ожидания. Она перенаправила его в мое отделение госпиталя, поскольку предположила, что я заинтересуюсь этим случаем. Она также решила, что и самому пациенту будет интересна такая встреча: хотя его перверзные практики к тому времени остались в прошлом, своим поведением пациент представлял из себя загадку. Этот пациент, очень интеллигентный мужчина, был высококвалифицированным рабочим, специализировавшимся в области электроники. К тому времени, когда он согласился встретиться со мной, он уже вышел на пенсию, но надеялся, что эта встреча позволит ему лучше понять свой перверзный мазохизм, доминировавший в его жизни столь долгое время. И хотя он читал много литературы по этой теме, но не смог найти ничего, что бы убедило его.
Субъект, которого мы назовем М. (от Maso), как он сам себя представил, легко шел на контакт, поскольку сохранял активность и исключительную работоспособность – как результат его высокой квалификации, что подтверждало предположение о том, что в обычной жизни (вне сферы перверсии) он не проявлял никакого морального мазохизма. Но тело его говорило об обратном. Его можно было читать как текст, написанный столь красноречиво, что доктор, направивший его ко мне, смог упомянуть все традиционные концепции эротогенного мазохизма.
Начать следует с татуировок, покрывавших практически все его тело за исключением лица. На спине можно было прочитать «В ожидании петушков», а ниже – буквальная надпись, сопровождаемая стрелкой «Вход для клевых штучек». На фронтальной стороне тела, в добавление к пенису, покрытому татуировками со всех сторон, был размещен целый список: «Я – сука»; «Я – дырка в заднице»; «Да здравствует мазохизм!»; «Я – ни мужчина и ни женщина, а сука, шлюха, кусок мяса для удовольствия»; «Я – живой кусок дерьма»; «Ссы и сри в мой рот, я все это проглочу с удовольствием»; «Мне нравится, когда меня всего бьют, избей меня посильнее»; «Я – сука, трахни меня в задницу»; «Я – шлюха, изнасилуй меня как бабу»; «Я – король дырок от задницы, мой рот и моя жопа открыты для крутых членов».
Шрамы и следы побоев были не менее впечатляющи. Правая половина груди буквально исчезла: она была сожжена каленым железом, проколота иглами и покрыта разрезами. Пуп был превращен в подобие воронки, куда залили расплавленный свинец, капли которого оставили после себя жуткие следы ошпаренной кожи темно-красного цвета. Спина была исполосована следами от крюков, на которых мистер М. был подвешен в то время как другой человек мучил его. Маленький палец правой ступни отсутствовал: он был ампутирован самим пациентом при помощи железной пилы по приказу партнера. Поверхность костей была неровной и местами напоминала терку. Все, что было можно, было проткнуто иглами, даже грудная клетка. Ректальная область была увеличена – «чтобы напоминать вагину». Во время этой операции велась фотосъемка.
После этих издевательств не происходило никакого нагноения – даже когда в тело вживлялись чужеродные объекты: иглы, шурупы, куски стекла и т. п. Более того, годы систематического почти ежедневного поглощения мочи и экскрементов не возымели никакого болезнетворного эффекта. При опросе М. врачом клиники пациент показал ей различные инструменты, применявшиеся для пыток: планка, утыканная сотнями гвоздей; небольшое колесо с иголками, закрепленное на рукоятке – для того, чтобы проводить иглами по телу.
Но более всего пострадали гениталии. Несколько тонких иголок были, как показало рентгеновское исследование, загнаны в тестикулы. Пенис был весь синий – вероятно, вследствие заталкивания его во флакон с чернилами Индиго. Головка пениса была располосована бритвенным лезвием (вероятно, для того, чтобы сделать отверстие больше). На конце пениса постоянно носилось стальное кольцо диаметром в несколько сантиметров, для чего в крайней плоти был устроен специальный подсумок из впрыснутого под кожу парафина и воска. В саму головку пениса были вставлены магнитные стрелки. Это было, насколько я понял, некоей формой черного юмора, поскольку пенис, возбудившись, был способен изменить направление стрелок. Второе, съемное кольцо было закреплено вокруг мошонки и в основании пениса.
Все, что я здесь столь детально описал, было документально зафиксировано. Знаки издевательств недвусмысленно подтверждали истинность того, что человек заявлял о себе сам. Все это привело к тому, что я (вероятно, в качестве некоторых защитных приемов – со своей стороны) не мог избежать сомнений в истинности определенных выводов, касающихся агрессии и того, что он сообщал о своей жене, которая являлась его двоюродной сестрой и которая, как он позже выяснил, также была мазохисткой. И хотя она в сравнительно молодом возрасте умерла от туберкулеза легких, она также похожим образом питала слабость к самым непредставимым мазохистическим практикам и принимала участие в самых разных экспериментах, включая участие третьего человека, исполнявшего роль садиста.
* * *
Опираясь на случай с М. (Maso), я бы хотел уделить некоторое внимание разнице между перверзным мазохизмом, феминным мазохизмом и моральным мазохизмом. Фрейд, полагая перверзный мазохизм основой двух последующих, имплицитно опирается на роль биологических факторов. Пытки, то есть физическое страдание – это средство, способ достижения оргазмического взрыва, который становится сильнее, когда пытки достигают своего апогея. Отличительным качеством изложенного случая является способность субъекта наслаждаться моментом, так сказать, «нормальной» сексуальности – особенно в начале его брака.
Второй тип мазохизма, так называемый феминный мазохизм (не имеющий, кстати сказать, ничего общего с мазохизмом женщин, поскольку присущ также в равной степени и мужчинам) определяется как потребность представить себе в фантазиях некие практики, схожие с теми, что выполнял М. (Maso) для того, чтобы достичь оргазмического взрыва. Например, фантазии об изнасиловании, вызываемые в представлении субъекта – мужчины или женщины – который никогда не позволит себе подобных практик в реальной жизни.
Что касается морального мазохизма, то он наглядно выражается в том, как человек строит собственную жизнь. Это и постоянные поиски неудач, и моральное страдание, и болезненные отношения с суровым суперэго, и экстенсивное развитие парализующего чувства вины и так далее.
Моральный мазохизм приводит к концу эволюции. К частичному или полному завершению мазохистической траектории. Моральный мазохизм являет собой финал этой траектории, когда ментальная работа наиболее полна и насыщенна.
Фрейд со всей тщательностью занимался тем, что он назвал «феноменом либидинального совозбуждения», в соответствии с которым все, что происходит с телом – например, переживания боли – вносит дополнительный элемент в либидинальное возбуждение.
Иное место у Фрейда занимает в мазохизме влечение к смерти. Если вернуться к теме либидинального совозбуждения, то можно обнаружить, что Фрейд не считал его полностью проясняющим «чудо» перверзного мазохизма. Это можно объяснить, полагал Фрейд, потребностью в возрастании роли влечения к смерти, называемом иногда «деструктивным драйвом»: влечением, которое остается «инкапсулированным», запертым в теле. Это влечение полагалось используемым сексуальной функцией при формировании эротогенного первичного мазохизма. В случае перверсии мазохизм может быть объяснен как комбинация Эроса и влечения к смерти. С другой стороны, вторичный мазохизм может являться следствием интроекции садизма.
* * *
Хотя я согласен с этими тезисами Фрейда, я бы не стал в данном случае ссылаться на влечение к смерти. Вместо этого я бы предпочел обратиться к принципам функционирования: принцип инертности и принцип константности. Принцип инерции вступает в действие при тотальной разрядке возбуждения, в то время, как принцип константности поддерживает возбуждение на его нижнем, почти постоянном уровне. Тем не менее, я согласен с Фрейдом в его оценке роли «конституциональности». Как аналитики, мы вряд ли согласимся работать с материалом, относящимся скорее к области предположений, чем смыслов. Это нечто такое, что должно быть преодолено, поскольку во всех своих работах Фрейд ссылался на роль «конституционального».
Этот же аргумент и относится в значительной степени к случаю М. (Maso): его жена была его кузиной, с которой он познакомился довольно поздно и которая, со своей стороны, занималась мазохистическими практиками с самого детства, когда загоняла булавки под ногти своих пальцев. Более того, однажды М. случайно обнаружил, разбирая письма отца после его смерти, что отец также принимал участие в перверзных практиках. М. (Maso) сам сделал вывод о том, что конституциональные элементы сыграли в данном случае решающую роль.
Я бы хотел в этом месте дать некоторые комментарии относительно количественного фактора, который, так сказать, является движущей силой, наполнением влечения. Когда количество (избыток влечения) превосходит определенный уровень, им становится невозможно управлять при помощи ментализации (в том числе невротической) и субъект в соответствии с принципом инертности, пытается разрядить его самыми разными способами, в частности – и перверзными – или же при помощи соматической симптоматики. Фактически, мы при этом наблюдаем взаимосвязь между мазохистической перверсией и серьезными соматическими патологиями. Все это выводит на первый план экономическую точку зрения Фрейдовской метапсихологии – позицию, которой частенько пренебрегали.
Потребность в неограниченном оргазмическом взрыве, с которой столкнулся М., должна быть понята как выражение определенной неизбежности. Это охватывающее субъекта тотальное требование разрядки. Я не стал бы оспаривать тезисов Теодора Райка о том, что в подобных случаях суперэго как бы вводится в заблуждение, но ввел бы некоторую поправку: в таком контексте суперэго буквально «уходит в сторону».
В своей известной книге по мазохизму Теодор Райк, полагает фантазии субъекта неким вопросом, сформулированным в виде сценария с обильным содержанием. На самом деле эти фантазии характеризуются чрезвычайной нехваткой воображения, стереотипами, которые мой пациент постоянно стремился как-то дополнить и разнообразить – и что давалось ему нелегко. Ему было трудно изобретать новые пытки и приходилось обращаться к идеям других людей, поскольку не получалось придумать что-либо самому. Ситуация сходна с тем, что приходится наблюдать у пациентов, страдающих серьезными психосоматическими расстройствами и испытывающих недостаток онейрической активности. При этом происходит ограничение пространства, используемого в онейрической деятельности и фантазировании в соответствии с влечением – или, лучше сказать, разрядкой влечения.
Другая особенность уже рассматривалась различными авторами: высокомерие, сочетающееся с пренебрежением к другим. То, что остается от репрезентационной активности, может искать выражения именно здесь. Касаясь пренебрежения, М. выделял частичные цели садистического партнера, говоря: «Садист, в конце концов, всегда тратит свои нервы». В то же самое время, тревога, остающаяся подлинным двигателем перверсии, из-за важности ожидания практически пропадает.
* * *
При выделении роли конституциональности, важности «количественного» подхода, то есть движущей силы, энергии влечения, приходится освещать роль судьбы. Фрейд полагал, что судьба, управляемая «экономикой», определенным образом властвует над художниками, которых он считал ведомыми ненормально сильными драйвами. Начиная с того же внутреннего состояния – мощной потребности, основанной на влечении – некоторые субъекты оказываются способны справляться с превышением ментального уровня посредством сублимации. Эти меры, которых никогда не бывает достаточно, могут и должны применяться к перверзионной – например, мазохистической деятельности. Более того, овладение методом сублимации может высвободить дорогу агрессивным тенденциям, способным развернуть перверсию.
Каждый из нас, пытаясь справиться с напряжением – следствием наших отношений как с внешним миром, так и с внутренним миром влечений – имеет в своем распоряжении набор «инструментов», из которого и выбираем требуемый в соответствии с обстоятельствами и интенсивностью сил, участвующих в работе.



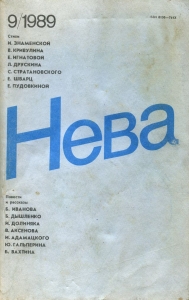
Комментарии к книге «Все оттенки порока», Коллектив авторов
Всего 0 комментариев