Владимир Иванович НОВИКОВ
В союзе писателей не состоял
Писатель Владимир Высоцкий
Творчество Владимира Высоцкого - яркое, оригинальное и многогранное явление нашей культуры. Высоцкий играл в театре и кино, постоянно выступал со своими песнями перед массовой аудиторией. Но, по его собственному признанию, больше всего сил и времени он отдавал работе над текстами своих произведений. Что такое творчество Высоцкого как явление литературы? Какими средствами он достигал своей художественной цели? В чем смысл всего написанного Высоцким? Как отвечает Высоцкий на те острые социальные, нравственные и философские вопросы, которые стоят перед нами сегодня?
Обо всем этом - книга литературоведа и критика Владимира Новикова.
Горька судьба поэтов всех племен;
Тяжеле всех судьба казнит Россию...
В.Кюхельбекер
Так и надо жить поэту.
А.Тарковский
Автор выражает благодарность Т. В. Громовой, А. Е. Крылову и Ю. Л. Тырину, прочитавшим книгу в рукописи и давшим ценные советы
ОГЛАВЛЕНИЕ
СУДЬБА 10
ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ 32
В ПОИСКАХ КЛЮЧА 70
СМЫСЛ ПЛЮС СМЫСЛ 84
НУЖНЫЕ ВОПРОСЫ 100
АВТОР И ГЕРОЙ 120
ЭНЕРГИЯ ВЫМЫСЛА 136
СТИХ И ПРОЗА 156
ОБРАЗ МИРА 186
ОСОБОЕ МЕСТО 218
Растащили меня, но я счастлив,
что львиную долю
Получили лишь те, кому я б ее отдал и так
СУДЬБА
Горька судьба поэтов всех племен;
Тяжеле всех судьба казнит Россию...
В.Кюхельбехер
Так и надо жить поэту.
А.Тарковский
Что за человек был Владимир Высоцкий? Счастливо ли прожил он свою жизнь? Могла ли его судьба сложиться иначе?
Задавая эти вопросы, сразу понимаешь, что ответить на них не удастся. Читатель, наверно, заметил, что два стихотворных эпиграфа, с которых начинается наш разговор, тянут мысль в диаметрально противоположные стороны. Но что делать, если почти каждый факт жизни Высоцкого напрашивается на взаимоисключающие трактовки, если его творческая судьба опровергает все привычные представления о счастье и несчастье, удаче и неудаче!
Владимир Семенович Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве, умер там же 25 июля 1980 года-прожив ровно сорок два с половиной года. Только это и бесспорно. Говоря же об остальном, мы постоянно рискуем что-то исказить, поскольку никак не удается выдержать объективную интонацию, подобрать нейтральные слова. Да и откуда взять их "нейтральный" - значит "никакой", к Высоцкому же "никакие" слова просто неприменимы.
Биографию Высоцкого писать еще рано: это должна быть отдельная, обстоятельная научная работа, основанная на анализе и сопоставлении всех свидетельств и версий. Сейчас идет, что называется, сбор "показаний". Тут прежде всего надо назвать темпераментную книгу Марины Влади "Владимир, или Прерванный полет", на страницах которой облик Высоцкого предстает без хрестоматийной ретуши. Немало интересного рассказано в книге Аллы Демидовой "Владимир Высоцкий, каким знаю и люблю". Множество интересных эпизодов и выразительных подробностей зафиксировано в сборнике "Живая жизнь. Штрихи к биографии Владимира Высоцкого", составленном В.Перевозчиковым из бесед с родными Высоцкого, его друзьями и коллегами. Ценные мемуарные материалы содержатся в книгах "Я, конечно, вернусь...", "Четыре четверти пути", "Владимир Высоцкий. Человек. Поэт. Актер", "Владимир Высоцкий в кино", в сборнике "Четыре вечера с Владимиром Высоцким", подготовленном Эльдаром Рязановым на основе юбилейной телевизионной передачи 1988 года, в книге болгарского журналиста Любена Георгиева "Владимир Высоцкий знакомый и незнакомый". А в журнале "Студенческий меридиан" Б.Акимов и О.Терентьев уже два года ведут постоянную рубрику "Владимир Высоцкий. Эпизоды творческой судьбы...". Словом, делается здесь много, и многое еще будет рассказано, найдено, выяснено, уточнено.
Свидетельства о жизни Высоцкого иногда бывают противоречивы, порою сталкиваются взаимоисключающие версии одних и тех же событий. Не все люди, близко знавшие Высоцкого, могут сегодня с полной откровенностью поведать о своих отношениях с ним. Не обходится без споров и конфликтов. Это жизнь, и ничего не поделаешь. Правильнее всего, наверное, внимательно и благодарно выслушивать всех, кто имеет что сообщить нам о Высоцком. И при этом не спешить с выводами, не творить мифов. "Разберемся", - любил говорить Высоцкий, и принцип этот уместен в подходе к его биографии: разбираться предстоит еще очень долго.
Примечательно, что до ясности даже в вопросах, которые, казалось бы, могут быть решены однозначно, - далеко. Скажем, вопрос о тембре голоса Высоцкого: была ли его знаменитая хрипота природной или, так сказать, благоприобретенной в качестве художественного приема? На страницах книги "Живая жизнь" высказываются противоположные мнения на сей счет, причем выясняется, что и сам Высоцкий на этот вопрос в разных ситуациях отвечал по-разному. Что уж говорить о материях менее определенных! В прессе нередко цитируются ответы Высоцкого на анкету, данные им в 1970 году, где, в частности, по пункту "самая значительная историческая личность" значится: "Ленин, Гарибальди". Но в последние годы жизни Высоцкому довелось заполнить другую анкету, более доверительную, один из фрагментов которой радикально расходится с приведенным выше. Не зря в анкете 1970 года на вопрос "Каким человеком считаешь себя?" дан шутливый и в то же время серьезный ответ: "Разным". Несомненная цельность натуры и жизненной позицим не мешала Высоцкому быть "разным", то есть мобильным, динамичным, постоянно развивающимся человеком и художником.
Биография складывается из множества частностей, но есть еще единый смысл человеческой жизни. Он называется судьбой. Та или иная биография есть у любого, а вот настоящая судьба выпадает не каждому из живущих на свете. Биография художника может быть далека от его творчества, судьба же входит в него как внутренний сюжет. Без этой опоры творить искусство трудно, пожалуй даже - невозможно. У Беллы Ахмадулиной есть строка: "Все было дано, а судьбы не хватило". Эти слова, конечно, буквально понимать не следует: здесь выражена самая страшная, тревога, которая может поэта посетить. Подобные опасения не раз приходили и к Высоцкому:
Мы все живем как будто, но
Не будоражат нас давно
Ни паровозные свистки,
Ни пароходные гудки.
..................................
А рядом случаи летают, словно пули,
Шальные, запоздалые, слепые на излете,
Одни под них подставиться рискнули
И сразу: кто - в могиле, кто - в почете.
Но эти-то опасения не сбылись. Жил Высоцкий не "как будто", а по-настоящему, "под пули подставиться" успел не раз. Словом, судьба у него была, и на постройку собственного художественного мира ее хватило вполне.
О судьбе Высоцкого спорят почти столько же, сколько о его произведениях. Одни считают, что Высоцкому жилось хорошо, другие - что плохо.
Он работал в самом популярном театре, ему удалось сыграть Гамлета, а это заветная мечта всякого драматического актера, - говорят первые. Да, но участь этого театра была нелегкой: и гонения, и замалчивание, да и к концу жизни отношения Высоцкого с родным театром были не так просты и безоблачны, - отвечают другие.
Двадцать пять ролей в кино, песни в фильмах, -высчитывают первые. Но некоторые из лучших ролей Высоцкого сыграны в фильмах, положенных на полку ("Интервенция", "Короткие встречи"), по другим ролям беспощадно прошлись ножницы ("Служили два товарища", "Бегство мистера Мак-Кинли"), а сколько раз киночиновники приходили к выводу, что использовать Высоцкого "нецелесообразно"! Что же касается песен для кинофильмов, то большинство их так и не прозвучало с экрана, - веско возражают вторые.
Удачно женился. Покатался с супругой по всяким заграницам, побывал в приличном обществе, - завистливо прикидывают первые. Но больше всего он нуждался в признании на родине, - напоминают вторые.
И так далее. Спорят и о том, почему Высоцкий так рано ушел из жизни. Одни объясняют раннюю кончину поэта сугубо индивидуальными причинами, намекая (а то и открытым текстом указывая) на некоторые вредные для здоровья привычки, другие считают смерть Высоцкого гибелью в поединке с социальной системой.
А какая причудливая, ни на чью другую не похожая была у Высоцкою слава! С одной стороны, почти полное молчание в отечественной прессе. Буквально считанные прижизненные статьи о Высоцком-актере (Н.Крымова, И.Рубанова, М.Борк)*, два-три интервью. О песнях же - несколько оголтелых наскоков, подписанных бесславными именами каких-то газетных поденщиков. Внимания официальной литературной критики Высоцкий-поэт при жизни удостоился лишь однажды - по случаю своего участия в альманахе "Метрополь", подвергшемся травле по указанию "инстанций". Осуществляя эту почетную миссию, Ф.Кузнецов писал: "...Натуралистический взгляд на жизнь как на нечто низкое, отвратительное, беспощадно уродующее человеческую душу, взгляд через замочную скважину или отверстие ватерклозета сегодня, как известно, далеко не нов. Он широко прокламируется в современной "западной" литературе. При таком взгляде жизнь в литературе предстает соответствующей избранному углу зрения, облюбованной точке наблюдения. Именно такой, предельно жесткой, примитизированной, почти животной, лишенной всякой одухотворенности, каких бы то ни было нравственных начал и предстает жизнь со страниц альманаха, - возьмем ли мы стилизованные под "блатной" фольклор песни В.Высоцкого, или стихотворные сочинения Е.Рейна, или безграмотные вирши Ю.Алешковского..."**
С другой стороны, Высоцкий уже при жизни стал, что называется, литературным персонажем. Свое имя он мог увидеть не в критических статьях, а на страницах художественной прозы. Скажем, в повести В.Тендрякова "Ночь после выпуска" (1974) в исполнении одного из десятиклассников "звучали" никем тогда еще не "залитованные" строфы: "Дайте собакам мяса...", "Поднялся галдеж и лай..." А вот "Поиски жанра" В.Аксенова, опубликованные "Новым миром" в 1978 году:
"Открыты Дели, Лондон, Магадан,
Открыт Париж, но мне туда не надо!
пел Алик хриплым голосом, почти как "оригинал".
Не менее выразительно упоминание о Высоцком в повести В.Токаревой "Неромантичный человек" ("Знамя", 1978, 11). Там деревенская бабка Маланья в качестве "народного творчества" запевает: "А у тебя, ну правда, Вань..."
"- Бабушка, - деликатно перебил Чиж. - А теперь что-нибудь старинное спойте, пожалуйста. То, что ваша мама пела или бабушка, например.
- Так это и есть старинное, - возразила Маланья. -Это мой дед еще пел...
- Нет, бабушка. Это современное. Это слова Высоцкого.
- Так, может, мой дед его и знал".
Легкое упоминание о Высоцком, коротенькие цитаты из его песен незамедлительно создавали ощущение легендарности. А когда в романе братьев Стругацких "Гадкие лебеди", в ту пору еще не опубликованном, но широко известном через "тамиздат" и "самиздат", появлялся вымышленный поэт Виктор Банев, поющий: "Сыт я по горло, до подбородка..." - читателям не требовалось комментариев. Так же, как безошибочно прочитывалось "отредактированное" название стихотворения Вознесенского: "Реквием оптимистический по Владимиру Семенову, шоферу и гитаристу" (1970). Имя Высоцкого уже при жизни его стало художественным образом - эмоциональным знаком какой-то концентрированной жизненности, мощной силы, объединяющей самых разных людей. Ну, о ком еще из наших современников можно было написать:
Гремите, оркестры, Козыри - крести. Высоцкий воскресе. Воистину воскресе!
И эти слова, сказанные о тридцатидвухлетнем актере и поэте, ничуть не выглядели каким-то "перебором", хотя, прямо скажем, любое другое имя в такой образной раме показалось бы просто неуместным. "Реквием оптимистический" был написан Вознесенским в связи с автомобильной катастрофой, в которую попа Высоцкий, его клинической смертью и счастливым выздоровлениесю Но в этом дружески-шутливом стихотворении схвачена оказалась суть судьбы и феномена Высоцкого.
Высоцкий - это всегда воскрешение, возвращениею Такой мотив проходит через множество его произведений: "Памятник" (1973), "Райские яблоки" (1978) - и этот же мотив стал ключевым в его жизненной судьбе. Ни за что не желая "оказаться всех мертвых мертвей" (а эта участь постигла многих кумиров нашего века), Высоцкий подошел к проблеме бессмертия не как к отвлеченному символу, а как к практическому делу, как к процессу, в который он был погружен сам и в который он втягивал других. Мало кому удавалось так прочно внедрять в сознание современников мысль о том, что "мы, отдав концы, не умираем навсегда". И сама обыденная ироничность песенного слова была в подобных случаях залогом подлинности и убедительности. Высоцкий уверенно, самостоятельно и без малейшей позы продолжил древний поэтический мотив "нерукотворного памятника", вписав вслед за горациевым "Non omnis moriar", державинско-пушкинским "весь я не умру", маяковским "Ненавижу всяческую мертвечину! Обожаю всяческую жизнь!", - свое: "Но с тех пор, как считаюсь покойным..." Дерзкие слова, но неоспоримые: они подтверждены и творческой работой, и реальной судьбой.
Как измеряется ценность судьбы? Мерой счастья или мерой беды? Скорее всего - степенью глубины того и другого. Высоцкому были ведомы дружба и вражда, любовь и одиночество, полнота счастья и бездна отчаяния. Поэтому так неуместны при разговоре о Высоцком и заупокойные, и бодряческие тона. Стратегией жизни его была самоотдача - только с учетом этого можно уразуметь мотивы отдельных поступков и высказываний Высоцкого. У людей, далеких от творческого труда, порою возникает недоумение: ну не печатали, ну замалчивали, но популярность в народе-то какая была! Вон в Набережных Челнах автобус с Высоцким на руках рабочие подняли: такое признание стоит всех официальных регалий!
Да, стоит. И народную любовь Высоцкий достойно отрабатывал, полученную от людей энергию немедленно пускал в дело. Но такая уж была у него натура, что все время хотелось ему еще больше выложиться, еще больше создать. Художник порою столько в себе носит нерастраченного душевного топлива, и, чтобы зажечь его, лишь маленькая искорка нужна. Близкий друг поэта Вадим Иванович Туманов рассказывает, как тронут был Высоцкий за месяца полтора-два до смерти заметкой о себе, написанной Вениамином Смеховым и напечатанной в майском номере журнала "Аврора" за 1980 год. Как, укладываясь спать, положил журнал рядом, чтобы утром снова перечитать две страницы малого формата, увидеть свои имя "не латинским шрифтом", как сам он говорил, перечитать слова, продиктованные сочувствием и пониманием.
Мало кому выпало на долю столько непонимания, сколько Высоцкому. Мало кому наше общество и наша власть так мешали жить и работать: делиться с людьми своими душевными сокровищами и жизнетворческой энергией. "Горька судьба поэтов..."
Но мало кто - да что там, просто никто не явил в наше время такую, как Высоцкий, силу творческой воли и духовной независимости. Прорвав линию "красных флажков", преодолев тяжесть, которая пп всем представлениям, должна была раздавить любо го, он донес до людей свое слово, успел выстроить свой образ мира. "Так и надо жить поэту"
Высоцкий и боролся с судьбой, и творил судьбу. Впрочем, он не раз сам поведал об этом - причем не в отвлеченных рассуждениях, а в наглядных, эмоционально-щемящих образах:
Куда ни втисну душу я, куда себя ни дену
За мною пес - Судьба моя, беспомощна, больна
Я гнал ее каменьями, но жмется пес к колену
Глядит, глаза навыкате, и с языка - слюна.
Страшно ведь остаться один на один с судьбой. И за нее страшно, и за себя. И большинство людей от своей судьбы уходит, выбирает один из готовых чужих путей, кем-то уже проверенных. Редко кто дерзает идти по жизни своим единственным путем, где ждут все новые испытания и мучения:
Бывают дни, я голову в такое пекло всуну
Что и Судьба попятится, испуганна, бледна
Я как-то влил стакан вина для храбрости в Фортуну
С тех пор ни дня без стакана, еще ворчит она:
Закуски - ни корки!
Мол, я бы в Нью-Йорке
Ходила бы в норке,
Носила б парчу!..
Я ноги - в опорки,
Судьбу - на закорки,
И в гору и с горки
Пьянчугу влачу.
Посмотрите, как в единой динамичной метафоре соединились, переплелись самые разные житейские обстоятельства. Тут Высоцкий говорит и о "стакане вина" - той беде, которая долгие годы ему сопутствовала и по поводу которой шло столько сплетен и слухов. Постоянные перегрузки, постоянное нравственное сопротивление и борьба - вот и стала Судьба - "пьянчугой". Судьба! Поймем же это и не будем путать Высоцкого с теми, кто "стакан вина" в самих себя вливает! Огромная разница! Тут же и о "Нью-Йорке", о возможности бегства из России, которая перед Высоцким открывалась. Причем сказано настолько ясно, что и комментировать не приходится.
Высоцкий вступил в непримиримый конфликт с социальной системой. Он беспощадно просвечивал ее противоречия и ее ложь рентгеновским лучом своего творческого взгляда. Он был в высшей степени "инакомыслящим" человеком и художником. Но он не склонен был предлагать ненадежные социальные прожекты, выдвигать краткосрочные тактические лозунги. Он, как сказала в одной телевизионной передаче Марина Влади, отличался "интеллектуальной честностью". За конкретными социальными недугами он видел еще и глубокие, глобальноисторические закономерности. Он всегда понимал, что быстрое "улучшение" жизни и людей - опасная иллюзия, неизменно приводящая к противоположным результатам.
Поэтому судьбу Высоцкого не измерить только рамками социальными, рамками жизни одного исторического поколения. Его судьба вышла на уровень философский, уровень отношений человека и мира. Об этом опять-таки сказано в песне:
Однажды пере-перелил Судьбе я ненароком
Пошла, родимая, вразнос и изменила лик,
Хамила, безобразила и обернулась Роком,
И, сзади прыгнув на меня, схватила за кадык.
Слово "пере-перелил" тут уже не одно вино подразумевает. Речь о том, что слишком дерзко и самостоятельно шел Высоцкий по жизни. За внутреннюю свободу приходится платить дорогой ценой. Судьба оборачивается Роком, то есть возникает конфликт личности не только с социальным строем, но и со всем миром. Это когда художника не только преследует власть и отвергает общество, это когда его в полной мере не понимает никто. "Я и общество" могут сказать о себе многие. "Я и мир" - такая драма выпадает только тем, чей внутренний мир по степени оригинальности может соперничать с миром большим; Таких людей совсем немного, но, если они одарены художественным талантом, их индивидуальный опыт становится всеобщим достоянием.
Поэтому не надо делить Высоцкого, оттеснять от него читателей и слушателей по чьему-то мнению "недостойных", обзывая их "мещанами". Не надо бояться какого-то кликушества и пытаться урезонить естественный, никем не "организованный" интерес людей к Высоцкому. Высоцкого хватит на всех, он жил и работал щедро:
Растащили меня, но я счастлив, что львиную долю
Получили лишь те, кому я б ее отдал и так.
Нам же остается взять свою долю этой созидательной энергии и попробовать ею достойно воспользоваться.
О судьбе Высоцкого мы знаем еще отнюдь не все. Потому что большая часть этой судьбы - впереди.
Вот уже десять лет Высоцкий не располагает информацией о наших делах. Но это не мешает ему активно присутствовать в сегодняшней жизни, довольно точно ее оценивать и анализировать. "Пожары над страной все выше, жарче, веселей..." О чем это - о гражданской войне, а может быть, о Чернобыле или двух поездах, сгоревших между Уфой и Челябинском? "Потому-то и новых времен //В нашем городе не настает", - вновь вздыхает сегодня многомиллионный обездоленный провинциал, уставший от бесконечных очередей и столь же бесконечных обещаний светлого будущего. А вот мы смеемся в очередной раз, слушая историю о дикарях, съевших Кука. Но стоит чуть-чуть призадуматься и почувствуем горечь. Как там науськивал аборигенов хитрый колдун? "Кто уплетет его без соли и без лука, //Тот сильным, смелым, добрым будет вроде Кука!" А как сегодня-то мы обходимся с самыми сильными, смелыми и добрыми? Вспомним хотя бы реакцию первого Съезда народных депутатов на выступления Юрия Власова, Юрия Афанасьева, вспомним те "каменюки", которыми закидывали легендарного нашего академика.
Стоит же правдолюбцу и бунтарю уйти из жизни - как мы начинаем его оплакивать и нахваливать. Ну что про нас сказать?
А дикари теперь заламывают руки,
Ломают копья, ломают луки,
Сожгли и бросили дубинки из бамбука
Переживают, что съели Кука!
Вот кто мы такие! И нет пока надежды, что в обозримом времени философская ирония Высоцкого утратит свою актуальность.
Впрочем, Высоцкий знал, что нас ждет долгий путь прозрения, очищения и покаяния. Он предвидел, что праведный гнев, так долго переполнявший наши души, прорвется, быть может, в формах резких что самые смелые борцы за справедливость будут порою обнаруживать нетерпимость, а хладнокровные высокопоставленные лихоимцы станут обвинять их в экстремизме. Что делать, слишком долго мы терпели, а теперь
И отчаянье бьется, как птица, в виске,
И заходится сердце от ненависти.
Но, говорит нам Высоцкий, не надо бояться полемических крайностей и эмоциональных перехлестов. И резко высказанная правда остается правдой. Не надо встречать ее по полемической одежке, надо в суть дела смотреть:
Да, нас ненависть в плен захватила сейчас,
Но не злоба нас будет из плена вести.
Не слепая, не черная ненависть в нас,
Свежий ветер нам высушит слезы у глаз
Справедливой и подлинной ненависти!
И преодолеть разобщенность людей, высушить их слезы можно не усмирением, а только лишь радикальным изменением социальной жизни. Есть -пока - реальная возможность направить народные эмоции в нужное русло, использовать их, так сказать, в мирных целях, ибо, как сказал Высоцкий от нашего имени,
... благородная ненависть наша
Рядом с любовью живет!
Многие поистине трагические события наших дней как бы предсказаны в невеселых сюжетах Высоцкого:
Воспоминанья только потревожь я
Всегда одно: "На помощь! Караул!.."
Вот бьют чеченов немцы из Поволжья,
А место битвы - город Барнаул.
Список "мест битвы" угрожающе растет: Сумгаит, Фергана, Новый Узень, Баку, Душанбе... Слишком долго мы радовались "дружбе народов", не желая тревожиться и называть вещи своими именами.
Или вот проблема прошлого. Некоторые завзятые энтузиасты никак не могут примириться с горькой правдой о нашей истории, видя в объективных фактах "очернение" и "охаивание" славных этапов большого пути. Высоцкий этих людей не берется "перестраивать" и перевоспитывать. Им он предлагает просто успокоиться:
Вы огорчаться не должны
Для вас покой полезней,
Ведь вся история страны
История болезни.
Ничего себе успокоил! Но что делать: чем дальше и глубже заглядываем мы в свое прошлое, тем больше подтверждений этому диагнозу. Немалое мужество требуется, чтобы увидеть болезнь с беспощадной ясностью и искать способ лечения. Соблазн оптимизма, игнорирующего здравый смысл, все еще владеет многими умами: и умами невеликими и, наоборот, слишком изощренными, кровно заинтересованными в том, чтобы изо всех сил поддерживать миф о нашем здоровье. И об этом у Высоцкого сказано:
Живет больное все бодрей,
Все злей и бесполезней
И наслаждается своей
Историей болезни...
Прямо скажем, эти сочиненные в 1976 году строки не отстали от нашей жизни. Скорее, наша духовная жизнь только-только еще приблизилась к такому уровню открытости и критической беспощадности. Это взгляд не только из прошлого, но из будущего. Только будущего не "светлого", а очень тревожного -каково оно на самом деле. Поэтому весьма неубедительными выглядят попытки втиснуть феномен Высоцкого в узкие исторические рамки, привязать его многозначное и всепроникающее слово к небольшому хронологическому столбику:
Тебя хоронили,
как будто ты гений.
Кто - гений эпохи. Кто - гений мгновений.
Ты - бедный наш гений семидесятых,
и бедными гениями небогатых.
(Евг.Евтушенко)
Что-то тут не так. Начиная с какого-то упрощенного, арифметического представления о художественной гениальности (многократное повторение одного слова даже вызывает в памяти старую анонимную эпиграмму: "Ты не гений, я не гений..." и тд.). Что это за "гений эпохи"? Те, кто претендовал на такую монументальную позу, сегодня выглядят в свете правды не очень выгодно. А что до настоящих гениев, таких, как Пастернак, Ахматова, Мандельштам, -то они бы предпочли считаться скорее "гениями мгновений", поскольку в слове "эпоха" не слышали ничего, кроме фальши. "Бедный наш гений семидесятых" ну кто по такому описанию узнал бы Высоцкого без подсказки? К званию гения он никогда не примерялся, но как бы он оскорбился за эпитет "бедный"! Судьба трагическая, страшная, но уж чего не было в ней, так это бедности. Высоцкий был человек богатый - в высшем смысле, по большому счету. А что он из "семидесятых" - ну, это не более оригинально, чем сказать, что он москвич. Эти годы охватили большую часть его творческой биографии, но сформироваться он успел во второй половине шестидесятых. Да вот и восьмидесятые годы уже завершились, и давайте спросим себя: в какой стихотворной книге этого десятилетия полнее всего представлена социальная наша действительность последних "двух пятилеток"? Уверен, что очень многие читатели в ответ укажут на одно из посмертных изданий автора, прожившего в восьмидесятых годах неполных семь месяцев.
Впрочем, в прозаической форме Евгений Евтушенко сказал о Высоцком немало верного: о сходстве его сатирических принципов с творческими принципами Зощенко, о диалектике национально-русского и всемирно-общечеловеческого в художественном мире Высоцкого: "Все то, что он здесь на нашей земле сделал, является неотъемлемой частью нашей культуры, и именно поэтому он уже становится частью мировой культуры, той культуры, которая составляет нравственный воздух человечества" ***.
Действительно, судьба Высоцкого исполнена и "очень русского", и общечеловеческого смысла. Часто говорят, что многие шутки, каламбуры Высоцкого, многие его сюжеты и реалии просто непонятны иностранцам. Но вот приехал в Москву шведский "Фриа-протеатерн" со спектаклем "Владимир Высоцкий". Выходил на сцену Стефан Рингбум и выпевал экзотическое слово "Бо-дай-бо", звеневшее как символ не только русской, но и всеобщей беды, и переведенная на шведский "Охота на волков" не потеряла эмоциональной силы. А когда Томас Больме по-шведски же пел об "инструкции перед поездкой", просто удивление брало: как это смог артист, никогда в жизни не получавший подобных инструкций, комизм сугубо российской ситуации уловить!
Вспоминаю еще разговор с норвежским профессором Гейром Хьетсо, который, услышав имя Высоцкого, тут же взволнованно продекламировал:
Я не люблю уверенности сытой,
Уж лучше пусть откажут тормоза.
Да, неприятие "уверенности сытой" может объединить людей разных национальностей, разных культурных традиций...
Эта книга о Высоцком затрагивает только одну сторону его многосоставного художественного творчества - литературную. Но и такой аспект, прямо скажем, неисчерпаем. В проблемах недостатка нет: удалось ли коснуться хотя бы самых главных? Наиболее странными вопросами, однако, озадачивали меня по ходу работы некоторые знакомые литераторы, мастера слова: "Что вы скажете как специалист, долго он еще будет пользоваться популярностью?" И в голосе - надежда на отрицательный ответ.
Должен их огорчить: уверен, что произведения Высоцкого будут интересны людям еще долго. Думаю даже, что всегда - то есть пока существует культура. Ведь тут в чем дело? Одни пишут лучше, другие хуже. Но очень редко бывает так, чтобы в работе литератора столкнулись две духовные и художественные эпохи. А с Высоцким, похоже, произошло именно это.
Мой мозг, до знаний
жадный как паук
ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ
Споры о Высоцком не прекращаются по сей день. Хорошо это или плохо?
Думаю, что хорошо. Высоцкий творил в ситуации непрерывного спора, сталкивал друг с другом противоположные характеры, мировоззрения, вкусы, то и дело вызывал огонь на себя. И сейчас его идеи и образы тоже, может быть, нуждаются в полемической атмосфере, в диалогическом противостоянии разных прочтений и оценок.
А то ведь что получается? Поклонникам Высоцкого вроде бы спорить не о чем. Разве что о том, кто его больше ценит, кто раньше понял и признал его дар. Есть такой грех, признаемся честно. Появляются время от времени статьи-близнецы, где с патетической интонацией повторяется то, что не раз и не два уже было сказано раньше. Вроде бы суждения все довольно благородные. Высоцкий боролся, не приспосабливался, как некоторые, он сказал ту правду, которую боялись сказать другие, - и так далее. Верно, верно, но сколько ж можно произносить одни и те же надгробные речи о таком живом художнике? Сколько можно мусолить несколько цитат, оскорбляя невниманием сотни созданных Высоцким текстов? Сколько может длиться этот "пустых похвал ненужный хор", где каждый к тому же мнит себя не хористом, а солистом?
Потому и хочется подключить к разговору не только ценителей, но и хулителей Высоцкого. Давайте прислушаемся к их претензиям - это заставит нас задуматься, выдвинуть контраргументы, привлечь свежие примеры, разобрать конкретные песни, образы, строки. К тому же недоброжелатели Высоцкого причастны к миру поэта не меньше, чем его поклонники. Они ведь тоже - персонажи песен. Ибо нет среди нас тех, кто не жил в "желтой жаркой Африке", долгие годы полагаясь на жирафа, которому "видней". Кто не скользил, падая, по вечному гололеду. Кто находился бы сегодня за пределами той всемирно-символической подводной лодки, из которой несется наш общий крик о помощи и спасении.
Но при этом надо как-то не потонуть в частностях и мелочах. Давайте из множества негативных суждений о Высоцком выберем важнейшие, а множество строгих судей попробуем соединить в некий обобщенный образ. Итак, слово Недовольному. Заметим, что он сегодня очень отличается от тех, кто был недоволен Высоцким в шестидесятые-семидесятые годы. Наш Недовольный уже не обзывает Высоцкого антисоветчиком или алкоголиком - он толкует исключительно о материях эстетических.
- И все-таки, - говорит он, - песни Высоцкого - это факт больше социальный, чем художественный. До высот поэзии они не поднимаются.
- А как вы эти высоты определяете? - спрашиваю его. - И каким прибором вы измеряете социальность и художественность? Социально острые произведения не раз нарывались на подозрение в малой художественности. Так бывало с Гоголем и Некрасовым, Щедриным и Зощенко, однако все они в конечном счете оказались эстетически реабилитированными.
- Но то совсем другое дело. А Высоцкий не тянет на такой уровень. По гамбургскому счету.
- Ах, по гамбургскому... Ну уж если вы об этом счете заговорили, то нелишне вспомнить о рискованности оценок, произносимых от имени эстетической истины. "Гамбургский счет" в качестве абсолютной художественности введен, как известно, в 1928 году Виктором Шкловским, отважно дерзнувшим оценить своих современников, не дожидаясь суда истории. И что же? В одних случаях оценки Шкловского через шесть десятилетий в той или иной степени подтвердились: "По гамбургскому счету - Серафимовича и Вересаева нет. Они не доезжают до города... Горький - сомнителен (часто не в форме). Хлебников был чемпион". Однако в этом же своем легендарном и великолепном эссе Шкловский явно "не угадал" истинный масштаб некоторых мастеров: "В Гамбурге - Булгаков у ковра. Бабель - легковес". Это, конечно, не перечеркивает саму идею гамбургского счета, который всегда необходим искусству, но отчетливо напоминает о неизбежности какого-то процента ошибок в конкретных подсчетах. Гамбургский счет - дело живое, творческое. Не надо его путать с тем претендовавшим на непогрешимость счетом, по которому произведение могло быть объявлено "посильнее, чем "Фауст" Гете", а поэт "лучшим и талантливейшим".
Гамбургский счет имеет дело не с неподвижными эталонами вроде метрового бруска и килограммовой гири, хранящихся в Севре и заключенных там в безвоздушные камеры, чтобы не изменились они ни на микрон, ни на миллиграмм. Нет, в том воздухе, в той научно-духовной атмосфере, где родилась идея гамбургского счета, литература понималась как непрерывно эволюционирующая система. Художественные нормы и критерии менялись, меняются и будут меняться в ходе живой жизни искусства.
- Но существуют же и какие-то вечные ценности, вечные представления, благодаря которым не утрачивается граница между искусством и неискусством.
- Верно. Граница эта никогда не будет утрачена, но она при всей своей неопределенности подвижна. Это не нейтральная полоса. Там, на этой границе, всегда идут бои между новым и старым, живым и отжившим, непривычным и устоявшимся. Высоцкий два десятилетия провел на границе между стихом и театром, между поэзией и прозой.
- Вот-вот. А переступить не смог, не шагнул на территорию настоящей литературы.
- А что, вы думаете, туда можно прийти, шагнуть? Боюсь, что все готовые маршруты в бессмертие -ложны. Еще один афоризм Шкловского. "Не нужно лезть в большую литературу, потому что большая литература окажется там, где мы будем спокойно стоять и настаивать, что это место самое важное". Впрочем, давайте перейдем ближе к делу. Чем именно вы недовольны в Высоцком, чего конкретно недостает, по-вашему, в его песнях для соответствия идеалу художественности?
- Ну, прежде всего его песни не выдерживают испытания печатью. При чтении глазами, вне мелодии и авторского голоса, вне особенностей его исполнения они слишком много теряют.
- Может быть, и теряют. С этим я готов согласиться. Но, понимаете, какая штука - авторское исполнение всегда раскрывает в тексте важные смысловые оттенки. Представьте, что к нам в руки сейчас попала бы магнитофонная запись "Евгения Онегина" в авторском чтении. Думаю, прослушав ее, мы кое-что глубже и энергичнее уразумели бы в самом романе, в его сугубо "письменном" тексте. А сколько теряют "Илиада" и "Одиссея" от того, что читатель (даже читающий греческий оригинал) не слышит голоса автора и аккомпанемента его лиры (от которой, к слову, произошла и гитара-кифара)...
- Я с вами серьезно, а вы...
- Да нет же, и я вполне серьезен. Почему это вы поэзию так прочно связываете с бумагой, с письменностью? Ведь всякому, кто более или менее интересовался историей поэтического слова, хорошо известно, что родилось оно в единстве с мелодией, как слово прежде всего звучащее, исполняемое. И, став по преимуществу письменной, поэзия всегда хранит память о своем происхождении. Читаем же мы стихи не только глазами, но и губами, проделывая артикуляционную работу. Без такого "озвучивания" - вслух или "про себя" - нет и наслаждения поэзией. А те шедевры Пушкина и Тютчева, Пастернака и Ахматовой, что памятны нам наизусть - разве мы их "перечитываем" глазами? Да мы их, скорее, "прослушиваем", "включив" своеобразную "звукозапись" в своем сознании.
- Опять вы теоретизируете, подверстывая Высоцкого к престижному ряду.
- Так теория-то ко всему относится, общие законы литературы распространяются на все и на всех, а не только на бесспорно признанное. Но, если угодно, перейдем от абстракций к предельной конкретике. Возьмем в руки московский "День поэзии" 1975 года (составитель П.Вегин) - единственное книжное издание, где Высоцкий был однажды опубликован в СССР при жизни. Вот оно - стихотворение "Ожидание длилось, а проводы были недолги...", входящее в цикл "Из дорожного дневника". Было тридцатилетие Победы - и текст Высоцкого чудом проскочил редакторский и цензурный шлагбаум: тема "вытащила", хотя уж Высоцкий-то никогда к памятным датам свою работу не приурочивал. Он написал этот цикл в 1973 году, совершая вместе с Мариной Влади свою первую автомобильную зарубежную поездку. Событие, прямо скажем, радостное для любого человека, особенно творческого, особенно - с сомнительной репутацией "невыездного". Но, пересекая границу в своем красивом автомобиле, Высоцкий потянулся к темам трагическим: отступлению наших солдат в сорок первом, "опозданию" нашей армии во время Варшавского восстания. Автор совершает путешествие во времени:
И сумбурные мысли,
лениво стучавшие в темя,
Устремились в пробой
ну, попробуй-ка останови!
И в машину ко мне
постучало просительно время,
Я впустил это время,
замешенное на крови.
- Ну и что? Стихи-то довольно кустарные, непрофессиональные какие-то.
- А что вы под профессионализмом разумеете?
- Ну, все-таки техника какая-то должна быть, плавность, благозвучие. Поэзия - это прежде всего гармония, а тут уж очень все шершаво выглядит.
-Ладно, насчет шершавости пока спорить не стану. Только с чисто профессиональной точки зрения литературоведа хочу вас предостеречь от несколько однобокого представления о гармоничности. Если мы вспомним историю русской поэзии, то увидим, что она, поэзия, то стремится к гармоничности, то вдруг отказывается от нее, ломает сложившиеся музыкальные ходы в поисках чего-то нового. И это новое поначалу не ласкает ухо, кажется неблагозвучным. Впрочем, откроем все тот же "День поэзии" семьдесят пятого года и поглядим на соседей Высоцкого по рубрике "Вечер одного стихотворения". Вот вам стихи вполне красивые и плавные:
И не окончится дорога,
Которой мы идем сейчас,
То круто в гору, то отлого...
Она от отчего порога
В Отечество выводит нас.
А вот еще в том же роде, другого автора:
И, словно речные излуки,
поляны и травы весной,
прекрасные чистые звуки
из вечности плыли немой.
Согласитесь, вполне благозвучно. Но интересно ли вам это?
- Ну, вы уж выбрали какие-то бессмысленные примеры. Что, там получше ничего нет?
- Есть и получше, но я выбрал как раз образчики среднего уровня. В альманахе есть и Ахмадулина, и Вознесенский, и Окуджава, занимающие там свое законное место. А я вам показываю типичные примеры того, что в семидесятые годы печаталось вместо Высоцкого. Авторы подобных стихов ведь и в журналах благополучно публиковались, и индивидуальные книги успешно выпускали одну за другой. Редакторский барьер подобные стихи проходят (и в наше время!) легко: здесь есть необходимый профессионально-технический уровень. Конечно, это не "прекрасные чистые звуки", но звуки довольно гладкие. Одна беда - полная бессодержательность. Этими стихами никто никому ничего не говорит. Так много ли толку от такого вот профессионализма?
- То, что эти стихи плохи, еще не означает, что стихи Высоцкого хороши.
- Что ж, вернемся к ним. Действительно, звучат они жестковато, вроде бы даже сумбурно. Но и речь-то идет о "сумбурных мыслях", о переломе, который происходит в сознании автора. Стихи написаны пятистопным анапестом - размером, располагающим к стремительно-накатанной риторической интонации. А автор своим жестким разговорным ритмом ломает гладкий размер, как бы резко тормозит: "Ну попробуй-ка останови!", "замешенное на крови" пропуски ударения заставляют нас вдуматься в смысл этих слов.
- Ну, тут уж пошло стиховедение. Это ваши чисто профессиональные дела, а для нас все эти схемы - китайская грамота.
- Вот здесь и обнаруживается характерное для всех недоброжелателей Высоцкого противоречие. Осуждаете и отвергаете вы его вроде бы с "эстетической" точки зрения, называете его непрофессионалом, а от конкретного профессионального разговора тут же уходите. Между тем нестандартный стих Высоцкого ставит массу вопросов как раз научно-эстетического плана. Эстетика ведь - никуда не деться - штука более или менее научная, а не просто "нравится - не нравится". Но я все-таки хочу вашу логику понять, чтобы с ней спорить. Вы противопоставляете "гармоничность" и "шершавость". Что ж, здесь есть свой резон. "...Ищу союза волшебных звуков, чувств и дум" - эта пушкинская формула поэзии остается вечной и неоспоримой. Но "союз" этот не дается раз и навсегда, каждое новое поэтическое поколение ищет его заново. Пушкинская гармоническая ясность была подготовлена металлическим звоном негладкого державинского стиха, а потом Некрасов и Тютчев, каждый по-своему, уходили от Пушкина, чтобы найти свой "союз": отношения между "звуками", "чувствами" и "думами" непрерывно перестраивались. Чтобы дать выход новой думе и новому чувству, иной раз нужен тон резкий, даже режущий слух. Когда я думаю о стихе и стиле Высоцкого, мне вспоминается пастернаковское описание ледохода:
...Один лишь хрип,
Тоскливый лязг и стук ножовый,
И сталкивающихся глыб
Скрежещущие пережевы.
Слово Высоцкого - это ледоход русского стиха. Как и ледоход нашего общественного сознания. Этот лязг, эти скрежещущие звуки - голос нашего времени. Это путь к новой гармонии - она придет не раньше, чем льды растают.
- А не усложняете ли вы Высоцкого? Я думаю, он обалдел бы от всех этих ученостей. Ведь у него в песнях множество элементарных ошибок и несуразностей. И по части русского языка, и других предметов, с которыми он плохо был знаком. Рвался-то он писать обо всем на свете.
- Ну-ка, что за ошибки? Давайте разбираться.
- Да вот хотя бы: "А если накроют - //Локаторы взвоют о нашей беде". Что это за такие воющие локаторы? Он просто не знал значения слова.
- Верно, тут, как говорится, крыть нечем. Да вот и О.Халимонов вспоминает: "Я ему говорил, что локаторы не воют... Но в песне так и осталось"****. Ошибка вышла. Но - какая ошибка? Не типичная же, какие бывают от бескультурья, от влияния среды, а довольно индивидуальная. Воет не локатор, а сирена -после того, как локатор что-то зафиксировал, "накрыл". Высоцкий переносит свойство одного предмета на другой, тесно с ним связанный. Но такие переносы - в природе языка. Говорим же мы: шофер загудел, хотя гудит не сам шофер, а сигнальное устройство его автомобиля. Говорим мы: съел две тарелки, хотя едим не тарелки, а их содержимое. Это метонимия. Вот и у Высоцкого возникает такой случайный (окказиональный, как сказали бы лингвисты) метонимический перенос. В принципе так и язык развивается: кто-то один раз "оговорился", а потом это вошло в систему.
- М-да... А что вы скажете про такой вот перл: "Нет, не будут золотыми горы - //Я последним цель пересеку..."? Цели можно достигнуть, но пересечь ее... Что, это тоже, как там ее, метонимия?
- Именно. Ведь цель на скачках - пересечь финишную черту, о другом в это время не думают. Так что - такое нестандартное словосочетание оправдано эмоциональным контекстом песни.
- Ну, а вот вам еще:
Весь год
Жила-была - и вдруг взяла, собрала и ушла...
Что это за "собрала"? Одно из двух: "собралась" или "собрала вещи".
- С нормативной точки зрения вы правы. Но поэтическая речь имеет право на отклонение от нормы. Лирический герой песни рассказывает о событии невеселом, о беде своей. От волнения он слово "вещи" просто пропустил, проскочил. Такое усечение называется - эллипсис. А вот в американском трехтомнике этот текст из лучших побуждений "отредактировали", написали, как вы предлагаете: "собралась". И что же вышло? Сразу и живая разговорность испарилась, и лиризм. Смазалась звуковая картина из трех "ла", которые так важны здесь для автора. Между прочим, молодой Сельвинский таким глаголам посвятил целое стихотворение "К вопросу о русской речи", где есть строки: "... Этим "ла" ты на каждом шагу //Подчеркивала: "Я женщина!" Высоцкий как бы между делом эту поэтическую тему продолжил...
- Знаете что, с вами просто невозможно говорить! У вас на все готовый термин: метонимия, эллипсис... Этак вы что угодно оправдаете.
- Нет, я стараюсь говорить самым простым образом, а к терминам прибегаю только тогда, когда без них обойтись невозможно. Ведь эти термины выработаны самой художественной практикой. Странное дело: вот вы начинаете разговаривать о музыке с музыкантом или музыковедом. И вдруг ему заявляете: кончайте мне голову морочить своими бемолями да диезами, терциями да каденциями. Боюсь, вы будете тогда иметь бледный вид. Вас просто осмеют или вообще разговаривать с вами не станут. Или вдруг на футбольном матче какой-нибудь зритель скажет: а я не желаю знать, что такое "офсайд", залетел мяч в ворота - засчитывайте гол. Тут я просто не берусь представить, что о нем скажут искушенные в правилах игры болельщики. А вот об искусстве слова, о поэзии почему-то - даже среди иных профессиональных критиков - принято говорить на совершенно дилетантском уровне, почти никто здесь не стыдится быть профаном в области терминологии.
Небольшое отступление. Художник Борис Жутовский недавно рассказал о своем "искусствоведческом" диспуте с Хрущевым на трагически-легендарной выставке в Манеже 1962 года. Не любивший сдвигов и отклонений от норм Хрущев сказал художнику: "Если взять картон, вырезать в нем дырку и приложить к портрету Лактионова, что видно? Видать лицо. А эту же дырку приложить к твоему портрету, что будет? Женщины меня должны простить жопа"*****. Давайте подумаем: почему глава государства воспользовался таким, мягко говоря, некорректным словом. Дело не только в его грубости. Ну, сказал бы сдержаннее: "ерунда", "чепуха", "абсурд" - суть не на много бы изменилась. Причина тут в том, что Никита Сергеевич не знал слова "гротеск". Ведь то, что у Жутов-ского было, - это гротеск, а не... Ну, в общем, не то, что Хрущев там увидел. А знал бы Хрущев термин "гротеск" - то понимал бы, что с древнейших времен существует традиция искусства, не копирующего предметы, а трансформирующего их очертания и пропорции.
Со временем Хрущев ощутил дефицит своих искусствоведческих познаний. "Меня обманули! Мне не объяснили, я-то ничего не понимал в живописи, я крестьянин!" - пожаловался он, уже будучи пенсионером, посетившему его Высоцкому, о чем рассказано в книге М.Влади. Наверное, и в песнях Высоцкого отставному правителю не все было понятно, поскольку по способу обращения с материалом -и жизненным, и словесным - Высоцкий ближе к "модернистам", чем к "реалистам". Словесная гипербола, поэтический гротеск Высоцкого сопоставимы с фантазиями Михаила Шемякина и Эрнста Неизвестного. Критерии мелочного правдоподобия, нормы Лактионова или Шилова тут не сработают. Вспомним хотя бы:
И ветер дул, с костей сдувая мясо
И радуя прохладою скелет.
- Хорошо, я в отличие от Хрущева про гротеск и гиперболу кое-что слыхал. И считаю, что по этой части Высоцкий часто перебарщивал. Чего стоит, например, его жуткое описание людей-насекомых, но главное-то, что песня о них называется "Гербарий", а гербарий - это коллекция засушенных растений. Растений, а уж никак не насекомых. Или это тоже -гипербола?
- Да нет, для гиперболы слишком уж простовато. Тут, поздравляю вас, вы Высоцкого действительно ущучили. Перепутал он. Одно только могу сказать в его оправдание: не он один позабыл, что такое гербарий. Вот, скажем, у очень чуткого к слову поэта Виктора Сосноры читаем: "На лыжном трамплине -паук-альпинист... Булавка была бы - найдется гербарий!" Очень уж не хватает такого слова, чтобы обозначить нашу зарегламентированную, бюрократизованную социальную систему, где каждый из нас как булавкой приколот. Да, у русских писателей (за исключением разве что увлекавшегося энтомологией Набокова) всегца были нелады по части ботаники и зоологии. Лермонтов придумал львицу с гривой, Тургенев помещал в пейзаж растения, которые одновременно цвести никак не могут. А.К.Толстой говорил об "орлиных стаях", хотя птицы эти летают только поодиночке. Самые что ни на есть ошибки. Но, как говорится, мы ценим прозаиков и поэтов не только за это.
- Ну, насчет флоры и фауны ошибки еще сравнительно безобидны. Но вот у Высоцкого явный прокол по части этнографии, незнание национального вопроса:
Пока меня с пути не завернули,
Писался я чечено-ингушом.
Чеченцы и ингуши, между прочим, - это два совершенно разных народа. Поначалу у них были две разные автономные области, которые потом по сталинской модели соединили в одну автономную республику. В сорок четвертом году республику упразднили, чеченцев и ингушей выслали в Среднюю Азию. После двадцатого съезда Чечено-Ингушская АССР была восстановлена, но, несмотря на объединяющее название, отношения там между чеченцами и ингушами отнюдь не идиллические. В общем, "писаться чечено-ингушом" - выдумка, которая могла прийти в голову только человеку, об этом крае ничего не знающему.
- Нет, кое-что Высоцкий знал о них, о чем свидетельствует и цитируемая вами песня "Летела жизнь". С какой ведь горькой иронией там сказано, что чеченцы сами собой "намылились с Кавказа в Казахстан". Не стану утверждать, что Высоцкий был знатоком этнографии, но думаю, что "чечено-ингушом" герой его песни записался не по ошибке. Ведь какая у этого героя вообще анкета? "Я мог бы быть с каких угодно мест... Живу - везде, сейчас, к примеру, в Туле". Это тип простого русского человека, способного близко к сердцу принимать боль других народов, не просто уживаться с ними, но и сживаться всем сердцем. "Из детства помню детский дом в ауле // В республике чечено-ингушей" - вот мы совсем недавно прочли об этом и у Приставкина в его "Тучке золотой". И Высоцкому, и Приставкину, и многим русским людям мало что говорят такие штампы, как "дружба народов", "сплотила навеки великая Русь", "чувство семьи единой", но им присущи великодушие и сострадание, чувство равенства с людьми других национальностей, готовность понять их, побывать русским-евреем-армянином-азербайджанцем - и так далее, и так далее - с бесконечной цепью дефисов между названиями всех многострадальных народов нашего неблагополучного Отечества. Вот как я расшифровал бы эту ошибку Высоцкого...
- По-вашему получается, что чем больше ошибок, тем лучше.
- Нет, я так не считаю, но за безошибочностью современных стихов (вспомните-ка опять примеры из "Дня поэзии") стоит просто бессодержательность, однообразие, отсутствие творческого и человеческого любопытства. А Высоцкого влекло ко все новым и новым темам, сюжетам, характерам. Это было постоянно чревато неточностями в деталях, что, однако, искупалось искренней заинтересованностью, азартной жаждой как можно больше увидеть, узнать и понять. И заметьте: мы с вами спорим об ошибках словесных, а разговор как-то исподволь выходит на ошибки самой жизни, на ошибки страны, ошибки истории. И это не случайно. Многие слова у Высоцкого как будто расстались со своим привычным значением, но еще не нашли нового и окончательно определенного. Импульсивное, вызывающе-неточное, взвинченное слово Высоцкого так и ищет какие-нибудь противоречия - трагические или комические.
Высоцкий нередко, что называется, берет на себя ошибки чужие. "Помню Клавка была, и подруга при ей, - // Целовался на кухне с обоими". Тут-то, конечно, ясно, что "при ей" и "обоими" - речевая характеристика персонажа, что таким способом сам автор не изъясняется. Но у Высоцкого автор от героя стеною не отделен. Порою и в свою собственную речь вставляет он ненормативное, жаргонное или просторечное словечко - как колоритную примету времени, среды, атмосферы:
Ах, черная икорочка
Да едкая махорочка!..
А помнишь - кепка, челочка
Да кабаки до трех?..
А черенькая Норочка
С подъезда пять - айсорочка?
Именно "черенькая" (как пел Высоцкий, как воспроизведено в издании "Книжной палаты"). Именно так говорила послевоенная дворовая "братва" - и для Высоцкого существенна эта речевая краска. Тут, между прочим, сказалось определенное преимущество "магнитиздата": уж если в посмертных изданиях (и советских, и в американском) поправлено на нормативное "черненькая", то живому автору наши редакторы тут же бы заявили: так не пишут. А что так говорят живые люди - до этого никому, как правило, дела нет. Безошибочный язык - как дистиллированная вода: безопасная, но невкусная. А язык Высоцкого - вода живая. Так что лично мне все ошибки Высоцкого дороги. А редакторское вмешательство и сегодня может принести немалый вред его текстам. В "Нерве", например, песня "Один музыкант объяснил мне пространно..." заканчивается следующим образом: "Но кажется мне, не уйдем мы с гитарой // на заслуженный и нежеланный покой". Да к тому же эти две строчки в таком виде патетически процитированы в предисловии составителя Р.Рождественского, а вслед за ним стали цитироваться другими, выноситься в эпиграфы. Песня, может быть, и не принадлежит к лучшим созданиям Высоцкого, но все же такого ничем не оправданного ритмического искажения у автора нет. Высоцкий пел: "в заслуженный и нежеланный покой" (так дан текст и во втором томе американского трехтомника, что абсолютно правильно). Высоцкий в данном случае не ошибся, а сознательно заменил "на" на "в" - и не в угоду размеру, а с целью передать смысловой оттенок. "На покой" -означает в отставку или на пенсию. Представить Высоцкого пенсионером, сменившим творческую работу на "заслуженный отдых", невозможно при самом смелом воображении. Сочетание "в покой" возникло явно по аналогии с выражением "в мир иной". О смерти тут речь идет, а не о чем-либо другом, ибо для Высоцкого жить - значило писать песни и петь! Можно спорить о степени удачности такой языковой трансформации, но не принимать ее во внимание, а тем более исправлять значит игнорировать тот смысл, который хотел нам автор передать.
- Слушайте, - перебивает Недовольный, - а не приписываете ли вы Высоцкому какие-то неведомые ему мысли? Вы из него прямо такого интеллектуала делаете, а ведь он, по-моему, был человек довольно простецкий.
- Ну, а мы вот с вами какие люди? Интеллектуалы или простецкие?
- Ну, при чем тут мы? Речь о другом.
- Нет, очень даже "при чем". Потому что противопоставление "интеллектуализма" и "простоты" - аномалия именно нашего времени. В более благоприятные для духовной жизни времена демократичная простота облика и поведения была нормой для крупнейших интеллектуалов. Таких, как Пушкин, как Лев Толстой, который даже переделал свою фамилию в "Простой", чтобы назвать так целую семью в "Войне и мире", потом уже из Простого получился Ростов...
- Так то простота великих. Но у них за этим культура огромная стояла, образованность. А у Высоцкого ведь культурный багаж был невелик.
- А как вы, простите, этот багаж взвешивали? На каких весах?
-Да просто не верю я, что культурный человек смог бы сочинить строки вроде:
- Ну и дела же с этой Нинкою!
Она жила со всей Ордынкою,
И с нею спать ну кто захочет сам!..
- А мне плевать - мне очень хочется!
- Но это же персонаж говорит, а не автор!
- Да я уж как-нибудь понимаю это и не думаю, что у Высоцкого был роман с наводчицей. Но не слишком ли близко ко всему этому автор стоит, не возвышаясь над уровнем персонажей? Культурному человеку присуща какая-то брезгливость, что ли...
- Вот тут я с вами не соглашусь в принципе. Опять вспоминается Лев Толстой. Со своей будущей женой и ее сестрой пришли они как-то в деревню, и там одна баба показала им своего больного ребенка, покрытого гнойной коростой. И вот Лев Николаевич похвалил потом сестер Берс за то, что они не отвернулись, не поморщились. Брезгливость, чистоплюйство с культурой ничего общего не имеют. Иначе не шли бы женщины из благородных семей в сестры милосердия, не протягивали бы русские интеллигенты руку помощи и невинно осужденным людям, и тем, кто сам стал на стезю порока. А вот потом, когда подлинная культура и интеллигентность почти полностью были изведены , - вот тогда и распространилась среди людей вроде бы образованных эта брезгливость, это равнодушие к чужой боли, эта склонность смотреть как на прокаженных на всех, у кого судьба сложилась трагически.
- Вы считаете, что Нинка-наводчица достойна внимания и уважения?
- Начнем с того, что Нинка - лицо вымышленное, что оценивать ее надо как художественный образ. Но главное Лицо в песне не она, а рассказчик. Конечно, ему крупно не повезло с предметом страсти, но важна сама неподдельность чувства. Человек идет наперекор мнениям своей среды, проявляет себя как независимая, суверенная личность. Вот подспудный, глубинный смысл песенного сюжета.
-А личностей поприличней автор для этого подыскать не смог?
- Нет, ему и нужен был "неизящный" материал. Историй о том, как молодой человек отбивается от компании дружков, влюбившись в чистенькую комсомолку или в учительницу вечерней школы, мы читали и видели достаточно - во всех жанрах. Но в душе не очень верили. А тут ситуация эмоционально убедительная.
- Куда уж убедительней: "... она же грязная, // И глаз подбит, и ноги разные..." Без грязи никак обойтись нельзя?
- Можно, если бы ее не было так много в окружающей нас действительности. Это, как сказал бы Чернышевский, "грязь реальная", так что приходится с ней постоянно иметь дело. И художник, обращающийся к "грязным" темам, всегда рискует быть скомпрометированным с позиций поверхностно понимаемой "культуры".
- Значит, я понимаю культуру поверхностно, а вы глубоко. Спасибо. Но скажите, положа руку на сердце, что же, по вашему мнению, Высоцкий был основательно осведомлен в литературе и ее тонкостях?
-Для какого-либо мнения на этот счет нужны были бы точные факты. Думаю, что и люди, близко знавшие Высоцкого, не смогли бы твердо и определенно высказаться о степени его литературной эрудированности. Выступать судьей в таком вопросе -верх самонадеянности. Берусь высказать только некоторые предположения на этот счет, основываясь в первую очередь на текстах Высоцкого: стихах, песнях, импровизированных монологах о себе, о театре, произнесенных им на концертах.
Полагаю, что у Высоцкого был, так сказать, актерский тип литературного образования. Это прежде всего обусловлено тем, что он закончил Школу-студию МХАТ (программа которой чем-то отличается от, скажем, университетского филфака). Ну и постоянная работа в театре и кино формирует особый тип эрудиции, не такой, как эрудиция литературоведа или критика, вузовского или школьного преподавателя литературы. У каждого типа есть свои плюсы и минусы: актер, как правило, располагает меньшим, чем преподаватель, запасом историко-литературных сведений, зато ему приходится помнить наизусть множество литературных текстов, связанных с его ролями, что само по себе благотворно (если не иметь в виду тексты вроде "Стряпухи" Софронова, в фильме по которой Высоцкий имел несчастье сниматься; впрочем, не почерпнул ли он и отсюда некоторый материал для пародийной иронии своих песен на сельские темы?).
Будучи актером по образованию, Высоцкий, надо заметить, совершенно не был склонен играть в "образованность", казаться более начитанным, чем он был на самом деле (а такая слабость, вполне простительная для талантливых людей, водится за многими актерами). Скорее наоборот: Высоцкий был иногда склонен шутливо притворяться этаким профаном, продолжая в жизни ту игру, которую он постоянно вел в своих сатирических песнях. В книге М.Влади рассказано, как Высоцкий, "потрясая какой-то серой книжкой", восклицал:"... Этот француз - он все у меня тащит! Он пишет, как я, это чистый плагиат! Нет, ты посмотри: эти слова, этот ритм тебе ничего не напоминают? Он хорошо изучил мои песни, а? Негодяй! И переводчик мерзавец, не постеснялся!" После чего выяснилось, что автор книги - Артюр Рембо, живший в прошлом веке. Нисколько не сомневаясь в подлинности изложенного в книге эпизода, нельзя не задаться вопросом: откуда Высоцкий мог знать, что читает именно "француза", что у книги есть переводчик, если он не видел титульного листа? Можно предположить, что в данном эпизоде имела место шуточная мистификация, что Высоцкий имитировал неведение, что ему просто было радостью увидеть нечто похожее на свой стиль в переводном тексте Рембо, а чтобы сопоставление прозвучало эффектнее, он и сыграл в "невежду". Песня "О фатальных датах и цифрах" (1971) недвусмысленно свидетельствует, что Высоцкому было известно не только имя Рембо, но и количество лет, прожитых этим поэтом, - тридцать семь. Просто шутливая игра, самоирония могли из песен переходить в жизнь, в разговоры с близкими.
Высоцкий не пытался возвыситься над читателями и слушателями, он как бы говорил им: все мы ("мы", а не "вы"!) недостаточно образованны и культурны, о художественных ценностях имеем нередко самое поверхностное представление. Так, он явно провоцирует нас, заставляя Леонардо да Винчи в песне "Про любовь в эпоху Возрождения" обращаться к Моне Лизе со следующими словами:
"Знаешь ли ты, говорят
Данте к своей Алигьери
Запросто шастает в ад!.."
Засекли ошибку?
- Ну, конечно, Данте "шастал" не к Алигьери - это его собственная фамилия, а к Беатриче.
- Что ж, имеете полное право считаться культурным человеком. Это не я вам говорю, а автор песни, автор мистификации. А я вас хочу спросить: существуют ли среди наших соотечественников люди, для которых что Алигьери, что Беатриче - все едино?
- Существуют, и в немалом количестве.
- Так вот это массовое невежество и пародируется в путаном языке песни. И, заметьте, в достаточно добродушной, не оскорбительной для собеседника манере. Но вернемся к вопросу об эрудиции Высоцкого. Принадлежа по воле судьбы к актерскому типу литературной культуры, он, судя по текстам его, непрерывно пополнял свой багаж. "Мой мозг, до знаний жадный, как паук", - это сравнение из стихотворения "Мой Гамлет" - не надуманное, а достаточно органичное для сознания автора. А ведь, если говорить в широком социокультурном плане, степень образованности гуманитария нашего времени (включая сюда и время жизни Высоцкого) в значительной мере зависит от степени его личной "жадности", от интенсивности самообразования и культурной интуиции. Боюсь, что средние выпускники филфаков и театральных вузов в одинаково малой степени осведомлены, скажем, насчет того же Данте и его отношений с Беатриче Портинари. Советское образование обеспечивает нам всем разве что равенство, а дальнейшее уже зависит от каждого. И Высоцкий я опять-таки имею в виду только свидетельства его текстов - постоянно был неравнодушен к литературе: отсюда обилие цитат, реминисценций, пародийных переделок******. Его образованность была не количественной - качественной, а дух всего творчества, я бы сказал - культуростремительным. Высоцкий обладал сильным филологическим инстинктом и развивал его в себе. Это даже в мелочах заметно. "Мне поделом и по делам", - говорится в одной песне. А ведь наречие "поделом" и означает изначально "по делам"; такая была в древнерусском языке падежная форма. В Школе-студии МХАТ древнерусский язык, по всей вероятности, не изучается, но интуиция, как видим, может заменить знание.
- Этак каждый может сказать: у меня знаний нет, зато интуиция побольше вашей. Я, мол, не читатель, а писатель.
- Верно. Мы тут с вами выходим на очень важную духовную проблему. Литературе нужны и культурный писатель, и культурный читатель - это аксиома. Невежественный писатель - абсурд, хотя в нашем веке и в нашей стране так много было сделано, чтобы утвердить этот абсурд как норму! К счастью, не получилось - слишком велико оказалось сопротивление здравого смысла. Но пойдем дальше. Культура -предмет многослойный, многосоставный. И в ней неизбежно выделяются культура писательская и культура исследовательская. В исследовательскую входит и читательская - если читатель берется не просто молча воспринимать произведения, а высказывать о них какие-то суждения, оценки им давать. И требования к каждой из этих культур предъявляются разные. Представим, что человек написал превосходное стихотворение, но при этом не знает, что написал его амфибрахием или анапестом. Досадно, конечно, что автор так малообразован, но стихотворение от этого хуже не становится. (Ситуацию я выдумал, конечно, крайнюю, для чистоты эксперимента.) А когда не пишущий стихов человек берется стихи оценивать, не отличая при этом амфибрахия от анапеста, - его оценкам грош цена, и тут никакие ссылки на интуицию и вкус не помогут. Исследователь, критик, читатель должны располагать необходимым культурным багажом - я тут вашим словом пользуюсь.
А вот поэт, прозаик, драматург оцениваются нами только как авторы текстов. Что там у них в "багаже" - никакого значения для оценки текста не имеет. Важна только энергия, вложенная в текст и передаваемая читателю. Когда же автор вялого текста пытается "усилить" его какими-то престижными "культурными" знаками - эпиграфами, цитатами, именами, - то все это не более чем багажная квитанция. Информированность не заменит таланта, творческой энергии. Эрудиция писателя - это, если угодно, материал. Важно, как он этим материалом сумел воспользоваться, что он смог из него сделать. Мандельштам, сдавая экзамен по античной литературе профессору Церетели, не смог ничего толком рассказать об Эсхиле - тот самый Мандельштам, который написал: "Бессонница. Гомер. Тугие паруса..." Но мы-то ценим поэта не по экзаменационным критериям, а по тому, какую огромную энергию извлек он из античного материала, как смело и убедительно соединил он Элладу и Россию, два речевых и музыкальных строя.
- Мандельштаму - мандельштамово, а где у Высоцкого этот культурный материал, как вы говорите? Уж у него вы не найдете ни "пенья аонид", ни "рассказов Оссиана", ни "блаженных слов": "Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита"...
- Да, но найдем другое. Найдем очень своеобразную смелость и раскованность в обращении с классическими текстами. Вспомним вариации Высоцкого на пушкинские темы...
- Вульгарщину эту? Где от волхвов разит перегаром, а тридцать три богатыря соблазняют русалку? Ничего себе, смелость!
- Ну, во-первых, у Высоцкого не сказано, что русалку соблазнили все тридцать три богатыря. Давайте все-таки придерживаться текста. А то многие почему-то считают, что с Высоцким как автором можно не церемониться. В свое время журналисты Б.Мушта и А.Бондарюк в "Советской России" поливали Высоцкого, приводя в доказательство строки из... Ю.Визбора и Ю.Кукина. Да и сегодня многие пишущие о Высоцком - в том числе и положительно его оценивая - цитируют крайне небрежно, с отсебятиной.
- Ладно, извините, но грубость Высоцкого по отношению к Пушкину остается грубостью.
- А древнегреческую "Войну мышей и лягушек", где герои "Илиады" предстают в самом потешном виде, вы тоже считаете грубой? А русские народные пародии на былины, на свадебные песни?
- Про лягушек и мышей я что-то слышал, но, честно говоря, не читал. А пародии на былины - что, были такие?
- Были, и порой там встречаются такие неприличные шуточки, на фоне которых остроты Высоцкого выглядят довольно чопорными. И пародировались самые высокие, самые серьезные фольклорные тексты. Так что это просто очень давняя традиция, к которой оказался причастным Высоцкий. Ведь он ко стольким фольклорным жанрам обращался: песня, сказка, частушка. Естественно, и народная пародия оказалась в этом ряду. Суть такого пародирования (или уж если совсем точно выражаться - травестиро-вания, то есть "переодевания", "выворачивания") не в том, чтобы опорочить высокий образец, а в том, чтобы применить высокую поэзию к "низкой" реальности и по-новому ее осветить. Классика нам дает эталон гармонии - и эстетической, и, так сказать: бытийственной. Ведь почему нам так дороги с детских лет строки: "У лукоморья дуб зеленый..."? В самые ранние годы мы принимаем их как идеальную модель мироздания, верим, что всегда этот дуб будет стоять на месте, и златая цепь пребудет вечно, и кот ученый...Но не может живой и мыслящий человек удержаться от того, чтобы не сравнить идеал с действительностью. И что он видит, если смотрит честно? "Лукоморья больше нет..." Но ведь если со всей трезвостью посмотреть на то, что нас окружает, на все наши социально-экономические и культурные обстоятельства, - что вы скажете: есть Лукоморье или его нет?
- Пожалуй, что нет.
- Ну, вот. А, скажем, Кот ученый, то есть в созданном Высоцким "антимире" интеллигент, труженик культуры, который "направо - так поет" (то есть воспевает наши достижения), а "налево - так загнет анекдот" - это что: выдумка или правда?
- Похоже на правду.
- То же и обо всех остальных образах можно сказать. Пушкинский текст и понадобился Высоцкому, чтобы достигнуть полноты, сатирической полноты, чтобы на основе сказки выстроить смелую и решительную антисказку. Так что для Пушкина оскорбительного здесь ровным счетом ничего нет. Думаю, что Александр Сергеевич на такую переделку не обиделся бы. Ведь сам он кого только не переиначивал! В той же поэме "Руслан и Людмила" Жуковский пародируется, да и над своими собственными персонажами автор подшучивает: помните, как автор сравнивает Черномора с коршуном, а Людмилу - с пойманной им курицей. По существу, автопародия. С учетом этого фраза Высоцкого "Он давно Людмилу спер, //- ох, хитер!" звучит не так уж фамильярно.
- Что же, значит, это хорошо - с Пушкиным на дружеской ноге?
- Если талантливо, то - да. Владеть культурой -значит быть с ней на дружеской ноге. Одного почтительного трепета - мало. Культура, и пушкинская в том числе, ждет от нас, чтобы мы с ней почаще разговаривали, привлекали к сегодняшним вопросам.
- Ну на какие там вопросы отвечают эти пьяные волхвы!
- На самые важные и болезненные. О том, как оценить наше настоящее и что нас ждет в будущем. Загонять ли нам опять все болезни внутрь - или же прибегнуть к радикальным лекарствам. Позиция Высоцкого отчетлива: "Волхвы-то сказали с того и с сего, //Что примет он смерть от коня своего". То есть дела наши неблагополучны и отмахиваться от тревожных прогнозов непростительное легкомыслие. Не зря, между прочим, вспомнил о Высоцком один из делегатов первого Съезда народных депутатов, резонно заметив, что Высоцкий на этом съезде неизбежно бы оказался среди радикального меньшинства и был бы отвергнут не желающим тревожиться большинством.
- Ну а без Пушкина тут никак нельзя было обойтись?
- Что это вам так хочется обойтись без Пушкина? За что вы его так не любите и норовите навсегда замуровать в книжном шкафу? Можно, конечно, на ту же тему высказаться и без Пушкина, а использовать миф о вещей Кассандре, что и сделал Высоцкий в том же 1967 году. Да и вообще мотив отвергаемого пророка, ясновидца многократно занимал его творческое воображение. Но, присоединяясь к преследуемым ясновидцам (Высоцкий это слово освобождал от мистического оттенка и в устном комментарии к песне иногда говорил: "Ясновидцы -это люди, которые ясно видят"), поэт чувствует, что толпу очень трудно убедить в своей правоте: не желают люди слышать правду. Тут надо кого-то на помощь звать, и очень сильного при этом. Вот Пушкин и понадобился со своим авторитетом.
- В общем, Пушкина заставим работать за себя?
- Ничего, Пушкину не привыкать трудиться. И "Песнь о Вещем Олеге" оживает в нашей памяти, в душе. Мы ведь со школьных лет это произведение помним довольно механически, редко осмысляем и переживаем заново. Но Высоцкий не паразитирует на классическом образце, а выстраивает по его канве совершенно самостоятельное произведение. Даже название другое: "Песня о Вещем Олеге" - четко произносил автор перед исполнением, и этот оттенок (зафиксированный только в издании "Книжной палаты") важен. В эпической песни Пушкина и Олег, и вдохновенный кудесник исполнены в одинаковой степени внутреннего достоинства, а ситуация в целом - высокого и вечного трагизма. В горько-иронической песне Высоцкого правитель и не думает спрашивать волхвов о будущем, а уж слушать их не желает тем более. В дело вступает дружина, жестоко расправляющаяся с предсказателями. И сюжет трансформирован в духе нашего жестокого века, и язык к нему приближен: грубоватый, прозаичный, обыденно-разговорный. Это помогает нам самим включиться в ситуацию, найти свое место в споре. Короче говоря, это не простое использование классического текста, это диалог с ним.
А как неожиданно и дерзко мелькают у Высоцкого пушкинские цитаты!
Вача - это речка с мелью
Во глубине сибирских руд,
рассказывает у него бродяга, "бич", из почтения к классику переходя в одной строке с хорея на ямб. Вроде бы непринужденная шутка, а за нею напоминание о том, что и ныне ведь во глубине этих руд в весьма суровых условиях трудятся люди...
-Да бросьте вы, это шутка без всякой задней мысли! Автор ничего такого в виду не имел.
- Но сам текст это имеет в виду. В том-то и состоит творческое остроумие, что "доля правды", содержащаяся в шутке, порой не сразу видна даже автору, что она нам становится понятной после раздумья или со временем. Но это не главное. Главное - свобода обращения с классическими образцами. Без такой свободы нет и подлинной культуры.
- Как же! Мы так свободно обращались с культурой, что почти всю ее извели!
- Верно, но травестирование, переиначивание, вольное цитирование ничего общего с разрушением не имеют. Культура нуждается не только в бережном отношении (оно требуется опять-таки от читателей и исследователей), но и в постоянном возобновлении. Разрушительнее всего для классических шедевров -равнодушие, забвение, нечтение и непереживание их заново. Само слово "культура", между прочим, восходит к слову "colere" обрабатывать, возделывать. И подлинная культура писателя - в творческой смелости, готовности заново перепахивать пласты и житейского, и традиционно-литературного материала.
- Ну а как вы объясните тот факт, что Высоцкий стал составной частью массовой культуры, что основной контингент его поклонников - это люди, как правило, малообразованные, неспособные оценить и понять, допустим, Пастернака и Мандельштама...
- Не скажите. Еще при жизни Высоцкого его творчество высоко оценили, к примеру, такие строгие судьи, как М.В.Розанова и А.Д.Синявский, как раз весьма искушенные и в Пастернаке, и в Мандельштаме. Или вот Давид Самойлов - замечательный поэт, квалифицированный исследователь поэзии, в общем образцовый и безупречный представитель высокой культуры, - он тоже принял поэзию Высоцкого еще в семидесятые годы и потом продолжал ее защищать от нападок. Впрочем, стоит прямо процитировать Самойлова и его глубокие мысли о ложности противопоставления элитарной и массовой культур, сформулированные как раз в разговоре о Высоцком: "Не лучше ли говорить о единой национальной культуре, основанной на единстве понятий народа и творцов его искусства и философии? Есть ли разница между массовой культурой и народной?.. И еще один, последний вопрос: не является ли интеллектуализм Высоцкого принадлежностью обеих искусственно разделенных сфер духовной жизни и опровержением идеи их антагонизма?"*******
Не секрет, что некоторая часть "высоколобых" читателей по отношению к Высоцкому выдерживает снобистскую дистанцию. Что тут можно сказать? Может быть, это происходит от недостаточной самостоятельности мышления, от боязни "совпасть" с общим мнением, от желания расходиться с ним во что бы то ни стало. А может быть, Высоцкий и сегодня еще слишком молод и свеж для почитателей монументальной старины. Вот исполнится ему сто лет - тогда сделается он престижной темой для рафинированных филологов. А будущим поэтам еще станут говорить: куда вам до высот Высоцкого!
- А вот недавно своим любимым поэтом Высоцкого назвал депутат Червонопиский - тот самый, что на первом Съезде "обличал" академика Сахарова. Других любимых поэтов у него не нашлось.
- Ну и что? А я даже рад за Червонопиского. Если он еще глубже вникнет в произведения Высоцкого, то, безусловно, к афганской войне и к деятельности Сахарова изменит свое отношение. И еще он непременно заинтересуется другими большими русскими поэтами, поэзией вообще. Есть такое свойство творчества Высоцкого - оно разомкнуто в мир культуры, и читателя туда энергично вовлекает. Высоцкому дорого все живое - и в культуре, и в хаосе повседневности. Не в этом ли, кстати, и состоит главный критерий того "гамбургского счета", на который мы с вами ориентируемся. В "Гамбурге" ведь побеждает тот, кто динамичнее, живее. "Живым и только, живым и только до конца", - тысячу раз повторяем мы с вами, не вдумываясь в эти слова, не переживая их смысл заново. А ведь это формула высшей цели искусства, цели, для осуществления которой годятся разные средства. Можно выйти за пределы письмен-ной формы и подключить к тексту энергию голоса, музыки, актерской игры и авторской театральной режиссуры. Можно ввести в поэзию уличное просторечие. Можно впустить в нее толпу бесцеремонных и неизящных персонажей с их негладкими речами и судьбами. Можно взять на себя изрядную долю их ошибок и прегрешений. Все можно - чтобы быть живым. И в этом - творческая правота Высоцкого.
- Не знаю. Надо все-таки еще послушать, почитать, подумать.
- Вот именно. О том и речь.
Я дышу, и значит - я люблю!
Я люблю, и значит - я живу!
В ПОИСКАХ КЛЮЧА
В чем смысл всего написанного Владимиром Высоцким? Что он хотел сказать и сказал людям?
Память незамедлительно находит строки, которые могли бы служить своеобразным авторским паролем, афористическим конспектом творчества поэта. Строки, рожденные горестным отчаяньем:
Нет, ребята, все не так!
Все не так, ребята...
Строки, исполненные стойкой бескомпромиссности:
Пусть впереди большие перемены
Я это никогда не полюблю!
-----
Ни единою буквой не лгу...
Строки, полные глубокой веры в вечные и неоспоримые духовные ценности:
...добро остается добром
-В прошлом, будущем и настоящем!
------
Я дышу, и значит - я люблю!
Я люблю, и значит - я живу!
Наконец, строки, соединяющие авторское отрицание и утверждение жизни, содержащие абсолютный синтез, итог творчества:
Я умру и скажу, что не все суета!
Это все твердо и уверенно сказано Высоцким, это все подтверждено его жизненным и творческим опытом, его судьбой. Но это еще не все, что он сказал. Единое слово Высоцкого о жизни и о человеке, чувствуем мы, богаче, многогранней, разветвленное любых, даже самых четких и емких цитат из этого автора. Ведь Высоцкий - это еще и множество разнообразных тем, сюжетов и характеров. Это еще и хор разных человеческих голосов. Это еще ирония и юмор, шутка и розыгрыш. Песни и стихи Высоцкого не изолированы друг от друга, они вступают в диалог, в спор, группируются в явные и неявные циклы, образуя вместе непростой смысловой узор. Как разобраться в нем?
Поговорить о каждой песне по отдельности, а потом обобщить? Это было бы весьма заманчиво. У Высоцкого есть произведения более удачные, просто удачные, менее удачные, но нет такого, о котором бы нечего было сказать. А очень многие вещи явно требуют активной нашей интерпретации, какого-то истолкования с нашей стороны. Ведь невозможно говорить, скажем, о песне "Про Сережку Фомина" или о "Странной сказке", о песне "Штормит весь вечер, пока..." или о "Песенке про Козла отпущения", о "Гербарии" или "Райских яблоках", не предложив своих версий, разных, может быть, даже взаимоисключающих. Ведь тут результаты смысловой "расшифровки" песен у нас могут очень даже не сойтись. Так что сесть бы нам и поделиться опытом прочтения, опытом осмысления и читательского переживания каждого произведения Высоцкого. Одна беда - не хватит на это ни времени, ни бумаги. Нужен какой-то путь более стремительный и интенсивный.
А он один - исследовать все написанное Высоцким как целое, как систему, выработать такой ключ, который подходит и к целому, и к любой из частей. Это нелегко, но возможно.
Дело до некоторой степени облегчается тем, что Высоцким написано не просто более шестисот стихотворных текстов, не считая фрагментов, набросков и экспромтов, - им написана большая и по-своему стройная книга. Ведь когда все мы повторяем, что у Высоцкого при жизни книг не было, мы высказываемся не совсем точно. Это ведь смотря как понимать, что такое книга. "Непериодическое издание в виде сброшюрованных листов печатного материала", как определяет экциклопедический словарь? Но существует еще и определение Бориса Пастернака:
"Книга есть кубический кусок горячей, дымящейся совести - и больше ничего". Пожалуй, второе определение больше подходит к предмету нашего разговора. Узреть свои произведения в виде сброшюрованных листов печатного материала Высоцкому не довелось. А вот куском дымящейся совести его творчество стало очень скоро и остается им сегодня. Ведь если говорить по большому счету, главная задача писателя -создать книгу о времени и о себе, публикация же -дело второе. Русская поэзия поняла это с давних пор. Баратынский в своей эпиграмме 1826 года провел четкое различие между двумя типами литераторов:
И ты поэт, и он поэт;
Но меж тобой и им различие находят:
Твои стихи в печать выходят,
Его стихи - выходят в свет.
Очень современно звучат эти строки, хотя их автор и вообразить не мог, что такое цензоры и редакторы двадцатого века. К независимости от полиграфического процесса русская поэзия начала стремиться еще тогда, а с середины XIX века многие поэты стали писать книгами, выстраивая стихотворения в определенной последовательности, группируя их в циклы, а циклы в свою очередь соединяя в более крупные образования. Характернейший пример - творчество Блока, разделившего свою лирику на три книги и называвшего трилогию в целом -романом в стихах. Для каждого стихотворения Блока существенно, в какой цикл и в какую книгу оно входит, с какими стихами соседствует. Или, скажем, Ахматова. Любой внимательный читатель без усилия припомнит книжный спектр ее поэзии: "Вечер", "Четки", "Белая стая", "Подорожник", "Anno Domini", "Тростник", "Седьмая книга" - хотя ни "Тростник", ни "Седьмая книга" как факт полиграфии не существуют. Отдельно сброшюрованными они не выходили. Но как факт искусства, как "куски совести" они, естественно, есть. (В то же время основательно отцензурованные и отредактированные книги 1958 и 1961 годов, носившие нейтральное название "Стихотворения" Ахматова родными для себя как бы не считала. Издание 1961 года она называла "лягушкой" - надо думать, не только за малый формат и зеленый цвет переплета.)
Все это говорится вот к чему. Идеологический контроль над литературой, бюрократическое вторжение в самую интимную сферу индивидуальной творческой деятельности постепенно приводило к утрате книги стихов как своеобразного жанра, как факта культуры. Редактор и цензор, к несчастью, стали слишком активными соавторами абсолютного большинства поэтических сборников. И дело не только в том, что на первое место в книге в качестве так называемого "паровоза" выставлялось какое-нибудь патетически-патриотическое стихотворение - пусть даже неудачное или для автора нехарактерное, что социально острые стихотворения либо сокращались, либо правились (особенно хороши были переброски места действия из нашей страны на Запад), что наиболее рискованные произведения после уговоров или угроз просто выбрасывались из рукописи, - дело в том, что подорвано было само искусство композиции, архитектуры поэтической книги.
И вот следствие. У многих ли поэтов, благополучно печатающихся долгие годы, отдельные произведения складываются в объемное, стереоскопическое целое, образуя нечто вроде романа в стихах? Да нет, реально говоря, в большинстве случаев нынешние стихотворные сборники - независимо от величины -представляют собою довольно механическое соединение разных опусов. Проверить это можно, зайдя в любой книжный магазин. На прилавках - обилие похожих друг на друга поэтических неликвидов. А внутрь загляните: отдельные стихи неотличимы друг от друга. Эти "сброшюрованные листы" напоминают пачки денежных купюр: считать их, может быть, и приятно, но читать просто невозможно. Нет внутреннего сюжета, движения, развития. Существуют, конечно, исключения - то есть те книги, которых как раз в магазинах и нет. Но сколько их? Как много бы мы ни насчитали - все равно страшно обидим остальных три тысячи скольких-то стихотворцев, числящихся на учете в СП СССР.
А вот Высоцкий, не состоявший в Союзе писателей, не имевший дел с издательствами, работал, если можно так выразиться, книжно - с первых же шагов. Он не просто слагал песню за песней, а выстраивал определенные смысловые ряды. Недаром он, например, часто говорил на концертах, что собирается довести количество своих спортивных песен до сорока девяти - как в "Спортлото", то есть тем самым высказаться обо всех существующих видах спорта. В этой шутке - большая доля правды. Ведь точно к такой же полноте стремился Высоцкий и в своих военных песнях, где каждый раз мы сталкиваемся с новым конфликтом, с новыми характерами. И в песнях сказочно-бытовых, где за фольклорными фигурами, за зверями да птицами отчетливо угадываются социальные типы нашей действительности. И в непринужденно-фамильярных вариациях на мифологические и традиционно-литературные темы, где Высоцкий заставлял вековую мудрость работать па распутывании наших сегодняшних противоречий. Пестрый и многоголосый песенный мир Высоцкого выстраивался постепенно и целеустремленно. Это своеобразная энциклопедия нашей жизни, где, что называется, "все есть" и все темы взаимодействуют, пересекаются друг с другом.
Строя свою будущую Книгу (так, с большой буквы, хочется назвать ту книгу, что написана Высоцким, книгу, существовавшую уже при его жизни, книгу, по отношению к которой все посмертные издания являются как бы переизданиями), Высоцкий интуитивно искал гармонию частей и целого, стремился к многогранности единого образа мира. Вспомним снова пастернаковское определение книги с несколько странным, на первый взгляд, эпитетом: кубический кусок совести. Почему "кубический"? Да потому, что страстный взгляд неравнодушного художника видит мир не плоско, а объемно. Примерно то же имел в виду и Булгаков, когда в "Театральном романе" наделил своего героя писателя Максудова волшебным зрением: "Тут мне начало казаться по вечерам, что из белой страницы выступает что-то цветное. Присматриваясь, щурясь, я убедился в том, что картинка эта не плоская, а трехмерная. Как бы коробочка, и в ней сквозь строчки видно: горит свет и движутся в ней те самые фигурки, что описаны в романе".
Разве не движутся на страницах Книги Высоцкого живые фигурки? Вот же они: бегущие по тайге зэка Васильев и Петров зэка, и дурачина-простофиля, не усидевший на ответственном стуле, и работяга, без труда сыгравший на бале-маскараде не чуждую ему роль алкоголика, и сентиментальный боксер, без единого удара одерживающий неожиданную победу, и провинциал, мечущийся по магазинам со списком на восемь листов, и легендарные супруги Ваня с Зиной, и вышедший к микрофону певец, и вышедший на исповедь Гамлет, и вырывающийся за красные флажки волк... Все - живые. И не просто "взятые из жизни", а созданные по законам искусства и по этим же законам ожившие.
А из отдельных "коробочек" и общая картина жизни выстраивается - и тоже объемная. Примечательно, что столь открытый навстречу людям, доброжелательный к аудитории, Высоцкий на своих концертах все же не очень охотно исполнял те песни, названия которых выкрикивались из зала и упоминались в записках. У него всякий раз был свой более или менее четкий план. Он стремился, чтобы программа концерта дала представление о разных гранях его творчества, чтобы совокупность двух-трех десятков песен передала то мироощущение и миропонимание, которое выражено в сотнях созданных им текстов. Иными словами, каждый концерт был своеобразным авторским "Избранным" - с определенным внутренним сюжетом, ходом мысли********.
Так возникал и выстраивался своего рода роман в песнях, та Книга, которую мы продолжаем читать и осмысливать сегодня.
Что говорить: мы немало потеряли оттого, что Высоцкий не успел написать свое, так сказать, текстологическое завещание, указать точный состав своих будущих изданий, их разделы и последовательность произведений внутри них. Поэтому никогда у нас не будет такого книжного издания, состав и композиция которого определены авторской волей, а вслед за этим основным корпусом по традиции следуют произведения, не вошедшие в основное собрание. Любые книги с подписью "Владимир Высоцкий" могут только угадывать структуру той Книги, о которой у нас идет речь. Но важно, что эта Книга существует, что сохранилось немало высказываний автора о ее облике.
Из них недвусмысленно следует, что Высоцкий придавал большое значение тематической циклизации: "Песни я пишу на разные сюжеты. У меня есть серии песен на военную тему, спортивные, сказочные, лирические. Циклы такие, точнее. А тема моих песен одна - жизнь"*********. Поэтому вполне закономерно, что первое книжное издание Высоцкого - "Нерв" (1981, 1982 испр.) было скомпоновано по тематическому принципу. Военные, спортивные, сказочные, лирические песни нашли там соответствующие рубрики. Конечно, многое в том издании носило компромиссный характер. Явно там не хватало раннего "криминального" цикла, политической сатиры (в частности, песен на "китайские" темы), политической лирики (скажем, таких важнейших для Высоцкого исповедей, как "Мой черный человек в костюме сером...", "Я никогда не верил в миражи..."). Но для ситуации 1981 года это издание было большим успехом, а его пробелы с сегодняшней точки обзора лишь подчеркивают стройность той Книги, с которой "Нерв" делался: многих важных "секций", "коробочек" недостает, но здание все-таки стоит, держится, поскольку его прочность обусловлена внутренней стройностью и системностью. Это был не весь Высоцкий, но все-таки Высоцкий.
Тематический принцип лег в основу песенной части книги "Четыре четверти пути", красноярского издания "Клич" и, что особенно интересно, наиболее полного издания стихотворных текстов Высоцкого - нью-йоркского трехтомного "Собрания стихов и песен", подготовленного Аркадием Львовым и Александром Сумеркиным. В первом томе представлены и четко выделяемые "блатные" (или "уличные") песни, спортивный и сказочный циклы, и достаточно условно поделенные на две рубрики песни сатирические и иронико-юмористические. Второй том включил драматические и лирические песни (в том числе военные и "связанные с покорением стихий"), "сюжетно-драматические песни-новеллы и лирико-драматические песни", есть здесь и подборка "лирических и гражданских стихотворений, выражающих жизненное кредо автора". Наконец, в третьем томе - наброски, варианты, "стихи на случай".
Композиционное решение трехтомника обнаруживает, в частности, что для Высоцкого ощущение темы было прочно связано и с ощущением жанра, что при всей условности составительских разграничении они опираются на закономерности, внутренне присущие творчеству Высоцкого.
Другой тип изданий - это книги с хронологической последовательностью произведенией: "Я, конечно, вернусь...", "Избранное", "Не вышел из боя", "Поэзия и проза". Не вдаваясь в характеристику этих изданий и различий между ними, хочется сказать главное: хронологический принцип не в меньшей степени, чем принцип тематический, демонстрирует нам единство и целостность творчества Высоцкого. Резкие переходы от темы к теме в рамках одного года говорят о многом, показывают динамику работы Высоцкого, широту его духовного диапазона.
Что же получается? Та самая Книга Высоцкого, о которой мы ведем речь, разворачивается в двух измерениях, и отдать предпочтение одному из них просто невозможно. Так и строил свой мир Высоцкий, так и нужно его читать, ощущая и тематически циклические связи, и ритм времени. Книга Высоцкого это своеобразный дом песен с тематическими "этажами". Каждое песенное "окно" располагается и по горизонтали, и по вертикали**********.
Но есть и еще одно, может быть, важнейшее измерение. Это смысловая глубина. Как строится смысл песен Высоцкого - всех вместе и каждой в отдельности? На этот вопрос невозможно ответить, не обратившись к индивидуальной поэтике Высоцкого. Если же мы уловим общую закономерность этой поэтики, то тогда сможем говорить о строении дома песен, не заходя в каждую комнату. Имея, однако, в руках такой ключ, который подходит к любой двери.
Я не люблю, когда стреляют в спину.
Я также против выстрелов в упор
СМЫСЛ ПЛЮС СМЫСЛ
Прежде чем приступить к такому разговору, зададимся на всякий случай еще одним вопросом: а нужно ли исследовать произведения Высоцкого, разбирать их внутреннее устройство (кто-то даже скажет: препарировать, анатомировать и т.п.)? Как-то А.В.Баталов, выступая по телевидению и давая высокую оценку самому феномену Высоцкого, вместе с тем усомнился: а стоит ли к Высоцкому подходить литературоведчески? Опасения эти понятны, особенно если учесть, что порою выдают за литературоведение.
Вот вышедшее в 1988 году в Ленинграде пособие для пединститутов "Русская советская литература". В разделе "Литература на современном этапе" жирным шрифтом - имя Высоцкого, даты его жизни. Приятно, конечно, что это имя наконец "допущено Министерством просвещения", что Высоцкому уделена целая страница с хвостиком - в четыре раза меньше, чем В.Федорову, но зато на несколько строк больше, чем самому Е.Исаеву! Только что почерпнут студенты отсюда? "Поэзия Высоцкого многогранна по содержанию... Много песен Высоцкий написал о войне... Большое место в поэзии Высоцкого занимают песни о дружбе и любви. Широкую известность получила его "Песня о друге"... Любовь для Высоцкого - величайший дар природы и великое чувство человеческих сердец..."*********** Все вроде бы правильно, только из комплекта "многогранности" выпала социальная острота, сатирическая направленность. Да и как-то гладко все: если Высоцкий был "за мир, за дружбу, за улыбки милых", как пелось в совсем других песнях, - то почему же не печатали его при жизни? Впрочем, дочитаем до конца.
"Поэзия Высоцкого стала достоянием народа. В ней взволнованный разговор с современником о том самом главном, самом важном, самом насущном, что волновало всех. Его поэзия - это поэзия чести, мужества, человеческого достоинства, это поэзия правды и любви.
Многогранностью тематики и проблематики отличаются произведения..." ************ Ах, извините, это уже о поэтах народов СССР, о Расуле Гамзатове. Тоже "многогранность". А что? Как про всех - так и про Высоцкого. Нормально. Как сам он предвидел: "Мой отчаяньем сорванный голос //Современные средства науки// Превратили в приятный фальцет".
Но научный анализ поэтики - это совсем другое. Это конкретная демонстрация того, как работает текст, как творится его художественная энергия, передающаяся нам. Поэтика помогает освободиться от случайных, внеэстетических соображений, увидеть за частностями - суть, за внешним внутреннее. Если перед нами действительно художественное явление, то разбор его поэтической структуры ничего в нем не разрушит. Думается, если обсуждаемый нами вопрос встал бы перед самим Высоцким, он не побоялся бы "отдать" свои произведения под хирургический скальпель научного исследования. Он, придававший немалое значение поиску художественной формы, считавший важнейшим условием творчества профессионализм, не испугался бы литературоведческого подхода.
Исходное положение поэтики: вначале было слово. Творческая активность писателя выражается прежде всего в том, что он вырабатывает свой, индивидуальный язык, отличающийся от языка обыденного. И в самом способе этой трансформации, переделки уже содержится ядро художественной системы автора. Как он обращается с языком, выковывая свое особенное, индивидуальное слово, - так он будет управляться и с жизненным материалом, творя из реальных событий художественные сюжеты, из житейских прототипов -художественные характеры, из отвлеченных идей и элементарных эмоций сложный и многогранный художественный смысл.
Так каково же оно - слово Высоцкого? Самое главное: это слово двусмысленное. С чего начал Высоцкий? "Пишу я очень давно, -говорил он о себе. - С восьми лет писал я всякие вирши, детские стихи про салют. А потом, когда стал немного постарше, писал всевозможные пародии". Не будем сейчас отвлекаться на ранние пародийные опыты Высоцкого************* заметим только, что пародия -жанр двусмысленный, двуплановый по природе. Не случайно, что Высоцкому понадобился именно такой разбег. И вот первая песня - "Татуировка" (1961):
Не делили мы тебя и не ласкали,
А что любили - так это позади,
Я ношу в душе твой светлый образ. Валя,
А Леша выколол твой образ на груди.
Посмотрите, как раздваивается здесь значение слова "образ", как возникает в нем внутреннее напряжение между смыслом отвлеченно-высоким ("светлый образ") и смыслом неожиданно заниженным и вполне конкретным ("образ на груди"). Пусть это шутка, но в ней с особенной прозрачностью видно то, что мы потом обнаружим у Высоцкого в контекстах самых серьезных. Двусмысленное слово сразу создает предпосылки для раздвоения голосов автора и героя. При всем стремлении автора предельно сблизиться с простоватым героем, полностью влезть в его речевую "шкуру" - ироническую дистанцию между ними не ощутить нельзя. Так же, как, скажем, в "Песне про Уголовный кодекс":
Нам ни к чему сюжеты и интриги:
Про все мы знаем, про все, чего ни дашь.
Я, например, на свете лучшей книгой
Считаю Кодекс уголовный наш.
Принять эти слова за "чистую монету", то есть за монолог настоящего преступника, листающего Уголовный кодекс и размышляющего над судьбами своих товарищей по разбою, - значит не уловить самой соли. Дело даже не в том, что "урка" не может говорить о "сюжетах и интригах". Дело в том, что эти эстетические термины - как и слово "образ" в "Татуировке" - для речи такого персонажа хоть и возможны в принципе, но все же как-то не очень плотно к его речевой физиономии прилегают. Это все же не только лицо, но и маска, из-под которой выглядывает автор. Иначе говоря, мы имеем дело со словом двугалосым. Без понимания этого наш читательский диалог с Высоцким заведомо был бы невозможен.
Еще это слово - сюжетное. Для Высоцкого слово -всегда потенциальная тема, с каким-то непременно событийным разворотом. Он сразу втягивает слово в действие. Лешина татуировка с ходу становится яблоком раздора, завязкой конфликта. Как-то Чехов шутя предлагал написать рассказ "Пепельница". Думается, если бы Высоцкому досталась такая тема, то в пепельнице у него развернулись бы какие-нибудь бурные события - уж не меньше пожара. Возьмем наудачу пригоршню названий песен, состоящих из одного слова: "Рецидивист", "Попутчик", "Невидимка", "Гололед", "Памятник". Высоцкий сразу вспарывает привычную оболочку слова, ищет смысл противоположный буквальному, - и сталкивает эти смыслы лбами в напряженном сюжете. Слово "рецидивист" оказывается оскорбительным ярлыком, а меченый им человек - жертвой клеветы. "Попутчик" оборачивается доносчиком, "невидимка" - опять-таки доносчицей, и при этом вполне "видимой" - невестой рассказчика. "Гололед" - не сезонное явление, а вечное состояние жизни, опять-таки сюжетно развернутое. Наконец, "памятник" - не статичный и неодушевленный предмет, а фальшивая оболочка, которую срывает с себя автор-герой.
При этом Высоцкий не любит слов отвлеченных, схематичных. Слово в его мире предметно, осязаемо. Сюжетность и предметность здесь прочно связаны (что закономерно: "сюжет" по-русски значит "предмет"). Отсюда - характерный для Высоцкого тип метафоризма. Он сближает явления не по внешнему, а по внутреннему, психологическому сходству:
У него - твой профиль выколот снаружи,
А у меня - душа исколота снутри.
Татуировка - первая сюжетная метафора Высоцкого - опять-таки шуточная, но за ней последует немало серьезных, требующих осмысления и расшифровки, таких, как "переселение душ", "красные флажки", "первые ряды", "горизонт", "кони привередливые", "чужая колея" и многие, многие другие.
Слово Высоцкого редко ограничивается фиксацией фактов и наблюдений. Как правило, оно несет в себе момент сгущения, преувеличения (те же "светлый образ", "душа исколота"). Это слово гиперболичное.
По этой причине сюжеты Высоцкого связаны не с обыденными, а с исключительными событиями. Уже в "Татуировке" при всей простоте характеров и ситуации присутствует - пусть под знаком иронии -определенный драматизм, столкновение страстей. Персонаж, от имени которого ведется рассказ, стремится сохранить верность мужской дружбе и в то же время обуреваем ревностью. Откуда все это взял Высоцкий? Ведь, по его собственному признанию, толчком к написанию песни послужило мимолетное впечатление: увидел в автобусе человека с татуировкой на груди. Слово Высоцкого с первых шагов было словом драматичным.
Литература и театр были связаны для Высоцкого не только в силу профессии и биографии. Сама натура его соединяла активность речевую и игровую. Игра со словом присутствует уже в первой песне:
...моя - верней, твоя - татуировка
Много лучше и красивше, чем его!
В самом языке, в самой сочетаемости слов здесь есть предпосылка для игры. Возьмем сочетание "портрет Иванова": Иванов - художник или модель? А может быть, владелец портрета? Так и с татуировкой: "моя", "твоя"... Высоцкого всегда влекли неудобные и двусмысленные уголки речи. Существует понятие языковой недостаточности. Например, глагол "победить" не имеет в настоящем времени формы первого лица единственного числа. Рекомендуется избегать такой речевой ситуации, когда эта форма могла бы понадобиться. Высоцкого же так и тянет туда, куда нельзя, и он непременно заставит своего персонажа похвастаться:
Чуду-юду я и так победю!
Слово Высоцкого - игровое слово. К игре как таковой многие относятся предубежденно, и зря: игра -один из главных способов поиска новых смыслов и философских глубин. Недаром столько игровых возможностей заложено в языке нашем, без чего не был бы он ни могучим, ни свободным. Высоцкий с самого начала был склонен к лингвистической рефлексии, то есть к наблюдениям над самим устройством языка, над связью слова и значения, речи и поведения. Заметим сразу, что само остроумие Высоцкого постоянно претворялось на речевом уровне: ни одной остроты, идущей "мимо" языка, мы у него не найдем. У Высоцкого веселое слово, таким оно остается и в песнях серьезных, даже трагических. Достаточно, скажем, такого примера: в "Райских яблоках", где речь идет о собственной смерти, о гибели, автор играет с фразеологизмом "не ударить в грязь лицом", буквализуя его: "В грязь ударю лицом, завалюсь покрасивее набок..." В этой веселости, в игре - несломленность перед лицом смерти.
Вот такое слово у Высоцкого - двуголосое, сюжетное, предметное, гиперболичное, драматичное, игровое, веселое. И прежде всего - повторим двусмысленное. В каждой песне, в каждом стихотворении следует прежде всего искать противостояние двух смыслов. Начиная с "Татуировки" (которую мы взяли как наглядный и прозрачный пример художественного мышления Высоцкого, как молекулу созданного им мира) - и, как говорится, далее везде.
Но возможен вопрос: а зачем эта двусмысленность и для чего ее искать? Поговорим и об этом.
Что в жизни самое трудное?
Понять другого человека, его непривычный облик, склад мышления, образ жизни. Признать, что вот такой, странный, он равноправен со мною и равноценен мне. Так же, как я ему. Что наши несходные, даже взаимоисключающие суждения и взгляды имеют одинаковое право на существование. Научиться смотреть на себя, на свои мысли и поступки с точки зрения другого человека, причем не друга, не единомышленника, а человека чужого, даже врачебного. И вообще - думать не только о себе и не только по-своему.
Кто-то скажет: я это и так умею. Но, боюсь, в девяноста девяти случаях из ста такое заявление будет ошибкой и самообольщением. Может быть, даже во всех ста случаях - поскольку человек, действительно способный к диалогу, к пониманию других людей, как правило, отличается повышенной самокритичностью. Он, скорее, скажет так: мне это иногда удается, но с трудом, и нет у меня уверенности, что искусством понимания чужого и непривычного я владею свободно.
К тому же помимо нашего личного опыта существует еще исторический опыт страны, народа. И вот этот опыт с горькой недвусмысленностью свидетельствует: многие беды России проистекают оттого, что уважение к чужой точке зрения, к инакомыслию не стало у нас прочной традицией. Мы не умеем прислушиваться к новой, непривычной мысли, извлекать из нее жизненную пользу. Мы слишком большую ставку делаем на убеждения большинства, а правоту меньшинства, правоту одиночек признаем только задним числом и почти всегда - с опозданием, когда поправить ошибку уже невозможно. Именно поэтому благие намерения и прогрессивные идеи, возведенные в догму, привели у нас к таким трагическим последствиям. Наш коллективизм обернулся всеподавляющей стадностью, наша устремленность к "светлому будущему" безответственными обещаниями и заведомо невыполнимыми планами, наше преклонение перед Человеком с большой буквы - униженностью и бесправием обыкновенных, реальных людей.
Обо всем этом мучительно размышлял Высоцкий, уже в ранних песнях его занимал феномен тоталитаризма, причем в широком историческом плане:
Так оно и есть
словно встарь, словно встарь:
Если шел вразрез
на фонарь, на фонарь!..
Сугубо отечественное идеологическое клише "идти вразрез" причудливо переплелось здесь с обрывком французского революционного призыва "Аристократов - на фонарь!" Да, но "так оно и есть": революции приводят к господству тиранов, и наивно полагать, что на нашу долю выпадет исключение, что нам достанется счастливый историчесий билет.
История русской общественной мысли отмечена напряженным противостоянием единомыслия и вольномыслия. Вольномыслие традиционно было достоянием меньшинства, а власть издавна тяготела к установлению единого и обязательного для всех образа мыслей. Гротескный "Проект о введении единомыслия в России" Козьмы Пруткова - фантазия, прочно опирающаяся на реальность. Причем влечение к единомыслию, идущее "сверху", имело, к великому прискорбию, и определенную поддержку снизу. Как горько шутил Гиляровский: "В России две напасти: внизу - власть тьмы, а наверху - тьма власти". Высоцкий свое собственное жизнепонимание и свое собственное слово искал в процессе отталкивания от тоталитарного мышления, в процессе пародирования тоталитарного языка с его железобетонными блоками: "поддержка и энтузиазм миллионов", "надежда наша и оплот", "Так наш ЦК писал в письме закрытом, //Мы одобряем линию его!"...
Порою Высоцкому приходилось не только высмеивать "власть тьмы", но и очищать от ее ржавчины собственный разум и душу. Те, кто слышал его программную песню "Я не люблю" в год ее написания, помнят, что две ее строки первоначально звучали по-иному. После слов "Я не люблю, когда стреляют в спину" следовало: "Но, если надо, выстрелю в упор". А после слов: "Я не люблю насилье и бессилье" шло: "И мне не жаль распятого Христа". И то и другое вскоре сменилось новыми вариантами: "Я также против выстрелов в упор" и "Вот только жаль распятого Христа". Что и говорить, настоящий Высоцкий выразился именно во второй из приведенных редакций. Но подумаем: откуда первая взялась? Ведь жестокости, кровожадности в натуре Высоцкого не было. Шокирующие нас сегодня фразы из песни - дань эстетическим и идеологическим штампам, каждый из которых по-своему показателен.
Готовность "выстрелить в упор" долгое время считалась у нас необходимым условием мужества, моральной нормой настоящего гражданина, защитника отечества и прочее. Считалось, что без такого рода выстрелов, без жестокости и насилия невозможно прийти к всеобщему "светлому будущему".
Презрение к "распятому Христу" - тоже норма с точки зрения того тоталитарного атеизма, который последовательно насаждался у нас в послереволюционные годы. Ясно, что этот варварский атеизм не имел ничего общего с подлинной свободой личности, с тем "афеизмом", который иногда бывал близок Пушкину, с романтическим богоборчеством. Принудительный атеизм - худшая из религий, это средство укрепления духа жестокости, это насилие над нашей нравственной природой, изначально исполненной милосердия, сочувствия к "сыну человеческому". Помнится, опубликованный во второй половине шестидесятых годов знаменитый роман Булгакова заставил многих наших соотечественников отказаться от представлений о Христе в духе Ивана Бездомного, а сегодня "распятый Христос" возвращается в наше сознание как символ неоспоримых гуманистических принципов, способных объединить и верующих и неверующих. Но последствия бесчеловечной идеологии будут сказываться еще долго, поэтому и стоит присмотреться к тому, как с болью и кровью выковыривал из себя Высоцкий осколки тоталитарного создания. Как он шел к диалогу, терпимости, всепониманию.
Мы живем во время крушения всякого рода принудительных идеалов, развенчания установок и догматов, некогда претендовавших на окончательность и непогрешимость. Мы поняли, что для движения к всеобщей гармонии нам вовсе не обязательно быть духовными близнецами, одинаково мыслить и чувствовать. Стало ясно, что чрезмерная монолитность общественного сознания, однонаправленность усилий неизбежно приводит к выразительно описанному Высоцким "общепримиряющему" бегу, когда все равны, когда "первых нет и отстающих", да вот беда: бег этот - на месте. Да и печатную свободу текстам Высоцкого дал тот глубочайший кризис "единомыслия", которым ознаменовано наше время. Реабилитированными оказались понятия "инакомыслие", "плюрализм". Мы в очередной раз поняли, что ум хорошо, а два лучше, что истина рождается в споре, в диалоге.
Но декларировать плюрализм мнений - это одно, а сделать его законом жизни - совсем другое. Здесь немало препятствий - и в социальной инерции, и, так сказать, в "человеческом факторе". Два начала эти, впрочем, тесно связаны. Мы сейчас входим во вкус демократических выборов, с непременными альтернативными кандидатурами. А вот в своем интимном процессе мышления всегда ли мы имеем два противоположных суждения, чтобы выбрать одно из них? Ведь очень многие люди умеют думать только в одном направлении, их разум любой вопрос решает "единогласно", без внутренней полемики. А без вкуса к сталкиванию противоположных мыслей, без вкуса к "внутреннему" диалогу, спору с самим собой, - без всего этого человек не в состоянии вступить в равноправный социальный диалог с другими людьми.
Феномен Высоцкого как раз и состоит в том, что принцип плюрализма, свободного диалога противоположных мнений лежит в самом способе построения его художественного мира. Процесс переживания взаимоисключающих точек зрения на жизнь как равноправных - глубинная, внутренняя тема всего песенного свода поэта. Смысл плюс смысл - такова формула его взгляда на вещи, таков ключ к каждому произведению.
Можно выделить три основных способа работы "двусмысленного" слова Высоцкого: диалог взаимоисключающих идей, диалог автора и персонажа, двуплановая сюжетная метафора. Остановимся на каждом из них.
А мы все ставим каверзный ответ
И не находим нужного вопроса
НУЖНЫЕ ВОПРОСЫ
Столкновение двух идей отчетливо представлено, скажем, в "Песне про первые ряды", песне глубоко философичной, затрагивающей один из самых страстных вопросов человеческого бытия. Стоит ли в жизни стремиться к успеху, выбиваться в лидеры -или же лучше оставаться в тени, но зато сохранять независимость? На эту тему написаны сотни, если не тысячи стихотворений: еще Гораций советовал своему другу Лицинию Мурене не рваться в первые ряды и держаться "золотой середины" (про "середину" эту, между прочим, у Высоцкого тоже есть песня). Поэтами разных времен и народов предложено немало ответов на этот острейший вопрос, но он все еще не исчерпан и, по-видимому, останется вечным и постоянно обсуждаемым. Ведь нет человека, перед которым он не стоял бы. Одни, стиснув зубы, стремятся к успеху во что бы то ни стало. Другие отказываются от борьбы и именно благодаря этому достигают исполнения заветных желаний. Третьи, потерпев неудачу, делают вид, что равнодушны к успеху. Четвертые демонстративно уклоняются от борьбы, но такая независимая с виду позиция нередко оборачивается позой, скрывающей равнодушие или бездарность. В общем, здесь множество вариантов. Как же отвечает на сложнейший вопрос Высоцкий?
Очень непростым образом отвечает. В его песне звучит как бы целый хор точек зрения, спорящих друг с другом, отражающих жизненный опыт разных людей. И автор мыслит не отвлеченными силлогизмами, а живыми точками зрения, пропуская их через свой разум, сквозь свою душу.
Начинается песня с отрицания успеха, с отказа от честолюбивых устремлений:
Была пора - я рвался в первый ряд,
И это все от недопониманья,
Но с некоторых пор сажусь назад:
Там, впереди, как в спину автомат
Тяжелый взгляд, недоброе дыханье.
Может, сзади и не так красиво,
Но - намного шире кругозор,
Больше и разбег, и перспектива,
И еще - надежность и обзор.
Да, не любят люди тех, кто "высовывается", кто выходит за рамки общепринятого. Высоцкий с физической ощутимостью передает внутреннее состояние ненавидимого лидера. Не исключено, что здесь присутствует реминисценция из пастернаковского "Гамлета": ведь песня написана в том же 1971 году, когда Высоцкий впервые произнес со сцены слова "На меня наставлен сумрак ночи //Тысячью биноклей на оси...". Только в его гротескной обработке глаза толпы становятся уже дулами орудий:
Стволы глазищ - числом до десяти
Как дула на мишень, но на живую,
Затылок мой от взглядов не спасти,
И сзади так удобно нанести
Обиду или рану ножевую.
Но какой-то иронический подвох явно чувствуется в авторском монологе, а дальше о прелестях последнего ряда говорится уже с болезненным оттенком обреченности:
Мне вреден первый ряд, и говорят
От мыслей этих я в ненастье ною.
Уж лучше - где темней, - в последний ряд:
Отсюда больше нет пути назад,
И за спиной стоит стена стеною.
Нет, что-то тут не так. Не от хорошей жизни эта любовь к последнему ряду. Однако автор (или герой) стоит на своем и доводит исходный тезис до надрывной кульминации:
И пусть хоть реки утекут воды,
Пусть будут в пух засалены перины,
До лысин, до седин, до бороды
Не выходите в первые ряды
И не стремитесь в примы-балерины.
Мы вроде бы уже приняли эту точку зрения, согласились с тем, что не надо в первые ряды рваться, что лучше довольствоваться малым. Но... последний куплет ставит все с ног на голову:
Надежно сзади, но бывают дни
Я говорю себе, что выйду червой:
Не стоит вечно пребывать в тени
С последним рядом долго не тяни,
А постепенно пробирайся в первый.
Вот те раз! Это что же получается? Сначала говорилось одно, а к концу - нечто диаметрально противоположное. Куда же зовет нас автор - в последний ряд или в первый? И вообще - как прикажете всю эту песню понимать?
А так, что жизнь - сложное и гибкое искусство, не терпящее готовых и стандартных рецептов. Что в одних случаях надо мужественно уйти в тень, отказаться от скорых успехов, не гнаться за славой и признанием. А в других не пасовать, не малодушничать, не скромничать, а смело выходить навстречу жизни и людям, брать на себя бремя ответственности, а если пошлет судьба, то - и бремя успеха, славы. Ведь вечные законы жизни нельзя понять одним умом, приняв раз и навсегда ту или иную рассудочную догму. Тайна жизни открывается только тому, кто постигает ее и разумом и душой - вместе. Вот каким сложным сплавом двух взаимоисключающих тезисов, сплавом мысли и чувства продиктована "Песня про первые ряды".
Поскольку песня строится как диалог, то из нее никак нельзя вырвать какую-то одну реплику, строку или строфу и выдать за прямое выражение авторской позиции Высоцкого. Вообще "цитатный" способ прочтения и истолкования к произведениям Высоцкого следует применять с большой осторожностью. В равной мере ошибется тот, кто сочтет "моралью" песни слова: "Не выходите в первые ряды", и тот, кто увидит итог песни в словах: "...постепенно пробирайся в первый". Здесь мы наглядно убеждаемся в той непростой (и большинству людей, к сожалению, недоступной) истине, что абстрактная мысль, какой глубокой и правильной она бы ни была, не может являться содержанием искусства. Мысль для художника - не более чем материал, одна из красок его палитры. Художник не "выражает" мысль художественными "средствами", а пользуется мыслью как средством для своей особой, таинственной цели. И умение Высоцкого связать, сопрячь в произведении два противоположных логических положения - самый важный аргумент в пользу того, что его песни -факт подлинного искусства.
Именно преодолевая абстрактный характер каких бы то ни было идей, искусство предельно приближается к живой жизни. Высоцкий и на словах и на деле был свободен от односторонне-догматических взглядов. Сам он умел достойно держаться в последнем ряду и в первом. Мужественно терпел все тяготы последнего ряда: непечатание, вырезание песен из фильмов, все ограничения и преследования. Но, слыша зов судьбы, чувствуя, как жаждут люди его песенного слова, без страха выходил в первый ряд и вел со своими современниками разговор о самом главном и самом трудном.
Приведем еще пример такого же типа. Песня "О фатальных датах и цифрах" начинается с четко сформулированного постулата: "Кто кончил жизнь трагически, тот - истинный поэт..." Действительно, существует такое представление, и автор вроде бы последовательно отстаивает его, привлекая в качестве эмоциональных аргументов "цифровые" приметы: в возрасте двадцати шести лет погиб Лермонтов, а самоубийство Есенина произошло в ночь с двадцать седьмого на двадцать восьмое декабря. Пушкин погиб в тридцать семь лет, а Маяковский - на тридцать седьмом году жизни. К этим двум широко известным фактам Высоцкий присовокупляет два менее известных нашим согражданам, но тем не менее важных совпадения: также на тридцать седьмом году жизни умер Байрон, а Рембо дожил до тридцати семи лет. К числу "фатальных дат" относит автор и возраст Христа, который включается в обойму легендарных поэтов. Кто из нас не занимался подобными хронологическими играми? У Набокова есть рассказ о человеке, болезненно переживающем наступление тридцатитрехлетнего возраста, хотя на Иисуса он ничем не похож. А какой российский литератор, встречая свое тридцатисемилетие, не призадумывался о смерти! Не от нескромности - просто это наша своеобразная мифология. Иногда, впрочем, мы заигрываемся и начинаем подобные теории излагать без всякой иронии. Это как будто происходит и с автором. Он даже начинает упрекать "нынешних" поэтов за то, что они "проскочили" престижные рубежи "фатальных дат и цифр":
Дуэль не состоялась, или - перенесена,
А в 33 распяли, но - не сильно,
А в 37 - не кровь, да что там кровь! - и седина
Испачкала виски не так обильно.
За год до создания этой песни по тридцать семь лет стукнуло Вознесенскому и Евтушенко. У обоих чуть раньше, на излете хрущевской "оттепели" были политические неприятности, итог которых действительно можно определить словами "распяли, но не сильно". Песня, кстати, носит посвящение "Моим друзьям - поэтам". Что ж получается: Высоцкий сетует, что его друзей "недораспяли", что они продолжают жить и за порогом тридцатисемилетия?
Да нет, начальный пафос постепенно сменяется иронией, и уже явно не от своего, а от чьего-то еще имени Высоцкий корит поэтов-современников: "Слабо стреляться?! В пятки, мол, давно ушла душа!" - и тут же резкий поворот на сто восемьдесят градусов, за которым следует жесткая отповедь тем, кто в угоду числовой традиции желал бы видеть нынешних поэтов покойниками:
Терпенье, психопаты и кликуши!
Поэты ходят пятками по лезвию ножа
И режут в кровь свои босые души!
Какая страшная и смелая метафора возникает в этой полемике! Последние строфы - полный отказ от того, что говорилось в начале песни. Все эти "фатальные даты и цифры" предстают уже обывательским мифом, достоянием кровожадной толпы, желающей "укоротить" поэта.
Итак, перед нами - две точки зрения. Согласно первой поэт реализует себя только при условии трагической судьбы, преждевременной и страдальческой гибели. Вторая точка зрения состоит в том, что настоящий поэт может прожить и внешне спокойную жизнь, нося страдание в душе. Да и к тому же кто из поэтов навсегда защищен от клеветы и преследований? Ахматова пережила сильнейшую травлю в возрасте пятидесяти семи лет. Пастернак взошел на свою Голгофу, когда ему уже было шестьдесят восемь. Так что полная горькой иронии финальная реплика Высоцкого: "Срок жизни увеличился - и, может быть, концы //Поэтов отодвинулись на время!" - имеет, так сказать, историческое обоснование.
В общем, мы имеем, что называется, тезис и антитезис. А возможен ли здесь синтез, возможна ли итоговая точка зрения по обсуждаемому вопросу? Нет, отвечает песня. Две взаимоисключающие мысли, здесь выраженные, равноправны перед лицом истины, перед лицом жизни. Невозможно их "сложить", суммировать. Есть такие вопросы, которые всегда будут открытыми. Вопрос о том, должна ли судьба поэта быть трагичной - из их числа. Здесь никогда не будет сказано окончательное "да" или "нет". Так же как и по вопросу, развернутому в "Песне про первые ряды". Пока существует мир, продолжается диалог этих взаимоисключающих идей: да - нет -да - нет - да... И так далее, до бесконечности. В принципиальной открытости таких вопросов - залог бесконечности самой жизни.
Противостояние двух противоположных, но в равной мере истинных, логически доказуемых идей у философов называется антиномией. Вершина антиномического мышления - философия Иммануила Канта. Надо сказать, что этот великий мыслитель в России оказался менее почитаемым, чем коллега и соотечественник Канта - Гегель с его диалектикой и идеей синтеза. Россия предпочла гегельянскую традицию, выбрала путь доведения идеи до окончательного итога, а в нашем веке принцип разрешимости любого противоречия положила в основу революционного преобразования жизни. Результат очевиден.
При чем же здесь Высоцкий? При том, что он по типу своего мышления скорее кантианец, чем гегельянец. Ему нравится пережить две взаимоисключающие идеи как равноправные - и остановиться, остаться, как пушкинский Вальсингам, погруженным "в глубокую задумчивость". Что, в частности, подтверждается и творческой историей песни "О фатальных датах и цифрах". В первоначальной редакции она включала еще одну строфу, заканчиваясь ею:
Да, правда, шея длинная - приманка для петли,
А грудь - мишень для стрел, - но не спешите:
Ушедшие не датами бессмертье обрели
Так что живых не слишком торопите!
В таком варианте финальная строфа содержит явный "синтез", поединок двух идей разрешается в пользу второй из них. Самый последний стих -окончательный приговор "любителям фатальных дат и цифр". И все-таки Высоцкий не мог эту строфу не отбросить. Хоть и был он сам постоянной "мишенью для стрел", хоть и "торопили" его самого к смертному порогу активные и пассивные недоброжелатели, а все же не захотел он претендовать на истину в последней инстанции, оставил философский спор открытым.
Не надо, чтобы все имели одинаковое мнение по философским вопросам бытия. Да и отдельному человеку не заказано понимать сразу две взаимоисключающие истины. Пусть кто-то считает, что без трагической судьбы нет художника, а кто-то думает наоборот. Пускай один и тот же человек однажды подумает так, а другой раз - иначе. Не надо жесткого и педантического порядка в сложной духовной сфере. Не надо спешить с ответами там, где вопрос еще со всей четкостью и ясностью не сформулирован. Об этом интересно сказано в парадоксальном финале стихотворения "Мой Гамлет":
А мы все ставим каверзный ответ
И не находим нужного вопроса.
Высоцкий здесь выворачивает наизнанку привычные логические и речевые конструкции "ставить вопрос" и "находить ответ". Надо уметь "находить вопросы", то есть обнаруживать антиномии, мыслить взаимоисключающими точками зрения. Особенно это плодотворно для искусства. Когда оно разворачивает перед нами драму идей, дает две равноправные версии одного события или явления, -возникает какой-то особенный душевный настрой. Его можно сравнить со стереоэффектом, когда взаимоналожением двух изображений создается изображение новое и объемное притом (вспомним еще раз булгаковскую "коробочку"!). Так вот Высоцкий из двух противоположных смыслов строит новый стереосмысл, который однозначно и сформулировать невозможно, который можно только пережить, проделав определенную работу мысли и чувства. Многие недопонимают и недооценивают песни Высоцкого именно потому, что видят их плоскостным, планиметрическим зрением, не могут шагнуть в третье измерение песни, в ее смысловую глубину. А чтобы шагнуть туда, надо для начала понять и пережить две истины, образующие художественную перспективу.
Но не расшатывает ли эта двусмысленность нравственные устои искусства, не ведет ли она к релятивизму, к цинизму и вседозволенности? Если сразу две истины могут быть верны, то не следует ли из этого, что можно оправдать все что угодно - любую идею, любой поступок? Эти вопросы мы непременно должны перед собою поставить, чтобы понять Высоцкого и его слово о жизни.
Тут прежде всего надо учесть, что между жизнью и ее философским объяснением, между словом и делом, между теорией и практикой всегда существует какая-то дистанция, какой-то зазор. Если его не видеть, он превращается в трещину, с которой начинается разрушение всех благих начинаний, смело задуманных построек и круто затеянных перестроек. Люди, убежденные, что истина всегда одна, что достаточно лишь упорно ей следовать, очень быстро оказываются в растерянности, ибо на первой же развилке, в первой же ситуации выбора вдруг убеждаются, что исповедуемая ими истина-инструкция такую нестандартную ситуацию просто не предусмотрела.
Опыт нашей общественной жизни многократно показал, что "единомыслие" ведет к застою и упадку. Любопытны обобщения психологов, исследующих тот самый тип догматического сознания, с которым постоянную художественную полемику вел Высоцкий: "Для Homo Sovieticus существует только одна истина все белое или черное, правильно или ошибочно. Истина Homo Sovieticus "передовая" истина, его мнение - мнение "передовое"; все остальные мнения неприемлемы, а часто объявляются и просто "анти". Любой выбор сводится к элементарнейшей логической схеме - "или... или..." Homo Sovieticus не способен к выбору между одинаково правильными вариантами... Основной мотив его поступков - желание избежать неудачи, а не стремление к новому, позитивному результату"**************.
Именно таковы многие персонажи песен Высоцкого, таковы и многие "персонажи" его трагической биографии, не умевшие понять и оценить его произведения по своей черно-белой шкале и на всякий случай объявлявшие автора просто "анти". Тоталитарное мышление парализует социальную и творческую активность личности. Догматическое "или - или" то и дело приводит к тому, что человек не действует ни так, ни так.
А мышление антиномическое, умение понимать взаимоисключающие истины отнюдь не превращает человека в буриданова осла, мечущегося между двумя разными ориентирами. Тот, кто может мыслить противоположными точками зрения, тот, кто понимает, что мир двуобъясним, что оба возможных объяснения необходимо учитывать, - тот в сложной ситуации сможет поступить единственно верным образом. Интеллектуальная изощренность сама по себе ничего не гарантирует, но она усиливает нравственную интуицию, обостряет душевное чутье - в то время как "единомысление" способно и притупить это чутье, и вообще его убить. Пользуясь терминологией Канта, можно было бы сказать: анти-номичность мысли закономерно сочетается с категорическим нравственным императивом, то есть внутренним повелением личности. Но, пожалуй, лучше пояснить это русской пословицей, записанной В.И.Далем: "Думай двояко, а делай одинако". Пословица эта, думаю, могла бы служить эпиграфом ко всему написанному Высоцким.
Сам Высоцкий отлично умел "думать двояко", сопоставлять разные версии, влезать в чужую шкуру, чутко вникать в позицию собеседника - пусть неприемлемую или даже абсурдную. Этому искусству диалога, понимания он продолжал на протяжении всей жизни учиться. И "двоякость" осмысления сложных характеров и ситуаций не только не мешала обретению самостоятельной и четкой нравственной позиции, но, наоборот, помогала в определении единственно верного пути. Давайте перечитаем под этим углом зрения "Притчу о Правде и Лжи".
Это своеобразный иронический "антимиф". Мифологическая традиция изображала Правду нагой. Высоцкий же, пародийно снижая миф, показывает Правду раздетой, ограбленной, высланной "на километр сто первый". В свою очередь Ложь успешно присваивает себе все отнятое у Правды:
Выплела ловко из кос золотистые ленты
И прихватила одежды, примерив на глаз;
Деньги взяла, и часы, и еще документы,
Сплюнула, грязно ругнулась - и вон подалась.
В очередной раз убеждаемся в предметности, в наглядности слова Высоцкого. А не слишком ли грубовато, заниженно для философской притчи? Нет, не грубее, чем в жизни. Ленинградское телевидение показало беседу с бывшим палачом, сообщившим, между прочим, что женщины, служившие в учреждении, осуществлявшем расстрелы, снимали с покойников белье из хорошего полотна, отстирывали от крови и относили домой. Но это к слову. А нас сейчас интересует позиция автора в вопросе о правде и лжи. Позиция эта выражается не монологически-однозначно, а в ходе диалога - с жизнью, с ее беспощадными законами. Автор рассматривает и такую, весьма типичную точку зрения:
Некий чудак и поныне за Правду воюет,
Правда, в речах его правды - на ломаный грош:
"Чистая Правда со временем восторжествует,
Если проделает то же, что явная Ложь!"
Да, есть, как говорится, такое мнение, что добро должно быть с кулаками, что во имя справедливости иной раз можно проявить и жестокость, что возможна в определенных случаях ложь во имя правды. И это мнение разделяют не одни только жестокие тираны, считающие, в духе Макиавелли, что цель оправдывает средства. Часто и романтики, рыцари высокой идеи, мыслят сходным образом. Вспомним в качестве свежего примера сюжет романа В.Дудинцева "Белые одежды" - произведения с безупречной "перестроечной" репутацией, безусловно прогрессивного по направленности. Герой романа Дежкин, биолог, направленный лысенковской верхушкой для расправы над настоящими учеными, мужественно продолжающими свои поиски и опыты в условиях запрета. Дежкин тайком изменяет своим начальникам, ведя двойную игру и по мере сил выручая из беды людей достойных. В лице Дежкина действительно предстает Правда, перенявшая у Лжи некоторые ее хитрости. Конечно, такая позиция не всякого устроит. Многие считают, что Правда не имеет права на малейшую ложь. Но "вариант Дежкина" при всей его компромиссности имеет какие-то практические результаты. А Правда абсолютно чистая - не обречена ли она на вечное бессилие?
Ну а что же Высоцкий? Финал его притчи полон горького сарказма, ситуация предельно снижается, прозаизуется:
Часто, разлив по сту семьдесят граммов на брата,
Даже не знаешь, куда на ночлег попадешь.
Могут раздеть, - это чистая правда, ребята,
Глядь - а штаны твои носит коварная Ложь.
Глядь - на часы твои смотрит коварная Ложь.
Глядь - а конем твоим правит коварная Ложь.
Впору спросить: штаны, часы - это понятно, а конь-то откуда взялся у человека, только что сообразившего на троих и принявшего свои "сто семьдесят граммов"? Да это опять из плана обыденности сюжет возвращается в символический план вечности. И что же мы видим вместе с автором? "Коварная Ложь" - троекратно повторяет он, - и действительно царит она повсюду. Но ложь все же остается ложью, а правда - правдой. Логику "некоего чудака" Высоцкий принять не может. Он не обещает своим читателям и слушателям скорого торжества правды, но называть вещи своими именами, называть ложь ложью он готов до конца. Двуплановое видение жизни укрепляет нравственную позицию автора, а не размывает ее.
А вот мышление однонаправленное, догматическое неизбежно приводит к внутренней раздвоенности, к лицемерию, к расхождению между словом и делом. Опыт нашей истории показал это со всей определенностью. Широко декларируемый гуманизм легко уживался с идейно "оправданным" уничтожением милЛионов людей, фанатическая убежденность в примате материального "базиса" привела к нищете и материальной, и духовной. "Миролюбивая политика" не исключала возможности ввода войск в ту или иную дружественную страну. Эту особенность тоталитарного мышления Дж.Оруэлл определил в своем знаменитом антиутопическом романе "1984" как двоемыслие. Основные "положения" двоемыслия: война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила. И тут нам чрезвычайно важно подчеркнуть, что "стереосмысл" произведений Высоцкого, его двусмысленное по природе слово ничего общего с двоемыслием не имеют. Более того, двоемыслие - постоянный противник Высоцкого.
С идейным жульничеством Высоцкий боролся на всех уровнях - в песнях исторических и злободневных, в философских притчах и сатирических зарисовках. Существует, как мы знаем, идея об извечной раздвоенности личности, о наличии в человеке второго "я", которое борется с первым и тд. Эта идея послужила материалом для песни "И вкусы, и запросы мои странны..." И что интересно: автор вступает с идеей двойничества в спор, сатирически снижает ее, делая ее апологетом пьяницу и хулигана:
... А суд идет, весь зал мне смотрит в спину.
Вы, прокурор, вы, гражданин судья,
Поверьте мне: не я разбил витрину,
А подлое мое второе Я.
Песня, по сути, о единстве человеческой личности, о неоспоримой ответственности человека за каждый свой поступок.
Своим неповторимым "двойным" художественным зрением Высоцкий искал правду и только правду. Он не любил это декларировать, лицемерно обещать: сейчас-сейчас найду окончательную истину, вот оно, торжество справедливости, - за ближайшим углом (в чем, прямо скажем, грешны многие поэты, да только ли поэты?). Высоцкий работал диалогическим, полифоническим способом. Но есть у него несколько стихотворений и песен предельно монологического, исповедального характера. Это как раз то исключение, которое подтверждает правило. Почему так убедительно, так достоверно звучат монологические признания Высоцкого: "Мне судьба -до последней черты, до креста...", "Мой черный человек в костюме сером...", "Я никогда не верил в миражи..."? Да потому, что слово о себе, в этих произведениях сказанное "прямым текстом", - это слово подкреплено делом, многолетним упорным трудом по распутыванию противоречий, осмыслению противоположных точек зрения.
Но знаю я, что лживо, а что свято,
Я понял это все-таки давно.
Мой путь один, всего один, ребята,
Мне выбора, по счастью, не дано.
И этот единственный путь состоял в работе с двусмысленным ироническим словом, с философским подтекстом. Этот путь был связан с постоянным риском быть понятым неверно или вовсе не понятым. Но, как видим, Высоцкий не жалел, что ему было суждено стать только Высоцким - и никем иным.
Да это ж - про меня!
Про нас про всех
- какие, к черту, волки!
АВТОР И ГЕРОЙ
Самое многозначное слово в песнях Высоцкого -"я": "Я сам с Ростова, я вообще подкидыш...", "Я был слесарь шестого разряда...", "Я несла свою беду...", "Я - самый непьющий из всех мужиков...", "Сто сарацинов я убил во славу ей...", "Я - Баба Яга, вот и вся недолга...", "Я в деле, и со мною нож...".
Кого тут только нет - люди каменного века и наши современники, мужчины и женщины, существа реальные и мнимые, звери и птицы. Даже неодушевленные предметы - микрофон или самолет, к примеру, и те обретают собственное "я". Творчество Высоцкого - непрерывный процесс перевоплощения, проживания чужих жизней, переживания чужих точек зрения. Поэтическое поведение Высоцкого в каждой из ролей настолько естественно, что молва долгое время "вычитывала" из песен фантастически-легендарную биографию автора. Уже в 1970 году Высоцкому приходилось спорить с мифами о себе, пародировать легенды и слухи:
А с которым сидел в Магадане,
Мой дружок по гражданской войне...
А вот что он говорил по этому поводу уже вполне серьезно: "Меня очень часто спрашивают в письмах, не воевал ли я, не плавал ли, не летал ли, не сидел ли... Это все происходит оттого, что почти все мои песни написаны от первого лица: я всегда говорю "я", и это вводит некоторых людей в заблуждение... Там есть мое отношение, мое рассуждение, мое мнение о предмете, о котором я говорю с людьми. Это я не где-то вычитал, а сам так об этом думаю. Вот поэтому, мне кажется, я имею право говорить "я". А вот еще, из другого выступления: "Мне проще влезать в шкуру других людей и из нее уже разговаривать".
Обратите внимание: в раздумьях Высоцкого о своей работе, в его творческой рефлексии присутствует явная парадоксальность. С одной стороны, он четко осознает полную самостоятельность, резкую индивидуальность своей позиции, с другой стороны -эту позицию он предпочитает высказывать: находясь "в шкуре" других людей. Но такой парадокс присущ самой природе искусства, часто предпочитающего прямым и простейшим путям пути окольные.
Как мы оцениваем качество художественного перевоплощения? Одни больше всего ценят сходство с "натурой", с "моделью", другие - самостоятельность художника, остающегося собою, кого бы он ни играл, А для самого искусства, наверное, важны оба эти начала: и самоизменение, и самовыражение. И сочетание этих начал. Высоцкий заставляет нас поверить в реальность выдуманных им персонажей - и в то же время ни в одном из персонажей он полностью не растворяется.
Возьмем, к примеру, "Смотрины" - своеобразный "физиологический очерк" деревенской жизни. Конеч но же, Высоцкий в силу биографических обстоятельств знал деревню меньше, чем, скажем, В.Золотухин и Б.Можаев, которым эта песня посвящена. Можно, наверное, найти, так сказать, "технические" неточности вроде выражения "гусей некормленых косяк" (косяком называют стаю птиц, летящих углом, о гусях же деревенский житель так не скажет). Но, как сказано в песне, "дело даже не в гусях, //- А все неладно". И вот это-то ощущение "неладности" жизни, знакомое самому автору по совсем другому опыту, и создает точку пересечения сознании автора и героя (оставляя, естественно, возможность для такого же пересечения сознании читателя или слушателя). Говоря обобщенно, Высоцкий строит художественное сравнение автора и героя.
А достоинство сравнения - не в элементарной "похожести". Тут требуется тонкая диалектика сходства и контраста, достигаемая только творческой интуицией и творческой смелостью. Вслушаемся внимательно в речь персонажа:
Потом у них была уха,
И заливные потроха,
Потом поймали жениха
И долго били,
Потом пошли плясать в избе,
Потом дрались не по злобе
И все хорошее в себе
Доистребили.
Последние два стиха в значительной мере - "от автора", с точки зрения натуралистической они не очень вписываются в речь подвыпившего рассказчика: не та лексика, да и уровень самосознания завышен. Но Высоцкий не просто обязал персонажа произнести эти слова, а плавно и органично подвел размышления деревенского горемыки к такому перекрестку, где они вполне могут встретиться с авторской точкой зрения на происходящее. Высоцкий не "снисходит" до "простых" персонажей, он ищет и находит точку опоры, чтобы поднять их интеллектуально и нравственно. Несовпадение автора и героя не сразу бросается в глаза - значит, "возвышение" героя опирается на реальную почву, значит, здесь нет приукрашивания.
А к педантическому сходству с "натурой" в мелочах Высоцкий особенно и не стремился. Как мы уже обнаружили в предыдущей главе, мог он даже ошибиться в каких-то деталях, связанных с профессией персонажей, не слишком налегал он на воспроизведение жаргонизмов и диалектизмов. В самом деле, ранние песни Высоцкого называют "блатными", а сколько там, собственно, "блатной музыки", "фени" этой самой? Да возьмите один куплет настоящей, фольклорной блатной песни вроде: "А менты взяли фрайера на пушку, бумпера устоцали, на кичу повели..." - и сравните с песнями Высоцкого. Вы увидите, что Высоцкий "блатными" языковыми красками пользуется крайне скупо: буквально одно словечко даст персонажу - и достаточно для характеристики. Потому что любой персонаж его прежде всего интересует как личность, а уж во вторую очередь как представитель той или иной "среды".
Высоцкий не отгораживается от человека языковым барьером, старается говорить с ним не на жаргоне и не на диалекте, а на человеческом языке. Вот и рассказчик из песни "Смотрины" - вся его "диалектная" характеристика дана одним легким штрихом: тараканов он "постенами" называет. А откройте книгу там, где помещен цикл "Два письма": и жена "ненаглядного" Коли, и он сам даны без всякой речевой экзотики: "тута", "в ем" - не более того. Характеры создаются здесь психологическими оттенками, авторским вживанием в образ мышления и чувствования этих людей. А диалектную или просторечную речевую краску Высоцкий порой мог положить в совершенно неожиданном месте, на портрете отнюдь не "простого" лица. Вспомним песню "Прошла пора вступлений и прелюдий...", отразившую горький опыт общения Высоцкого с сильными мира сего. "Ответственный товарищ", прослушав песню "Охота на волков", распоряжается: "Автора "Охоты" //Ко мне пришлите завтра в кабинет!" На двух фонограммах Высоцкий вместо "завтра" поет "завтре" - и сразу вырисовывается физиономия не очень обремененного внутренней культурой "товарища".
"Как живые" - говорили мы все о персонажах Высоцкого еще при жизни автора, причем многие из нас полагали, что главная его заслуга - умение "уловить", "заметить", "услышать", взять "прямо из жизни". А теперь, читая и перечитывая тексты, вновь слушая их авторское исполнение, все чаще убеждаемся, что колоритные житейские и речевые подробности в мире Высоцкого - дело важное, но не главное. "Кое-что на своей шкуре я все-таки испытал и знаю, о чем пишу, но в основном, конечно, в моих песнях процентов 80-90 домысла и авторской фантазии, -говорил он сам. - Я никогда не гнался за точностью в песне. Она получается как-то сама собой, не знаю отчего".
Сегодня мы, пожалуй, уже в состоянии понять, отчего. Ощущение точности возникало у нас - и сегодня возникает, и будет возникать у новых поколений читателей и слушателей - от глубины авторского сопереживания герою, от интенсивности нравственно-психологического диалога между автором и персонажами. Высоцкий щедро делился с персонажами своими мыслями, чувствами, своим остроумием, а сам отважно брал на себя их грехи и преступления, их недоумие и забитость. Невыгодный был взаимообмен для автора: потому-то и путали его сначала с персонажами, приписывали песням "примитивность", не понимая, что на примитивном материале можно создавать сложнейшие художественные оттенки. Зато этот способ контакта автора с персонажами оказался в конечном счете выгодным для искусства, для правды, для нас с вами.
Спектр персонажей Высоцкого широк и богат: от отважных героев (во многом "выдуманных", но не надуманных) до циничных подонков, от влюбленных в свое дело и жизнь подвижников до опустошенных небокоптителей, от мудрецов и пророков до тупиц и догматиков. Но каждый из этих персонажей творится на наших глазах и с каждым автор достигает какого-то взаимопонимания.
И трудности везде свои, специфические. Скажем, песня "Был побег на рывок...", посвященная Вадиму Туманову и основанная на рассказах этого мужественного человека, потребовала от автора предельного душевного самоистязания - иначе откуда бы взялись такие жесткие ритмы и беспощадные картины:
Я - к нему, чудаку:
Почему, мол, отстал?
Ну а он - на боку
И мозги распластал.
Иначе не могли появиться такие колющие, ранящие сравнения: "Мы на мушках корячились, //словно как на колах", "Но поздно: зачеркнули его пули - //Крестом - в затылок, пояс, два плеча". Здесь право повествования от первого лица надо было заработать. Заработать прицельной точностью слова. И оно, слово Высоцкого, с этой задачей справляется. Сравните эту песню с описанием побега в "Черных камнях" Анатолия Жигулина - произведении автобиографическом. Вы увидите, что у Высоцкого тоже достигнут эффект присутствия.
Иным путем ищет Высоцкий контакт с людьми заблудшими, залгавшимися. Вспомним драматически-напряженную историю о рядовом Борисове, стоявшем на посту и выстрелившем в своего товарища. Борисов упорно доказывает следователю, что принял своего за постороннего, не разглядев его в тумане:
"На первый окрик "Кто идет?" он стал шутить,
На выстрел в воздух закричал: "Кончай дурить!"
Я чуть замешкался и, не вступая в спор,
Чинарик выплюнул - и выстрелил в упор".
Но вдруг он меняет интонацию и рассказывает всю правду - не следователю, конечно, - автору, а заодно и нам с вами - предысторию и причину своего выстрела:
...Год назад - а я обид не забываю скоро
В шахте мы повздорили чуток,
Правда, по душам не получилось разговора:
Нам мешал отбойный молоток.
На крик души "Оставь ее!" он стал шутить,
На мой удар он закричал: "Кончай дурить!"
Я чуть замешкался - я был обижен, зол,
Чинарик выплюнул, нож бросил и ушел.
Вот, оказывается, в чем дело: потом они вместе с дружком попали в одну армейскую часть, и Борисов все ждал минуты, чтобы свести счеты. Автор ни в коей мере не оправдывает героя, но по-человечески его понимает: ревность, страсть настолько овладела Борисовым, что не смог он удержаться от мести. Слов от автора в песне нет: несколько вопросов следователя да монологи подследственного, но как активно автор в тексте присутствует, своей страстью, своим сопереживанием создавая художественную динамику.
Умел Высоцкий перевоплотиться и в человека совершенно ему чуждого, более того - в своего врага. Вот "Песня микрофона". Объявляя ее на концертах, Высоцкий иногда с присущим ему лукавством показывал на укрепленный на сцене микрофон и говорил: "Вот этого микрофона". Конечно же, тут была испытующая ирония: умеют ли слушатели отличать буквальный смысл от переносного. Ну и кто же под микрофоном здесь имеется в виду? Может быть, это конъюнктурный делец от искусства, беспринципный литератор или артист. А может быть - чиновник, "деятель", от которого зависит "прохождение" художественных произведений: зав. или зам. чего-нибудь, цензор, редактор и т.п. И тот и другой могли бы сказать о себе:
В чем угодно меня обвините
Только против себя не пойдешь:
По профессии я - усилитель,
Я страдал - но усиливал ложь.
Какой жесткий авторский сарказм! Тут уж ни малейшего сочувствия. У Высоцкого было полное моральное право ненавидеть "усилителей лжи", стоявших между ним и народом, мешавших людям слушать Высоцкого, не дававших нам читать его. Но ненависть не застилает глаза, не мешает автору понимать логику поведения функционера от искусства. Он в шкуру и такого человека влезть способен. Высоцкий - в порядке гиперболы - выстраивает такую сюжетную версию: а что, если бы этот человек попробовал действовать иначе? И вот микрофон берет на себя не свойственные ему функции, критически оценивая то, что ему надлежит только усиливать: "Человече, опомнись, //-Что поешь?!"
Что у нас бывало с деятелями, хотя бы однажды не подчинившимися идеологическому диктату, диктатуре лжи? Что происходило с теми, кто по оплошности или по вдруг пробудившейся дерзости разрешал какую-нибудь рискованную публикацию или смелый спектакль? Что было бы с тем, кто -пофантазируем вслед за Высоцким - взял бы да и разрешил в семидесятые годы издание Высоцкого, да еще без купюр, без ограничений на "остроту"? То самое, что случилось с мирофоном:
Отвернули меня, умертвили
Заменили меня на другой.
Тот, другой, - он все стерпит и примет,
Он навинчен на шею мою.
Часто нас заменяют другими,
Чтобы мы не мешали вранью.
Да последние две из процитированных строк -просто формула кадровой политики в идеологической сфере!
Снимают, впрочем, не только за "ощибки", но и в ходе внутриведомственной конкурентной борьбы Отставка и забвение - вот что ждет любого функционера. Поэтому автор без малейшего злорадстве повествует о бесславном финале персонажа, проци каясь его ощущением безнадежности:
...Мы в чехле очень тесно лежали
Я, штатив и другой микрофон,
И они мне, смеясь, рассказали,
Как он рад был, что я заменен.
Какой уж тут чехол! Скорее, приемная в высокой инстанции. И стиль поведения партийных чиновников воспроизведен точно: никакой жалости к отстраненному коллеге. Только у автора крупица этой жалости и нашлась. Потому что "свинченный" микрофон - это совсем другой человек, в нем что-то человеческое уже пробудилось. Как в Хрущеве, когда он на покое мирно беседовал с некогда им обруганными художниками, как во многих других. Где сейчас перекрывавшие кислород Высоцкому и мгновенно забытые деятели: Гришин, Зимянин, Демичев? Наверное, слушают пластинки Высоцкого, выпуск которых столько лет успешно тормозили, и проникаются духом либерализма...
Впрочем, Высоцкий это все описал заранее. Вспомним все того же "ответственного товарища", заинтересовавшегося "Охотой на волков". Помимо прочего, песня показательна тем, что персонаж ее меняется на наших глазах, он что-то понимать начинает. Как говорят кинорежиссеры: перемена состояния в кадре. И вот этим-то сатирические персонажи Высоцкого принципиально отличаются от персонажей стихотворной сатиры, скажем, Евтушенко и Вознесенского или от персонажей сатирических песен Визбора, Галича, Кима. Речь сейчас не о том, что "лучше", а об одной из самых резко индивидуальных особенностей творчества Высоцкого. Он не только сам идет навстречу герою, но и заставляет его двигаться, меняться. Что там произошло с "ответственным товарищем"? Может быть, закачалось под ним почетное кресло, может быть, "обложили" его резвые конкуренты, а может 5ыть, просто задумался о жизни, увидел "загонщика" я в себе самом...
И об стакан бутылкою звеня,
Которую извлек из книжной полки,
Он выпалил: "Да это ж - про меня!
Про нас про всех - какие, к черту, волки!"
Между прочим, способ прочтения, способ интерпретации произведения у этого персонажа абсолютно правильный. В мир песни Высоцкого невозможно войти только на правах зрителя и слушателя. Нет здесь "партера с балкончиком" - пожалуйте прямо на сцену, под слепящий свет, ищите свое место в разыгравшемся конфликте. Не сказав, не подумав: "Да это ж - про меня!" - не понять, о чем песня и зачем она.
В иных случаях это совсем нетрудно. "Перед выездом в загранку //Заполняешь кучу бланков", -вспоминает едва ли не каждый из наших соотечественников, собираясь в долгожданное путешествие. "Фильм, часть седьмая - тут можно поесть: //Я не видал предыдущие шесть", - процитируем мы, без малейшего сожаления выключая опостылевший "ящик". Пожалуй, не прочь мы увидеть себя и в непокорном Иноходце, и в символическом гонщике, штурмующем линию горизонта, а в грустную минуту готовы признать свою жизнь "прерванным полетом" и спросить себя: "По чьей вине?"
Совсем другое дело - персонажи вроде Вани с Зиной из "Диалога у телевизора". На них почему-то хочется смотреть как бы "из зала", не отождествляя с собою. А неправильно это. Прежде всего потому, что Высоцкий сам на них как на потешных "монстров", как на презренный "плебс" отнюдь не смотрел. Вслушайтесь в логику диалога персонажей - не совсем бессмысленного. О чем все время заводит речь Зина? О несовершенстве своей с Ваней жизни. Причем несовершенстве не бытовом, а так сказать, духовном, даже эстетическом. Наивно восхищаясь цирковыми чудесами и "блестящей" наружностью артистов, она сразу сравнивает эту "красоту" со своими буднями: "А ты придешь домой, Иван, //Поешь и сразу - на диван, //Иль, вон, кричишь, когда не пьян..."
И Ваня, несмотря на всю свою грубость, не может не чувствовать правоты, содержащейся в словах Зины. Он то отшучивается, то отругивается, то пытается навести романтический флер на свои отношения с собутыльниками. Ни за что не хочет он признать, что жизнь его пуста и безобразна: "Ты, Зин, на грубость нарываешься, //Все, Зин, обидеть норовишь!"
Витающее в воздухе представление о жизни полной, интересной, осмысленной - подсознательно ведомо и этим людям. И не были бы персонажи такими живыми, если бы автор их не жалел. Стереоскопическая объемность характеров создается здесь на пересечении двух художественных точек зрения, одна из которых традиционно именуется: "видимый миру смех", а другая "незримые, неведомые ему слезы". Именно эти цитаты здесь подойдут, поскольку Высоцкий - сатирик гоголевского типа, продолжатель традиции гуманного смеха. Иррациональный "черный юмор", беспощадная "чернуха" совершенно не в его духе (что говорится отнюдь не в укор этой сатирической линии со своей поэтикой, со своей историей - от Саши Черного до Э.Лимонова, со своим правом на существование в век Колымы и Чернобыля).
Поэтому мало посмеяться над Ваней и Зиной. Разглядев в них живое, человеческое, нам остается критическую энергию смеха обратить на самих себя. Пусть это будет гиперболой, преувеличением, вреда себе мы тем самым не причиним. Пусть мы внешне не похожи на этих персонажей, но не отдаем ли мы порою дань злословию, грубости, скуке и апатии -пусть в иных, более "благородных" и "интеллигентных" формах?
Высоцкий не бытописатель. Он не макетирует жизнь, копируя мелочи, а моделирует ее принципиальные черты. Хулиган у него не только хулиган, пьяница не только пьяница. Вспомним персонажа 'Милицейского протокола". Налицо неопровержимые доказательства его противоправных действий: "очки товарищу разбили" и прочее. Так чем он пытается оправдаться? Своей идеологической безупречностью: "Но если я кого ругал - карайте строго! //Но это вряд ли..."
А когда, скажем, иные литературоведы начинают глубоко вчитываться в "Мастера и Маргариту", проверяя по "пятому пункту" первосвященника Кайафу. утвердившего смертный приговор Иешуа, тут, праве же, нельзя не вспомнить еще одного "простого" персонажа Высоцкого из песни "Антисемиты", делившегося своими историческими познаниями:
И как-то в пивной мне ребята сказали,
Что очень давно они бога распяли!
Ну, это уже о других, о тех, кого мы без их собственного желания "исправить" никак не сможем А заряд самокритичности, содержащийся в песнях Высоцкого, может помочь каждому, кто вслед за автором не побоится сравнить себя с его героями.
Узнавайте себя!
Я скачу, но я скачу иначе
ЭНЕРГИЯ ВЫМЫСЛА
"Почему песни не брали? Да нет у него почти ни одной песни без подтекста. У него в каждой строчке столько философии!" - говорит Вадим Туманов.
Все точно: сложности с "прохождением" песен Высоцкого были обусловлены прежде всего остротой социального подтекста. Если даже "егеря" не могли этот подтекст расшифровать, все равно на всякии случай огораживали Высоцкого от читателей красными флажками. Дескать, черт его знает, у него невиннейшие вещи приобретают какой-то сомнительный смысл: будь то утренняя гимнастика, или прыжки в длину, или все эти жирафы и мангусты... И верно, что подтекст не только социальный, по и философский. Сейчас, когда огороженный флажками тематический круг приятно расширился, когда можно об очень многом говорить открытым текстом, - песни Высоцкого не стали менее интересными и живыми. Потому что их автор не шифровал запрещенные для упоминания факты, он не облекал в аллегорическую оболочку крамольно-либеральные трюизмы, - он мыслил двупланово. И в двуплановости этой отражались не только сиюминутные противоречия, но и противоречия более крупного масштаба.
Поэтому сохраняют динамику и глубину очень индивидуальные, "фирменные" сюжетные метафоры Высоцкого. В них прослеживается такая логика зарождения и развития: от слова - к образу: от образа - к сюжету. Если идти от готовой мысли, подбирая к ней образно-сюжетную ткань, то получается в лучшем случае дидактическая иллюстрация, а в худшем - нарочитая аллегория, к которой желательно и самого автора приложить, чтобы он разъяснил, что в виду имел. А вот Высоцкий категорически отказывался свои образы и сюжеты расшифровывать: "Мне часто присылают письма, в которых спрашивают: "Что вы имели в виду в той или иной песне?" Ну, кстати, что я имел в виду, то и написал. А как меня люди поняли, зависит, конечно, от многих вещей: от меры образованности, от опыта жизненного и так далее. Некоторые иногда попадают в точку, иногда - рядом, и я как раз больше всего люблю, когда рядом: значит, в песне было что-то, на что я даже не обратил особого внимания. Может, не имел этого в виду точно и конкретно, но что-то подобное где-то там в подсознании было. И ведь было бы ужасно, если б мы все имели в виду, когда пишем, - тогда бы мы просто ничего вообще не написали".
Действительно, в искусстве невозможна передача смысла по принципу "один к одному". Если произведение удалось, оно может сказать читателю, зрителю, слушателю больше, чем имел в виду автор. Свойство художественного слова, образа, сюжета - многозначность, и никакая читательская или критическая трактовка всего обилия смысловых оттенков не схватит. И тут даже сам автор не может точно оценить, кто попал "в точку", а кто "рядом": недаром же Высоцкому так нравились интерпретации, попадающие "рядом", раскрывающие еще один слой смыслового подтекста.
Дух плюрализма, пронизывающий всю поэтику Высоцкого, сказывается и здесь. Не надо какой-то одной, господствующей интерпретации той или иной песни. Пусть каждый из нас выскажется, сформулирует свое понимание текста, а заодно - и свое понимание жизни. Не надо только одного - демагогии и доносов, не надо трактовок, имеющих своей целью скомпрометировать автора. К сожалению, такие "интерперетации", далекие от художественного мира Высоцкого, от самого эмоционально-смыслового нерва песен, появлялись и при жизни Высоцкого ("Спасибо вам, мои корреспонденты, //Что вы неверно поняли меня", - с горестной иронией реагировал на них автор), и после его смерти. Но не о них речь.
А о том речь, что и единомышленникам Высоцкого есть что обсудить, есть о чем поспорить друг с другом. Обмен трактовками, индивидуальными прочтениями конкретных песен вот чего, честно говоря, не хватает в нынешней ситуации. Очень много глобальных суждений о Высоцком - и слишком мало разборов произведений. А ведь лучше идти от частного - к общему, от фактов - к поискам закономерностей.
Тем более, что так шел и творческий процесс Высоцкого. Вначале было слово. К примеру, слово "иноходец". Откуда оно пришло в мир Высоцкого? Из повести Ч.Айтматова "Прощай, Гульсары!", по которой был снят фильм "Бег иноходца" в 1970 году? А может быть, оно пришло каким-нибудь другим путем. Важно, как использует поэт корневую энергию слова, творчески осваивает его, как говорят лингвисты, внутреннюю форму:
Я скачу, но я скачу иначе
По камням, по лужам, по росе.
Бег мой назван иноходью - значит:
По-другому, то есть - не как все.
Чисто словарно "иноходь" - это "способ бега, при котором лошадь попеременно выносит и опускает то обе правые, то обе левые ноги". Не более того. Высоцкий же властно наделяет слово своей, поэтической этимологией, строит из него новый, самостоятельный образ. Суть тут не в лошади. Из всей "лошадной" терминологии Высоцкий использовал лишь глагол "засбоить" - для создания, так сказать, колорита. Но, чтобы это слово узнать, не обязательно даже на ипподром ходить, достаточно прочесть сцену скачек в "Анне Карениной". "Иноходец" для Высоцкого - это человек, чьи воззрения отличаются от господствующих. Инакомыслящий, если угодно. В нью-йоркском трехтомнике помещен черновой набросок, предшествовавший "Иноходцу". Он начинается так:
Нараспашку - при любой погоде,
Босиком хожу по лужам и росе.
Даже конь мой иноходью ходит,
Это значит - иначе, чем все.
Я иду в строю всегда не в ногу,
Столько раз уже обруган старшиной.
Шаг я прибавляю понемногу,
И весь строй сбивается на мой.
Интересный был ход мысли - особенно о том, что "весь строй" со временем устремляется за теми, кто был "обруган". Ведь в самом деле: при жизни Высоцкого многие слова и произносить было нельзя. Стоило, скажем, призвать к созданию "правового государства" - и в этом видели кощунственный намек на то, что государство у нас неправовое: пожалуйте за решетку. А теперь мы "всем строем" за правовое государство боремся - и долго еще бороться собираемся. Да, но Высоцкого этот вариант не удовлетворил. И можно понять, почему. Конфликта здесь нет, слишком цельный образ: и герой свободный, и конь под ним такой же.
И Высоцкий ищет в образе предпосылку конфликта, сталкивает между собой коня и седока. Седок, "жокей" становится воплощением жестокой и бесчеловечной власти. А конь рожден, чтобы быть свободным, ему бы бегать "не под седлом и без узды!". Как и всему "табуну" - народу то есть. И личность, и народ в условиях тирании не могут реализовать своих возможностей. Нет никаких стимулов трудиться, стремиться быть первым. Наоборот, возникают желания разрушительные:
Нет, не будут золотыми горы
Я последним цель пересеку:
Я ему припомню эти шпоры
Засбою, отстану на скаку!..
Но на самом деле не было этого. Ибо и для народа нашего, и для российской интеллигенции чувство долга оказывалось превыше всего:
Что со мной, что делаю, как смею
Потакаю своему врагу!
Я собою просто не владею
Я прийти не первым не могу!
И "пришли первыми" в Берлин, и работали за нищенскую мзду, не припоминая жестокой Отчизне раскулачивания, расстрелы, гибель близких. И не могли не "прийти первыми" к решению своих научных задач Королев и Туполев, работавшие за решеткой, не припоминали они "жокею"-генералиссимусу те шпоры, которые он им вонзал в бока.
Правильно ли это? Автор не спешит с однозначной оценкой, но понимает: в условиях несвободы далеко мы не уйдем:
Что же делать остается мне?
Вышвырнуть жокея моего
И бежать, как будто в табуне,
Под седлом, в узде, но - без него!
Это Высоцкий размышляет о будущем, о том, что вперед можно двигаться уже только без "жокея" - без административно-командной системы и созданной ею номенклатурной бюрократии. На этом пока и остановим истолкование сюжетной метафоры. Мало еще времени прошло: каких-то двадцать лет после написания "Бега иноходца". А за двадцать лет такие проблемы не решаются...
Итак, СЛОВО - ОБРАЗ - СЮЖЕТ - таков ход творческой мысли Высоцкого. А поскольку слова его непрерывно волновали, то его поэтический словарь и перерастал в энциклопедию нашей жизни. Язык вообще - лучший компас для писателя, поскольку за ним стоит реальность, а не фикции, не призрачные "идеи", которые могут обернуться просто абсурдом: "новый человек", "воспитание в духе", "борьба с пережитками". Все это отторгается и языком, и жизнью. "Употребляются сочетания словесные, которым мы давно уже не придаем значения", - с досадой говорил Высоцкий в устном комментарии к одной из песен. И он немало сделал для того, чтобы пародийной иронией выявить бессмысленность таких сочетаний, как "любители опасных авантюр", "проверенный товарищ", "злые происки врагов". Не боялся он подвергнуть критической проверке и авторитетные литературные цитаты, красивые, но несколько далекие от реальности, вроде: "И жизнь хороша, и жить хорошо!"
А теперь посмотрим, как работает Высоцкий с фразеологизмами, древними и устоявшимися в языке навсегда выражениями. Фразеологизм с лингвистической точки зрения равноценен слову, он тоже обозначает, называет предмет или явление.
Примечательно, что систематизацией фразеологизмов в наследии Высоцкого первыми занялись даже не лингвисты, а люди других профессий -энтузиасты творчества поэта, собиратели его текстов и фонограмм. Это целая отрасль народного "высоцковедения", о чем свидетельствуют и письма читателей, и некоторые публикации в периодике. В.П.Лебедев и Е.Б.Куликов в статье "Что привлекло нас во Владимире Высоцком"*************** резонно отмечают повышенное содержание фразеологизмов в языке поэта, его склонность к производству собственных устойчивых выражений, "крылатых слов", уже вошедших в общенародный и общелитературный язык.
Высоцкий постоянно обращался к сконцентрированной в языке вековой мудрости, не пассивно ее эксплуатируя, а творчески продолжая и развивая. Есть, скажем, фразеологизм "козел отпущения", который мы повторяем довольно автоматически, не рисуя в своем воображении козла и не задумываясь, что такое "отпущение". Высоцкий же, верный своему принципу "разберемся", разбирает устойчивое выражение и вновь его свинчивает, придавая ему уже новое значение. Козел становится не просто жертвенным предметом, а социальным типом с определенной историей:
В заповеднике (вот в каком - забыл)
Жил да был Козел - роги длинные,
Хоть с волками жил - не по-волчьи выл
Блеял песенки все козлиные.
И пощипывал он травку, и нагуливал бока,
Не услышишь от него худого слова,
Толку было с него, правда, как с козла молока,
Но вреда, однако, тоже - никакого.
Кто это? Не хочется употреблять таких штампов, как "мещанин", "обыватель". Думаю, что эти слова не в духе Высоцкого, хотя поэта теперь пытаются иногда прописать по линии "обличения мещанства" - спокойно звучит, безопасно, никто не обидится, никто к себе не отнесет. "Мещанин" - значит "горожанин"; "обыватель" - это "житель", "обитатель", - в общем мы сами зачем-то сделали ярлыками изначально нейтральные слова. Нет, Высоцкий такими ярлыками никогда не пользовался, он высмеивал агрессивное невежество, зависть, злобу, но обыкновенность никому в вину не ставил. Не будем этого делать и мы. В общем, персонаж песни - простой человек, не принадлежащий к правящему классу.
"Но заметили скромного Козлика //И избрали в козлы отпущения". Что это за должность такая? Это вообще - выдвижение, повышение, выход в "начальники", то есть движение вверх, но не до самых высот, где пребывают реальные держатели власти. А может быть, попадание в "передовики", в пассивный состав партийных или советских органов. Помните, "стахановец, гагановец, загладовец", которого завалило в шахте? И те и другие - козлы отпущения.
Например, Медведь - баламут и плут
Обхамит кого-нибудь по-медвежьему,
Враз Козла найдут, приведут и бьют:
По рогам ему, и промеж ему...
Не противился он, серенький, насилию со злом,
А сносил побои весело и гордо.
Сам Медведь сказал: "Робяты, я горжусь Козлом
Героическая личность, козья морда!"
Номенклатурного Медведя ведь лет семьдесят нельзя было критиковать ни в коем случае. Для этого всегда использовался "начальничек" пониже, на которого все можно списать и свалить. Ну и Козел-передовик тоже был нужен в системе агитации и пропаганды, чтоб было кем "гордиться". Тут и появляется "стахановец, гагановец, загладовец": организуют ему показатели, "Гертруду" (на героев ведь план был по ведомствам и территориям), подержат лет пять-десять в почетном выборном органе, а там и забудут.
Жизнь Козла-выдвиженца нелегка - и по сравнению с жизнью правящей верхушки, и по сравнению со свободной безответственностью "рядового труженика". И уж если Козел доберется до серьезной власти, то всем покажет "козью морду", припомнит все унижения. На пути к высшим ступеням звереет он окончательно:
Он с волками жил - и по-волчьи взвыл,
И рычит теперь по-медвежьему.
Вот так примерно можно эту сюжетную метафору истолковать, но есть в ней, кажется, еще один план - более широкий, более философичный. В рукописи песня называлась "Сказка про серого козлика, она же сказка про белого бычка". "Про белого бычка" -значит, история бесконечная, постоянно повторяющаяся. Ну, и "серый козлик" - помягче, чем "Козел". То есть песню еще можно прочесть как притчу о взаимоотношениях "верхов" и "низов", власти и народа. Сильные мира сего очень склонны прикрываться народолюбием, нахваливать народ, доводя его тем временем до полного бесправия и изнеможения:
Берегли Козла как наследника,
Вышло даже в лесу запрещение
С территории заповедника
Отпускать Козла отпущения.
Горький каламбур: Козла отпущения никуда не отпускают. Ни за границу, куда простым смертным выезжать было заказано. Ни за пределы места прописки. Да что там - не до жиру: лишь бы "территория" еще и зоной не оказалась с колючей проволокой!
Но времена меняются, "верхи", не имея возможности править по-старому, дают послабление, и "низы" уже смелеют настолько, что начинают требовать социальной справедливости, равенства:
"Эй вы, бурые, - кричит, - эй вы, пегие!
Отниму у вас рацион волков
И медвежие привилегии!"
Высоцкий не "вышел из народа", он всегда внутри этого народа жил, душой чувствовал его настроения. Поэтому ему не нужно было народ идеализировать. Если социальные вопросы не находят реального решения, в народе может пробудиться темная разрушительная стихия. Жестокость правления обернется жестокостью бунта:
Он с волками жил - и по-волчьи взвыл,
И рычит теперь по-медвежьему.
Это звучит как предупреждение, как предостережение от поверхностной эйфории. Ведь недаром сегодня ответственно мыслящие и знающие народную жизнь люди вспоминают пушкинские слова: "Не приведи бог видеть русский бунт - бессмысленный и беспощадный".
Получается, что метафорический сюжет требует как минимум двух трактовок. Но, похоже, они не опровергают, а поддерживают друг друга.
Многозначность сюжетов и образов Высоцкого достигается слаженным действием целого оркестра словесных инструментов. Как у рачительного хозяина, у Высоцкого идет в ход любая мелочь, из которой порою выжимаются крупные смысловые результаты. Какие-нибудь грамматические частицы "не" и "ни" становятся метафорой предельной душевной амортизации, пребывания на границе жизни и смерти: "Пора туда, где только ни и только не". Новые ресурсы открыл Высоцкий в каламбуре, показав, что этот вроде бы давно непрестижный прием может работать не только в фельетонных, но и в самых серьезных, трагедийных контекстах:
Кто-то высмотрел плод, что неспел,
Потрусили за ствол - он упал...
Вот вам песня о том, кто не спел
И что голос имел - не узнал.
Надо сказать, что такими парами созвучных слов (поэтическими паронимами) Высоцкий пользовался гораздо реже, чем те поэты-современники, что оказали явное влияние на формирование его словесно-стихотворной техники, то есть Вознесенский, ранний Евтушенко, Ахмадулина. Те готовы были любое случайное созвучие превратить в неслучайное, образно значимое. Почему же Высоцкий не так интенсивно внедрял в свои песни сочетания типа: "Залатаю золотыми я заплатами", "Им успех, а нам испуг", "Слоны слонялись в джунглях без маршрута"; "Хотели кушать - и съели Кука!"? Очевидно, потому, что ему нужны были только такие "пары" созвучных слов, где есть энергичный глагольный элемент, есть зерно будущей интриги. Паронимы у Высоцкого не висят кистями на ветвях стиха, они заводят сюжетную пружину. Ну и, конечно, сюжетные метафоры Высоцкого не были бы такими живыми и эмоционально действенными, если бы в них не содержался такой мощный смеховой потенциал, если не сквозила бы в них такая, как говорили в старину, vis comica комическая сила. Говоря попросту, мало кто в последние десятилетия умел так насмешить, как Высоцкий. И вместе с тем его остроумие никогда не было самоцелью, никогда не работало на пустое развлекательство. В статье, специально посвященной смеховой культуре поэта, Н.Крымова дала точное определение: "Юмор Высоцкого... - это требовательный юмор"****************. Действительно, у Высоцкого каждый комический образ, каждое смешное словосочетание требует от нас активного осмысления и прочувствования. Иной раз соль шутки доходит до нас сразу, а порой серьезная суть остроумного выражения становится понятной через долгое время: даже как-то неловко перед самим собою становится, что столько раз смеялся, слушая эти строки, их давно наизусть запомнил, а понял вот только сейчас. Но, если вдуматься, ничего дурного в этом нет. Значит, творческое остроумие Высоцкого рассчитано на долговечную эксплуатацию. Важно, что всегда есть в его комических сюжетах и образах, как говорил он сам, "другой пласт", причем "обязательно серьезный".
Серьезное предназначение смеха - давняя традиция русской литературы. Само разделение жанров и писателей на "серьезных" и "смешных" появилось в период бюрократической регламентации искусства, в период культурного одичания. Без смеха иссякает творческая фантазия, а серьезность становится одномерной, дидактической. Смех же, загнанный на последние страницы журналов, скованный по рукам и ногам цензурными ограничениями, вырождается и обесценивается. Вспомним, как убога была неулыбчивая монументальная литература застойных лет, в которой не было места "Чонкину" Войновича, а "Сандро из Чегема" Искандера, допущенный лишь в сокращенном варианте, выглядел пасынком и парией. Все это было одинаково губительно и для смеха, и для подлинной серьезности.
Иногда, объявляя на концертах очередную песню, Высоцкий называл ее "шуточной", но в самом эпитете ощущалась ироничность: мало ли кто в зале сидит, в доносчиках у нас недостатка никогда не было. Но настоящие слушатели всегда понимали, что к чему. Творческая независимость поэта, его прямой контакт с аудиторией обеспечили его песням необычайно прочную связь смешного с серьезным. Обратите внимание, какие у него были ориентиры в смеховой работе со словом: "Я больше за Свифта, понимаете? Я больше за Булгакова, за Гоголя..." А это все не просто высокие и престижные имена, это творцы серьезного смеха, это не рисовальщики "с натуры", а выдумщики, это мастера, прочно соединявшие в своей работе образный и сюжетный планы. Каждая из стран, посещаемых Гулливером, разгуливающий по Невскому проспекту Нос, негорящая рукопись -это все сюжетные метафоры, сочетающие эмоциональную выразительность с протяженностью во времени. Вроде бы на Гоголя и Булгакова ориентируются сегодня многие писатели. Но как у них насчет "смелости изобретения", говоря словами Пушкина? Что они могут предъявить столь же веселого, наглядного и надолго запоминающегося? А вот Высоцкому, как мы уже не раз видели, есть чем отчитаться перед великими учителями.
Да, мы как-то сбились в своем разговоре с поэзии на прозу. Сюжетные метафоры Высоцкого - это стык поэзии и прозы. Они заставляют крепко задуматься о жанровом составе нашей поэзии. Что в ней господствовало во времена Высоцкого? В общем два жанровых начала, если воспользоваться старыми терминами - элегия и ода. То есть либо грустно-философское раздумье о собственной жизни поэта, либо обязательное для печатающегося профессионала воспевание чего-то: достижений нашей страны, либо - у тех, кто почестнее - каких-нибудь вечных ценностей. И "элегическое", и "одическое" начала в равной мере бессюжетны. С сюжетностью в поэзии нашей долгое время было туго (как, впрочем, и сегодня). Критики время от времени возглашали об "эпизации лирики", но стихотворной практикой это никак не подтверждалось. Жанр поэмы совсем задохнулся в семидесятые годы, и до сих пор он очнуться не может. Наши стихотворцы оказались похожими на того самого изображенного Высоцким конькобежца-спринтера, который быстро "спекся" на стайерской дистанции.
В песнях Высоцкого русская поэзия шагнула навстречу прозе, навстречу сюжетности. Поэм Высоцкий не писал, за исключением одного опыта 1971 года детской комической поэмы про Витьку Кораблева и Ваню Дыховичного, а энергичная сюжетность реализовалась у него в формах песни-баллады и песни-новеллы. Как балладный поэт Высоцкий имеет- определенных предшественников, а вот как поэт-новеллист он, по существу, первопроходец. Динамичное и драматичное повествование с неожиданным финалом, заставляющим пересмотреть все происшедшее,- это для нашей поэзии нечто совершенно новое. Причем такая жанровая установка была для Высоцкого осознанной и принципиальной. На звуковой странице журнала "Клуб и художественная самодеятельность" (1987. No 14) вопроизведен разговор поэта с Ю.Андреевым в 1967 году, где, в частности, Высоцкий подчеркивает: "Я стараюсь строить свои песни как новеллы, чтобы в них что-нибудь происходило". Заметьте, как слова эти перекликаются с горестным шукшинским вопросом: "Что с нами происходит?" Шукшин и Высоцкий в равной мере противостояли вялой бесфабульности, бессобытийности, которая постепенно все больше окутывала и поэзию, и прозу.
Неожиданно заостренный новеллистический финал (pointe, как называют его французы, а также грамотная часть отечественных литературоведов) для Высоцкого - не только способ поставить все точки над i, внести полную сюжетную ясность, но и способ столкнуть разные точки зрения на происходящее. Вспомним лукавый итог песни "Про любовь в эпоху Возрождения", где автор предлагает свою "разгадку" улыбки Джоконды. Вспомним "Дорожную историю", где великодушие героя-рассказчика ("Я зла не помню - я опять его возьму!") не отменяет строгого авторского взгляда на поведение струсившего "напарника".
Доблесть новеллиста - не только в том, чтобы выстроить стройный сюжет и подвести его к парадоксальному финалу, но и в том, чтобы навсегда озадачить читателя нравственно-психологической коллизией. Вот, скажем, песня "Про Сережку Фомина". Это история о профессорском сыне, "белой вороне" в компании дворовой шпаны. Рассказ ведется от имени явного Сережкиного недоброжелателя, отказавшегося от брони и отправившегося на фронт, -в то время, как Фомина "спасал от армии отец его, профессор". И что же?
...Но наконец закончилась война
С плеч сбросили мы словно тонны груза,
Встречаю я Сережку Фомина
А он Герой Советского Союза...
Услышав песню в середине шестидесятых годов, я все никак не мог взять в толк: какова же истинная суть этого сюжета? Что, этот интеллигентский сынок получил по блату не только броню, но еще и высшую правительственную награду? А может быть, он в тылу занимался разработкой стратегически важного оружия и был заслуженно награжден? А может быть, Сережка убежал на фронт вопреки усилиям отца и звание Героя завоевал в бою? В общем ощущение озадаченности осталось от этой песни на двадцать с лишним лет. И вот совсем недавно, в сборнике "Живая жизнь", в воспоминаниях Г.Яловича появился, так сказать, реальный комментарий к песне:
"И постоянное внимание к миру... Идем по улице Горького, навстречу двое мужчин. Разговаривают. Один другому говорит: "Представляешь, встречаю я его, а он - тыловая крыса - Герой Советского Союза..." Мне это врезалось в память, Володя это тоже запомнил. И через некоторое время слышу в песне:
Встречаю я Сережку Фомина
А он - Герой Советского Союза"*****************.
Оказывается, и сам Высоцкий не знал, что там именно было с "тыловой крысой". Он подхватил колоритный факт, укрупнил его энергичным вымыслом - и ощущение загадочности, неоднозначности стало истинным смыслом песни-новеллы, оставляющей такое стойкое и длительное "послевкусие". Вот это, по точному выражению Г.Яловича, "постоянное внимание к миру" и есть то самое, чем Высоцкий хотел "заразить" своих слушателей и читателей. Таков смысл взаимодействия поэзии и прозы в его творчестве. Но об этом - особый разговор.
На ослабленном нерве я не зазвучу
СТИХ И ПРОЗА
"Они сошлись: волна и камень, //Стихи и проза, лед и пламень..." Редко кто задумывается о бездне смысла, заложенного в этих часто повторяемых пушкинских строках. Между тем Стих и Проза - главные герои литературной истории. Это две стихии, два божества, которые то враждуют, то мирятся, то расходятся в разные стороны, то переплетаются и взаимодействуют. Отношения между ними не менее значимы для литературы в целом, чем связь литературы с жизнью, с социальной действительностью. А можно посмотреть на проблему и так: процесс взаимодействия стиха и прозы перекликается с процессами социальными, духовными, нравственными.
Это хорошо понимали в пушкинские времена. Тогда писатели не склонны были рассуждать об "идейности", "гражданственности", "духовности" и прочих абстракциях, да и слов таких не было. Разговоры шли о том, как свои идеи, свои гражданские и духовные идеалы претворить в слове. Много спорили о жанрах, о стиле, о законах стиха и прозы. Для Пушкина переход от поэзии к прозе был едва ли не главным "внутренним" сюжетом его творческой биографии.
Стих и проза основательно выясняли свои отношения и в начале нашего столетия, в пору "серебряного века" и продолжавшегося в начале двадцатых годов расцвета русского искусства. Бунин, Андрей Белый - кто они: прозаики или поэты? На границе поэзии и прозы нередко экспериментировал Хлебников. Немыслимы без своей прозы Блок, Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Маяковский, Ходасевич. В одном лице соединились поэт Сирин и прозаик Набоков. А как сплелись стих и проза в упрямо-независимом пути Пастернака!
А вот в официальном советском литературном производстве поэзия и проза были строго разведены по соответствующим "цехам" со своими уставами и начальниками. Постепенно выработались две разновидности "инженеров человеческих душ": прозаик -тот, кто, хоть убей, но двух стихотворных строк не сочинит, а поэт - тот, кто эти строчки гонит одну за другой, но решительно не способен "выдумывать" какие-нибудь характеры, сюжеты, не умеющий рассказать ничего, кроме своей славной биографии. Это как правило.
Литература, однако, всегда живет и развивается "в порядке исключения". И среди тех, кто сегодня определяет движение художественного слова, есть мастера, избегающие узкой специализации. Примечательно, к примеру, что Фазиль Искандер, прославившись как прозаик, остался и своеобразным лирическим поэтом, что стихотворные опыты есть у Андрея Битова (один из них, кстати, памяти Высоцкого посвящен), что в альманахе "Метрополь", автором которого был и Высоцкий, Белла Ахмадулина выступила с прозой, а Василий Аксенов - со стихотворной пьесой. И тем не менее "ведомственное" мышление крепко впилось в литературное сознание, в представления и оценки самих писателей, критиков, читателей. Всякие нестандартные явления на стыке прозы и поэзии вызывают замешательство и подозрительность. Скажем, Жванецкого долгое время никак не могли признать писателем: для прозаика слишком коротко пишет, для поэта -вроде бы нескладно и без рифмы. А Жванецкий - это прежде всего броская и стремительная прозаическая эпиграмма. Думали, такого не бывает? Бывает!
И Высоцкого от поэзии отлучали прежде всего потому, что другие поэты "так не пишут". И после его смерти подобные разговоры долго тянулись. Так это надоедало, что порой хотелось ответить: "Ладно, не поэт он. Прозаик". А что? У многих ли нынешних мастеров прозаического слова найдется столько непохожих друг на друга характеров и типов, столько оригинальных фабул и конфликтов? Не вписывается он, по-вашему, в один ряд с Вознесенским и Евтушенко (для одних), с Самойловым и Кушнером (для других), с Соколовым и Кузнецовым (для третьих), так, может быть, впишется в ряд с житейскими историями В.Шукшина и Б.Можаева, с сюжетными фантасмагориями В.Аксенова, с беспощадными военными коллизиями В.Быкова, К.Воробьева, В.Кондратьева, с лагерными рассказами В.Шаламова?
Сам стих Высоцкого - стих прозаизованный. Отсюда - его принципиальная "негладкость", наличие в нем порой каких-то ритмических "заусениц", скрадываемых мелодией и пением, но нередко ощутимых при попытках прочесть стихи вслух, продекламировать их. Но это вовсе не означает, что такой стих "хуже" стиха плавного, без интонационных препятствий. Чрезмерная гладкость может привести к монотонности, когда сознание читателя ни на чем не останавливается, ни за что не цепляется, а как бы отбивает такт, соответствующий использованному стихотворцем размеру. Тынянов называл это "стихами вообще". Чего-чего, а таких стихов у Высоцкого нет. У него всегда - стихи "в частности". И ритмическая негладкость несет в себе смысловую значимость.
Историческое развитие стиха - это закономерное чередование "гладкости" и "негладкости". Если стих теряет свою ощутимость, тяжесть, становится слишком легким, невесомым, то обновление его происходит при помощи прозаических "прививок", когда стих усваивает разнообразные шумы времени: уличное многоголосие, непривычную для поэзии обыденную информацию, не принятые поэтическим этикетом шокирующие подробности. Тут впору вспомнить, как были встречены современниками стихи Некрасова, вызвавшие легендарную оценку Тургенева: поэзия в них и не ночевала. Инерция такого отношения тянулась чрезвычайно долго - несмотря на большой читательский успех произведений Некрасова. Впрочем, этот успех также вызывал снобистскую реакцию и разговоры типа: это явление социальное, а не художественное и т.д. В 1921 году К.И.Чуковский провел среди ведущих русских поэтов анкетный опрос "Некрасов и мы". Поскольку в воздухе тогда носилась идея о "непоэтичности" Некрасова, то Чуковский специально включил в анкету пункт о стихотворной технике. И ответы оказались довольно неожиданными. За недостаточную "техничность" Некрасова ругнул только наименее умелый из опрошенных поэтов - Горький, приведший примеры слабых, по его мнению, рифм. А "эстеты" и "модернисты" высказались совсем иначе. Приведем три ответа, над которыми стоит поразмышлять в связи со спорами о Высоцком.
З.ГИППИУС. Его техника в целом гармонирует с духом его произведений, и они были бы хуже, если бы она была "совершеннее".
А.МЕРЕЖКОВСКИЙ. Техника Некрасова неравномерна: то взлеты, то падения; музыка и скрежет гвоздя по стеклу. Но так и должно быть: неравномерность техники выражает неуравновешенность личности. Более совершенная была бы менее выразительной.
Н.ГУМИЛЕВ. Замечательно глубокое дыхание, власть над выбранным образом, замечательная фонетика, продолжающая Державина через голову Пушкина.
Речь идет о том, что "совершенство" - понятие непростое, что для решения своих задач, для гармонии между стихом и своей личностью поэту порой приходится резко отойти от привычных нормативов, от сложившейся в поэзии "уравновешенности". Важнее - "выразительность". Новые ресурсы "музыки" могут быть найдены в "скрежете гвоздя по стеклу". Наконец, помимо пушкинской, условно говоря, "гармоничной" линии, в русской поэзии существует еще и державинская, условно говоря, "дисгармоничная" система звуковой организации стиха. И "утяжеленная" фонетика Высоцкого, если на то пошло, через множество посредников и вех связана именно с последней традицией.
"Дисгармоничность" бывает исторически необходима поэзии, чобы обновить само ощущение стиха. "Поэзия вообще" размывает стих в монотонном потоке. В поэзии настоящей строка не просто условный отрезок, она несет в себе облик всего произведения, отпечаток авторской индивидуальности. Не обязательно, чтобы в ней содержался какой-то афоризм, важно само ритмическое движение. Пушкинская "Адмиралтейская игла", лермонтовское "Одну молитву чудную...", тютчевское "Слезы людские, о слезы людские...", некрасовское "На тебя, подбоченясь красиво...", блоковское "Роковая о гибели весть", ахматовское "И растрепанный том Парни", пастернаковское "Кропают с кровель свой акростих" - все это полномочные представители авторов и их художественных миров. Стих сам по себе - гениальнейшее создание человека. Его ценность всегда понимают настоящие поэты. "Железки строк" - передавал это ощущение Маяковский. Посмотрим, есть ли прочные и весомые "железки" у Высоцкого. Выберем наудачу несколько:
Влезли ко мне в душу, рвут ее на части...
Все позади - и КПЗ, и суд...
И душа крест-накрест досками...
И рассказать бы Гоголю про нашу жизнь убогую...
Сколько веры и лесу повалено...
Скажи еще спасибо, что - живой!
Мы все живем как будто, но...
Купола в России кроют чистым золотом...
На ослабленном нерве я не зазвучу...
Каждая из этих строк - не условная единица измерения текста, а единый порыв, творческое движение. Стих - не рама, а сама картина, образ -трагический или комический, стих - сюжетная ситуация или душевное состояние. Острое чувство стиха, присущее Высоцкому, передается и его читателям. Они хранят в памяти не только афоризмы и сентенции Высоцкого, но и те самые "железки строк". Стоить где-нибудь в очереди - и вдруг слышишь иронически-горестный вздох: "Красота среди бегущих!" На самом-то деле после слова "красота" идет большая пауза, а после "бегущих" стихотворный перенос: "Первых нет и отстающих". Но Высоцкий остается в памяти именно стиховыми рядами. Закон "единства и тесноты стихового ряда", открытый Тыняновым, действует тут в полной мере.
Ощущая стих как единство, Высоцкий в устойчивых выражениях: "Спасите наши души!", "Мир вашему дому!", "Утро мудренее" сразу чувствовал строку, модель ритма. А "тесноту" он постоянно усиливал, стремясь вогнать в один стих целое событие, диалог, завязку конфликта:
"Змеи, змеи кругом - будь им пусто!"
"Рядовой Борисов!" - "Я!" - "Давай, как было дело!"
Я кричал: "Вы что ж там, обалдели?..."
Постоянно задаваясь вопросом, "можно ли раздвинуть горизонты", Высоцкий раздвигал пространство стиха. Полистайте книгу: вы убедитесь, что Высоцкий очень любит строку длинную. У современных поэтов не принято в ямбе и хорее выходить за пределы шестистопности. А у Высоцкого мы найдем и семистопный ямб ("Кто кончил жизнь трагически, тот - истинный поэт", "Товарищи ученые, доценты с кандидатами!", "Куда ни втисну душу я, куда себя ни дену"), и семистопный хорей ("На Земле читали в фантастических романах", "Если я чего решил - я выпью обязательно"), и хорей восьмистопный ("Это был воскресный день - и я не лазил по карманам...", "Мы успели: в гости к Богу не бывает опозданий...", "На стене висели в рамках бородатые мужчины...").
То же - и с трехсложниками. Высоцкий активно эксплуатирует их "длинные" модификации, включая пятистопные: дактиль ("Нежная правда в красивых одеждах ходила..."), амфибрахий ("За нашей спиною остались паденья, закаты..."; а в "Расстреле горного эха" эффект эха создается в нечетных стихах шестой стопой: "В тиши перевала, где скалы ветрам не помеха, помеха..."); анапест ("Я из дела ушел, из такого хорошего дела..."). Во всех подобных случаях автор идет на риск: если такие размеры не освоить интонационно - они будут звучать громоздко или помпезно. И во всех упомянутых ситуациях поэт успешно справляется с "сопротивлением материала", с сопротивлением метра. И везде "удлинение" стиха связано с содержательными оттенками: с усилением повествовательного начала, насыщением стиха предметными подробностями. Стихосложение, версификация (versus - стих) связано с постоянным возвращением (vertere - поворачивать) речи к исходной точке. Строка есть не что иное, как вычлененное из потока времени мгновение. Высоцкий стремится это мгновение продлить, придать ему прозаическую протяженность, неограниченность (prosus - свободный).
Но удлинение стиха - не самоцель, Высоцкий любит и сверхкороткую строчку: "У нее //все свое - и белье, и жилье..." - сколько зависти, любопытства, спрятанных "комплексов" в этом периодически повторяющемся "у нее". А вот "Песня о конькобежце на короткие дистанции, которого заставили бежать на длинную" - здесь же обе эти дистанции показаны через наглядное стиховое, ритмическое сравнение, через чередование длинных и коротких строк:
Десять тысяч - и всего один забег
остался.
В это время наш Бескудников Олег
зазнался.
Вообще у Высоцкого обширнейший, как говорят стиховеды, метрический репертуар. Набор размеров, которыми он оперирует, так же разнообразен, как круг его тем и сюжетов. Многоголосие ритмов отвечает обилию персонажей, разноголосице их взглядов и суждений. Метрика и ритмика Высоцкого еще ждут своего специального исследования с подробными статистическими подсчетами и поисками закономерностей. Чрезмерная, по мнению некоторых, прозаичность и разговорность стихотворной речи Высоцкого надежно страховала от ритмической инерции. Устойчивость творческого почерка, верность однажды избранному стилю часто обрекает поэтов на постоянное варьирование нескольких привычных для них ритмико-интонационных ходов. Высоцкий же для каждой новой песни искал новое ритмическое решение. Отсюда "необкатанность" его стиховой интонации. Но именно благодаря этой "необкатанности" стих Высоцкого вступал в необходимое трение с новым жизненным и языковым материалом. Покрытие колеса должно быть неровным: на гладкой, "лысой" резине далеко не уедешь.
"Перегруженному" в смысловом и сюжетном отношении стиху Высоцкого помогала прозвучать мелодия, облегчал ему дорогу и авторский голос. Но это вовсе не значит, что без мелодии и вне авторского исполнения этот стих не стоит на ногах. Песня - это не "меньше", чем стихотворение, а может быть в чем-то и больше. Тем, кто считает, что стихи Высоцкого только поются, но "не читаются", можно только одно сказать: давайте повременим с окончательными выводами. Не исключено, что формами бытования этого стиха еще станут и его "глазное" чтение, и декламации вслух (уже многие актеры и чтецы осваивают сегодня наследие Высоцкого). "Негладкий" стих часто заглядывает в будущее языка. То, что сегодня кому-то кажется неловкостью или неуклюжестью -завтра может быть осознано как предельная речевая естественность.
Поэзия не может жить только установкой на одну плавность и гладкость это привело бы к полной неощутимости слова. "Негладкие" поэты возвращают стиху внимание к каждому отдельному слову. Р.Якобсон назвал поэзию Маяковского "поэзией выделенных слов". Эта формулировка в большой степени применима к стихотворной речи Высоцкого. Когда произведения поэта начали широко печататься, текстологи встали перед проблемой пунктуации - и не только в текстах, публикуемых по фонограммам, но и в текстах, зафиксированных рукописно: поскольку Высоцкий записывал главным образом "для себя",то знаки препинания расставлял несистематично и часто опускал вообще (что отмечают и Н.Крымова, и А.Крылов). В результате текстологам пришлось взять заботу о пунктуации на себя. И одна любопытная частность: для обозначения многочисленных интонационных пауз внутри стиха пришлось широко использовать тире (особенно это характерно для изданий, подготовленных А.Крыловым). Не исключено, что это же самое сделал бы и сам автор текстов, доведись ему готовить свою книгу для печати. Резко сталкивающиеся друг с другом слова, наезжающие друг на друга мысли и эмоции - их явно надо чем-то проредить. А может быть, вместо тире Высоцкий использовал бы стиховую "лесенку" "маяковского" типа. Как он это сделал, например, в рукописи "Черных бушлатов":
За нашей спиною
остались
паденья,
закаты,
Ну хоть бы ничтожный
ну хоть бы
невидимый
взлет!
И это выделение в отдельную строку большей части слов не выглядит манерным, оно органично, оно подтверждено интонационным движением. Текстологи, конечно, на выстраивание "лесенки" права не имеют, но, рассуждая чисто экспериментально, она вполне смотрелась бы как способ фиксации того интонационного членения стиха, которое объективно присутствует у Высоцкого:
Там у соседа
пир горой,
И гость
солидный, налитой,
Ну а хозяйка
хвост трубой
Идет к подвалам...
Я всего-навсего заменил здесь некоторые тире на "ступеньки" "лесенки".
Вот из-за этой-то выделенности слов и столько недоразумений по поводу "нечитаемости" Высоцкого. Возьмите для эксперимента какое-нибудь стихотворение Маяковского, например "Юбилейное", сложенное из тонически обработанных длинных строк вольного хорея, - и запишите все в длинные строки, без лесенки. Получится нечто непривычное, чуть ли не комичное. В общем в песнях Высоцкого очень часто запрятана "лесенка", слова там живут на разных этажах - и интонационно, и смыслово.
Сохраняется эта выделенность и в стихах, написанных стертыми традиционными метрами. На первый взгляд, пятистопный ямб стихотворений "Мой Гамлет", "Я к вам пишу", "Мой черный человек в костюме сером..." производит впечатление какой-то ритмико-интонационной наивности: в поэзии 60 - 70-х годов этот размер стал стилистически нейтральным, Высоцкий же говорит на нем с драматической и патетической старомодностью:
Я видел: наши игры с каждым днем
Все больше походили на бесчинства...
Спасибо, люди добрые, спасибо,
Что не жалели ночи и чернил!
Я от суда скрываться не намерен,
Коль призовут - отвечу на вопрос.
Все это стихи исповедально-монологического плана, и эффект полной откровенности, душевной незащищенности достигается отказом от ритмической изобретательности. Ритмическая старомодность делает речь эмоционально обнаженной. "Литературные" слова, даже не без оттенка банальности, вдруг оживают - потому что каждое из них может и должно быть понято буквально. Для Высоцкого гамлетизм и драматический пятистопный ямб - не поза, а линия судьбы. О себе "открытым текстом" он просто не мог сказать иначе. Есть люди, которые в общественной жизни - романтики и борцы, а наедине с собою иронические скептики. Высоцкий же, не уставая шутить и иронизировать, строить и сюжетно, и ритмически остроумные смысловые узоры, был ранимым и несгибаемым романтиком в глубине души. Поэтому раскрыть с предельной полнотой свою внутреннюю драму он мог только в наивно-старомодной ритмической форме:
И лопнула во мне терпенья жила
И я со смертью перешел на ты...
Читая, мы не можем пропустить здесь ни одного слова, поскольку каждое из них абсолютно достоверно, каждое употреблено в буквальном, прямом значении. Только ли потому эти строки звучат убедительно, что мы знаем их биографический контекст? Нет, правдивость здесь и интонационная, и стиховая.
Когда после смерти Высоцкого стали публиковаться его монологические стихи, они, вызывая уважение к "содержанию", казались чересчур скромными в смысле стихотворной техники - по сравнению с песнями сатирическими, игровыми, "масоч-ными". Но по прошествии десятилетнего срока можно это впечатление скорректировать. Ощущение "старомодности" уходит, уступая место ощущению долговечности. Значимость каждого слова неизменна - и в "сложных", и в "простых" стихах Высоцкого. Нужна была огромная дерзость, чтобы в несколько архаизованном стиле, вызывающе-торжественным пятистопным ямбом продекларировать:
Мне есть что спеть, представ перед всевышним,
Мне есть чем оправдаться перед ним.
Оттенок вызова, оттенок торжественности исчезают, остается сила речевой и ритмической естественности, полной нашей уверенности в том, что ожидаемая в этих строках встреча состоялась и что собеседники поняли друг друга.
...Вот уже не раз и не два возникало в нашем разговоре имя Маяковского. Не хочется, чтобы это было понято как протаскивание тезиса о "сходстве". Всякое сопоставление двух поэтов не в меньшей степени требует и выявления различий. И они здесь едва ли не более значимы - и в общефилософском плане, и в плане поэтики. Маяковский в диалогической, разговорной интонации вел свой монолог, пока в 1930 году не увидел, что речь его обращена только к самому себе. Высоцкий же наоборот - даже в монологических текстах сохраняет ощущение диалога. Это и помогло ему уберечься от социального утопизма и политических иллюзий. Что же касается стиховой культуры Высоцкого, то пример Маяковского, конечно, здесь оказал свое влияние, чему имеются фактические подтверждения. Н.М.Высоцкая сохранила рукопись шуточных пародий Высоцкого-студента, написанных "на случай": сын благодарит мать за выстиранные и выглаженные брюки "от имени" Некрасова, Пушкина и Маяковского. Приведем "маяковский" фрагмент:
Давно
я красивый
товар ищу;
Насмешки с любой стороны,
Но завтра
совру товарищу:
Скажу,
что купил штаны.
Здесь, в частности, можно увидеть истоки тяготения Высоцкого к составной каламбурной рифме. Но все же дело не в одном Маяковском, а в целом комплексе футуристической и постфутуристической стиховой культуры (включая сюда имажинизм, конструктивизм). Совершенно согласен с Н.Богомоловым, считающим, что "традиции Высоцкого следует искать не в ориентации на творчество какого-либо крупного поэта, но в самом общем отношении его к построению своего стиха"******************, находящим стиховые "корни" Высоцкого в самой новаторской и экспериментальной атмосфере двадцатых годов и приводящим в качестве своеобразного доказательства совершенно "высоцкое" стихотворение В.Шершеневича "Страшный год", написанное в 1926 году. Это, впрочем, не означает, что невозможно докопаться до еще более "древних" корней поэтики Высоцкого - эти корни, конечно же, у нее есть - как и у поэзии двадцатых годов.
Такой широкий взгляд на проблему позволяет понять и природу рифмы Высоцкого, очень непохожей на рифму "письменной" поэзии 60 - 70-х годов. Тем более что этот, казалось бы, чисто технический и узкопрофессиональный вопрос нашел весьма болезненное отражение в одном из "завещаний" Высоцкого - стихах о "черном человеке":
И мне давали добрые советы,
Чуть свысока похлопав по плечу,
Мои друзья - известные поэты:
Не стоит рифмовать "кричу - торчу".
Похоже на недоразумение. Высоцкого ли обвинять в примитивности рифм? Ведь столько у него рифм виртуозно-каламбурных, создающих сильный комический и эмоциональный эффект: "об двери лбы" - "не поверил бы", "хотя бы час" - "Хоттабыча", "в венце зарю" - "Цезарю", "коварен Бог" - "Рембо", "Из людей, пожалуй, ста" - "Ну а мне - пожалуйста" и т.п.
Немало у него и сквозных рифм, организующих всю композицию произведения. Достаточно привести только сам рифменный ряд: "бригаде" "маскараде" -"зоосаде" - "параде" - "Христа ради" - "сзади" -"Нади" "Влади" - "наряде" - "гладил" - "ограде" -и перед нами предстанет весь сюжет и вся "система образов" хорошо известной песни. Хорошо известной, между прочим, и благодаря броской зарифмован-ности. А как стремительно мчится сюжет песни "Про речку Вачу и попутчицу Валю", где рифмы мелькают, как столбы в окне поезда:
Что такое эта Вача,
Разузнал я у бича,
Он на Вачу ехал плача
Возвращался хохоча.
Два ряда рифм - на "ча" и на "ача" - накладываются друг на друга, создавая эффектнейший узор по краю стиховой ткани.
Любовь к виртуозной рифме, к рифмовке, организующей композицию, толкала Высоцкого к строфическим поискам и изобретениям. В нашей "печатной" поэзии такие поползновения мало поощрялись в 60 - 70-е годы, не популярны они и теперь. Абсолютное большинство поэтов пользуется в абсолютно большей части своих произведений элементарными четверостишиями с перекрестной рифмовкой -Ахматова называла такие строфы "кубиками". У "кубика" немало защитников, убежденных в том, что лучше не изобретать и не "выпендриваться". И все же такая повсеместная "унификация" строфики невольно напоминает нашу архитектуру, сделавшую главной формой эпохи "коробку" - тот же "кубик", по сути дела.
Так вот в то время, как подлинные профессионалы стиха добросовестно проектируют "кубик" за "кубиком" - врывается в их учреждение самодеятельный архитектор со своими "кустарными" (то есть индивидуальными, нестандартными) строфическими находками:
Как-то раз за божий дар
Получил он гонорар,
В Лукоморье перегар
на гектар!
Но хватил его удар,
Чтоб избегнуть божьих кар,
Кот диктует про татар мемуар.
Или вспомним "Заповедник", где есть строфа из тридцати стихов, двадцать семь из которых оканчиваются на "щах", "щих" и "щихся": целый оркестр из шипящих звуков. А иногда в строфических узорах Высоцкого просматриваются культурно-традиционные переклички: в "Пародии на плохой детектив", а потом и еще кое-где просвечивает строфический скелет "Ворона" Эдгара По. Может быть, это пришло из спектакля "Антимиры", где Высоцкий читал фрагмент из "Озы" Вознесенского - как раз "в роли" Ворона. Впрочем, важен не столько прямой источник, сколько сам факт стиховой "отзывчивости" Высоцкого на культурную традицию.
С годами его интерес к строфическим опытам возрастал. Одно из последних произведений Высоцкого -"Две просьбы" (из "шемякинского" цикла) состоит из двух тринадцатистрочных строф балладного типа. В каждой из строф используется только по две рифмы -сложное по технике построение, причем мотивированное содержательно: автор предчувствует смерть и держится за цепкую рифму как за соломинку, как за последний шанс.
Да, так вернемся к проблеме рифмы как таковой. Наряду с рифмами составными, каламбурными, сквозными Высоцкий широко использовал рифмы самые простые, элементарные, грамматические: "окно" - "кино", "полбанки" "Таганки" или: "ходила" -"заманила", "пропажу" - "сажу", "брата" "ребята". И с господствующей в поэзии 60 - 70-х годов рифменной модой разошлись оба типа "высоцких" рифм. Там действовала (и сейчас сохраняется) установка на рифму неточную, ассонансную, захватывающую корни рифмующихся слов. Такие рифмы у Высоцкого встречаются, но достаточно эпизодически и облик стиха не определяют. Кто бы именно ни советовал Высоцкому избегать рифм типа "кричу" - "торчу", - это был, безусловно, поэт ассонансной ориентации, с позиции которого "кричу - торчу" - рифма слишком примитивная.
Но рифма оценивается не сама по себе, а во всем комплексе стиховых средств каждого поэта. Рифма "старомодная" располагает своими неисчерпаемыми ресурсами. У Юнны Мориц есть об этом страстное стихотворение, где она защищает "рифмы нищие", называя их "прекрасными старухами". И, между прочим, практика этой поэтессы доказывает, что современный и новаторский стиль вполне может сочетаться с рифмами типа "звезда - никогда", "мной -иной", "красоту - версту".
Высоцкий сумел извлечь из "нищих" рифм энергию и богатство. Они у него фиксируют эмоциональный жест. Не привлекая к себе излишнего внимания (за исключением тех театрализованно-эффектных рифм, примеры которых уже были приведены), рифмы Высоцкого неуклонно и жестко отсчитывают удары стихового пульса, удары, которые поэт наносит противнику в своем с ним (со злом, с судьбой, со смертью) нескончаемом поединке. Для этой задачи нужна рифма не расплывчатая, а четкая. Посмотрим, как работают простые, незамысловатые рифмы в стихотворении "Мне судьба - до последней черты, до креста...". Здесь друг за другом следуют три потока одинаковых рифм, бьющих, как пулеметные очереди. "До креста" - "немота" - "у рта" - "не та" - "Христа" "плита" - "еще та" - "нищета" - "Калита" - "против ста" -"тщета" - "нищета" - "ни черта" - "шута" - "не та" - "суета". Потом: "кругу" - "в дугу" - "не могу" - "подстерегу" -"в кругу" - "згу" - "сберегу" - "не смогу" - "на лугу" -"ни гугу" - "сберегу" - "на лугу". И, наконец:
Я до рвоты, ребята, за вас хлопочу!
Может, кто-то когда-то поставит свечу
Мне за голый мой нерв, на котором кричу,
И веселый манер, на котором шучу...
Даже если сулят золотую парчу
Или порчу грозят напустить - не хочу,
На ослабленном нерве я не зазвучу
Я уж свой подтяну, подновлю, подвинчу!
Лучше я загуляю, запью, заторчу,
Все, что ночью кропаю, - в чаду растопчу,
Лучше голову песне своей откручу,
Но не буду скользить, словно пыль по лучу!
Судите сами, можно ли этот звуковой и эмоциональный взрыв передразнить: "кричу - торчу"? Все рифмы простейшие, но сам феномен рифмы здесь ощущается как вызов хаосу, бессмысленности, жестокости и пошлости обыденной жизни. Рифма энергично "вытягивает" прозаичный жизненный материал, грубоватую лексику на уровень неподдельной поэтичности, создает романтическое - без патетики - настроение.
Любопытно, что Высоцкий готов был внедрить рифму и в прозаический текст. В его недавно опубликованной у нас повести "Дельфины и психи" (1968) находим такой явно ритмизованный пассаж, завершающийся рифменной игрой, слегка напоминающей дух раешного стиха:
"На улице слякоть, гололед, где-то ругаются шоферы и матерятся падающие женщины, а мужчины (непадающие) вовсе не подают им рук, а стараются рассмотреть цвет белья или того хуже -ничего не стараются: так идут и стремятся, не упасть стремятся. Упадешь, и тебя никто не подымет сам упал, сам вставай. Закон, загон, полигон, самогон, ветрогон и просто гон".
Это укрепляет в мысли о том, что "прозаизация" стиха была для Высоцкого способом открытия новых ресурсов поэтичности. Он вел свою поэзию к прозе, но и прозу двигал в сторону поэзии. Прозаичность была для Высоцкого мерой речевой естественности стихового слова. Иные строки Высоцкого по своему речевому и ритмическому строю весьма напоминают пословицу - фольклорный жанр, находящийся на самой границе поэзии и прозы: "За меня невеста отрыдает честно", "Ну, до Вологды - это полбеды", "Служил он в Таллинне при Сталине", "Метнул, гадюка, - и нету Кука!"
О том же говорит повышенное внимание Высоцкого к поэтической организации согласных звуков. Верно заметил Ю.Карякин: "Каким-то чудом у него и согласные умели, выучились звучать как гласные, иногда даже сильнее"*******************. Добавим, что это особенность не только исполнения, но и стихотворного текста.
Распевать, тянуть согласные было бы невозможно, не будь они выстроены в определенные ряды и не включены в общее звучание стиха, в его ритмику. Установка на динамику согласных опять-таки восходит к футуристической поэтике. Вспомним "грассирование" Маяковского, да и многократно осмеянный "дыр бул щыл //убещур" Крученых был не чем иным, как камертоном настройки поэтического инструмента на особый лад, на громкое звучание согласных. Судите сами: гласные здесь не растянешь, а согласные -вполне: "дыр-р-р, бул-л-л, щыл-л-л, убещ-щ-щур-р-р" - в общем мысленно озвучить этот текст можно и голосом Высоцкого.
И еще здесь необходимо сказать о совершенно особенном, сугубо индивидуальном эксперименте, который вел Высоцкий на стыке поэзии и прозы, на самой границе стиха и разговорной речи. Стиховое слово стремится к отточенности, отшлифованности -но в этом и потенциальная опасность чрезмерной заглаженности. Высоцкому иной раз хотелось, чтобы строка не застывала, продолжала разговорно пульсировать, чтобы она как бы заново рождалась в присутствии слушателя-собеседника. И он, исполняя песню, иногда неожиданно вводил дополнительные слова, удлиняющие строку, ломающие размер, но при этом органично вписывающиеся в общую речевую структуру. Правя машинописные записи, он потом то зачеркивал эти вставки, то, наоборот, вписывал новые********************.
Самый выразительный пример - песня "Марафон", где первый стих:
Я бегу, топчу, скользя
"раздвигается" обычно в исполнении следующим образом: "Я бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу - долго бегу, потому что сорок километров бежать мне - я бегу-бегу, топчу, скользя..." А далее основной текст все время осложняется вставками. Приведем один фрагмент, заключив "лишние" слова в скобки:
(Нет, ну) Тоже мне - (а!?) - хорош друг,
(Гляди, вон) Обошел меня на круг!
А (еще) вчера (мне) все вокруг
(Мне) Говорили: "Сэм - друг!
Сэм - наш (говорили) гвинейский друг!"
Здесь стих проверяется на прочность, на речевую органику - и, как видим, это испытание он выдерживает, сохраняя свое "единство и тесноту", приобретая еще один ритмический уровень (стабильный текст выступает как бы "метром", а текст исполнения -своеобразным "сверхритмом"). Тут, кстати, появляется возможность, говоря стиховедчески, варьировать анакрузу, свободно переключаться с ямба на хорей, с хорея на ямб.
Здесь есть и глубокий иронический подтекст. Мы живем в тщательно отредактированном мире: лишние, случайные, подозрительные слова отбрасываются, вычеркиваются, поскольку наша официальная культура строго выдерживает заданный "размер". А в "лишних" словах, в оговорках и небрежностях нередко и таится как раз самая ценная информация. В мире Высоцкого живая, обыденная "презренная проза" как бы высовывается из-за стихового фасада. И этот диалог поэзии и прозы (во всех смыслах обоих слов) пронизывает все написанное Высоцким.
Интересно, как создается этот диалог в незавершенном прозаическом опыте Высоцкого - "Романе о девочках". Роман, начатый остро и круто, вырастал из песен "блатного" цикла первой половины шестидесятых годов: те же характеры, ситуации, конфликты. Автор сплетает в тугой сюжетный узел судьбы проститутки Тамары Полуэктовой, уголовника Кольки Святенко, актера Александра Кулешова, палача сталинских времен Максима Григорьевича... Трудно строить какие-либо предположения о дальнейшем развитии событий романа, возможных его сюжетных поворотах. Зато можно увидеть кое-какие вполне проявившиеся в пределах двух авторских листов принципы подхода Высоцкого-прозаика к своему материалу. Материал, прямо скажем, неизящный, нуждающийся в основательном художественном преодолении.
Существуют определенные традиции "возвышения" криминальной тематики. Одна из них - романтизация персонажей, своеобразная инъекция "духовности", щедро производимая автором (заметим, что именно так действуют и в наше время гласности литераторы "острой" темы: девицы легкого поведения у них, как правило, отличаются бескорыстием, интеллектуальностью и готовностью к самой чистой любви). Нетрудно убедиться, что Высоцкий таким путем не пошел, что авторский взгляд на Тамару отнюдь не совпадает с настроением влюбленного в нее Кольки-Коллеги: "Просто так вошла, а не влетела как ангел, и пахло от нее какими-то духами, выпивкой и валерьянкой, и синяки были на лице ее, хотя тон был с утра уже положен, и густо положен. Но ничего этого Колька не заметил..."
Другой путь - возвышение остроумием: криминальный персонаж покоряет читателей шутками и философскими афоризмами. Такая традиция имеет немало ярких достижений (в частности, рассказы Бабеля, столь близкого Высоцкому), но к нашему времени очевидна ее исчерпанность: обаятельные, сыплющие каламбурами и парадоксами преступники изрядно приелись, они как-то не смотрятся на реальном фоне тех монстров и садистов, о которых мы узнаем из прессы и которые, увы, гораздо более типичны, чем их условно-литературные двойники. Высоцкий-романист явно держит в узде свое остроумие, а уж с персонажами им не делится совершенно.
Преобразование "низкого" материала в "Романе о девочках" осуществляется прежде всего на уровне интонации. Первая же фраза: "Девочки любили иностранцев" - значима не содержащейся в ней "информацией", а вызывающей прямотой тона. Кто это говорит: автор, герой? Это жизнь говорит, и ее, жизни, голос автор в первую очередь стремится уловить. О некрасивых, но вполне жизненных подробностях Высоцкий рассказывает без ухмылки и без ужимки, без бравирующей грубости, но и без равнодушного чистоплюйства: "Совсем еще пацана, брали его старшие ребята с собой к гулящим женщинам. Были девицы всегда выпившие и покладистые. По несколько человек в очередь пропускали они ребят, у которых это называлось - ставить на хор. Происходило это все в тире, на Петровке, где днем проводили стрельбы милиционеры и досаафовцы, стреляли из положения лежа. Так что были положены на пол спортивные маты, и на них-то и ложились девицы, и принимали однодневных своих ухажеров пачками, в очередь, молодых пьяноватых ребят, дрожавших от возбуждения и соглядатайства".
Неприглядное зрелище? А глядеть и не надо. Надо слушать авторскую интонацию, улавливать ритм речи. "Роман о девочках" - ритмизованная проза. В нем то и дело возникают звуковые узоры:
"И наКАРкал ведь, стАРый воРон. ЗабРАли Ни-колАя за пьЯную КАКую-то дРАКу..." Послушайте, как это "кар" раскатывается по фразе. За кажущейся простотой и разговорностью - строгая и стройная мера...
... Сегодняшняя литература переживает весьма своеобразную ситуацию, когда стихам недостает прозаичности, а прозе - поэтичности. Поэтому особенно интересным становится опыт Высоцкого в сопряжении двух основных начал словесности.
Бей же, звонарь, разбуди полусонных
ОБРАЗ МИРА
Наш разговор шел в несколько непривычной последовательности. Мы вели речь о поэтике Высоцкого, о его творческом отношении к слову, к стиху, к сюжету - и вот теперь подходим к вопросу о сумме идей поэта, о духовном идеале, воплощенном в его творчестве. Чаще делается наоборот: разъясняется "идейное содержание", а если останется еще время и место - то говорится что-нибудь о "художественных особенностях", о "форме" и языке.
Но будем надеяться, что "окольный" путь убережет нас от абстрактно-априорных трактовок, от под-верстывания многогранного и многоцветного мира Высоцкого под готовую идеологическую схему.
А с такими трактовками сегодня то и дело приходится встречаться, причем продиктованы они бывают лучшими намерениями. Как мы хорошо помним, после смерти Высоцкого его официальная репутация отнюдь не сразу пошла в гору.
Издали "Нерв" - но в то же время был запрещен властями поставленный на Таганке Ю-Любимовым спектакль "Владимир Высоцкий".
В июле 1981 года в "Литературном обозрении" была опубликована отважная и бескомпромиссная статья Ю.Карякина "О песнях Владимира Высоцкого", в августовской "Авроре" - статья Н.Крымовой, но ведь вскоре за Высоцкого крепко взялся журнал "Наш современник", развернувший против него целую кампанию и не брезговавший никакими средствами в стремлении как-то запачкать имя поэта.
Вырос памятник на Ваганьковском, сразу ставший местом народного паломничества - но в монумент вскоре запустили комком грязи, пустив сплетню о якобы затоптанной по соседству могиле. Аргумент, заметим, крайне абсурдный: ведь даже если бы такое произошло на самом деле - то какая ж тут вина Высоцкого и его поклонников? Это долг городских властей - создать народу надлежащие условия для посещения последнего приюта человека, объективно оказавшегося сегодня живее всех живых. Но люди непорядочные действуют не логикой, а демагогией -оружием, к сожалению, в нашем обществе более действенным.
И друзьям Высоцкого, его духовным союзникам понадобились крупные доводы в борьбе за его посмертную репутацию. Есть такая сценка у Жванецкого о том, что сегодня называют культурой полемики: "Ну, каким аргументом вы аргументируете? Какой у вас аргумент?" - "Большой". Так вот, с апреля 1985 года у защитников Высоцкого формулировался "большой" аргумент: Высоцкий -борец с застоем, пророк и прораб перестройки.
Это действительно так. Высоцкий был непримиримым противником какого бы то ни было застоя: социального, духовного, нравственного, творческого. Уж он-то этот застой знал в лицо и столько его выразительных портретов создал:
"Кто ответит мне
Что за дом такой,
Почему - во тьме,
Как барак чумной?
Свет лампад погас,
Воздух вылился...
Али жить у вас
Разучилися?.."
Похоже на нашу духовную атмосферу семидесятых годов (в 1974 году "Старый дом" написан)? Но не только: ведь условно-символическая форма понадобилась автору не для "шифровки", а для более широкого обобщения. Здесь именно символ, а не плоская аллегория. Когда мы с вами "жить разучилися"? Неужели недавно - в 1964 году, которым условно датируется начало "застоя"? Да нет, раньше, с началом сталинизма, - скажут многие. Еще раньше - в 1917 году, - скажут иные отчаянные смельчаки. А Высоцкий, пожалуй, принадлежал к тем, кто мыслил еще смелее, кто всем своим непокорным существом ощущал огромную историческую толщу застоя. И в очень далеком прошлом, и даже, если на то пошло, в будущем:
И снизу лед и сверху - маюсь между,
Пробить ли верх иль пробуравить низ?
И пробивал он этот лед с обеих сторон - углубляясь в прошлое и строя догадки о грядущем. Высоцкого интересовала, так сказать, типология застоя. Поэтому он не просто "переименовывал" нашего ответственного работника в римского патриция, потихоньку спивающегося, ненавидящего законную свою матрону - "Матрену" и мечтающего о "гетерочке", - он сравнивал этих деятелей, отделенных друг от друга толщей веков (как, заметим, и Окуджава в своей "Римской империи"). Почему Высоцкого так привлекала сказка? Потому что время действия сказки - всегда: вчера, завтра. Но и сегодня, конечно, тоже. И уж если бороться с застоем серьезно, то надо уметь его видеть одинаково зорко "в прошлом, будущем и настоящем".
И идея перестройки, конечно же, была в высшей степени созвучна натуре Высоцкого. Он, оставаясь собою, непрерывно менялся и обновлялся, перестраивал свои ритмы, сюжеты, тематические циклы. Недаром мы с изумлением стали прочитывать потом "перестроечный" подтекст во многих метафорах Высоцкого:
Под визг лебедок и под вой сирен
Мы ждем - мы не созрели для оваций,
Но близок час великих перемен
И революционных ситуаций!
В борьбе у нас нет классовых врагов
Лишь гул подземных нефтяных течений,
Но есть сопротивление пластов,
И есть, есть ломка старых представлений.
Что и говорить, есть здесь неподдельный пафос. Но есть и требовательная ироничность, трезвое понимание того, насколько велико это "сопротивление пластов". Когда же Высоцкого чересчур лобово трактуют как "перестроечного" и "антизастойного" поэта, придавая этим категориям сугубо локальны смысл, невольно ощущаешь какую-то натяя Внешне вроде бы все сходится, но - "не то это во не тот и не та". Не то смысловое наполнение, не тип личности, не та судьба.
В чем здесь корень противоречия? В том, Высоцкого трактуют как "шестидесятника". Кто та "шестидесятники"? Это духовная формация, кото сложилась в период "оттепели", получила обществ ную трибуну после XX съезда КПСС, активно бо] лась за правду и гласность, за уважение к народу к интеллигенции, выступала против партийн бюрократической тоталитарной идеологии. "Шести десятники" - это "Новый мир" Твардовского и ранняя "катаевская" "Юность", это "эстрадная" поэзия ия "молодежная" проза, это Абрамов и Тендряков, этой театр "Современник" и Театр на Таганке, это Товстоногов и Эфрос, Хуциев и Климов, Рязанов и Володин...
То, что Высоцкий причастен к этой духовной формации, что в его творчестве отразился "шестидесятнический" этический кодекс и идейный комплекс, - бесспорно. Но Высоцкий не только "шести десятник, и мы его лучше поймем, если не отождествим с более характерными представителями этого идейного течения, а сравним его с ними. Ценные мысли на этот счет высказаны в статье С.Чупринина "Вакансия поэта" ("Знамя". 1988. No 7), где критик, находя немало общего в поэтических установках Высоцкого и Вознесенского с Евтушенко, ставит вопрос о принципиальном различии самих судеб самих способов диалога с аудиторией. Действительно "шестидесятники" смогли, что называется, воспользоваться преимуществом "первой перестройки" (хрущевской), им было предоставлено слово, и они успели это слово произнести до нагрянувшего похолодания, до эпохи запретов и закрытий. Высоцкий же, едва успев составить первую программу из своих ранних песен, уже не мог не понимать, что это "не пройдет", а очень скоро "непроходимость" стала постоянным фактором его творческой судьбы. Ну и еще существенно то, что классические "шестидесятники" всегда чувствовали, как это называет Евтушенко, "дыхание рядом", - Высоцкий же, ощущая это дыхание в театре, в отдельные моменты и в кино, в литературной своей работе с самого начала был одиночкой. У "шестидесятников" были сложные - то более или менее сносные, то конфликтные - отношения с властью и с государством. То приливы, то отливы; то хвала, то опала; то уходы, то возвращения. Высоцкого правительственный официоз не принимал никогда - громко не бранил, но последовательно душил молчанием.
Доминанта "шестидесятничества" - социальная. Это вера в общественный прогресс и борьба со всем, что этому прогрессу препятствует. Это энтузиазм Демократической интеллигенции, готовой и служить народу, и духовно вести его за собой.
Доминанта мира Высоцкого - философская. Это глубокий и страстный интерес ко всему, что происходит вокруг, интерес, сочетающийся с "космической" иронией, анализом и оценкой жизни и человека "с точки зрения вечности". Это этический максимализм по отношению к себе и бесконечная терпимость к другим. Это вера в человеческое начало и диалектический скепсис в оценке социального опыта человечества.
Немало верного сказали о Высоцком "шестидесятники", но, думаю, более точна в смысле самого сходства с натурой такая, например, характеристика творчества поэта, которую дал Михаил Шемякин, человек и художник уже другой, более поздней формации: "Это жизнь, это анализ, это синтез, это конструкция его мышления, конструкция его души. Почему на сегодняшний день Высоцкий стал полубогом в России?.. Он сделал то, чего до него не делал никто, - синтез абсолютно бесшабашной русской души -с трезвым мышлением гениального философа. Володя был настоящим метафизиком в глубине души".
Подчеркну: это все говорится не с целью принизить "шестидесятников". Они достойны всяческого уважения: и те, что ныне возвращаются к нам своими посмертными публикациями, и те, что продолжают работать сейчас. И те и другие оказались незаменимой силой в сегодняшней борьбе за демократизацию и гласность. Но Высоцкий сразу же, с шестидесятых еще годов начал работать уже на ином уровне.
И еще: сказанное ни в малейшей мере не отрицает значимость социальной заостренности творчества Высоцкого. Тут ведь сложная взаимосвязь, а не альтернативное "или - или". Философский подход всегда включает в себя социальные аспекты (а вот социальное мышление не всегда философично).
"Шестидесятничество" немыслимо без присущего ему социально-утопического начала, без преобладания тактики над стратегией. Какова была главная установка? Надо работать, приближать будущее, которого мы сами, скорее всего, не застанем, но которое безусловно будет "светлым" не в официально-тоталитарном, а в гуманистически- демократическом смысле. В борьбе за правду были возможны тактические уступки: воспевание, скажем, Братской ГЭС (без особенной рефлексии о том, насколько эта ГЭС полезна), романтическая идеализация Кубы и Фиделя Кастро (без разъедающих душу раздумий о том, насколько свободна жизнь на "Острове Свободы"), беспощадная критика иноземных тиранов и супостатов (с очень умеренными аллюзиями на неблагополучие дома). Все же обойтись без "положительных примеров" "Шестидесятничество" не могло. И если на одну чашу весов было положено искреннее и беспощадное осуждение Сталина, то на другую не могла не лечь житийная трактовка биографии Ленина (конкретные обстоятельства этой биографии тут были несущественны, достаточно было сравнения Ленина с поэтом - сравнения, считавшегося безусловно лестным и для автора, и для персонажа).
В чем коренное, принципиальное расхождение Высоцкого с этим типом мышления? Прежде всего в том, что Высоцкий не утопист. Свою веру в человека и в жизнь он никогда не пытался подкрепить обещаниями. Она дает читателям-слушателям реальный заряд энергии (лирической, трагической, смеховой), энергии, помогающей выжить и выстоять, но не дает им никаких оптимистических авансов и идейных векселей. Нет, он не впадал в истерическое отчаяние, не терял надежды, но надежда эта всегда сочеталась с трезвостью мысли и с чувством тревоги:
Но... не правда ли, зло называется злом
Даже там - в добром будущем вашем?
Высоцкому глубоко претил спекулятивный культ будущего, он постоянно спорил с идеей рая - не в религиозном, конечно, а в социально-идеологическом смысле. Прочтите внимательно песню "Переворот в мозгах из края в край..." 1970 года - о том, как
В Аду решили черти строить рай
Для собственных грядущих поколений.
Ирония обращена здесь на утопически-реформаторскую самонадеянность людей, на саму идею "переделки" мира. Чем оборачивается революция в Аду? Нарушается рассчитанный на вечность баланс добра и зла. Прогрессивный Вельзевул своей деятельностью искажает мироздание, и в результате рушится тот Рай, что существовал изначально, нарушается мирная жизнь Бога и ангелов:
Давно уже в Раю не рай, а ад,
Но рай чертей в Аду уже построен!
Довольно сложный в смысловом отношения "антиутопический" сюжет. Его можно трактовать по-разному, применяя как к "внутренней" социальной политике, так и к политике внешней, - к ситуации во всем мире. Несостоятельны оказались обещания сделать жизнь "раем" для бедных, отняв все блага у богатых, у "ангелов" Несостоятельны оказались и рассуждения о противостоянии двух всемирных систем, одна из которых - прогрессирующий и расцветающий "Рай", другая - загнивающий и деградирующий "Ад". На наших глазах эта идеологическая мифология рушится: вдруг выясняется, что социализм существует в Швеции, а не, скажем, во Вьетнаме, как мы привыкли думать. Черно-белый чертеж мира оказался неточным. Где сегодня Ад, где Рай, как разобраться?
А незадолго до смерти Высоцкий беспощадно прошелся по "райской" теме в трагической балладе "Райские яблоки". Там обитель вечного блаженства предстает просто лагерем, у ворот которого "огромный этап - тысяч пять - на коленях сидел". Вот куда вели народ многолетние обещания "светлого будущего"!
Максималистская позиция Высоцкого - не обещать. Не обещать, но все время что-то делать. Попробуйте найти на страницах Высоцкого клятвы, заверения, обязательства - не найдете. А вот для "шестидесятников" клятвы были весьма характерны (как и последующие покаяния за невыполненные обещания). Тут просто под руку ложится "Баллада о штрафном батальоне" Евтушенко, написанная в 1963 году, тем более любопытная, что всего год спустя свое известное произведение на ту же тему написал и Высоцкий. Предоставляю читателю самостоятельно решить, кто оказался сильнее в освоении темы. Ну, текст Высоцкого, я думаю, все помнят наизусть, а из длинной баллады Евтушенко процитирую две строфы, произнесенные от имени штрафников:
Но русские среди трудов и битв,
хотя порой в отчаянье немеют,
обиды на Россию не имеют.
Она для них превыше всех обид.
Нам на нее обидеться грешно,
как будто бы обидеться на Волгу,
на белые березоньки, на водку,
которой утешаться суждено.
Важнее, однако, лирический финал, где автор сравнивает со штрафниками самого себя:
И виноват ли я, не виноват,
в атаку тело бросив окрыленно,
умру, солдат штрафного батальона,
за Родину, как гвардии солдат.
Были у автора этих строк крупные неприятности в 1963 году, но сравнение со штрафниками выглядит, пожалуй, несколько гиперболичным. Все-таки настоящие "штрафники" - это академик Сахаров, это Солженицын... Короче говоря, в этих строках обещано больше, чем сделано, - вот оно, главное противоречие "шестидесятничества". В устах же Высоцкого просто невозможно вообразить обещание умереть за Родину, за народ. А ведь его-то назвать настоящим "штрафником" мы, пожалуй, можем без натяжки.
Мы здесь никого судить не имеем права и судить не собираемся. Жизнь устроена так, что у многих, в том числе весьма достойных людей, остается множество неосуществленных планов, невыполненных обещаний. Но речь идет о двух системах жизненного и творческого поведения, двух системах миропонимания.
Первая примерно такова: давайте мечтать! Пусть наши мечты не во всем будут осуществлены - важен сам прекрасный порыв. Обещаем сделать жизнь счастливой в нашей стране, а заодно и за ее пределами.
Вторая система такова: ничего не обещать - ни от своего имени, ни от имени всего народа и страны. Просто работать, видеть вещи такими, каковы они есть на самом деле. И показывать людям, какова их жизнь, показывать стране ее реальное место в мире и истории. Делать это все не только без надежды на благодарность, но и с постоянным риском обвинения в "очернительстве", в цинизме:
Пусть не враз, пусть сперва не поймут ни черта...
Не один Высоцкий, конечно, к этой системе принадлежит. Философский взгляд на социальные проблемы отличал, скажем, Трифонова (которому, вспомним, трудно было со своими "вечными темами" вписаться в ансамбль "шестидесятников" с их критерием "против чего?"), Битова, Искандера, Шукшина, Юнну Мориц с ее ироническими стихами, Виктора Соснору с его вызывающе-трагической поэзией и прозой. Социальность никогда не "торчала" в фильмах Андрея Тарковского, но разве его вселенские модели в "Солярисе" и "Сталкере" не распространяются на СССР? Очевидна эволюция ряда ведущих "шестидесятников" от социального пафоса к философскому скепсису: таков путь Юрия Любимова от "Десяти дней" к "Трем сестрам", Вознесенского от "Озы" к "Рву". Взамен призывов, лозунгов и прямолинейных обличении - раздумья о природе человека, о вечных закономерностях общественного развития, о постоянной несвободе человека, о жизни и смерти. Сегодня нам очень важно "не потерять" этот тип духовности, хронологически совпадающий с пресловутым "застоем". К "шестидесятнической" отваге прибавить горькую мудрость "семидесятников", к социальному пафосу -трезвый философский аналитизм, - и тоща, может быть, что-нибудь у нас и получится.
Что же касается именно Высоцкого, то он просто не умел не быть философичным. Возьмем что-нибудь уж совсем немудреное. Ну вот "Песню о сентиментальном боксере" с абсолютно нашими, советскими приметами и даже точным адресом: "Борис Буткеев (Краснодар)". Перед нами конфликт двух личностей: человека не в меру активного, агрессивного и потому терпящего крах - и человека, уходящего от суетной борьбы, но зато сохраняющего индивидуальность. Что же, этот конфликт невозможен в США или Индии? Что же, конфликт этот не существовал в давние времена?
Но тут еще одна важная оговорка необходима. Мир Высоцкого философичен: но чего здесь нет - так это вялого философствования, нетворческого варьирования прописных истин и заемных сентенций. Это особенно важно учитывать сегодня, когда философствовать стало разрешено и даже о Христе можно сочинять романы без опасности быть обвиненным в "пилатчине". Многозначительные и неоригинальные, псевдофилософские мотивы в сегодняшней литературе и в сегодняшнем искусстве имеют немалое место. У Высоцкого же философичность была не "растворителем" социальности, а ее кристаллизатором. Впрочем, давайте обратимся к текстам.
Помните, как человек, чтобы справиться со змеями, "позвал на подмогу мангуста", а потом, истребив всех змей, самих мангустов начал беспощадно преследовать? Понять это как песню на "экологическую" тему, наверное, было бы чересчур примитивно. Речь, скорее, о тех наемниках, которыми жестокая власть для своих целей пользуется и с которыми потом расправляется, чтобы замести следы. Давняя это история, и тянется она бесконечно. Недаром Высоцкий выстроил композицию песни круговым образом, после финала возвращая ее к началу:
И снова:
"Змеи, змеи кругом - будь им пусто!"
Человек в исступленье кричал
И позвал на подмогу...
Ну и так далее
как сказка про Белого Бычка.
Вспомним, кстати, одну важную "поправку" Булгакова к евангельскому сюжету: Иуда в "Мастере и Маргарите" не вешается, а уничтожается по прямому приказу Понтия Пилата. Булгаков и Высоцкий в своих сюжетных решениях, надо полагать, опирались на одну и ту же реальность отечественной политической жизни. Булгаков застал этот процесс в самом начале, а Высоцкий знал уже как историю. Но, главное, хочется спросить у тех, кто недоволен недостаточностью критики сталинизма у Высоцкого (а такие мнения высказывались): ну неужели лучше было бы "человека" из песни прямо назвать Сталиным, а мангустам дать имена Ягода и Ежов? "Человек" в этой песне - не только Сталин, но и правитель вообще. Мангусты - не только энкаведешники, но и их "коллеги" в самом широком историческом диапазоне.
А разве лучше бы стала песня "Жил был добрый дурачина-простофиля", если бы простофиля этот был прямо назван Н.С.Хрущевым*********************?
Фольклорный персонаж - вовсе не шифр, это способ философского укрупнения образа. А насколько диалектична оценка незадачливого "волюнтариста" Высоцким! И простота его, и доброта, и ограниченность, и чванство - все как на ладони.
Да и там, где о видных политических деятелях речь ведется без намеков и символов, у Высоцкого ощущается философический "уклон", особенно оригинальный тем, что нетривиальные мысли вкладываются - и притом весьма естественно - в уста "простых" персонажей. Вспомним "Баньку по-белому" (1968) и ее рассказчика с профилем Сталина "на левой груди":
Застучали мне мысли под темечком:
Получилось - я зря им клеймен,
И хлещу я березовым веничком
По наследию мрачных времен.
Вроде бы оценка "вождя" не очень уж радикальная. Но за сдержанностью ее - глубина работающей "под темечком" мысли, понимание того, что "наследие мрачных времен" очень крепко сидит во всей нашей социальной системе, что вывести его гораздо труднее, чем наколку с профилем.
А персонаж песни "Летела жизнь" (1978) - в полном единстве с автором оценивает Сталина и его соратников с поистине убийственным вселенским сарказмом:
А те, кто нас на подвиги подбили,
Давно лежат и корчатся в гробу,
Их всех свезли туда в автомобиле,
А самый главный вылетел в трубу.
С 1985 года о Сталине снова разрешили говорить открытым текстом. Найдется ли в опубликованных с тех пор стихах суждение, хоть сколько-нибудь приближающееся к процитированным и по остроте, и по глубине?
Вообще говоря, нашей передовой мысли всегда вредила некоторая замкнутость во времени ("слабоумное изумление перед своим веком", которое Пушкин ставил в вину Радищеву) и в пространстве (наши, российские процессы мы слабо умеем сравнивать с общемировыми). Нам чрезвычайно трудно сопоставить 1917 год с 1789, а революционеров-утопистов нашего века с их предшественниками. И жизнь своей страны мы видим довольно изолированно, легко бросаясь из крайности в крайность, в силу какой-то странной амбиции мы хотим считаться либо лучше, либо хуже всех. Высоцкий неустанно высмеивал "имперские" комплексы ("Левую - нам, правую - им, //А остальное китайцам", "Шах расписался в полном неумении// - Вот тут его возьми и замени!"), но мыслил он масштабами мировыми. Прочтем внимательно "Странную сказку". Начинается она с привычного для Высоцкого пародирования штампов нашей пропаганды:
В Тридевятом государстве
(Трижды девять - двадцать семь)
Все держалось на коварстве
Без проблем и без систем.
Что и говорить, любят у нас изобразить "их" жизнь и нравы как сплошное коварство. Причем тянется такая идеологическая традиция с давних времен: еще в "Грозе" Островского "патриотически" настроенная Феклуша уверяла: "У нас закон праведный, а у них, милая, неправедный; что по нашему закону так выходит, а по ихнему все напротив. И все судьи у них, в ихних странах, тоже все неправедные..." Но главное все же не в этом. Главное в том, что, помимо Тридевятого, существует еще и Тридесятое, и Триодиннадцатое. Эти неологизмы Высоцкого потому звучат так неожиданно, что мы привыкли мыслить рамками только "Тридевятого", только одной страны, одной социальной системы.
А Высоцкий дальше развивает свою антиутопическую притчу: складывается такая ситуация, когда во всех трех царствах устанавливаются реакционные режимы. Вновь напрашивается сравнение с оруэлловским "1984", где весь мир разделился на три сверхдержавы: Океанию, Евразию и Истазию. Но, в отличие от Оруэлла, у Высоцкого его "царства" не соотнесены с реальными сверхдержавами и военными блоками. Высоцкий берет ситуацию в принципе, философски. Рождается мысль о, так сказать, социально-политической экологии планеты. Если в каждой из частей мира воцарятся застой и реакция, это грозит мировой катастрофой:
В Тридцать третьем царь сказился:
Не хватает, мол, земли,
На соседей покусился
И взбесились короли:
"Обуздать его, смять!" - только глядь
Нечем в Двадцать седьмом воевать,
А в Тридцатом полководцы
Все утоплены в колодце
И вассалы восстать норовят.
Однобокому "державному" мышлению здесь противопоставляется мышление планетарное, всемирно-гуманистическое. Борьба "систем" ни к чему хорошему привести не может, победителей в ней не будет. Давно ли такие мысли перестали быть крамольными? В данном случае дата написания "1970" звучит впечатляюще: это время самых первых отважных выступлений академика Сахарова, тогда страшно было и подумать о примате общечеловеческих ценностей над классовыми и социальными. Странная, действительно, была сказка. Впрочем, почему была? Актуальность ее не снизилась ни на йоту. А Высоцкий те же "планетарные" свои мысли и идеалы выражал и монологическим способом, в страстном своем "Набате" (1971) к примеру:
Бей же, звонарь, разбуди полусонных,
Предупреди беззаботных влюбленных,
Что хорошо будет в мире сожженном
Лишь мертвецам и еще нерожденным!
Высоцкий мыслит космично - и притом делает это не расплывчато, не абстрактно, а очень наглядно. Глобальные категории всегда претворены в живых сюжетах, в столкновениях характеров. Образ мира у Высоцкого сочетает универсальность с конкретностью. Сюда каждый может зайти запросто и постепенно обжиться. Для каждого найдется свой уголок, биографически близкий сюжет, созвучная настроению сентенция или шутка, "своя" песня. Это мир щедрый, его хватит на всех.
Высоцкому были творчески интересны явления преимущественно дисгармоничные, но общая картина жизни, им созданная, отмечена гармоничной пропорцией между миром и человеком, - пользуясь древними философскими терминами - между "макрокосмосом" и "микрокосмосом". Самые разные есть у Высоцкого персонажи, но ни один из них не выступает условной функцией, бездушным материалом, в каждом - потенциальный мир. Часто нереализованный, задавленный, искаженный, но -мир, составленный из противоположностей, имеющий полюсы добра и зла.
Для Высоцкого все начинается с личности. А с чего начинается личность? С осознания своей от-личности от других: я не лучше, чем они, я не хуже, я - другой. А мотивы, конкретные формы проявления индивидуального начала могут быть самыми разными. Это может быть непонятная остальным любовь, как у персонажа "Наводчицы" или у Жирафа, влюбившегося в Антилопу. Это может быть неожиданный отъезд в Магадан, неразумный с точки зрения окружающих. Это может быть азартная преданность морю или горам. Не может человек стать собою иначе как через "иноходь", через противопоставление себя другим: "...у них толчковая -левая, //А у меня толчковая - правая!" И это не какая-нибудь там идеология, а закон человеческой природы.
Если человек - настоящая личность, то ему совершенно не нужно, чтобы другой человек был на него похож, подражал ему. "Свой, необычный манер" подлинная личность никому не навязывает. Наоборот, она испытывает внутреннюю потребность в том, чтобы другие были другими. С парадоксальной афористичностью сформулировано это в "Чужой колее":
..делай, как я!
Это значит - не надо за мной.
Ну, а дальше что? Так и замкнуться в уединении? Нет, самоудовлетворенный солипсизм у Высоцкого неизменно попадает под иронический обстрел:
Если б знали, насколько мне лучше,
Как мне чудно - хоть кто б увидал:
Я один пропиваю получку
И плюс премию в каждый квартал!
Так и чувствуется: персонаж только уговаривает себя, что ему "чудно", на самом-то деле он своим одиночеством тяготится. Но в принципе одиночество, уединение человеку необходимо, чтобы накопить какое-то внутреннее богатство. А когда оно накопилось, тоща возникает ненадуманная, неподражательная, несуетная потребность в контакте с другими людьми. Вся суть здесь - в качестве контакта, в степени его искренности и истинности. Высоцкого постоянно беспокоит проблема, обозначенная и в ранней поэзии Евтушенко: "чужих людей соединенность и разобщенность близких душ". И он изо всех сил воюет со всеми формами ложной близости:
Пары соединяют
А им бы разъединиться.
Но в жизни постоянно возникают такие ситуации, такие лабиринты (недаром Высоцкий обратился к мифу о нити Ариадны), "где одному //выхода нет!.." Следующее звено в системе ценностей Высоцкого -двое. Тут вспоминается замечательная художественно-философская типология человеческих отношений, развернутая в романе Курта Воннегута "Колыбель для кошки". Существуют, по Воннегуту, иллюзорные единства людей - "гранфаллоны" (к ним сатирик относит политические партии, национальные и земляческие корпорации и многое другое), и существуют единства истинные - "карассы" (когда людей соединяет накрепко, помимо их воли, сама судьба). Одна из форм "карасса" "дюпрасс", то есть единство именно двух людей. Можно сказать, что феноменология такого "дюпрасса" развернута Высоцким с предельной наглядностью:
Вдруг заметил я - нас было двое...
Двое - это и "зэка Васильев и Петров зэка", и летчики, вступающие в неравный бой ("Их восемь -нас двое..."), и шофер из "Дорожной истории" со своим - пусть небезупречным - напарником, и "тот, который не стрелял" вкупе с тем, в которого стреляли остальные. Двое - это и любовь, и совместная борьба, и общая преданность профессии. Иногда - все это вместе, как в "Песне о двух красивых автомобилях", имевшей автобиографическую основу и исполнявшейся в фильме "Точка отсчета" Мариной Влади. Доминанта драматизм, двое всегда находят друг друга через противопоставление своего союза остальному миру. И это тоже не причуда, а закон бытия.
На той же драматической основе строятся в мире Высоцкого и более крупные истинные единства людей. Трудно даже найти термин для обозначения этих единств, равноценный воннегутовскому "карассу". Коллектив? Да нет, для Высоцкого это слово приемлемо только в ироническом и пародийном контексте: "То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив". "Коллективом" здесь можно назвать разве что тех любителей "старки" и "зверобоя", которые не спешат откапывать "стахановца-гагановца". Это стадное единство на основе недоброго, разрушительного чувства (Высоцкий сам не раз его ощущал на себе: "чувство локтя, - который мне совали под ребро"). Но главное, что есть, есть в реальной жизни неподдельное чувство слитности (Толстой называл его "роевым" началом), которое объединяет людей перед большой бедой или в стремлении к большой цели:
За грехи за наши нас простят,
Ведь у нас такой народ:
Если Родина в опасности
Значит, всем идти на фронт.
"Вы тоже - пострадавшие,
А значит - обрусевшие:
Мои - без вести павшие,
Твои - безвинно севшие".
Важно только подчеркнуть, что у Высоцкого личность не растворяется, не теряется в "рое", постоянно ощущает свою отдельность.
Тут впору сказать и о концепции патриотизма, выраженной во всей совокупности произведений поэта. Это прежде всего патриотизм не декларативный, предельно сдержанный. В романе Л.Толстого "Война и мир" четко выдерживается одна закономерность: все персонажи, называющие себя патриотами, таковыми на самом деле не являются, истинный патриотизм себя напоказ не выставляет. По такому же принципу поляризуются все персонажи Высоцкого.
И еще это патриотизм не стадный, не групповой, а глубоко интимный, личностный. Лирический герой - впрочем, нужен ли здесь такой термин? - нет, просто автор - беседует со страной, так сказать, один на один:
Я стою, как перед вечною загадкою,
Пред великою да сказочной страною...
И не заискивает он перед нею, понимая ее величие. Она велика в своем вечном измерении, в своем сказочном "всегда", но в своем конкретном "сейчас", увы, выглядит "сонной державою //Что раскисла, опухла от сна". Взгляд суровый, но честный и ответственный.
И вот так, по ступеням, через диалог личности с другой личностью, со всеми людьми, со страной -поэтическая мысль Высоцкого выходит на высший уровень - диалог человека и мира. Именно об этом -"Кони привередливые", "Натянутый канат", "Прерванный полет" - образцы ни на что и на на кого не похожей философской лирики, строящейся не на медитации, не на одном только размышлении, а прежде всего на сюжетном движении. Этот разговор с миром предельно индивидуален: ведь именно Высоцкого, а не кого-нибудь другого так несли вперед "кони" -страсть, судьба, непокорность, именно он сам прошел свои "четыре четверти пути" по натянутому, как нерв, канату, его, а не чей-нибудь творческий и жизненный полет так трагически "не до...". Но вместе с тем какую всеобщность приобрел духовный опыт этого человека! Мы, обыкновенные, не героические совсем люди, читатели Высоцкого, безо всякой позы и наигрыша можем подставить в это лирическое "я" - "я" собственное. Высоцкий не возвышается над нами, а ведет с каждым диалог на равных.
Такова модель духовного идеала, воплощенного во всем строе литературного творчества Владимира Высоцкого. Ясно, что в соответствии с общими принципами его поэтики идеал этот надо искать не только в отдельных "красивых" строчках, не в монологических признаниях или афоризмах, а прежде всего "между строк", в пересечении мотивов, мыслей, сюжетов, в сложном соотношении всех стихов и песен друг с другом и с целым художественным миром.
И все-таки попробуем подытожить все сказанное выше на этот счет на примере одного конкретного текста - "Песни про белого слона" (1972), произведения не самого популярного, почти не исполнявшегося Высоцким (сохранилась лишь одна фонограмма), но зато совсем еще не "заслушанного", не заезженного повторением и цитированием. В сказочно-игровой фабуле этой песни заложена непростая сюжетная метафора, требующая активной "дешифровки". Итак:
Жили-были в Индии с самой старины
Дикие огромные серые слоны
Слоны слонялись в джунглях без маршрута
Один из них был белый почему-то.
Добрым глазом, тихим нравом отличался он
И умом, и мастью благородной,
Средь своих собратьев серых белый слон
Был, конечно, белою вороной.
Вроде бы обычный для "животного" цикла Высоцкого мотив - индивидуум, выбивающийся из общего ряда. "Белых ворон" мы встречаем в самых разных обличьях: это и тот единственный волк, что вырвался за красные флажки, и Жираф, вопреки традициям влюбившийся в Антилопу, и Иноходец... Но во всех этих случаях сам автор остается "за кадром", не участвуя в действии, а в большей или меньшей степени отождествляя себя с аллегорическими персонажами, переоплощаясь в близких его сердцу строптивцев ("Охота на волков" и "Бег иноходца" недаром строятся от первого лица). А тут довольно редкий случай, когда две "белые вороны", две независимых личности - сам автор и его персонаж - сведены судьбою:
И владыка Индии - были времена
Мне из уважения подарил слона.
"Зачем мне слон?" - спросил я иноверца,
А он сказал: "В слоне большое сердце..."
Слон мне сделал реверанс, а я ему - поклон,
Речь моя была незлой и тихой,
Потому что этот самый - белый слон
Был к тому же белою слонихой.
На "владыку Индии" не отвлекаемся - идем к сути. Речь о дружбе. А может быть, и о любви: в таком случае слона можно считать слонихой. Важно, говоря словами совсем другой песни, что "нас было двое". С контакта двух людей, диалога двух личностей начинается зарождение общих ценностей, выработка всечеловеческого идеала. Могут ли хотя бы два человека понять друг друга? Кажется, могут:
Я прекрасно выглядел, сидя на слоне,
Ездил я по Индии - сказочной стране,
Ах, где мы только вместе не скитались!
И в тесноте отлично уживались.
И бывало, шли мы петь под чей-нибудь балкон,
Дамы так и прыгали из спален...
Надо вам сказать, что этот белый слон
Был необычайно музыкален.
Но идиллическая ситуация в мире Высоцкого не может длиться долго. Гармоничные отношения неизбежно прерываются:
Карту мира видели вы наверняка
Знаете, что в Индии тоже есть река,
Мой слон и я питались соком манго,
И как-то потерялись в дебрях Ганга.
Что же это - разлука, разрыв? А может быть, измена?
Я метался по реке, забыв еду и сон,
Безвозвратно потерял здоровье...
А потом сказали мне: "Твой белый слон
Встретил стадо белое слоновье..."
Что же это за стадо такое, что ради него слон оставил своего хозяина и развеселую жизнь вдвоем? Вспомним: сначала наш белый слон входил в состав серого стада, где был чужаком. По сравнению с этой вынужденной жизнью в "коллективе" его союз с рассказчиком был несравненно свободнее и плодотворнее. Но так уж устроен человек, что лучшее для него - враг хорошего, что он продолжает искать добра, как говорится, "от добра". Белый слон узнал, что он не один такой, что существует, оказывается, "белое стадо", объединенное не по стадному, а по какому-то более высокому принципу, что возможна высшая связь свободных личностей, "белых ворон", вырвавшихся из "серых" стад. И вот эту возможность наш аллегорический слон предпочел дружбе с рассказчиком. Ну а что же тот? Ведь он вроде бы вправе считать бегство своего друга предательством. Но рассказчик уходит в сторону:
Долго был в обиде я, только - вот те на!
Мне владыка Индии вновь прислал слона:
В виде украшения для трости
Белый слон, но из слоновой кости.
Не сочтите за слишком вольную аналогию, но этот костяной "двойник" до некоторой степени эквивалентен портрету возлюбленной - традиционному лирическому символу ("Расстались мы, но твой портрет..." у Лермонтова, "Твое лицо в его простой оправе..." у Блока). В игровом сюжете проступает мотив нешуточной боли: привязался ведь герой-рассказчик к своему слону, и "украшение для трости" его не утешает. Он пытается уйти в иронию, совсем некстати припоминая тех пресловутых слоников на комоде, которые долгое время были для советской пропаганды символом мещанства:
...Говорят, что семь слонов иметь - хороший тон,
На шкафу, - как средство от напастей...
И после этого отвлекающего маневра - резкий смысловой переход, выход на полную монологическую серьезность:
Пусть гуляет лучше в белом стаде белый слон
Пусть он лучше не приносит счастья!
Здесь, по сути, развернута вся иерархия нравственных ценностей Высоцкого. На низшей ступени -"серое" стадо, коллектив, объединенный по принципу несвободы (его возможные "расшифровки": завод, армия, блатная "малина", семья без любви друг к друту, государство). Личность, вырывающаяся "за флажки", способная к "побегу на рывок", к тому, чтобы быть "тем, который не стрелял", - такая личность стоит уже на ступень выше. Еще выше - союз двоих: будь то чета влюбленных друг в друга кораблей или автомобилей, поддерживающие друг друга на скале альпинисты, боевое содружество летчиков ("Взлетят наши души, как два самолета..."), даже - под смеховым знаком - пара собутыльников, нацелившаяся на выезд в Израиль.
Но есть еще и "белое стадо" - высшее единство людей. Сообщество, где каждый - личность, где ни одна индивидуальность не попирает другую, а наоборот - помогает ей раскрыться в полной мере. Это, конечно, только мечта, только идеал, соответствовать которому "на все сто" не могли ни многократно воспетый Высоцким дружеский круг, ни так много значивший в его жизни Театр на Таганке, ни даже многомиллионная аудитория слушателей поэта. Но все эти подлинные, нефальшивые единства несли в себе черты того самого мечтательно-сказочного идеала. Так что ощущение "белого слона в белом стаде" Высоцкому все-таки было знакомо. Потому он смог его почувствовать и там, где сам "не бывал, не воевал, не плавал, не сидел" - в героической обреченности солдат-штрафников, в мужестве "черных бушлатов", в непоказной солидарности сибирских старателей или моряков. Высоцкий всегда один и всегда со всеми. Это самая большая удача, которая возможна в жизни.
И к этому реальному, не декларативному духовному идеалу нас упорно ведет динамично-двусмысленное слово Высоцкого, его энергичная сюжетика, его философичное остроумие. От слова -к образу, от образа к сюжету, от сюжета к многоплановому роману в песнях. От человека -к человеку, от союза двоих к единству всех людей, от личности - к миру. Таков путь слова и путь духа.
Я пишу - по ночам больше тем
ОСОБОЕ МЕСТО
"Я пою", - говорили о себе поэты в былые времена. "Пишу стихи" - это было для обыденной речи. Поэт поет, а не пишет.
Остроумно заметил В.Берестов: "Поэзия и весь облик Владимира Высоцкого - это осуществленная метафора поэтов XIX века. Они писали перьями и ощущали себя певцами. Высоцкий пел под гитару и считал себя профессиональным поэтом"**********************.
Высоцкий любил слова "писать", "пишу":
Сказал себе я: брось писать,
но руки сами просятся
Сижу ли я, пишу ли я, пью кофе или чай...
Я пишу - по ночам больше тем...
Не писать мне повестей, романов...
Я вам пишу, мои корреспонденты,
Ночами песни - вот уж десять лет.
Дело, конечно, не только в словах, но и в них тоже. Высоцкий принадлежал к тем людям, для которых "литература", "писатель", "поэт" слова ответственные, святые. Довелось же ему жить в то время, когда само представление о писательстве было в значительной мере искажено. Начало литературной работы Высоцкого - это годы, когда умер Пастернак, официально лишенный звания писателя, когда Бродскому не позволили именоваться поэтом, объявив его тунеядцем. Слово "писатель" стало обозначением должности, бюрократической биркой. "Вот у нас семь тысяч членов Союза писателей СССР, сейчас я любого спрошу - быстро назовет не более тридцати, кто-то назовет пятьдесят, но уж никак не сто. А ведь все печатались, у всех книги", говорил Высоцкий во время концерта, выражая общее негласное мнение той поры.
И тем не менее Высоцкий очень хотел, чтобы его назвали писателем, хотел увидеть свои произведения опубликованными. Он никогда не переставал верить в литературу как таковую, в писательство как высокое призвание. Про многие официально разрешенные опусы можно сказать: это напечатано, но не написано. А Высоцкий на протяжении двадцати лет непрерывно писал. "Теперь самое главное, - говорил он о себе. - Если на две чаши весов бросить мою работу: на одну - театр, кино, телевидение, мои выступления, а на другую только работу над песнями, то, я вас уверяю, песня перевесит! Несмотря на кажущуюся простоту этих вещей, - можете мне поверить на слово, я занимаюсь этим давно, - песни требуют колоссальной отделки и шлифовки, чтобы добиться в них вот такого, будто бы разговорного тона. Я вам должен сказать, что песня для меня - никакое не хобби, нет!"
Но только после смерти Высоцкого эти слова в полной мере стали понятны даже тем, кто с приязнью и удовольствием встречал все новые и новые его песни, простодушно полагая, что сочинять их, наверное, было так же легко и приятно, как слушать. Впервые заговорили о рукописях Высоцкого, впервые отчетливо поняли, что главная тайна его окруженной легендами и слухами жизни - это "всего-навсего" постоянная работа, львиную долю которой составлял напряженный, изнурительный писательский труд.
Сегодня мы не только слушаем Высоцкого - мы его читаем и видим тот писательский путь, что был им пройден. Видим то особое место, которое занял в литературе Высоцкий.
Потому особое, что он помог литературе оглядеться вокруг, подумать о сотрудничестве с музыкой, с актерской игрой, с четкой театральной режиссурой, явленной в песнях-спектаклях Высоцкого.
Особое и потому, что в работе Высоцкого осуществились внутренние возможности самой литературы, не всегда ею используемые: соединение поэтичности с прозаичностью, культуры с просторечием, пафоса с обыденностью, неистощимого остроумия с философской серьезностью.
Особое, наконец, потому, что на нем мог находиться только Высоцкий. Нет ничего неразумнее вычислять место Высоцкого в литературе по "спортивному" принципу: первое оно или не первое, кому Высоцкий уступает, а кого превосходит. Этот писатель никогда не брался за чужое дело, но зато свое он делал так, как не смог бы никто другой.
Высоцкому невозможно подражать - ни в формах авторской песни, ни в "письменном" стихотворчестве. В то же время влияние его на современную русскую литературу - огромно, и будет выявляться оно еще очень долго. Бывают такие писатели, которым невозможно следовать в частностях, но после которых просто физически нельзя жить и работать по-старому, писать так, как будто этих писателей не было. Причем жанрово-цеховые различия здесь несущественны: будь ты поэт, прозаик, драматург, но, если в литературе твоего времени работали Некрасов или Блок, Пастернак или Булгаков, Набоков или Солженицын, - это не может не сказаться и на твоей работе. Это все необходимые ориентиры, которые ты не обойдешь, даже если станешь от них полемически отталкиваться, даже если будешь делать совершенно другое дело.
Владимир Высоцкий принадлежит к таким упрямым и неумолимым ориентирам русской литературной истории. Опыт Высоцкого не учит, что писать и как писать, но он заставляет крепко задуматься о том, зачем писать. Его собственный ответ на этот, по словам Блока, "самый русский вопрос: "зачем?" отчетлив и подкреплен многолетней работой со словом.
Затем, чтобы сказать свое, только свое решительное "да" и "нет" жизни, честно пройдя мыслью весь путь между "да" и "нет".
Затем, чтобы вновь и вновь находить в человеке человека.
Затем, чтобы проделанная писателем работа духа вечно продолжалась в читателях.
Я умру
и скажу, что не все
суета!
Владимир Иванович НОВИКОВ
Родился в 1948 году в городе Омске. Критик, литературовед, кандидат филологических наук.
Автор книг
"Диалог" (1986)
"В.Каверин. Критический очерк"
(1986, в соавторстве с О.Новиковой)
"Новое зрение.
Книга о Юрии Тынянове"
(1988, в соавторстве с В.Кавериным)
"Книга о пародии" (1989)
Живет в Москве.
* Назовем имена тех, кто еще при жизни Высоцкого начал изучение его творчества, кто регулярно записывал его новые песни на пленку, кто составлял его машинописные сборники (в том числе авторизованные), кто собирал о нем биографические и библиографические материалы: В.Абрамов, Б.Акимов, Ю. Андреев, И.Белоконь, А.Гарагуля, Л.Гурзо, Г.Дроздецкая, А.Копылов, А.Крылов, К.Мустафиди, А.Репников, В.Савич, О.Терентьев, Г.Толмачев, В.Туманов, М.Шемякин и другие.
**Кузнецов Ф. Конфуз с "Метрополем"// Размышления о нравственности. М., 1979. С.400-401.
*** Евтушенко Е. Поющий нерв нашей эпохи. Огонек. 1988. N 4. С.27.
**** Живая жизнь. Штрихи к биографии Владимира Высоцкого. М., 1988. С.227
***** Жутовский Б. Я болен временем. "Огонек". 1989. No 15. С.19
****** Австрийский исследователь Хайнрих Пфандл посвятил им интересный доклад "Свое и чужое слово у Высоцкого", сделанный 1 февраля 1988 г. в ЦДЛ.
******* Самойлов Д. "Свято верю в чистоту ...", Неделя". 1988. No 3. С.24.
******** Текстология концертов Высоцкого - один из важнейших аспектов дальнейшего исследования его творчества. Авторские "предисловия" и "примечания" к песням - "не пауза, чтобы заполнить промежуток", как строго и решительно подчеркивал Высоцкий, а значимые тексты. Значимые сами по себе - как своего рода импровизационная проза: красноречивый пример - подборка "О песнях, о себе", составленная А.Крыловым и И.Роговым для книги "Четыре четверти пути" на основе фонограмм интервью и выступлений. И значимые как "обрамление" песни, как, говоря терминологическим языком, ее "автометаописание". Примером могут служить разделы "Служение стихиям не терпит суеты..." и "Прыжки и гримасы судьбы" в той же книге, где песни предстают в сопровождении авторских высказываний о них. Надо полагать, появятся еще книжные издания концертов как текстов, и тогда можно будет заняться исследованием закономерностей "сцепления" песен, их сочетаемости, изучением композиции концертов. Все это откроет нам новые смысловые оттенки.
*********Здесь и далее все высказывания Высоцкого приводятся по тексту подборки "О песнях, о себе" - Владимир Высоцкий. Четыре четверти пути. М., 1988. С.108-149.
********** И успех театральной постановки по произведениям поэта в большой мере зависит от того, насколько объемно вырисовывается на сцене такой дом. Хорошо это удалось Ивановскому народному молодежному театру имени Высоцкого (режиссер Регина Гринберг) в цикле из трех спектаклей, в своеобразном сценическом "трехтомнике".
*********** Русская советская литература. Л., 1988. С.529.
************Там же. С.529-530.
************* Интересующиеся найдут их в "Антологии авторской песни" ("Русская речь". 1989. No 6).
************** Бистрицкас Р., Кочюнас Р. Homo Sovieticus или Homo Sapiens? -"Радуга". 1989. No 5. С.80-81.
***************"Русская речь". 1988. No 1. С.155-159.
**************** Крымова Н. Мы вместе с ним посмеемся. "Дружба народов". 1985. No 8. С.252.
***************** Живая жизнь. С. 116
****************** Богомолов Н. Пространство слова// "Журналист". Учебная газета факультета журналистики МГУ. No 3 - 5. 25 января 1988 г. С.19.
******************* Карякин Ю. О песнях Владимира Высоцкого. "Лит.обозрение". 1981. No 7. С.96.
******************** Об этом - в комментариях А.Крылова к книге: Высоцкий В. Поэзия и проза. М., 1989. С.406-407.
********************* Конкретно-политический подтекст песни улавливают не только современники Хрущева, но и новое поколение - см., например, статью молодого критика Е.Канчукова ("Лит.Россия". 1988. No 5).
********************** Берестов В. "И опять я в мыслях полагаюсь на слова людей..." "Новый мир". 1988. No 2. С.246.


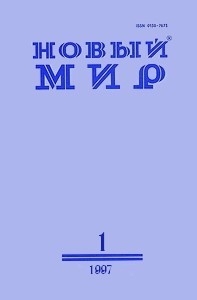
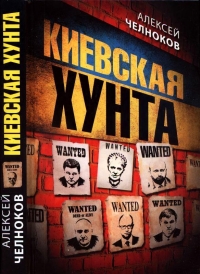
Комментарии к книге «В союзе писателей не состоял (Писатель Владимир Высоцкий)», Владимир Иванович Новиков
Всего 0 комментариев