Александр Дугин Украинская трагедия и Россия. Новая формула Путина?
Атлантическая глобализация
Еще после подписания Версальского мирного договора в 1921 году была создана организация «Совет по внешней политике США» (CFR — Council on Foreign Relations), которую возглавил Исайя Боумен и которая служила инструментом глобального геополитического анализа американцами их интересов. Она была построена на геополитических принципах и стала одной из самых центральных и влиятельных организаций. Существует до сих пор: CFR — «Совет по внешним отношениям». В значительной степени с этой организацией вошел в контакт Хэлфорд Маккиндер. Последнюю свою статью «Круглая планета и завоевание мира» он опубликовал в «Foreign Affairs» (foreign affairs — внешние вопросы. «Вопросы внешней политики» — это журнал, издаваемый CFR. Он до сих пор издается).
CFR — это американская экспертная структура, но изначально создается два дополнительных крыла CFR:
1. В лице «Chatham House» — Королевского Центра Стратегических Исследований в Лондоне, который также мыслит мир с точки зрения доминации талассократической цивилизации. Америка после Первой мировой войны становится интеллектуальным центром. CFR — основной массив — расположен в США, и как бы его филиал — в Великобритании, имевший колоссальный имперский, британский размах, в том числе и аналитический, стратегический. Тот же Маккиндер — один из активистов этого направления, основатель Лондонской Школы Экономики.
2. И в тот же период создается институт Тихоокеанских исследований для исследования талассократической геополитики в Азии.
Таким образом, уже в 20-е годы формируется некоторая трехуровневая модель атлантической цивилизации, где существует в проекте три центра управления:
1. В США — CFR, Совет по внешним отношениям.
2. В Великобритании — «Chatham House» («Четем Хаус» — Королевский институт стратегических исследований).
3. И не получивший большого развития отдел Тихоокеанских исследований. Центр его был в Европе, потому что Япония в тот период была самостоятельной, Китай — полусамостоятельным.
Почему это для нас важно?
Потому что это были центры активного, сознательного, поэтому субъективного (осознающего свои стратегические интересы) стратегического планирования в геополитическом ключе на глобальном уровне. CFR становится базовым штабом атлантистской интеграции: атлантистской стратегии в интересах уже не только Соединенных Штатов Америки (обратите внимание), а в интересах глобальной атлантистской цивилизации. То есть CFR задуман и как институт построения американской внешней политики, и как институт, отвечающий за интересы всей капиталистической западной цивилизации. Поэтому одна из задач, которую декларируют с самого начала участники CFR, — это создание мирового правительства. Обратите внимание: мирового правительства, уже не американского — под эгидой западных стратегических кругов и экономических кругов. Поскольку мы имеем дело с Карфагеном, то базовую роль здесь играют экономические корпорации, монополии, транснациональные корпорации и так далее.
И в ходе построения проекта мирового правительства идет районирование атлантистского мира. Уже после Версаля это районирование довольно очевидно:
1. CFR США как представители этого мирового правительства внутри Америки. Многие американские консервативные, левые и даже правые круги критиковали CFR как проводящий политику не в национальных интересах США, а в интересах этого глобального мирового правительства, которое в определенных случаях идет против интересов США. Так, по крайней мере, звучала эта критика. Это один, американский, полюс глобального правительства.
2. Есть еще английский полюс, или европейский полюс, воплощенный в Королевском институте стратегических исследований (британском).
3. И уже тогда, после Первой мировой войны, создается набросок Тихоокеанского бюро. Бюро, которое будет выстраивать стратегическую модель атлантистского контроля в Тихоокеанской зоне.
После 45-го года, по результатам Второй мировой войны, США из одной из сил атлантизма становится базовым центром и форпостом атлантизма. Ситуацию для этого подготавливает победа стран Антанты в Первой Мировой войне. После Второй Мировой войны происходит шифт — перенос центра атлантистской цивилизации (талассократической) от Великобритании к США — и, соответственно, роль CFR как стратегического центра управления западной (талассократической) цивилизацией окончательно утверждается и подтверждается.
Но начинается этот процесс передачи глобальной имперской миссии от Великобритании, которая была оплотом талассократии в первой четверти еще ХХ века, к США раньше. Что стало фактом в эпоху «Холодной войны», когда США по результатам Второй мировой войны сделались главным центром талассократии. И когда последняя статья Маккиндера опубликована уже в американском журнале. Обратите внимание, что в 1905 году Маккиндер еще не знает точно, сомневается относительно того, к какой цивилизации причислить США: может быть, даже к континентальной. И последнюю свою стратегическую, программную статью он публикует в «Foreign Affairs» — в американском журнале.
В период Второй Мировой войны британскими специалистами из МИ-6 создается мощная структура ЦРУ — центрального разведывательного управления. И там, с участием представителей и аналитиков CFR, о которых мы говорили, и происходит некоторая фундаментальная концентрация британских разведчиков (геостратегов) и передача инициативы американской политике — вот этот геополитический шифт. Столица талассократии однозначно переносится из Лондона в Вашингтон. Общий обзор талассократии не меняется: это та же самая цивилизация моря, та же самая маккиндеровская карта, но столица переносится еще западнее: из Лондона в Вашингтон.
Что показательно? Что в политике после 45-го года начинается деколонизация, когда определенные страны, которые были колониями Англии (у нее больше всех было колоний), становятся независимыми и самостоятельными. Но они становятся независимыми и самостоятельными номинально. На самом деле и колониальная администрация сохраняет свои позиции в определении дальнейшего пути развития этих стран, а экономическим и военно-стратегическим образом они становятся базами и плацдармами уже американской новой системы. Там, где были английские колонии, оказываются военные американские базы. Практически по всему пространству бывшей британской империи происходит передача власти от Англии к США. Британия становится подсобной силой. Хотя в начале первой четверти ХХ века она была лидирующим центром атлантизма.
И что любопытно? Что на уровне геополитики этот процесс начинается гораздо раньше того момента, когда мы видим уже после Второй мировой войны как факт подъем глобальной мощи Соединенных Штатов Америки. Все начинается раньше на тридцать лет, в 20-е годы, а не в 50-е, когда образуется CFR как головная структура американского и, соответственно, талассократического, соответственно, капиталистического западного мирового управления.
После Второй Мировой войны мы имеем двуполярный мир, во главе которого стоит уже не Англия против России, а другая англосаксонская держава — США против СССР. Вот эта базовая структура отражается в политической идеологической карте мира после Второй Мировой войны.
Теперь, что же CFR? CFR становится все более и более влиятельной силой в самих Соединенных Штатах Америки. Очень интересно, что в 1974 году лидеры CFR, два главных интеллектуала (один — демократ, другой — республиканец), уже не раз упоминавшиеся нами в нашем курсе: Збигнев Бжезинский и Генри Киссинджер — крупнейшие геополитики и стратегические интеллектуалы (стратеги) США — организуют Трехстороннюю комиссию (Trilateral Commission). Которая представляет собой новое издание того проекта, который был после Версаля, где эта Трехсторонняя комиссия (Trilateral Commission) формируется из трех базовых модулей. Опять мы имеем дело с районированием талассократического пространства:
• Это США и CFR, потому что подавляющее большинство (90 %) этой Комиссии обеспечивают американцы (CFR), субъективно представленные Бжезинским, Киссинджером и Дэвидом Рокфеллером, в частности. Это некоторое ядро Трехсторонней комиссии.
• Создается Европейское отделение Трехсторонней комиссии.
• И японское. К тому времени Япония уже оккупирована США после 45-го года и постепенно становится плацдармом западных интересов в Тихоокеанском регионе.
Итак, США, Европа и Япония представляют собой три полюса, или три стороны этой Трехсторонней комиссии. Trilateral Commission: США, Европа и Япония.
Что это нам напоминает? Это напоминает ту изначальную инициативу, которая создавалась в первый момент после Версаля, когда CFR был создан. На месте английского уже выступает интегрированное европейское стратегическое пространство, но Королевский институт стратегических исследований («Четем Хаус») сохраняет свою позицию. Он-то и формирует основные кадры, хотя в эту Трехстороннюю комиссию уже включаются представители послевоенной Германии, Франции. Та намеченная инициатива Тихоокеанского региона воплощается уже однозначно в проамериканской (проНАТОвской), подчиненной, по сути, оккупированной американцами стратегически Японии.
Мы имеем дело с новым изданием геополитического районирования, где на глобальной карте мира можно выделить четыре зоны. Три из них интегрированы США и являются как бы переходными к мировому правительству, это:
1. Американская зона, которая находится более-менее под контролем Соединенных Штатов Америки, включая страны Центральной и Латинской Америки, поскольку влияние США в тот период (60—70-е годы) является доминирующим. Эти страны развивающиеся, слабые, зависимые. США здесь играет роль абсолютного лидера.
2. Европейское интегрированное пространство тоже под западной атлантистской эгидой.
3. И Тихоокеанские страны, которые идут западным курсом.
Три зоны, объединенные в структуру глобальной талассократии, — три талассократических пространства.
И четвертая зона, против которой направлена Трехсторонняя комиссия, — это страны социалистического лагеря: в первую очередь СССР, также коммунистический Китай.
Четырехуровневая (четырехполярная, квадриполярная) модель является базовой для этой Трехсторонней комиссии.
• При этом три пространства считаются талассократическими. Интегрируются под эгидой прообраза единого мирового правительства: западного, талассократического, капиталистического, американоцентристского.
• И одна зона из четырех — советская социалистическая — является исключенной.
Три включены, одна исключена. Три интегрированы, одна, наоборот, — подвергается окружению и давлению. Соответственно, это — стратегическая карта «Холодной войны». Где идет война: настоящая, полноценная, стратегическая война континентов. Великая война континентов между двумя типами цивилизаций: цивилизацией Карфагена и Рима, Спарты и Афин, капитализма и социализма уже в ХХ веке. Геополитика выражается (отливается) в эту идеологическую модель противостояния (идеологической борьбы) двух мировых систем.
Экономика и расизм международных отношений
Экономика представляет собой (что часто забывают) гуманитарную дисциплину, которая, как и другие гуманитарные дисциплины, является применением мыслей философов о структуре человеческого общества. Экономика получает самостоятельное направление в развитии лишь в Новое время, когда превращается в отдельную самостоятельную сферу социального интереса, потому что долгое время занятие хозяйством считалось подсобным, несамостоятельным предметом изучения.
Очень интересно само слово «экономика». Вводит его Аристотель и понимает дословно «домостроительство», «домострой». «Ойкос» — от слова «дом» и «номос» — это «закон».
Экономика — это способ ведения хозяйства, и представляет собой форму определенной организации человеком своего близлежащего бытия. Поэтому, поскольку древние считали, что космос — это большое государство (государство — это малый космос), то ведение хозяйства (домохозяйства) — это как бы государство в миниатюре, а государство есть космос в миниатюре. Поэтому отсюда вытекала упорядочивающая священная структура экономики: экономика как сакральное явление. Отсюда космическое измерение экономики. Это очень хорошо показывает Сергий Булгаков (русский философ) в «Философии хозяйства». Экономика — это, по сути дела, организация космоса. Аристотель понимал термин «экономика» именно таким образом. И экономике он противопоставлял совершенно другое направление — оно называлось харизматика, то есть занятие материальной деятельностью во имя материальных целей. Вот эта харизматика считалась Аристотелем недостойным занятием, которое свойственно наиболее грязным отщепенцам человеческого рода.
То, что мы понимаем под «экономикой» (организация материального производства в целях извлечения материальной выгоды), — это харизматика (по Аристотелю), и это является вещью абсолютно недостойной. Точно так же, как, кстати, понятие «демократия». Аристотель считал демократию худшим из политических режимов. Занятие материальным производством во имя извлечения материальной выгоды и организация самоуправления без всяких духовных и сакральных целей — это является, по Аристотелю, наихудшим аспектом социальной практики.
Занятие материальной деятельностью ради извлечения материальной прибыли, с точки зрения аристократической греческой мысли, — занятие недостойное. Поэтому в отдельное направление эта область и не выносилась. Она стала выноситься в тот период, когда начались материалистические демократические тенденции, — в Эпоху модерна.
Второе. Основатель экономического учения Адам Смит был последователем философа Локка — индивидуалиста, теоретика как раз такой, мягкой версии образовательного общества, основанного на индивидуализме и либерализме. Для Адама Смита вся его теория о богатстве нации была не чем иным, как применением принципов индивидуализма Джона Локка к сфере организации хозяйственной деятельности. Это тоже имело прикладной характер. Но значение экономики постепенно, начиная с XVIII века, стало неуклонно расти и, поскольку само общество становилось все более и более материальным, все более и более заниженным, все более и более приземленным, то и росло параллельно с этим значение экономики.
И вот экономика как специфическое направление приобрела самостоятельное значение и стала объектом отдельной дисциплины. Поэтому эта наука, которая, по сути дела, занимается харизматикой (по Аристотелю), ставит перед собой задачу вычисления максимализации прибыли, материальной организации общества, и получает самостоятельность в Новое время.
Теперь помещаем эту экономику Нового времени в парадигмы международных отношений, которые мы разбирали. Что мы имеем в реализме?
Реалистская парадигма утверждает, что экономика является важнейшей формой организации материального обеспечения внутри государства. Эта теория получила название «меркантилизм», и речь в ней идет о том, что развитие свободного рынка ограничивается интересами национального государства, то есть рынок в рамках государства, а монополия на внешнюю торговлю является приоритетом исключительно государства.
• Внешней торговлей заведует государство.
• Внутренней — частный сектор.
Это получило название меркантилизма.
Таким образом, государство становится экономическим актором в двух смыслах.
• С одной стороны, по отношению к своему внутреннему рынку государство выступает регулятором, но не главным хозяйствующим субъектом.
• А по отношению к внешнему рынку — уже хозяйствующим субъектом, потому что выступает от имени всего совокупного экономического потенциала данного государства перед лицом другого.
В реализме международных отношений это является нормативом. Это означает, что торговля или экономика есть национальное явление. То есть, государство выступает актором в экономических отношениях с другими государствами, в то время как внутри государства преобладают (доминируют) частнособственнические отношения либо какие-то другие. Для нас это не принципиально, поскольку реализм может быть применен как к буржуазным государствам, где эта теория и возникла, поэтому нормативной считается капиталистическая экономика, так и к небуржуазным государствам, в том числе социалистическим, монархическим или теократическим. В любом случае, реализм рассматривает ситуацию таким образом, что нормативным актором международных отношений в сфере экономики является государство. Без этой инстанции никто не имеет выхода на внешний рынок. Это парадигма, называемая парадигмой меркантилизма в экономических учениях, точно соответствует реалистскому подходу к тому, как обстоит дело в экономике.
Если мы рассмотрим эту модель реализма применительно к экономике, то мы получим простую картину, как видит реалист в международных отношениях саму систему международных отношений в экономике. Там, где есть экономические интересы какого-то государства, это государство выступает актором.
• Не хватает для развития внутреннего рынка, например, ресурсов — значит, государство озабочено тем, чтобы эти ресурсы приобрести.
• Не хватает, например, каких-то трудовых ресурсов — тогда государство должно обеспечить аннексию, колонизацию других территорий и так далее для того, чтобы эти редкие или недостающие ресурсы объединить.
Иными словами, главным актором экономики во внешнем транснациональном контексте является государство. Оно как раз, движимое национальными экономическими интересами, обеспечивает условия для обеспечения своих материальных потребностей. Отсюда большая роль в экономике сектора обороны, поскольку оборона является главной задачей реализма. Соответственно, экономика приобретает характер, связанный (сопряженный) с обеспечением национальной безопасности. Отсюда — госзаказ в военной сфере или, по крайней мере, патронирование со стороны государства тех отраслей, тех производственных областей, которые связаны с обеспечением безопасности: либо имеют государственный характер, либо ведут тесное сотрудничество с государственным сектором. Вот меркантилистская модель отношения к экономике.
При этом должна ли развиваться международная торговля с точки зрения реалистов? Да, должна. Но никогда не таким образом, чтобы развитие торговых отношений в международной сфере привело бы (приводило бы) к ослаблению национальных интересов государства. Это принцип реализма в экономике.
Переходим к либерализму. Либерализм в международных отношениях применительно к экономике исходит из радикально иной парадигмы, согласно которой открытое торговое общество (это главный принцип Адама Смита) приводит к более быстрому развитию, чем закрытое. По сути дела, сама идея о богатстве наций Адама Смита была направлена против меркантилистской парадигмы. Поэтому либералы в международных отношениях тесно связаны с либералами в экономике. Здесь доминирует такой принцип: развитие рынка не должно ограничиваться национальными интересами. Значит, акторами международной торговли в международной экономике может быть не только государство через государство, но и компания через компанию: отдельный экономический актор внутри государства с другим экономическим актором в другом государстве.
С точки зрения принципа «Невидимой руки рынка», такое освобождение от национального контроля государств дает наибольший успех и наибольший эффект в развитии экономики. Адам Смит говорил, что государство в обоих своих смыслах является препятствием развитию рынка. С одной стороны, выступая как регулятор, оно имеет тенденцию самому становиться участником экономического процесса. А это делает процесс более громоздким в случае совмещения политических и экономических функций в лице одного и того же игрока — государства — создает неравные условия для развития экономического потенциала.
Соответственно, отсюда предложение государству максимальным образом отойти от экономической сферы — это догма либерализма.
И второе: государство должно отказаться от монополии на внешнюю торговлю и занятия экономикой во внешней международной среде и позволить внутригосударственным экономическим акторам: корпорациям, компаниям, трестам и фирмам — заниматься развитием торговых отношений с другими фирмами, корпорациями, трестами другого государства.
Это отношение к экономике как к открытому рынку, к расширению зоны рынка тесно связано с идеей либералов в международных отношениях, что демократии друг с другом не воюют, но торгуют. Вот это «Make trade, not war» («Занимайтесь торговлей, а не войной»), фритредерство (свободная торговля — синоним либерализма) — это принцип либералов в международных отношениях.
Если реалисты считают, что одним из наиболее вероятных способов выяснения проблем между государствами в сфере международных отношений являются военные столкновения, то либералы в международных отношениях говорят: «Торговля создает такое переплетение взаимных экономических интересов, которое минимализирует риск войны». «Конечно», — им отвечают реалисты. Тем не менее периодически торговые войны и торговые противоречия приводят к реальным войнам. Да, это так. Но либералы настаивают, что чем больше будет открытым рынок, чем меньше будет государство влиять на рынок внутри самого себя и в международных отношениях, тем быстрее будет распространяться всеобщий рост благосостояния и той страны, которая находится с одной стороны границы, и другой страны, которая находится с другой стороны границы.
Таким образом, глобализация международной торговли является путем к миру с точки зрения либералов международных отношений. Отсюда меняется отношение к экономике.
• Реалисты мыслят в категориях национальных экономик, и здесь внутренний валовой продукт (ВВП) приобретает принципиальное значение (скорость его роста).
• А либералы в международных отношениях говорят о макроэкономическом росте всех участников глобализирующегося открытого рынка, который, с их точки зрения, и приводит к оптимальному перераспределению ресурсов, и к оптимизации производства, и дает максимальный эффект.
Третья позитивистская парадигма — марксизм. Марксизм ставит экономику во главу угла, но рассматривает ее как антагонистическое поле противостояния буржуазного класса и пролетарского класса. Классовая борьба между пролетариатом и буржуазией является объяснением структуры международных отношений, она транснациональна по определению и фиксируется на том, что существует глобальный капитал и глобальный пролетариат, которые находятся между собой в глобальной борьбе как в национальном, так в интернациональном срезе.
Экономикой в классическом марксизме объясняется политика. Классический марксизм утверждает, что существует базис и надстройка. В базисе находится экономика, в надстройке находится политика, культура и все остальное. Поскольку экономика мыслится марксистами как классовый антагонизм между пролетариатом и буржуазией, соответственно, эти противоречия, которые находятся внутри базиса, проецируются в политику и предопределяют политические процессы в международных отношениях точно так же, как и во внутренней политике. Здесь снова для марксистов не имеет значения, рассматриваем мы вопрос в национальном ключе (как реалисты) или в интернациональном (как либералы). Важно, что существуют глобальные антагонистические противоречия, и экономика является базовой формой борьбы.
Экономика стоит в центре внимания неомарксистов, поэтому как раз эта школа международных отношений дает наиболее последовательный, развернутый, доскональный, подчас детальный анализ экономических отношений с позиции выяснения классовых противоречий в национальном или интернациональном масштабе. Мы говорим об интернациональном масштабе, соответственно, в международных отношениях здесь анализ материально-экономической стороны дела (как организовано производство) стоит во главе угла неомарксистского и марксистского анализа международных отношений.
Вот три взгляда на экономику: меркантилистский, либеральный и марксистский.
Переходим к постпозитивистским парадигмам, для которых существует общая модель, состоящая в том, что экономики нет. Постпозитивисты считают, что экономика — это не что иное, как фигура речи, и сфера экономической доминации власти производства есть не что иное, как продление человеческого сознания. Что человеческое сознание само экономично и технично, оно производит всегда нечто, оно производит образ реальности, оно дублирует реальность через язык или через систему репрезентаций. Потому что у человека есть язык и, двигаясь по лесу, он говорит, не просто чувствуя, как ежик или белка, что он в лесу. Он говорит: «Я в лесу». Он называет имена и дает вещам имена, тем самым он их дублирует. Имя вещи — это репрезентация, это мысль о вещи. И вот, утверждая дубликат вещи через концепт (понятие вещи), человек на самом деле уже осуществляет базовую экономическую модель: он нечто производит. То, что он производит, то, что находится между ним самим и живой природой (миром), — это и есть вещь, которую он производит. А экономика есть не что иное, как поле создания репрезентаций. Базовое стремление человека — это воля к власти, воля к доминации. Поэтому человек производит вещь для того, чтобы над ней господствовать.
Он превращает природу в объект господства. Он создает мертвые вещи или как то, над чем он господствует, или как то, с помощью чего он господствует. Таким образом, стремление человека к реализации своих доминаций как субъекта над объектом приводит к созданию отчуждений и реификации мира (превращение живого в вещь). Реификации, то есть превращению в объект, в товар, подвергаются и межчеловеческие отношения. Мы часто слышим такую фразу: «Сколько ты стоишь?» или «Сколько он стоит?» и так далее.
Идея присвоения экономического эквивалента тому или иному живому существу или просто спонтанному явлению мира является выражением воли к доминации. Поэтому экономика в этом контексте есть не что иное, как один из моментов глобальной доминации, как язык, как система репрезентаций и система подавления субъектом объекта. Распределение в языке ролей подлежащего, сказуемого, второстепенного члена предложения, по сути дела, и есть базовая парадигма производственного материального процесса, поскольку человек производит вещь для того, чтобы ею владеть.
Если дальше перейти на другой уровень, капиталист заказывает производство вещей для того, чтобы владеть ими и, как инструментом производства вещей, пролетариатом, то есть теми, кто исполняет его указания: либо инструментом, либо объектом. И в результате все становится производством объектов и инструментов по отношению к субъекту. В конфликтной версии это порождает класс господ, эксплуататорский класс, который выступает субъектом глобальной доминации, в том числе и экономической. Объектом является отчуждаемая жизнь или пролетариат, тот, кто становится вещью или инструментом: объективируемый элемент мира (бытия), который оказывается заточенным в эту сферу товара, который подвергается реификации (превращению в товар). Отсюда происходит отчуждение или реификация человеческих отношений, перевод, например, отношений между людьми в договорно-контрактную основу, включая институты семьи, брака, торговлю органами и так далее.
Мы уже переходим к идее того, что суть экономики не в том, чтобы обеспечить благополучие материального производства, а совершенно в другом: в том, чтобы обеспечить неравновесную возможность доминации одного над другим. Таким образом, идея экономики, ее развитие, ее конфликтность заложена в том, что изначально это есть не что иное, как воля к власти. Здесь, конечно, постпозитивизм смыкается с марксизмом, обобщенным, перенесенным на уровень структурализма через Лакана, фрейдизма, поскольку здесь же рассматривается модель базовой доминации, и других философских учений, не обязательно уже марксистского толка.
Когда говорится о помощи третьим странам, о списании долга, о реструктуризации, о заимствованиях у МВФ (Международного Валютного Фонда) или обращении к Всемирном банку, речь идет на самом деле о создании некоторых властных идолов: богатый западный мир, который конституирует себя как глобального гегемона, который давит с помощью своей помощи или с помощью своей колонизации (по-разному) на другие экономические объекты.
Утверждение экономического неравенства, согласно которому существуют развитые и неразвитые страны в экономической сфере, и перевод все в экономику на самом деле есть попытка сокрытия одного: воли к власти, воли к доминации, которая к материальной-то реальности никакого отношения не имеет.
Наоборот, экономика — это не занятие материальной системой предметов. Это превращение в материальность того, что является феноменом. Феноменом, который еще открывается, является, обнаруживается перед человеческим субъектом, но его структура, его природа не определена. Когда нечто становится вещью, товаром, в этот момент оно и становится материальным. Соответственно, превращение бытия в товар, превращение бытия в материальную вещь и является базовой ориентацией экономики как харизматики по Аристотелю. Такая доминация материи.
На самом деле материи нет, считают постпозитивисты. Материя появляется в ходе принуждения субъектом другого к приведению его к статусу объекта. Субъект, реализуя свою стратегию воли к власти, переводит другого, явление, с которым он сталкивается, в статус объекта, тем самым реифицирует его, лишает его самостоятельного бытия, превращает в вещь, в товар или в инструмент.
Соответственно, экономика есть просто поле материализации доминации воли к власти, подчинению, и властного неравенственного дискурса, — считают теоретики международных отношений в постмодернистской постпозитивистской парадигме.
Как это выражается в конкретике? Речь идет о том, что представители критической школы постмодернизма в международных отношениях рассматривают дискурс об экономической отсталости тех или иных государств, об эффективности или неэффективности экономических процедур (по-английски «agency») тех или иных обществ просто как форму колониального расистского подавления. Потому что западные носители гегемонии в глобальном масштабе рассматривают свою собственную экономическую состоятельность, о которой они сами и заявляют, вводя свои собственные критерии как некий пик, и дальше начинают с ним сравнивать все остальные общества, и на основании этого строить иерархию, где экономическая состоятельность, или эффективность, служит важнейшим аргументом.
Когда речь идет о том, что два общества признают единство критериев, считая, например, что такой-то уровень ВВП или такой-то темп развития машиностроения является нормой, тогда можно сказать, что одно справляется с этой задачей, а другое меньше справляется или вообще не справляется. Представим себе, что одно общество считает нормой такой-то уровень промышленного развития, а другое общество считает, что промышленное развитие вообще не является высшей ценностью или мерилом показателя справедливости, или, скажем, совершенства, благополучия. Тогда получается, что одно из этих обществ навязывает другому критерии, которые совершенно чужды ему, и на основании этого критерия, например, находит его неэффективным, недостаточно быстро развивающимся, и начинает:
• либо подтягивать к себе, куда это общество совершенно не хочет;
• либо колонизировать его, всячески третировать как несовершенное.
Представим себе, что есть блондины, есть брюнеты.
Вот, блондины говорят брюнетам: «Вы недостаточны белы, ваши волосы слишком темные».
Брюнеты говорят: «Почему они должны быть белыми?»
Блондины говорят: «Посмотрите, как хорошо быть блондином. Вот блондин — это и есть человек, а брюнет — это просто несовершенный блондин, это почерневший блондин».
Как только начинается такая идея, тогда начинается торговля шампунями, краской для волос. Если блондину удается убедить брюнета, что нормативом является блондин, а брюнет является вырожденцем, просто плохо покрашенным блондином, в конечном итоге, если он сможет на своем настоять, за норму берется блондин, а брюнет рассматривается в качестве какого-то «недоблондина» или какого-то вырожденца — больной блондин, несовершенный, блондин-инвалид. Из этой картины ясно, насколько глупо такое сопоставление.
Тогда мы переходим на уровень экономического дискурса, когда надо развивающимся странам, например, объяснить, что приватизированный колодец гораздо более эффективен, чем бесплатный. Когда в Сомали были применены меры Валютного Фонда по насильственной реструктуризации экономики, эта страна, которая даже производила триго и маис и экспортировала в Саудовскую Аравию часть скота, просто впала в немедленную нищету, приняв эти нормы. Потому что с точки зрения Запада наличие бесплатной воды было непозволительной роскошью при ее нехватке. Колодцы были насильственным образом приватизированы. Вместо развития слабопроизводительных триго и маиса, которые давали очень небольшую прибыль, были насажены искусственным образом фруктовые деревья, дававшие бо́льшую прибыль. Экономика этой страны была мгновенно разрушена, начался каннибализм, люди стали гибнуть от голода.
Тем не менее принципы свободного рынка были наконец-то в этой стране утверждены за счет полного коллапса экономики. Это считается одним из ярчайших преступлений Международного Валютного Фонда, чьи предписания расистским образом: принудительно, тоталитарно — уничтожили экономику целой страны, ввергнув ее в бесконечную нищету, кошмар. Поскольку стоило поставить перед собой другую задачу — о том, что необходимо больше извлекать выгоды из тех или иных природных условий, — разрушилась многовековая модель баланса аграрных скотоводческих обществ, традиционные формы обмена, и эти общества, по сути, были уничтожены. Вот приблизительно так действует эта модель в международных отношениях.
Приезжают экономические эксперты и говорят: «У вас здесь все очень неэффективно. Вам надо сделать то-то». Уезжают — страна рушится. Они говорят: «Мы же сказали вам, что ничего у вас не получится. Давайте мы сами здесь поуправляем немножко, устроим здесь ядерные отходы. Это самое вам и место».
Так же приблизительно происходила перестройка в 90-е годы, когда приехали американские специалисты и стали думать о том, что делать с советской системой. Они нашли ее неэффективной, уровень ее роста — недостаточным, поэтому ее просто приватизировали. А те отрасли, которые могли составить конкуренцию западным производствам, они просто разорили, устроили там дискотеки и клубы.
Они взяли себя в качестве нормы, объявили, что блондин — это абсолютный человек, а брюнет — это просто дегенерат, и на продаже краски для окрашивания брюнета в блондина сделали колоссальное состояние. Приблизительно по такой же модели развивается теория экономического дискурса. Когда нам говорят, что какие-то общества развивающиеся, какие-то неразвивающиеся, какие-то плохо развивающиеся, это и есть не что иное, как просто формы расизма, — считают специалисты в постпозитивистских моделях международных отношений.
Расизма прямого, когда крупные развитые буржуазные государства захватывают другие, как в случае нападения коалиции на Кадаффи или на Ирак, в результате чего просто были поставлены под контроль нефтяные промыслы в этих странах. Когда необходимо повысить (изменить) баланс в экономике буржуазных стран, тогда она осуществляет прямое вторжение — это реалистская позиция.
Вторая идея. Здесь, кстати, очень важен закон Фридриха фон Листа (немецкий экономист), который, занимаясь в XIX веке развитием Германии, размышляя над тем, как действуют законы Адама Смита относительно того, что открытые общества (фритредерство) дают автоматический эффект подъема экономик, заметил следующую вещь: да, дает, но только той стране, которая более развита.
Если представить себе два государства: одно с развитой экономикой, другое с менее развитой экономикой, — которые открывают между собой границы, то станет ясно, что мерного распределения потенциала между ними не происходит. То, которое вступает в это взаимодействие на лучших позициях (более развитое), становится еще более развитым, а то, которое менее, наоборот — менее развитым. Несмотря на то, что какие-то сектора сегментно могут дать определенный эффект, по большому счету, эта пропорция не сокращается, а возрастает. При этом, конечно, если неразвитая экономика не входит во взаимодействие с развитой экономикой, она тоже отстает, тоже происходит отставание.
Отсюда Лист выдвинул принцип автаркии больших пространств, предложив организовать таможенные союзы (Zollverein) между теми странами и теми обществами, которые находились в относительно равном экономическом развитии, для того чтобы создать максимальные условия для межстрановой конкуренции. Это он воплотил в жизнь: Бисмарк на основании его теории объединил германские земли. В результате германские территории, которые были абсолютно отсталыми и захудалыми, сделали мощной рывок и в значительной степени вышли на уровень, сопоставимый с Англией. Вот как на практике эта идея свободной торговли была, скажем, опровергнута, а эффективность альтернативной модели с точки зрения теории больших пространств доказана.
Сторонником Фридриха Листа был и Сергей Витте (русский экономист), и Ленин, и Вальтер Ратенау (автор германского экономического чуда). В общем, идеи Листа сейчас лежат в основе, кстати, объединения Европы, с одной стороны, с другой стороны — Евразийского Союза у нас. Поэтому актуальность этой идеи автаркии больших пространств как альтернативы фритредерству тоже имеет и теоретическую, и практическую доказательную историческую базу.
Так вот, с точки зрения тех, кто анализирует экономику в постпозитивистском ключе, мы видим, что идея либерального продвижения одних и тех же фритредерских законов на самом деле приводит не к уравновешиванию обществ, а, наоборот, к тому, что общество, которое менее развито, оказывается еще менее развитым в сравнении с обществами более развитыми. Экономическая глобализация не приводит к уравниванию шансов и позиций тех, кто в нее вступает, а, наоборот, создает все большие противоречия. Это критика позитивистов в адрес либералов, чей пацифизм они ставят под сомнение, рассматривая это как форму особой модели империализма.
Есть прямой империализм, который часто отстаивают реалисты, и есть косвенный (глобалистский) империализм, который приводит к тем же результатам, но с другой точки зрения — с точки зрения распространения фритредерства и создания транснациональных корпораций, которые не уравновешивают шансы различных обществ на экономическое развитие, а создают привилегированные условия для тех, кто является источником или субъектом глобализации, а другие экономики (другие общества) становятся объектами глобализации. Происходит та же самая реификация, та же самая материализация — превращение субъекта в объект, о котором мы уже говорили.
Вот каков контекст различных моделей понимания экономики в этих парадигмах.
Последнее замечание по этому вопросу: в теории многополярного мира экономика рассматривается в модели Фридриха фон Листа: в модели Таможенного союза идея объединения экономической интеграции обществ со сходным уровнем развития экономики рассматривается в качестве доминирующей. Каждая цивилизация, каждый полюс в многополярном мире должен расширяться, должен быть открытым в первую очередь по отношению к тем обществам, которые находятся в сходном экономическом состоянии. А по отношению к более развитым и к менее развитым должны существовать таможенные преграды.
Нечто подобное мы видим в современном Китае, где модель внешней торговли, с одной стороны, поощряется в тех случаях, когда она служит государственным интересам, а в других случаях, когда речь идет о возможности зависимости китайской экономики от внешних игроков, наоборот, подобного рода интервенции или эти аспекты глобализации как раз ограничиваются.
Соответственно, в этой модели многополярного мира, или автаркии больших пространств, развивается теория многополярного мира. Теория многополярного мира — это не либерализм, не меркантилизм реалистский, не марксизм в классическом его понимании. Но многие элементы критики экономоцентричной модели из постпозитивистских теорий в международных отношениях в теории многополярного мира, как и в других случаях, задействуются.
Здесь мы переходим к другой теме. Эта тема непосредственно сопряжена с социологией международных отношений. Само направление социологии международных отношений родилось из английской школы, но постепенно получило свое название «историческая социология» и стало одним из направлений постпозитивистских парадигм.
Первый манифест этого направления — коллективная монография под редакцией Хобсона и Хобдена. Одним из провозвестником данного подхода в социологии международных отношений был Фредди Холидей (английский специалист в международных отношениях, неомарксист), который создал оригинальную теорию — между веберовской и неомарксистской моделью. Но Хобден и Хобсон впервые опубликовали стратегический программный текст о социологии международных отношений, критикуя хронофетишизм и темпоцентризм.
Это два очень важных понятия: хронофетишизм и темпоцентризм. Хронофетишизм — идея того, что в международных отношениях (как заметили Хобсон и Хобден) статус-кво, по крайней мере, модели общества модерна и особенно того общества, которое находится в основании наблюдений современных исследований, передается статус абсолютного и вечного. То есть, на самом деле, к любым историческим моделям мы относимся в рамках этого хронофетишизма так, как будто бы системы, которые существовали раньше или которые будут существовать позже, по сути дела, являются не чем иным, как различными вариациями той системы международных отношений, которая существует сегодня. Это хронофетишизм, то есть неспособность осознать исторический опыт другого времени и других исторических условий и нежелание его осознавать.
Хронофетишизм — это проекция статус-кво, т. е. того положения, в котором мы живем, на неопределенное расстояние в будущее, прошлое и так далее. То, что мы видим, и есть по-настоящему вечное, постоянное и нормальное. Это первая иллюзия, с точки зрения этих авторов, во всех моделях международных отношений, и представители исторической социологии требуют привнести характер исторического многообразия в международные отношения.
Обстоятельства, как они есть сегодня:
• отношения между государствами,
• базовыми акторами,
• деление на юниты,
• иерархизация,
• вертикальные и горизонтальные связи в системе международных отношений.
Прежде чем они стали такими, они могли быть радикально другими (и были радикально другими), с радикально другим смыслом, — в иные исторические эпохи. Отсюда инициатива Бузана и Литтла относительно различных интернациональных систем, в каждой из которых при переходе от одной интернациональной системы к другой и от одного «номоса» Земли к другому «номосу» Земли (по Карлу Шмитту) происходит фундаментальное семантическое изменение всей этой системы. Вот в чем смысл системного анализа международных отношений. Бузан и Литтл в социологии международных отношений — тоже одно из направлений этой школы.
Так вот, если мы учтем фундаментальное изменение смысла всех акторов, всех отношений при переходе от одной транснациональной модели к другой, мы можем понять, что и в рамках одной и той же модели тоже постоянно идут нескончаемые семантические сдвиги: определенные изменения, трансформации внутри тех процессов, которые происходят в международных отношениях.
Хронофетишизм не позволяет увидеть это многообразие, поэтому часто сплошь и рядом те или иные аналитики международных отношений (специалисты) как бы канонизируют нынешнее положение вещей, полагая, что так было и будет всегда. Когда происходит очередное изменение, все их системы рушатся, и кто-то задает новые хронофетишистские модели.
Например, Кеннет Уолтц — крупнейший специалист по международным отношениям. Он был уверен (даже в 91-м году он был уверен), что биполярная система будет существовать всегда: что всегда будет советский блок, всегда будет капиталистический блок, что это наиболее совершенная модель компенсирующего друг друга «Balance of power» (баланса сил), соответственно, неореалистская парадигма биполярности будет существовать всегда.
Хронофетишизм не позволяет специалисту по международным отношениям понять прошлое, когда было все иначе, и представить себе будущее, которое тоже может быть радикально иным. Когда мы привязаны к тому, что то, что есть, было всегда, — естественно, мы даем неверный анализ, неверно трактуем прошлое, неверно смотрим в будущее.
Вторая тема: темпоцентризм. Параллельно с иллюзией хронофетишизма, который блокирует научную релевантность дисциплины международных отношений, существует темпоцентризм (согласно социологам международных отношений). Темпоцентризм, наоборот, полагает, что все последующее полностью снимает предшествующее. То, что происходит после, с точки зрения темпоцентризма, важнее, чем то, что происходило до: следующий момент снимает (по-гегелевски «aufhebt»), вбирает в себя все предыдущее.
Поэтому если сегодня определенным образом обстоит дело, например, в экономике, в войне, в дипломатии, в политической системе, то, значит, то, что предшествовало этому, существует здесь в снятом виде, заведомо было хуже. Если эту логику применить к жизни, получается так, что старик важнее и лучше взрослого человека, взрослый лучше ребенка, а ребенок лучше маленького ребенка. Понятие «лучше» в темпоцентризме с применением к человеческой жизни глупо. Чем же это старик лучше взрослого человека? Кстати, можно сказать: чем взрослый лучше ребенка? Дети бывают гораздо обаятельнее, чем взрослые, и внушают больше надежд. Надежды с возрастом исчезают. Ты смотришь и понимаешь, что от этого человека ждать уже нечего.
Темпоцентризм предполагает, что каждый последующий момент лучше предыдущего. Нынешняя политическая система является оптимальной и несет в себе снятие всех других моделей, которые существовали раньше, что на самом деле разрывает нашу историческую преемственность, не позволяет нам понять, что за общества существовали в истории на других этапах. Кстати, это блокирует и взгляд в будущее, потому что будущее в таком случае является как бы почти невозможным, поскольку все, что могло быть снято, снято, все лучшее есть сейчас. Это почти люциферический (мефистофельский) принцип: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!».
Эфемерное ощущение того, что мы живем в лучшем из миров, о чем говорил Лейбниц метафизически и что утверждают в историческом ключе представители практически всей западной цивилизации и обществ, находящихся под влиянием Запада.
Это второй элемент: критика темпоцентризма как дополнения к хронофетишизму и, естественно, предложение преодолеть эти два предела. То есть рассматривать общество как момент исторического развития, в контексте. Для того чтобы знать, какова сейчас система международных отношений, необходимо знать, какая она была вчера, позавчера и так далее. Как данное государство, например, современная Российская Федерация, стала тем, чем она является сегодня? Постепенно развиваясь от предыдущих стадий (от Киевской Руси). Без учета того контекста, в котором происходило становление нашей государственности по сравнению с китайской, турецкой, европейской, американской, вообще нельзя говорить ни о каком договоре, например, России с Китаем или России с Турцией.
Помещение исторического состояния международной системы в хронологический контекст (диахроническую перспективу) — это первое.
А второе — это отказ от идеи того, что мы живем в лучшем обществе, в котором все предыдущее (снятое) было худшим.
Во-первых, что-то мы приобретаем, но что-то и утрачиваем, богатея в одном смысле, мы беднеем и нищаем в другом. Технологически у нас есть теперь айфоны, зато у нас нет совести. Замечательно: что-то приобрели, а что-то утратили. Преодоление темпоцентризма приглашает просто сделать баланс, не то чтобы осудить наше общество, а просто сказать, что что-то где-то «плюс», а где-то «минус». Соответственно, не все лучшее присутствует в нашем обществе: что-то мы упускаем, что-то теряем.
И во-вторых, на самом деле движение может быть более сложным, чем движение только вверх. История может идти более сложными узорами. Она может завиваться в петлю, быть спиралевидной, подниматься вверх, осуществлять рывки и, наоборот, сбиваться в сторону и даже течь вспять. Темпоцентризм отвергнутый (снятый) позволяет нам рассмотреть историческую модель взаимодействия разных акторов международных отношений с разных точек зрения.
Таким образом, критика хронофетишизма и темпоцентризма в социологии международных отношений — очень позитивный момент. Она не просто говорит, что нечто плохо. Она говорит, как хорошо и как важно для науки международных отношений рассмотреть вещи под другим углом зрения, учесть историческое измерение тех процессов, которые происходят в сфере международных отношений.
Тем самым мы переходим от тонкого описания к плотному (густому) описанию, как считал Клиффорд Гирц (антрополог), говоря, что «в науке может быть тонкое описание (“жидкое”) и “густое” описание».
• «Жидкое», которое оперирует только несколькими факторами, строит по ним схематическую модель.
• А «плотное» описание учитывает множество факторов, в том числе помимо первостепенных, которыми оперирует «тонкое» (слабое описание), также второстепенные факторы. И объем этих второстепенных, третьестепенных — менее заметных факторов может на самом деле радикально изменить картину того или иного общества, той или иной культуры. Применив это «плотное» описание («густое» описание) к международным отношениям, мы получаем историческое измерение.
Но это еще не все в социологии международных отношений. Совсем недавно вышла книга Хобсона, которая называется «Евроцентризм в международных отношениях». Эта книга посвящена проблематике научного расизма. Про Гитлера там почти ничего не говорится, расизму уделяется совсем небольшая часть. В основном автор описывает все формы международных отношений, всю науку о международных отношениях, всех авторов, которые писали на эту тему, как сознательных или бессознательных представителей научного расизма. С его точки зрения, вся область международных отношений представляет собой зону расизма.
Что значит расизм? Утверждение того, что одни расы выше, чем другие расы. Парадоксальный, скажете вы, подход. Но, если мы вспомним сейчас, что такое в целом теория постпозитивистских парадигм (постпозитивистские парадигмы в международных отношениях), мы увидим, что к этому подводило все предшествующее. Просто это кульминация данного подхода. Все постмодернисты, постпозитивисты видели проблему в доминации, в воле к власти. В том, что дискурс международных отношений есть не что иное, как установление неравновесных взаимодействий между субъектом и объектом и в экономике, и в элитах и массах (об этом мы говорили), и в понятии «князь», и в понятии «СМИ» (открыто и скрыто) — везде мы имеем неравновесную модель.
Вот эту неравновесную модель Хобсон в книге «Евроцентризм» отождествляет с научным расизмом или с таким явлением, как евроцентризм. Это очень интересная идея. Смысл евроцентризма заключается в том, что существует так называемое учение американского антрополога, эволюциониста XIX века Льюиса Моргана о трех стадиях человечества: человечество развивается по трем стадиям (три типа общества).
• Первое — дикость.
• Второе — варварство.
• Третье — цивилизация.
Вот это базовое учение о трех стадиях развития общества является на самом деле отнюдь не только идеей самого Льюиса Моргана, но лежит в основе практически всех социально-гуманитарных, исторических реконструкций западной науки. Это учение о том, что существует три типа общества и существует движение от дикости через варварство к цивилизации — такая же догма, как догма всемирного тяготения (константы всемирного тяготения) в современной физике.
Существует три стадии. Эти стадии располагаются абсолютно строго:
• хуже всего дикость,
• средним является варварство (переходный этап),
• и третьим является цивилизация.
Эта парадигма предопределяет фундаментальное неравенство трех обществ.
• Когда мы видим людей, живущих на уровне родоплеменного строя, мы говорим: «Это дикость».
• Когда мы видим людей, живущих в архаических государствах с тоталитарно-деспотическими системами, мы говорим: «Это варварство».
• Когда мы видим демократические, бурно развивающиеся экономические эффективные общества, мы говорим: «Это цивилизация».
Раньше такой модели не было. Это Новое время суммирует свое представление о логике истории и о типах цивилизации следующим образом.
Во-первых, мы здесь сразу видим неравенство. Что хорошо? Цивилизация — хорошо. Что хуже всего? Дикость. А что между? Варварство. Варварство лучше, чем дикость, но хуже, чем цивилизация. Цивилизация, будучи самым совершенным из обществ, имеет абсолютное моральное право судить и осуждать варварство и тем более дикость. И больше того, цивилизация имеет право цивилизовывать варварство и способствовать варваризации, а потом уже и цивилизации дикости.
Значит, цивилизация представляет собой субъект (саморефлексию), а варварство — состояние человеческого общества, близкое к объекту. Отсюда представление о том, что условия существования в дикости — это условия, приближенные к животному обществу. Так возникает концепция эволюции человека (отсюда дарвинизм и ламаркианство) от обезьяны (животного) через дикость (это человек, но еще похожий на животное); варвар уже больше похож на человека, но еще не человек; и, наконец, цивилизация, где человек становится полноценным человеком.
«Цивис» — это город (очень интересно). Таким образом, человек, живущий в деревне, — это уже варвар. Человек, живущий в лесу (вне деревни), — дикарь. Дикаря поэтому берут и переводят из джунглей в деревню — делаем из дикаря варвара. Переводим из деревни в город — делаем его человеком.
Такая модель предполагает, что цивилизованный человек есть человек в высшем смысле слова, то есть только цивилизованный человек и есть человек, а варвар — это получеловек, а дикарь — четверть человека. Соответственно, существует ранжирование социальных типов, которое утверждает фундаментальное социальное неравенство между различными типами обществ. Почему это имеет особо важное отношение к сфере международных отношений? Потому что на этом основании, только на этом основании — цивилизованное государство имеет моральное право бороться с государством варварским не только во имя своих национальных интересов, а во имя того, чтобы цивилизовать варвара. Ну, а дикарей вообще рассматривать как нечто существенное нельзя. Поэтому отношения между приезжающими на североамериканский континент представителями европейской цивилизации и варварскими государствами ацтеков, инков, либо дикарями, живущими родоплеменным строем, вообще не рассматриваются как отношения между государством и государством. Это не война государства Испании с государством инков (обратите внимание).
Идут представители цивилизации, навстречу им варвары, а под варварами — дикари. Поэтому и те и другие не являются формально адекватными партнерами в войне. Вот война Англии и Испании — это война. Это война между двумя цивилизованными народами: испанским цивилизованным народом и английским, еще более цивилизованным народом.
А война с государством инков Монтесумы — это просто захват. Мы же не говорим, когда переносим муравейник с места на место, что это война нас с муравьями. Нет, мы просто берем, грузим в тачку муравейник, так сказать, его ликвидируем. Приблизительно такое же отношение к инкам или индейцам в Северной Америке. Есть мухи цеце, есть муравьи тамбоча, способные разъедать бетонные конструкции. А есть еще и индейцы, африканцы, жители каких-то там близлежащих территорий, некое обременение ландшафта. Вот что такое дикость или наглое агрессивное обременение ландшафта со стороны варваров, которые организуются в некие темные, несущие угрозу цивилизации орды.
Таким образом, учение о трех стадиях, которое было номинальным, лежало в основе колониальной империалистической практики начиная с XVI века. В ходе этой практики оно и формировалось. Представление о том, что не то что более сильные захватывают более слабого, а высший захватывает низшее, и лежало в основе феномена рабства.
На каком основании в эпоху развитой цивилизации Европы жителей Западной Африки сотнями тысяч отлавливали, сажали на корабли, лишая каких бы то ни было прав, перевозили на другую сторону Атлантики, продавали в рабство? Почему они должны были работать на этих европейских — португальских, испанских или английских — ловцов живого товара? Это не древнее рабство, когда рабы строили пирамиды. Это Европа просвещенная, это XVI–XVIII века институционализации рабства.
Колонизация, рабство, завоз рабов, уничтожение индейцев — это Новое время. Это просвещение. Это модерн. Идея рабства, с которым мы имеем дело и последствие которого населяет сегодня Америку в лице афроамериканского элемента, — это модерн. Это практика нового интеллектуального, цивилизационного расизма, научного расизма, которая позволяла цивилизованным рассматривать диких как животных.
По сути дела, цивилизованный португальский торговец рабами мог сказать: «Хорошо. Эти рабы поучатся у нас нашему языку, нашим правилам. Лет через двести мы освободим их потомков, которые поработают на нас. Они потом тоже станут участниками нашего полноценного, цивилизованного общества». Так произошло? Именно так произошло. У нас нет уже рабства в Бразилии, в Америке. Африканцы (потомки этих африканцев) имеют некоторые социальные права и возможности тоже стать… Вот Обама никогда, правда, не был потомком рабов, потому что его папа — африканец, а не потомок американского раба, а мама белая. Поэтому он псевдонегр.
Речь идет о том, что это — новая практика, которая вытекает из учения о трех стадиях, о трех типах обществ. Новая практика колониализма, новая практика работорговли, и связана она как раз с Эпохой модерна и современными теориями.
Ну и последнее, что интересно у Хобсона, который показывает, что вся структура международных отношений выстроена таким образом. До сих пор у современных представителей международных отношений, у всех без исключения есть деление на три категории общества.
1. Есть цивилизованные страны — современные США, Англия, Европа. Это цивилизация.
2. Есть варвары. Это мы, китайцы, индусы, латиноамериканцы, мусульмане, которые подтягиваются к цивилизации, но еще нуждаются в дальнейшей работе. То есть работа проведена, там живут уже не на помойке, не в лесах, уже чему-то научились, умеют торговать, передвигаться свободно. Но тем не менее в отношениях с ними еще требуется большая осторожность, поскольку процесс перехода от варварства в цивилизационное пространство непростой.
3. И третье: на планете еще очень много дикарей, которым надо помогать: посылать гуманитарную помощь. А также учить их базовым основам обращения с телефонами, с «Макдональдсами», как стать в очередь, как пробивать чек.
Эта модель отражает абсолютный, безусловный, всепроникающий расизм, который лежит в основе того, что между цивилизацией, варварством и дикостью как тремя социальными стадиями существования человека имеется абсолютно однозначная иерархия.
Давайте рассмотрим реалистскую модель международных отношений. Здесь очевидно, что на основании того, что цивилизованное государство более эффективно технологически, в своих интересах, которые реалисты и не скрывают, с опорой на эти новые технологии государство развитое, цивилизованное, имеет все основания захватить, разрушить и победить варварское и присоединить под свой контроль территории, населенные дикарями.
Колонизация и империализм в сочетании с научным расизмом вполне вписываются в модель реалистской теории международных отношений. Это просто откровенный империалистический наступательный колониальный расизм. Но здесь даже и доказывать особенно не надо, потому что корни этого явления достаточно очевидны. Теоретики реализма так приблизительно и говорят.
Вторая парадигма — либерализм. Здесь сложнее. Либерализм отличается антиимпериализмом, стремлением сократить значение государства в международных отношениях (это мы видели). Но Хобсон (это наиболее интересные, проникновенные страницы его произведения «Евроцентризм…») говорит: «Давайте посмотрим, как милые такие пацифисты, пташки типа Локка или Канта, которые говорили о гражданском обществе, правах человека и дружбе всех со всеми, открытом обществе, — насколько они пользуются теми же расистскими аргументами применительно к обществу варварскому и дикому. Только они говорят не о завоевании, а о просвещении. Но, по сути, речь идет о том, что все остальные общества, непохожие на западные европейские, — варварские. Либо, если совсем дело плохо, они дикарские».
Либералы и «божьи одуванчики» пацифисты, представители неправительственных организаций, которые следят за правами человека и сдувают пылинки с любого пострадавшего от милицейского произвола, на самом деле являются иной версией жесткого, радикального западноцентричного расизма. Которая исходит из предпосылки, что:
• есть совершенные общества, это либерально-демократические западные общества,
• есть менее совершенные (развивающиеся страны),
• и есть недообщества, Untermenschen, чистые «недолюди», которые живут в джунглях.
Другое дело, что вместо того чтобы их колонизировать (подавлять), их надо цивилизовать, то есть переводить (не спрашивая, хотят они или нет) в состояние западно-европейской цивилизации. Это тоже типичный, только антиколониальный антиимпериалистический расизм. Расизм в чистом виде, который исходит из универсальности представления о том, что западное общество является совершенным, что это и есть цивилизация в единственном числе, что цивилизация может быть только западной и то, что не является западной цивилизацией, является недоцивилизацией.
А вот формы работы с недоцивилизацией здесь несколько отличаются от реалистских. То есть не с помощью колонизации и жесткого принуждения, а с помощью:
• глобализации,
• навязывания своих экономических институтов,
• кредитов Международного Валютного фонда, который скупает будущие поколения и разрушает естественное развитие экономик этих так называемых варварских или недостаточно цивилизованных стран.
Тот же колониализм, только мягкая версия: колониализм антиколониальный. Он может сопровождаться полной любовью к дикарям и даже побочной симпатией к варварам. Хотя варваров либералы не любят страшно, потому что видят в них пародию на самих себя или карикатуру на свои собственные подходы. Варвары открыто говорят: «Вот это власть. Вот это господин. Вот это раб». Все. «Господин отдыхает, раб работает — прекрасно», — говорит варвар.
А либерал цивилизованно говорит: «Ну нельзя же так. Он работает, потому что как же иначе? Иначе у него не будет денег. Иначе он будет жить под мостом. Не все ли равно: просто иди работай или живи под мостом».
Есть принуждение: либо силовое, либо экономическое. Как будто экономическое принуждение менее жесткое, чем силовое. Как будто экономическая форма доминации не столь же абсолютно жесткая, как прямое насилие. Разные формы господства — смысл один: господство неравновесно распространяется сверху вниз от цивилизованных обществ через недоцивилизованные к совсем нецивилизованным.
Марксизм, казалось бы, уж никак не является расизмом. «Абсолютный расизм», — говорит Хобсон. Марксистская идеология — это расистская идеология, которая утверждает, что развитие общества по западному пути индустриализации, урбанизации, движения к одной цели является законом для всех остальных формаций. Маркс, как и остальные, разделяет учение о трех стадиях, просто считает, что в цивилизации помимо буржуазной стадии, неизбежной и необходимой, должна наступить еще справедливая стадия — коммунизм.
Но на самом деле тут точно такое же брезгливое отношение к дикарям, которых надо цивилизовать, и неприязнь к варварским государствам, варварским обществам. Это абсолютно евроцентрический расизм, научный расизм, только еще одна экономическая его версия.
Хобсон приблизительно так расшифровывает структуры (модели) международных отношений, существующих в современном мире, и показывает, что мы имеем дело с хорошо темперированным расизмом всех типов — научным расизмом. Который от прямого оправдания колонизации империализма переходит к косвенному через введение своих критериев, например, критерия экономической эффективности «Agency», о котором говорит Хобсон. Западные общества делают из экономической эффективности высшую ценность, потом они с помощью этой ценности начинают измерять другие общества. Здесь как раз принцип «блондины — брюнеты».
Для одного экономика — это самое главное, остальное — второстепенное. Если мы будем сравнивать согласно критерию того, для кого это самое главное, действительно, тот человек, для кого это второстепенное, будет выглядеть аномалией (первертом), инвалидом, неадекватным человеком, недочеловеком.
Такой анализ евроцентризма показывает, что вся теория международных отношений строится на расистском основании. Самое интересное, что далее Хобсон показывает чисто биологические расистские модели, без всякого Гитлера. Мы говорим не о фашизме, мы говорим о Западе. Фашизм — это тоже одна из частей Запада, такая же, как и либерализм или марксизм. Это все разновидности расизма как сути модерна как такового.
Очень интересно показывает Хобсон, что в XIX веке эти три стадии у теоретиков либерализма, у теоретиков (в значительной степени) марксизма и у теоретиков прямого откровенного колониализма или западоцентризма имели строгие расовые аналогии. И именно этот стадиальный расизм, который сам по себе есть расизм и евроцентризм, еще в XIX веке (до начала XX века) был жестко окрашен расовыми маркерами. Какими?
Цивилизация, оказывается, равно белый человек. Таким образом, цивилизация имеет цвет. Цивилизация — это «белые», с точки зрения большинства специалистов международных отношений XIX, даже XVII века. Кант так считал. Все так считали: цивилизация — это белые. Варварство — это желтые, это некий пояс, который окружает белых. Боязнь желтой угрозы, боязнь подъема китайцев, японцев или Азии в целом — расистская рефлексия именно этого более глубокого евроцентричного стадиального подхода, более фундаментального западного расизма.
Желтое = варварство. Отсюда азиатские общества считались желтыми: исламские, турецкие, китайские, индусские, иранские, японские. Желтые — в смысле не совсем белые. Это варварство. Смотрите, какая здесь прямая логика: цивилизация — полуцивилизация (белые — не совсем белые).
И, наконец, дикость какого цвета? Черного. Все понятно: видишь черного, значит, это дикарь. И действительно, картина: мы говорим «негр». Банан, баскетбол, джунгли, Амазонка, дальше яки, лани — это наши ассоциации, потому что мы живем в абсолютно расистской культуре, где все насквозь организовано с помощью этих стадиальных иерархий.
Для западного человека кто такой немец, например, Второй мировой войны? Гунн (желтый), Аттила.
Кто такие русские? Откуда наполеоновское: «Grattez le Russe et vous verrez un Tartar» («Поскребите русского — найдете татарина»)? Кто такой татарин? Это символическая фигура, это какой-то желтый азиат, который угрожает белой цивилизации. Русские — варвары, они желтоватые. Может быть, внешне они белые, но по сути они желтые. Не черные, конечно.
Ну, и там, за пределами (за русскими, за китайцами) начинается Великое Черное море черных народов, им побрякушку дал — все остальное твое.
Таково отношение в стадиальной теории.
Итак, как только мы добавляем (что показывает Хобсон) к стадиальной теории, где речь идет о цивилизационном расизме, научном расизме, цвет кожи, то получаем тот образ мира, который до сих пор является доминирующим и главным в теории международных отношений.
Отождествим цивилизацию и белых, отождествим варварство и желтых, отождествим дикость и черных — и получим сознание современного Бжезинского, современного представителя прав человека, обычного западного среднего обывателя, который раздут до медийных фигур или является объектом имитации для жителей самих тех обществ, которые напрямую к белым причислить нельзя.
Интересно дальше, что понятие «цивилизация = белый» начинает осмысляться так даже теми народами, которые напрямую к белым не относятся. Например, японцы начинают называться «Западом», потому что они входят в цивилизацию, становятся эффективными технологически и начинают мыслить себя как белые. Интересно, что в ЮАР в системе апартеида евреи были признаны белыми, будучи семитами, а арабы — цветными, хотя и те и те — семиты. Евреи считают себя белыми, потому что они цивилизованные, а юаровцы считали арабов недостаточно цивилизованными, значит, отказывали им в праве быть белыми, хотя этнически это одно и то же.
Точно так же небелыми считались арийские персы или индусы. Точно так же чисто арийские таджики в нашем обществе стали синонимом каких-то там… ну, никак не белого человека. Мы говорим «таджик» (не мы говорим, а на улицах можно услышать) — это нарицательное понятие. Это значит какой-то нерусский, и особенно — небелый. А это индоевропейцы гораздо более чистого корня, чем мы, славяне, потому что у нас гораздо больше корней, чем у чистокровных таджиков. Таджики — это этнические арийцы, но в нашем сознании, подражающем западному, нам, тоже пытающимся примазаться к этой цивилизации (к белому человеку) с помощью айфонов, модернизации и других средств, проломившим себе уже давно (не очень уклюже) окно в Европу, хочется быть белыми людьми.
Белый человек и цивилизованный человек — это социологическая идентичность. Вот, что я хочу сказать и что показывает Хобсон. Это позиция. Отсюда смена кожи у Майкла Джексона. Зачем он стал вдруг себе менять цвет кожи? Ну, прыгал и прыгал, хорош и так был, ничего (и с тем цветом). Но он фанатично, ценой провала носа, ценой всех этих жутких историй, решил стать другим. Он хотел повысить свой социальный статус не только экономически, не только свой престиж (по нашим социологическим ролям). Он еще хотел добавить себе главную принадлежность цивилизации: он хотел стать человеком первого сорта. А первый человек в этой расистской цивилизации (даже сегодня) — это человек белый, то есть цивилизованный. Если он недостаточно белый, он вызывает подозрение, что он то ли варвар, то ли дикарь.
Эти парадигмы блестяще друг друга иллюстрируют в XIX веке. Но в XX веке они постепенно начинают расходиться. Собственно расовая цветная сторона уходит в подразумевание, а стадиальная (то, что существует три типа) остается (сохраняется). Поскольку они растут из одного корня, они основываются на одной общей системе стратификации типов обществ, предопределяющих международные отношения. Хобсон показывает, что евроцентризм является единственной матрицей, на основании которой создаются все теории международных отношений. Зона теории международных отношений есть, по сути дела, поле научного расизма самого разнообразного толка. И Хобсон, конечно, возмущен этим.
Еще интересно: он анализирует такое явление, когда стадиальная расистская модель аффектирует в понятие суверенитета — базовое понятие для реализма, базовый тезис для международных отношений вообще. Оказывается, хотя суверенитет признается за всеми странами (теоретически), некоторые страны рассматриваются по факту (на основании этой стадиальной теории) как носители того, что Хобсон называет «дефолтным суверенитетом», или «суверенитетом градуальным», «градиентным». То есть приблизительно они суверенные, но не совсем.
Когда мы говорим о суверенитете, речь идет о суверенитете
• цивилизованных государств,
• варварских
• или дикарских.
Сегодня все зоны планеты размечены на государства. Не все они равны абсолютно. На самом деле, любой аналитик международных отношений мгновенно (бессознательно, а то и сознательно) говорит:
«Вот, есть цивилизованное государство. Их суверенитет — это суверенитет. Есть варварские государства» (мы с китайцами сюда попадаем железно). Их суверенитет заканчивается возможностью его отстоять. Это очень опасные и страшные ребята, которые, если попытаться у них суверенитет немножко отнять, начнут кусаться. Это опасные и очень неприятные такие симулякры. Но, вообще-то говоря, признать их суверенитет было бы уж слишком. Это значит признать, что они наравне с цивилизованными людьми. Поэтому при желании надо все-таки попробовать их на прочность. Если они ослабнут, то либо Северный Кавказ, либо Поволжье, либо Цзиньцзянь с Внутренней Монголией, либо что-нибудь еще, что плохо лежит, попытаться у них вытащить. Тем более что варварам не надо позволять контролировать слишком большие территории. Для варваров достаточно небольших территорий. На этих маленьких территориях они будут лучше цивилизоваться.
А что касается суверенитета небольших африканских государств, то, конечно, они тоже суверенные, но, по сути дела, это шутка, эвфемизм (их суверенитет). Они голосуют там о признании Косово, как им велят из Вашингтона. Поправив головной убор вождя, они особо не думают, что такое Косово, кто там живет, откуда там появились албанцы или почему вообще здесь эта проблема. Конечно, они полноценные участники ООН, но суверенитет их дефолтный.
Этот же ранжир определяет участников «Большой двадцатки», особенно «Большой семерки». Это люди первого эшелона. Нас туда (в эту «Большую семерку») взяли только благодаря тому, что мы отказались от конкуренции с Западом, как бы авансом. И все время нам говорят, что мы еще недостаточно цивилизованны, что мы на подходе, на очереди в цивилизацию, но еще не входим туда до конца. Возникает такой ранжир, который определяет все: экономику, право, СМИ, вес в международной ситуации. А это означает, что сфера международных отношений есть не что иное, как поле расистских практик и двойных стандартов.
Запад: война против России
Война против России сегодня является самой обсуждаемой темой на Западе. В данный момент война — это только предположение и виртуальная возможность, она может стать реальностью в зависимости от решений, принимаемых всеми сторонами, участвующими в украинском конфликте, — Москвой, Вашингтоном, Киевом и Брюсселем.
Я не хочу здесь обсуждать историю и различные стороны этого конфликта. Вместо этого я предлагаю проанализировать его глубокие идеологические корни. Мое понимание наиболее важных событий основано на Четвертой Политической Теории, принципы которой я описал в своей книге под тем же названием, опубликованной на английском языке в издательстве «Арктос Медиа» в 2012 году.
Поэтому я не буду рассматривать войну Запада против России с точки зрения ее рисков, опасностей, проблем, затрат или последствий, а скорее рассмотрю ее идеологический смысл, как он видится из глобальной перспективы. Я буду размышлять о смысле такой войне, а не о самой войне (которая может быть реальной или виртуальной).
Суть либерализма
На современном Западе существует только одна господствующая, правящая идеология — либерализм. Он может иметь много оттенков, версий и форм, но его суть всегда одна. Либерализму присуща внутренняя, фундаментальная структура, воспроизводящая ряд аксиоматических принципов. Среди них:
• антропологический индивидуализм (индивидуум является мерой всех вещей);
• вера в прогресс (мир движется к лучшему будущем, и прошлое всегда хуже настоящего);
• технократия (техническое развитие и его реализация взяты в качестве наиболее важных критериев, по которым можно судить о характере общества);
• европоцентризм (евро-американские общества принимаются в качестве критерия стандарта для остального человечества);
• экономика как судьба (свободная рыночная экономика является единственной нормативной экономической системой — все остальные типы экономик должны быть либо реформированы, либо уничтожены);
• демократия как власть меньшинства (защищающего себя от большинства, которое всегда склонно перерождаться в духе тоталитаризма или «популизма»);
• средний класс признается единственным реально существующим социальным актором и универсальной нормой (независимо от того, достигает ли человек этого статуса реально или только находится на пути к становлению средним классом, представляя собой псевдо-, виртуальный средний класс);
• однополюсный глобализм (человеческие существа признаются одинаковыми в своей сущности, с одним лишь отличием, а именно — особенностями их индивидуального характера — мир должен быть объединен, интегрирован на основе индивидуума и космополитизма, иными словами, на основе мирового гражданства).
Таковы основные ценности либерализма, все они являются проявлением одной из трех тенденций, зародившейся в эпоху Просвещения наряду с коммунизмом и фашизмом, которые в совокупности предлагали различные толкования духа современности — духа Модерна. В течение двадцатого века либерализм победил своих соперников, а с 1991 года стал единственной доминирующей идеологией в мире.
Единственная свобода в царстве глобального либерализма заключается в выборе между правым и левым либерализмом или радикальным либерализмом, в том числе между крайне правым либерализмом и крайне левым либерализмом или экстремально радикальным либерализмом. Как следствие, либерализм был инсталлирован в качестве операционной системы западной цивилизации и всех других обществ, оказавшихся в зоне влияния Запада. Он стал общим знаменателем для любого политкорректного дискурса, а также отличительным знаком, определяющим, кто принимается в большую политику, а кто маргинализируется и отправляется за пределы политического поля. Сам здравый смысл стал либеральным.
В геополитическом плане либерализм был вписан в американоцентричную модель, этническую основу которой сформировали англосаксы, основанную на атлантизме евро-американского партнерства, НАТО, которая представляет собой стратегическую основу системы глобальной безопасности. Глобальная безопасность стала рассматриваться как синоним безопасности Запада, и, в конечном счете, как американская безопасность. Таким образом, либерализм является не только идеологической властью, но и политической, военной и стратегической мощью. НАТО либеральна в своих корнях. Она защищает либеральные общества и борется за то, чтобы распространить либерализм в новые сферы.
Либерализм как нигилизм
В либеральной идеологии существует один момент, который привел к ее фундаментальнейшему внутреннему кризису: либерализм глубоко нигилистичен по своей сути. Множество ценностей, защищаемых либерализмом, в своем основании связано с его главным тезисом: приматом свободы. Но свобода в либеральном понимании является существенно отрицательной категорией: либерализм требует «свободы от» (согласно Джону Стюарту Миллю), но не «свободы для» (чего-то). И это не нечто вторичное, это суть проблемы.
Либерализм борется против всех форм коллективной идентичности, против всех видов ценностей, проектов, стратегий, целей, методов, так или иначе являющихся коллективистскими или, по крайней мере, не-индивидуалистическими. Вот причина, почему один из самых главных теоретиков либерализма Карл Поппер (после Фридриха фон Хайека) в своей объемной книге «Открытое общество и его враги» утверждал, что либералы должны бороться против любой идеологии или политической философии (от Платона и Аристотеля до Маркса и Гегеля), которая настаивает на том, что человеческое общество должно иметь некоторые общие цели, общее ценности или общий смысл. (Следует отметить, что Джордж Сорос рассматривает «Открытое общество» в качестве своей личной Библии). Любая цель, любое значение, любой смысл в либеральном или в открытом обществе должны базироваться на индивидууме. Поэтому враги открытого общества, которое является синонимом западного общества после 1991 года и стало нормой для всего остального мира, очень конкретны. Его основными врагами являются коммунизм и фашизм как идеологии, которые вышли из той же философии Просвещения и в центре которых содержатся неиндивидуалистические понятия — «класс» в марксизме, «раса» в национал-социализме и «национальное государство» в фашизме. Таким образом, источник конфликта либерализма с существующими альтернативами современности — фашизмом или коммунизмом — совершенно очевиден. Либералы требуют освободить общество от фашизма и коммунизма или любых их неявных комбинаций, чреватых неиндивидуалистическим тоталитаризмом. Будучи рассмотренной как часть процесса ликвидации нелиберальных обществ, борьба либерализма становится особенно значимой: она приобретает смысл из самого факта существования идеологий, отрицающих индивидуума как высшую ценность общества. Понятно, что в этой борьбе противопоставлены освобождение и его противоположность. Но из этого видно, что свобода в том виде, как она осмысляется либералами, является в своем существе отрицательной категорией. У открытого общества есть враги, и самого этого факта достаточно, чтобы оправдать процесс дальнейшего освобождения.
Однополярный период: угроза имплозии
В 1991 году, после падения Советского Союза в качестве последнего оппонента западного либерализма, некоторые представители Запада, такие как, например, Фрэнсис Фукуяма, провозгласили конец истории. Это было вполне логично: поскольку более не было явного врага открытого общества, поэтому и не было больше истории в том виде, как она трактовалась в Модерне, то есть как борьбы между тремя политическими идеологиями (либерализмом, коммунизмом и фашизмом) за наследие Просвещения. Со стратегической точки зрения это было время, когда реализовался т. н. «однополярный момент» (Чарльз Краутхаммер). Период между 1991 и 2014 годами, в середине которого произошло нападение бен Ладена на Всемирный торговый центр, был эпохой глобальной доминации либерализма. Аксиомы либерализма были приняты всеми основными геополитическими игроками, включая Китай (в экономическом плане) и Россию (в ее идеологии, экономике и политической системе). Существовали либералы и горе-либералы, еще не либералы, недостаточно либеральные либералы и так далее. Реальных и явных исключений было мало (например, Иран и Северная Корея). Таким образом, мир стал аксиоматически либеральным.
Это был самый важный момент в истории либерализма. Либерализм победил своих врагов, но в то же время он их лишился. По существу своему он есть «освобождение от» и борьба против всего того, что не является либеральным (в настоящий момент или потенциально). Либерализм приобрел реальный смысл и содержание во взаимоотношениях со своими врагами. Когда существует выбор между существованием в несвободе (в лице конкретных тоталитарных обществ) и в свободе, многие выбирают свободу, не задумываясь о том, для чего и во имя чего дается эта свобода. Когда есть нелиберальное общество, либерализм положителен. Он начинает показывать свою негативную сущность только после собственной победы.
После победы в 1991 году либерализм вошел в имплозивную фазу (фазу внутреннего взрыва и саморазрушения). После победы над коммунизмом и фашизмом он остался в одиночестве, без врага, сражаясь с которым, он поддерживал себя на плаву. Именно к этому моменту в либерализме созревают внутренние конфликты. Это происходит в особенности тогда, когда либеральные общества пытаются очиститься от последних остатков нелиберальных элементов: сексизма, политической некорректности, неравенства между полами, неиндивидуалистических институтов — таких как государство и церковь, и так далее. Либерализм всегда нуждается во враге, чтобы было от чего освобождаться. В противном случае либерализм теряет свою цель, и его неявный нигилизм становится слишком заметным. Абсолютным триумфом либерализма является его смерть.
В этом и состоит идеологический смысл финансовых кризисов 2000 и 2008 годов. Именно успехи, а не неудачи новой, полностью основанной на прибыли экономики («турбокапитализм», согласно Эдварду Люттваку) ответственны за ее коллапс.
Свобода делать все что угодно, в пределах ограничений индивидуальной шкалы, провоцирует имплозию личности. Человеческое переходит в царство инфрачеловеческого, в сферы субиндивидуального. И здесь он встречается, как в грезе о субиндивидуальности, с абсолютной свободой от чего-либо. Это эвапоризация человека, испарение человеческого как такового и приводит к Империи небытия как последнего слова тотальной победы либерализма. Постмодернизм готовит почву для этого пост-исторического, самореференциального рециклирования бессмыслицы.
Запад нуждается во враге
Вы можете спросить: а какое отношение все это имеет к (предполагаемой) грядущей войне с Россией? Я готов ответить на этот вопрос.
Либерализм продолжает набирать обороты в мировом масштабе. С 1991 года он стал неизбежным фактом. Но сейчас он находится на грани взрыва Можно сказать, что он дошел до своей конечной точки и начал самоликвидацию. Массовая иммиграция, столкновение культур и цивилизаций, финансовый кризис, терроризм и рост этнического национализма являются индикаторами приближающегося хаоса. Этот хаос угрожает установленному порядку, причем любой его разновидности, включая либеральную. Чем более либерализм преуспевает, тем быстрее он приближается к своему концу и к концу современного мира. Здесь мы имеем дело с нигилистической сущностью либеральной философии, с ничто как внутренним (ме)онтологическим (от греческого слова «meon» — «хаос, преисполненный потенциальностью») принципом «свободы от». Немецкий антрополог Арнольд Гелен справедливо определил человека как «лишенного бытия» или как «недостаток», Mangelwesen. Человек в своем существе есть ничто. Все, что составляет его идентичность, он берет от общества — язык, историю, людей, политику. Так что, если он возвращается к свой т. н. «чистой сущности», он ее просто не обнаруживает. За фрагментированной свалкой чувств, неясных мыслей и тусклых желаний скрывается бездна. Виртуальность субчеловеческих эмоций представляет собой тонкую вуаль; за ней пребывает чистая тьма. Таким образом, эксплицитное вскрытие нигилистической подосновы человеческой природы является последним достижением либерализма. Но это является и его концом, вместе со всеми теми, кто использует либерализм в своих целях и кто является бенефициариями либеральной экспансии. Иными словами, это конец для мэтров, распорядителей глобализации. Любой порядок рушится в такой чрезвычайной ситуации нигилизма: и либеральный порядок тоже.
Чтобы спасти свое правление, этой либеральной элите нужно согласиться сделать шаг назад. Но либерализм сможет переформировать свое содержание только тогда, когда он еще раз столкнется с нелиберальным обществом. Этот шаг назад есть единственный способ спасти то, что осталось от порядка, и спасти либерализм от самого себя. Поэтому на горизонте возникает путинская Россия. Современная Россия не является антилиберальной: она не тоталитарная, не националистическая, не коммунистическая, не слишком либеральная, не полностью либерально-демократическая, в достаточной степени космополитическая и не радикально антикоммунистическая. Скорее всего, она находится на пути к становлению либеральной Россией — шаг за шагом, в рамках грамшистского процесса приспособления к глобальной гегемонии и последующей трансформации («transformismo», на языке Грамши), которую этот процесс влечет за собой.
Однако в глобальной повестке дня либерализма, представленного США и НАТО, существует необходимость в другом действующем лице, в другой России, которая оправдывала бы порядок либерального лагеря, и помогала бы мобилизовать Запад, коль скоро он испытывает угрозу развала от внутренней борьбы. Это приведет к задержке взрыва внутреннего нигилизма либерализма и тем самым позволит спасти его от неизбежного конца. Именно поэтому Запад остро нуждается в Путине, России и войне. Это единственный способ предотвратить хаос на Западе и спасти то, что осталось от его мирового и локального порядков. В этой идеологической игре Россия, вновь став врагом, оправдала бы существование либерализма, который придал бы себе смысл как агенту борьбы открытого общества против того, что им не является, и помогла бы закрепить и утвердить позиции либерализма во всем мире. Радикальный ислам, например, в лице «Аль-Каиды», был альтернативным кандидатом на эту роль, но у нее не хватило статуса стать настоящим врагом либерализма. Эта организация была использована в локальном масштабе, послужив оправданием вмешательству в Афганистане, свержению Каддафи, оккупации Ирака и началу гражданской войны в Сирии, но она была слишком слабой и идеологически примитивной, чтобы представлять реальную проблему, необходимую либералам.
Россия — традиционный геополитический противник англосаксов — гораздо серьезнее в качестве оппонента. Она вписывается в необходимую роль предельно хорошо: память о холодной войне по-прежнему свежа в умах многих людей. Ненависть к России легко спровоцировать относительно простыми средствами. Вот почему я думаю, что война с Россией возможна. Это идеологически необходимо как последние средство отложить окончательное имплозию либерального Запада. Необходим «один шаг назад».
Спасти либеральный порядок
Рассматривая различные перспективы концепции возможной войны с Россией, я предлагаю несколько соображений:
1. Война с Россией поможет задержать надвигающийся хаос в глобальном масштабе. Большинство стран, вовлеченных в либеральную экономику и разделяющих аксиомы и институции либеральной демократии, и те страны, которые либо зависят, либо напрямую контролируются США и НАТО, будут вновь развивать общий фронт под флагом либерального Запада в его противостоянии антилиберальному Путину. Это послужит тому, чтобы укрепить либерализм как позитивную идентичность в тот самый момент, когда эта идентичность начинает растворяться в результате рассвета своей нигилистической сущности.
2. Война с Россией способствовала бы укреплению НАТО, и прежде всего ее европейских членов, которые будут вынуждены вновь рассматривать американскую гипердержаву как нечто положительное и полезное, при том что установки старой холодной войны больше не будут рассматриваться как устаревшие. Из боязни пришествия «злых русских» европейцы вновь почувствуют себя лояльными к США в качестве их защитника и спасителя. В результате ведущая роль США в НАТО будет вновь подтверждена.
3. Сегодня ЕС разваливается. Предполагаемая «общая угроза» со стороны русских может предотвратить союз от возможного раскола, обеспечивая мобилизацию этих обществ и готовность их народов вновь защищать свои свободы и ценности под угрозой «имперских амбиций» России — теперь уже Путина.
4. Украинская хунта в Киеве также нуждается в войне — чтобы оправдать и скрыть все злодеяния, юридического, конституционного и уголовного характера, совершенные во время Майдана, а также чтобы приостановить демократию, чему препятствуют юго-восточные, в основном пророссийские районы, и установить националистическую диктатуру внепарламентскими средствами.
Единственная страна, которая сегодня не хочет войны, это Россия. Но Путин не может позволить радикально антирусскому правительству в Украине хозяйничать в стране, которая имеет наполовину русское население и более половины которой составляют пророссийски настроенные регионы. Если он позволит это, с ним вскоре будет покончено на международном и национальном уровнях. Так, скрепя сердце, он принимает возможную войну. И, как только он начнет этот курс, у него не останется никакого другого решения для России, кроме того, чтобы выиграть эту войну.
Я не люблю рассуждать о стратегических аспектах возможной грядущей войны. Я оставлю это для других, более квалифицированных аналитиков. Вместо этого я хотел бы сформулировать некоторые идеи, касающиеся идеологического измерения этой войны.
Фрейминг Путина
Смысл войны против России, по своей сути, — это последняя попытка глобального либерализма спасти себя от внутреннего взрыва. Таким образом, либералы нуждаются в том, чтобы идеологически идентифицировать путинскую Россию с врагом открытого общества. Но в словаре современных идеологий есть только три основные итерации: либерализм, коммунизм и фашизм. Вполне понятно, что либерализм представлен всеми странами, вовлеченными в этот конфликт, кроме России (это и США, и страны-члены НАТО, а также Euromaidan/хунта в Киеве). Остаются только коммунизм и фашизм. Поэтому из Путина собираются сделать адепта «неосоветского реваншизма» и «возвращения КГБ». Это картинка в настоящее время продается самой ограниченной части западной общественности. Некоторые моменты патриотической реакции, исходящей от пророссийской и антибандеровски настроенной части населения (в частности, защита памятников Ленину и памятников советскому солдату Второй мировой войны, сталинские портреты и т. д.) могут подтвердить эту идею в сознании западной публики. Нацизм и фашизм слишком далеко отстоят от Путина и реальности современной России, но русский национализм и русский империализм будут вызваны к жизни в образе Великого Зла специальными разработками на Западе.
Запад из Путина делает «радикального националиста», «фашиста» и «империалиста». Это будет работать на многих западных людей. В рамках этой логики Путин может быть одновременно даже и «коммунистом» и «фашистом», так что его можно будет изображать как «национал-большевика» (хотя это слишком сложно для постмодернистской западной публики). Очевидно, что в действительности Путин не является ни коммунистом, ни фашистом, ни тем и другим одновременно. Он является политическим прагматиком в области международных отношений — вот откуда его восхищение Киссинджером, и вот почему Киссинджер симпатизирует ему в ответ. Путин не имеет никакой идеологии вообще. Но он будет вынужден принять идеологический фрейминг, который ему уготован. Это не его выбор. Таковы правила игры. В ходе этой войны против России роль Путина будет оформлена именно таким образом. И это будет наиболее интересным и важным аспектом этой ситуации.
Основная идея, которую будут стараться продвинуть либералы, это определить Путина идеологически как тень прошлого, как вампира в стиле «Иногда они возвращаются». Это и есть смысл попытки предотвратить окончательную имплозию либерализма. Основное послание либерализма состоит в том, что он все еще жив и полон жизни, потому что в мире есть нечто, «от чего мы все должны быть свободны». Россия станет объектом, от которого все должны будут быть освобождены Цель состоит в том, чтобы вначале освободить Украину, затем по расходящемуся кругу Европу и остальное человечество, которое будет также изображаться как находящееся под российской угрозой. И в конце концов самой России будет сказано, что она нуждается в спасении от своей собственной нелиберальной идентичности. Так что теперь у Запада есть враг. Такой враг в очередной раз придает либерализму смысл. Россия в настоящее время будет представлена как страна, вырывающаяся из прелиберального прошлого в либеральное настоящее. Без такого вызова у либерализма нет более жизненных сил, нет более порядка в мире, и все, что связано с ним, будет растворяться и взрываться. С новым вызовом падающий гигант глобализма приобретает новый импульс. Таким образом, Россия нужна, чтобы спасти либералов.
Но для того, чтобы это произошло, Россия должна быть идеологически фреймирована, оформлена как нечто прелиберальное. Она должна быть либо коммунистической, либо фашистской или, по крайней мере, национал-большевистской Россией. Это идеологическое правило. Таким образом, в борьбе с Россией или в своих планах бороться или не бороться с ней у Запада есть и более глубокая задача — сформулировать России идеологические рамки, идеологические границы, фрейминг. Это будет сделано с обеих сторон границы России — и изнутри, и снаружи. Запад будет пытаться заставить Россию принять либо коммунизм, либо крайний национализм, а если это навязать не удастся, он будет относиться к России так, как если бы она приняла коммунизм или фашизм. Это и есть то, что называется обрамлением, рамкой, фреймингом, границами игры.
Постлиберальная Россия: Первая война Четвертой Политической Теории
В заключение, мои предложения состоят в следующем. Мы должны сознательно противостоять любым провокациям в смысле определения, «фрейминга» России как прелиберальной силы. Нам нужно отказаться от того, чтобы позволить либералам спасти самих себя от быстро приближающегося конца. Вместо того чтобы помогать им отложить конец, нам необходимо ускорить его. Для того чтобы осуществить это, мы должны представить Россию не как прелиберальную сущность, но как постлиберальную революционную силу, которая борется за альтернативное будущее для всех народов планеты. Русская война (возможная) будет не только войной в российских национальных интересах, она станет вкладом в дело справедливого многополярного мира, за истинное достоинство и реальную позитивную свободу: не (нигилистическую) «свободу от», но (творческую) «свободу для». В этой войне Россия станет примером защиты Традиции, консервативных органических ценностей, и будет представлять реальное освобождение от открытого общества и его бенефициариев — мировой финансовой олигархии. Эта война не против украинцев или даже не против части украинского населения. И она не против Европы. Она против либерального мирового беспорядка. Мы не собираемся спасать либерализм, действуя в русле его проектов. Мы собираемся убить либерализм раз и навсегда. Современность была всегда, по существу, не права, но сейчас мы находимся в конечной точке современности. Для тех, кто связал современность со своей судьбой, пусть это произошло бессознательно, это будет означать конец. Но для тех, кто остался на стороне вечной истины и Традиции, веры, и духовной и бессмертной человеческой сущности, это будет новое начало, Абсолютное Начало.
Наиболее важной в настоящее время является битва за Четвертую Политическую Теорию. Это наше оружие, а вместе с ним мы собираемся препятствовать либералам реализовать свое желание кадрирования Путина и России по-своему, и в этом мы еще раз хотим подтвердить Россию в качестве первой постлиберальной идеологической силы, сражающейся против нигилистического либерализма во имя открытого, многополярного и по-настоящему свободного будущего.
Евразийский проект и его украинская проблема
Свою первую программную статью, опубликованную еще в октябре 2011 года, Владимир Путин посвятил Евразийскому союзу. Обществом этот посыл был воспринят очень серьезно — как краткое и емкое изложение вполне конкретного стратегического курса, который, вероятно, должен стать осью правления Путина в нынешний президентский срок.
Путин говорит в основном об экономике, но тем не менее не ограничивается перечислением экономических интеграционных инициатив (Таможенный союз, ЕврАзЭС, ЕЭП) и в конце текста произносит заветное словосочетание — «Евразийский союз», недвусмысленно намекая на аналог Европейского союза. И это не может быть случайностью: Путин намечает над процессами экономической интеграции более высокую — геополитическую, политическую — цель. Создание на пространстве северной Евразии нового наднационального образования, построенного на общности цивилизационной принадлежности. Как Евросоюз, объединяющий страны и общества, относящиеся к европейской цивилизации, начинался с объединения угля и стали, чтобы потом постепенно вылиться в новое надгосударственное образование со своим, пока пусть номинальным, но президентом, парламентом, со своей валютой и общей социально-экономической стратегией, так и Евразийский союз обозначен Путиным в качестве долгосрочного ориентира, цели, горизонта исторического пути. И это уже серьезно.
Три уровня евразийской интеграции
Евразийский союз как конкретное воплощение евразийского проекта содержит в себе одновременно три уровня: планетарный, региональный и внутриполитический.
В планетарном масштабе речь идет об установлении вместо однополярного или «бесполярного» (глобального) мира многополярной модели, где полюсом может быть только мощное интегрированное региональное образование (превышающее по своему масштабу, своему совокупному экономическому, военно-стратегическому и энергетическому потенциалу то, чем обладают по отдельности даже самые крупные державы).
В региональном масштабе речь идет о создании интеграционного образования, способного представлять собой полюс многополярного мира. На Западе таким интеграционным проектом может выступать Евросоюз. Для России это означает интеграцию постсоветского пространства в единый стратегический блок.
На внутриполитическом уровне евразийство тождественно утверждению стратегического централизма, не допускающего даже намека на наличие внутри страны прообразов национальной государственности в лице субъектов Федерации. Но вместе с тем это означает укрепление культурной, языковой и социальной идентичности тех этносов, которые традиционно входят в состав России.
В своих оценках международной ситуации Путин неоднократно заявлял о многополярности. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в последние годы регулярно упоминает «полицентричное мироустройство» как наиболее желательную модель организации структуры международных отношений.
О необходимости различать нацию (политическое образование) и этносы во внутренней политике Путин заговорил с весны-лета 2011 года, а это значит, что и здесь евразийская модель была принята.
Таким образом, упоминание о Евразийском союзе является не чем-то изолированным, но входит в контекст той системной модели, которую Путин последовательно выстраивает в свое новое президентство. Все три евразийских вектора налицо.
Итак, нам надо готовиться к тому, что именно евразийство, а не либеральная демократия станет преобладающей политической философией в России в ближайшем будущем.
Сверка с реальностью. Евразийский союз будет создан в своем ядре, если в него войдут Россия, Казахстан, Белоруссия и Украина. Это необходимый и достаточный минимум интеграции. Это нисколько не умаляет значения и других государств, но данные четыре страны создают критическую массу, которая позволит уверенно говорить о создании Евразийского союза. Эти страны делают союз реальностью — необратимо и решительно.
В отношении Казахстана и Белоруссии принципиальных проблем нет. Отдельные детали могут тормозить интеграцию, но президенты этих стран последовательно и неуклонно проводят линию на объединение с Россией в единое наднациональное образование. В этом состоит политическая воля как Назарбаева, так и Лукашенко. Отдельные трудности не должны затмевать главного: наши страны в целом готовы к интеграции, а их политическое руководство в целом разделяет именно евразийские позиции. Путин с его инициативой в этом вопросе далеко не первый. Но именно от Москвы и ее политической воли зависит судьба Евразийского союза. Без решимости, последовательности и эффективности России никакой интеграции не может быть и в помине.
Но вот где начинаются реальные проблемы, так это на Украине. Это самое слабое место интеграции и самый большой вопрос для перспектив создания Евразийского союза.
Но для того чтобы Евразийский союз стал по-настоящему могущественным мировым полюсом многополярной полицентричной архитектуры, Украина обязательно должна быть внутри него. Это прекрасно понимают геополитики, в том числе и американские, однозначно выступающие против усиления роли России и Евразии в целом в мире. Так, Збигнев Бжезинский предупреждает в своих статьях и книгах о необходимости любыми способами поссорить Украину с Россией, чтобы лишить этот потенциальный блок даже теоретической возможности стать в будущем серьезной самостоятельной силой, способной ограничить интересы США в этой зоне мира и проводить свою, независимую от американцев политику. Если Украина войдет в состав евразийского блока, от этого выигрывает Евразия. Если ее удастся оторвать и поставить под контроль атлантизма, Запад приобретает важнейший козырь и получает в свои руки мощный рычаг сдерживания потенциального геополитического возрождения России.
Поэтому Москва не может просто так вычеркнуть Украину из интеграционного проекта.
Украинская проблема: цивилизационное измерение
В свете создания Евразийского союза Украина представляет собой реальную проблему. Эту проблему нельзя свести только к капризности, беспринципности и продажности украинских политических элит, предпочитающих торговаться с Западом и Россией за объемы влияния, наживая на этом собственный капитал. Также неверно все сводить к наличию украинского национализма или работе американских сетей влияний. Эти факторы наличествуют, но не являются решающими. Все намного сложнее.
Дело в том, что региональная интеграция предполагает наличие общей цивилизационной основы. Именно на этом принципе объединялись страны Евросоюза, и он же ложится в основу евразийской интеграции. Объединятся общества со сходным цивилизационным кодом. В этом смысле Украина представляет собой общество с двумя идентичностями.
Мы видим в ней православную восточнославянскую страну с теми же самыми историческими корнями, что и у великороссов и белорусов. Социокультурное поле юго-востока Украины тяготеет к России, выступает за интеграцию, осознает близость, если не тождественность, с великороссами и белорусами. В этом ключе работают и факторы общего исторического прошлого, и православия как преобладающей религии, и русского языка, и культурно-психологической близости обществ. В Восточной Украине и Крыму эта идентичность является преобладающей. Но есть и вторая украинская идентичность. Западенское ядро осознает себя частью Европы, и у этого осознания тоже есть глубокие исторические корни, уходящие в эпоху Древней Руси. Еще со времен княжеских междоусобиц на землях Волынской и Галицкой Руси постепенно утверждалось воспроизводство феодально-аристократической модели под влиянием восточноевропейских соседей (Польши, Венгрии и т. д.), в то время как Владимирская Русь тяготела к модели самодержавной. В ордынский период это цивилизационное разделение усиливается, и постепенно западные регионы бывшей единой Киевской Руси приобретают вполне самобытные цивилизационные черты — при сильном влиянии литовского начала, польской шляхты, католичества и униатства.
Западноукраинский фактор претендует на то, чтобы формировать на своей основе вокруг себя как ядра особую «украинскую нацию», утверждающую свои отличия в первую очередь перед лицом России и ее социальной идентичности.
Как бы мы ни относились к этому, необходимо принять эмпирический факт: в составе современной Украины есть существенный «западенский» компонент, который устойчиво и упорно относит Украину к европейской цивилизации и рассматривает любое сближение с Востоком как «новое закабаление Украины под пятой москалей». Это устойчивая тенденция, а не результат поверхностной пропаганды. В этом случае мы имеем дело с отказом от признания общей цивилизационной идентичности с Россией, а следовательно, очень серьезное возражение против любых интеграционных инициатив…
Евразийскую интеграцию можно либо делать, либо не делать. Все промежуточные, ускользающие и содержащие в себе внутреннее противоречие сценарии, по сути, парализующие активность в любых направлениях, себя исчерпали. Для Путина как действующего президента нужна внятная и последовательная стратегия — нацеленная в будущее, понятная большинству населения, реализуемая последовательно, решительно, результативно. Евразийская интеграция — достойная цель и серьезный исторический вызов.
Путин вернулся в Кремль как евразиец. И если его первое появление во главе государства зависело от того, сможет ли он остановить распад России и предотвратить повторение судьбы СССР, то для второго появления пробным камнем логически станет успех интеграции постсоветского пространства. Если он с этим справится, войдет в историю России как великий правитель.
Народ помнит только великие дела. И только мощь и сила обеспечивают правителю славу, свободу, безопасность и уважение всех, даже врагов.
Геополитика Путина
С точки зрения геополитической (только геополитической), с точки зрения мэппинга геополитики, в 90-е годы произошли события, которые в рамках геополитики русской истории можно осмыслить исключительно как катастрофу, провал, не компенсируемые ничем. В духе обычных классических периодов смуты. Мы наблюдаем в период начиная с 91-го года, даже с конца 80-х годов, деградацию геополитической системы России. Это не впервые. В Смутное время были подобные феномены, в эпоху междоусобной борьбы князей, которая закончилась беспомощностью перед лицом монгольских завоеваний, в период революции 17-го года (особенно Февральскую революцию) и прихода к власти большевиков — и эти периоды, и события конца 80-х — начала 90-х годов сопровождались следующими явлениями, которые мы рассматриваем абсолютно объективно с точки зрения геополитики.
Первое явление — это сокращение территориального пространства государства. Во все подобного рода деструктивные катастрофические периоды сокращается территориальное пространство государства. С геополитической точки зрения это однозначно представляет собой провал, проигрыш и поражение той структуры, которая обеспечивает территориальное единство России: царской власти, советской власти, государства, демократии — совершенно неважно (с точки зрения геополитики).
Геополитика рассматривает границы государства как показатель его мощи и силы. И как мы видели, на протяжении всей русской истории с первого до последнего этапов — с определенными колебаниями наше территориальное пространство росло, только росло.
Очень интересный график дает Снесарев (русский военный стратег) относительно таблицы приращения территории Российского государства на всех этапах истории, начиная с Ивана Третьего (с Московского периода). До этого были более значительные колебания. Но что любопытно? Что, начиная с Ивана Третьего, каждый государь приращивал территории России. И каждый последующий только добавлял. Даже в эпоху таких довольно провальных правлений, как, например, Анны Иоанновны, когда ничего особенного патриотического сделано не было, все равно было небольшое, но приращение.
Поэтому здесь очень интересный момент: эпоха Горбачева и Ельцина представляет собой реверсию этого геополитического тренда. Горбачев и Ельцин — два политических деятеля последнего периода русской истории, единственные практически на всем протяжении русской истории, начиная с Ивана Третьего, которые нанесли необратимый территориальный вред нашей стране, в результате чьего правления мы потеряли огромное количество земель, которые раньше контролировали.
Контролировали мы эти земли под разными идеологиями, разными способами, иногда удачными, иногда неудачными, иногда жесткими, иногда мирными, иногда с помощью дипломатических альянсов, иногда с помощью прямых завоеваний, иногда с помощью освоения земель, которые присоединялись казаками к России без особого сопротивления, а иногда с помощью кровопролитных войн. Но при всех государях России, кроме Горбачева и Ельцина, — включая кровавого Сталина, включая застойного Брежнева, включая Черненко, — при всех умных и глупых, приятных и неприятных, героических и посредственных, даже иногда при слабоумных царях — территория России приращивалась.
Единственное обращение этого тренда, фундаментально устойчивое, пришлось на наше с вами время, когда Россией правили два совершенно чудовищных представителя с точки зрения геополитики. Я сейчас не беру другие аспекты. Мы берем по модулю, рассматриваем с точки зрения геополитического мэппинга. Мы просто сравниваем карту СССР Варшавского договора и тех стран, которые обладали просоветской ориентацией в «третьем мире», в том числе в Африке, в Латинской Америке, в Азии, с тем, что мы имеем после 91-го года и после правления Горбачева в 89-м году, когда, по сути дела, была выпущена из-под контроля вся Восточная Европа. И мы получаем абсолютный, ничем не компенсируемый «минус». О двух этих персонажах можно говорить только с проклятиями, потому что на самом деле в русской истории ничего подобного ни один правитель не учинял. Самый чудовищный правитель был лучше, чем эта пара.
Второй вопрос. Очень важно, что этот упадок России проходил не в условиях несколькополярного мира (олигополярного мира), а в условиях биполярного мира и в условиях, когда геополитическое противостояние «суши» и «моря» приобрело глобальный характер (планетарный характер). Это мы видели, начиная с начала Great Game (Великой игры).
Что это означает?
Это означает, что наши территориальные геополитические уступки и потери были немедленно оприходованы не неким комплексом региональных игроков, а только одной-единственной силой: всюду, откуда мы уходили, приходили атлантисты и талассократы. В данном случае теллурократия советского государства, российского государства, российской системы приобрела планетарный характер. Противостояние двух систем, как я говорил, социалистической и капиталистической с геополитической точки зрения, если отставить любую идеологию, представляло собой противостояние «моря» (талассократии) и «суши» — теллурократии, которая стала глобальной, планетарной. Потому что и в Африке, и в Латинской Америке, и в Азии существовали просоветские режимы, которые представляли собой с геополитической точки зрения проекции Land Power, или «цивилизации Суши».
Так вот, после того как геополитический дуализм зафиксировался в глобальном планетарном масштабе, проигрыш одного из этих полюсов (в частности, теллурократии) однозначно и без всяких компенсирующих элементов усилил другой полюс.
То есть все свободные пространства, откуда уходил Советский Союз по мере своего развала, немедленно или с некоторой отсрочкой занимались нашими геополитическими оппонентами и конкурентами. Из Восточной Европы выводятся советские войска — эти страны включаются в блок НАТО, то есть не просто остаются независимыми от нас: перестают быть зависимыми от нас и становятся зависимыми от них.
Здесь очень принципиальным является вопрос, что идея общеевропейского дома, идея освобождения Европы от блоков (неблоковый статус Европы) — все это было на словах и все было не реализовано на практике. На практике действовала жесткая геополитика: ушли представители теллурократии, пришли представители талассократии. НАТО не исчезла вместе с Варшавским договором, а просто усилилась за счет стран Варшавского договора. То есть обнаружилось, что за разговорами о демократии, свободе и свободе выбора просто существовало и продолжает существовать (уже на геополитическом уровне) противостояние двух систем — только не идеологических. Потому что Российская Федерация после 91-го года — такая же либеральная демократия, как и США, и Европа. Формально с разделением властей. У нас парламент, у нас свобода, демократия, капиталистический рынок, олигархия, порнография, гомосексуалисты — есть все то, что есть на Западе, со всех точек зрения.
И тем не менее противостояние продолжается, потому что идеологического противостояния больше нет. Раньше был социализм против капитализма. Сегодня капитализм и капитализм: у нас капитализм — и у них капитализм, у нас демократия — у них демократия. А противостояние продолжается, но оно уже носит откровенно геополитический характер. И вот эта дуальная система, которая была скрыта под идеологическим противостоянием, проступила и дала о себе знать в полной мере. Пиком этого процесса стало включение в НАТО трех бывших советских республик: Латвии, Эстонии и Литвы, которые были частью Советского Союза, — значит, уже потеснили последний пояс теллурократии. Встал вопрос о вхождении в НАТО Украины и Грузии — других союзных республик. И, как мы говорили, в 90-е годы начинается распад Российской Федерации, с тем чтобы постепенно и ее отделившиеся части рано или поздно интегрировать в талассократию. Это называется в американской геополитике однополярным моментом (по Чарльзу Краутхаммеру).
Что значит «однополярный момент» с точки зрения геополитики?
Это значит: талассократия (Seapower) одерживает абсолютную победу над теллурократией, и двухполюсный мир превращается в мир однополюсный. С геополитической точки зрения однополюсный мир — это победа «цивилизации Моря» над «цивилизацией Суши» в абсолютном смысле.
Почему это называется «момент»?
Потому что некоторые авторы считали, что теперь однополярная система (однополярная глобализация) станет нормой навсегда, а другие считали, что это временное явление и за однополярным моментом может появиться некая другая система баланса сил в мире — в частности, например, БРИКС: идея создания некоторого равновесного мира, где новые державы выйдут на первый план. Во всяком случае, однополярный момент, который возник с 91-го года (с конца 80-х) — это факт. А вот будет ли он устойчивым или нет — это вопрос открытый.
В 90-е годы большинство экспертов в глобальных геополитических вопросах полагали, что этот однополярный момент является началом однополярной эры. Как американские неоконсерваторы, которые в тот период пришли к власти вместе с администрацией Буша, в частности, но и до нее, провозгласили идею «нового американского века». Сказали, что в XX веке Америка вышла на первые рубежи (это правда), а в XXI веке «неоконсы» сказали: «Это вообще будет веком одной Америки. Ничего другого, кроме Америки, существовать не будет». То есть однополярный момент превратится в однополярную эру.
Однополярный момент — это факт. Однополярная эра — это возможность, то есть возможность продления. «Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!», — говорили американские консерваторы. В России правят агенты влияния, марионетки — западная пятая колонна, которая готова поддерживать своих же собственных сепаратистов против своей собственной армии. А это было в 90-е годы, когда первые каналы, принадлежащие Гусинскому, Березовскому, просто поддерживали чеченских сепаратистов, всех остальных сепаратистов против федеральных войск. Когда, например, были репортажи, в которых наши солдаты (это по российскому телевидению) показывались уродами, варварами, а чеченцы (которые выступали против территориальной целостности России) показывались героями, борющимися за свободу, независимость и честь, джигитами и жертвами. По нашему телевидению, не по чеченскому. Чеченского тогда не было.
Был период полного торжества талассократии, когда Андрей Козырев, министр иностранных дел, познакомившись с рассматриваемой здесь геополитической моделью — в газете «День» была опубликована моя первая работа по геополитике, — сказал: «Хорошо, если вы предлагаете такую классификацию, я — атлантист». Говорит министр иностранных дел сухопутной державы — «атлантист». Приблизительно так, как если бы представитель сталинского руководства сказал: «Если вы называете это фашизмом, то я — фашист» (во время войны с Гитлером).
Приблизительно ясно, в каком положении мы были.
Мы находились в оккупации:
• геополитической,
• идеологической
• или ситуации внешнего управления.
Наши конкуренты (носители талассократии) уже праздновали победу, потому что на повестке дня, как писал Бжезинский (теоретик атлантизма, «цивилизации Моря»), стояло расчленение России (об этом он писал в «Великой шахматной доске»), и, соответственно, с геополитической точки зрения все шло к тому, что однополярный момент закрепится навсегда.
Географические потери превратили гигантскую мировую империю в небольшую часть этой империи в лице Российской Федерации. На этом месте возникло пятнадцать независимых государств, которых никогда не существовало (большинства из них) и которые были созданы (предпосылки были отстроены) в советский период, а до этого в имперский период.
Параллельно с этим происходило нарушение двух моментов, социологически сопровождавших все этапы русской истории. Мы говорили о мэппинге, о том, что в геополитической карте, помимо географической карты, есть еще социологическая карта, цивилизационная. И мы на всех этапах замечали под разными идеологиями, в разном формате следующие закономерности: теллурократическая система в геополитической русской истории была связана с двумя факторами на социологическом уровне.
Первый фактор — это мощное самодержавие, то есть авторитаризм, полномочность правителей (единого правителя) и народность и традиционность низших слоев. Вместе они составляли феномен общества жестко вертикального в византийской модели. Был период, когда эта идеология доминировала (в эпоху Московского царства), когда она выступала в археомодернистическом ключе при Романовской империи (особенно послепетровской империи) под западническим облачением. И даже в советское время, когда речь шла о равенстве, коммунизме и социализме (равенстве всех), та же самая модель жесткого правления, вертикали власти (в лице, например, Сталина), с мощным традиционным народом, тоже существовала. Таким образом, это — константа русской истории, являющаяся залогом или социологическим аналогом геополитического пространственного расширения. Вот такая система в социологии доминирует. Она соответствует нашим территориальным успехам, завоеваниям и экспансии.
Какова альтернатива?
Когда альянс царя и масс нарушается усилением промежуточного слоя — элиты или олигархии. Когда олигархия стремится стать между царем и массами, ограничить потенциал царя (сделать его первым среди равных, а не высшей, несопоставимой фигурой) и, соответственно, разделить влияние на народ на несколько отраслей или областей, то есть превратить опять страну в вотчины, которые разрушали русские цари-централизаторы. Это означает (с социологической точки зрения) феномен усиления олигархии. Олигархии во всех смыслах: не только экономической олигархии, но и политической олигархии, потому что олигархия — это власть нескольких. «Олигос» — по-гречески «несколько», «монос» — «один». Олигархия — антитеза не демократии, а монархии.
Демократия возможна только в случае небольших обществ, архаических, потому что, как только мы переходим к большим пространствам, большим массам, то сразу имеем дело с олигархией. К примеру, олигархами становятся народные избранники, депутаты, там, где есть еще влияние масс на выборы, либо просто назначенные сверху. В любом случае, есть тот политический класс, который получает определенную автономию и оппонирует царю, олигархия против монархии.
Что мы видим в 90-е годы в России?
Типичную классическую олигархию. В качестве «олигархов» раньше выступали бояре, потом дворяне, потом при Сталине «ленинская гвардия». Троцкий, конечно, был олигархом. Он пришел на волне революции и ограничивал власть Сталина и его монархические устремления. И точно так же Ельцин, который был номинальным монархом, становится заложником олигархии, которая не просто его окружает, пользуясь его благосклонностью, но и ограничивает, влияет и держит под своим контролем. И одновременно происходит расчленение контроля над различными зонами — региональная олигархия, когда губернаторы или отдельные бандитские кланы просто захватывают власть над целыми территориями, населенными россиянами.
Этническая олигархия в этнических республиках — это просто бандитские кланы, как, например, на Урале. В 90-е годы я приезжал на Урал, и мне говорили, что даже эксперты были распределены между бандами. То есть, не только члены правительства, но даже эксперты, которые комментировали внутреннюю политику: одни принадлежали «центровым», другие — другой группировке (»уралмашевским»). В Екатеринбурге просто не было ни одной точки, ни одного человека, ни одного торгового места, ни одного метра, который не контролировался той или иной бандой. Все: политика, культура, экономика — было расписано строго. Это как раз и есть слабость центральной власти. Даже воры («центровые») устраивали тогда митинги, поскольку приехали какие-то воры «Деда Хасана» из Москвы. Воры устроили такой митинг: «Долой Деда Хасана! Постоим за наши интересы».
На самом деле доходило до такой воровской демократии, когда воры устраивали митинги. Это, конечно, уже никакого отношения к народу не имело. Они просто свистели, и народ выходил на их площадь уже «под ворами». Воры их собирали, организовывали, приписывали.
Это 90-е годы — те «лихие 90-е годы», которые ознаменовались победой внешней системы управления — сети влияния западников.
Отсюда: фонды, гранты, система образования элитных детей, особенно за границей, проникновение сюда множества западных организаций, которые просто, по сути дела, входили в экономическое управление, в политические, образовательные процессы — и устанавливали здесь внешнее управление.
Внешнее управление в 90-е годы сопровождалось сокращением наших территорий — резким и наглядным. И параллельно — повышением зависимости народа не от верховной власти, а от средней олигархической власти и понижением статуса высшего правителя (президента), который, в свою очередь, становился заложником олигархии.
Все элементы «смутного времени», развала, и с геополитической точки зрения, и с социологической точки зрения, и с цивилизационной точки зрения были налицо:
• внешнее управление,
• сокращение территории,
• переход власти от авторитарно-народной модели, классической для евразийства и «сухопутной» истории, к олигархической и западнической (атлантистской).
В 90-е годы квинтэссенцией этих процессов становится Первая чеченская кампания. Следующим логическим шагом в развернувшемся геополитическом процессе должно стать разрушение России. Параллельно с этим в Сербии, которая является европейским аналогом России с геополитической точки зрения, происходят сходные процессы. Югославия разрушается. Сербия, которая больше всего напоминает Россию по своим параметрам, становится изгоем. Запад поддерживает всех противников Сербии (сербов), кем бы они ни были: вначале словенцев, потом хорватов, потом македонцев, боснийцев и албанцев, наконец, уже в самой Сербии. То, что происходит в Косовом поле, — как сербская Чечня, когда мусульманское меньшинство бросает вызов Сербии для того, чтобы осуществить выход из нее. И эти процессы идут практически параллельно в России и Сербии, с точки зрения продолжения атлантистской агрессии. Идет бурным ходом демонтаж России, демонтаж Сербии в рамках геополитики — победы талассократии над теллурократией, установления однополярного момента.
Я говорил, что Ельцин, который на самом деле был символом атлантистского периода, делает один странный ход. Ход номер один (с геополитической точки зрения), имеющий для нас принципиальное значение: он не сдает сразу Чечню, как от него требует олигархия.
Олигархия просто ставит ему ультиматум: «Ельцин, либо ты отдаешь Чечню Дудаеву, либо мы тебя начинаем сбрасывать».
Ельцин при этом (действие один) говорит: «Нет. Этого не дождетесь».
Что это такое? Первая нотка русского самодурства в голосе царя.
Он говорит: «Мало ли что вы хотите, друзья-олигархи. Все равно не отдам (Чечню)».
И здесь коса находит на камень. Все его окружение, даже близкие родственники, настаивает на этом, поскольку оно является частью олигархии: сетью внешних влияний. Так называемая «Ельцинская семья» служит не столько ему, сколько олигархическим кланам. Они настаивают на сдаче Чечни. А Ельцин настаивает на том, чтобы Чечню не сдавать, и демонстрирует «первую засечку» в геополитическом процессе развала.
То есть он говорит: «Вот, досюда мы дошли, а дальше мы в том направлении, в котором мы шли (в геополитическом направлении самоликвидации), идти не будем».
И штурм Грозного — провальный, страшный: множество жертв, мы уничтожаем собственный город, собственных людей, бомбим своих же россиян. Там не только чеченцы были, в Грозном было много русских — все они идут под нож. О зверствах самих чеченцев я не говорю, они были бесконечными: русских режут, насилуют, убивают, отбирают все подряд, что у них там было. Начинается страшная, кровавая чеченская кампания.
Но для нас принципиально, что Ельцин упирается и говорит: «Не отдам Чечню».
А на Чечню смотрят все остальные: Татарстан, все остальные республики Северного Кавказа, Ингушетия, Башкирия, Якутия — вообще все этнические республики. И, наблюдая за тем, что происходит в Чечне, все делают свои собственные выводы. Если Чечню Москва сдает, то Россию автоматически постигает та же участь, что и СССР: Российская Федерация разделится на независимые государства, которых будет столько, сколько там республик или областей, вначале этнических республик, а потом и областей. Будет независимой Орловщина, независимым Хабаровский край (Хабаровское царство (ханство) или Хабаровская демократическая республика). Уже создается Уральская республика Росселем (губернатором).
Все связано с Чечней. По мере того как Грозный переходит из рук федеральных властей под контроль сепаратистов и наоборот, на карте стоит вся территория России. Здесь нет никаких сомнений: невозможно отдать Чечню и не отдать Ингушетию, Дагестан и так далее. Но дальше невозможно отдать, например, Северный Кавказ и не отдавать Поволжья, невозможно отдать Поволжье и не отдавать всего остального.
То есть мы стоим накануне последнего аккорда ликвидации Хартленда (90-е годы). При этом действие происходит — все колеблется, все стоит на весах. Все зависит только от одного: от самодурства одной фигуры — Ельцина. Если Ельцин идет навстречу олигархам еще шаг — России конец, упирается — у России есть шанс. А что значит «у России есть шанс»? Это означает, что двухполюсная система сохраняет свою предпосылку к новому возрождению. Великая война континентов либо продолжается, либо заканчивается окончательно уже необратимой победой талассократии. Вот приблизительно какая драматическая ситуация складывается в 90-е годы. Об этом мало кто говорит, но на самом деле именно это и является в тот период содержанием геополитических, исторических, стратегических, экономических, культурных процессов в мире. Все зависит от того, удастся или не удастся удержать территориальную целостность России. Это принципиальный момент.
Теперь мы видим, как ведет себя Ельцин в Первой чеченской кампании: он очень нерешителен, постоянно колеблется. Он дает указание атаковать, потом отводит свои войска. Дает задание генералам и военачальникам наступать и одновременно закрывает глаза, что российские военачальники снабжают оружием боевиков. Распад и коррупция пронизывают все общество, в том числе армию. Боевикам оружие поставляют те же, кто против них воюет. Представляете, какой цинизм? И Ельцин это знает. Но до конца не становится ни на ту, ни на другую сторону. Баланс сохраняется.
В тот момент, когда ценой колоссальных усилий в 96-м году федеральные войска выбивают боевиков из Грозного, под давлением Березовского и олигархов Ельцин посылает генерала Лебедя (подкупленного им во время выборов тем, что он назначил его на пост председателя Совета безопасности Российской Федерации) на Хасавюртские переговоры для того, чтобы вернуть боевиков в Грозный. То есть на самом деле Ельцин «делает засечку», не сдает до конца, но он постоянно колеблется. И после кровавой бойни российских солдат и офицеров, которые гибли тысячами при штурме Грозного, после того, как мы все контролировали, он посылает туда Лебедя для того, чтобы заново пустить боевиков в Грозный. То есть сводит на «нет» все жертвы, все усилия, все тысячи и тысячи людей погибших, солдат, — одним махом, одной подписью отменяет.
После 96-го года Чечня, по сути дела, получает (как она считает) карт-бланш на то, что она выходит из состава Российской Федерации. Начинаются переговоры по оформлению этого процесса в юридическом ключе. Но до конца Ельцин все равно не доходит: не принимает ни Дудаева, ни Масхадова, не идет на то, чтобы окончательно принять решение (Дудаева к тому времени убивают) вопреки всему давлению мирового сообщества, которое требует от Ельцина выпустить Чечню (Ичкерию) из состава Российской Федерации.
Второй момент, «вторая засечка».
Ельцин назначает премьер-министром Примакова, который является представителем реализма в международных отношениях, является консерватором с точки зрения геополитики, и который проводит позицию, направленную на национальные интересы России. Очень показательно, что Примаков летит на переговоры в Вашингтон, узнает о начале бомбежек Белграда (в Сербии), разворачивается над Атлантикой и срывает важные международные переговоры. Этот символ реакции российской дипломатии примаковского толка на агрессию стран НАТО против дружественной нам Сербии очень важен. Козырев прилетел бы в Вашингтон, обнялся бы и поговорил бы о том, как быстрее сербов наказать за их неподчинение талассократическому центру. Примаков делает жест — это «вторая засечка». Его назначил на этот пост Ельцин. Соответственно, Ельцин знал, что он делает. Хотя он постоянно одергивает и унижает Примакова, тем не менее он его держит на посту премьер-министра — это серьезно. Уже начиная с того момента, как Примаков был министром иностранных дел, он начинает стратегию, которая направлена на укрепление позиции России.
И «третья засечка», уже решающая — это назначение преемником Путина. Причем, скорее всего, все ожидали, что Ельцин назначит преемником представителя своего клана (своей семьи), который будет продолжать его колеблющуюся, или атлантистскую линию, то есть какого-то ставленника олигархии. На этот пост рассматривается Степашин. Степашин (показательно для нас, с геополитической точки зрения важно) едет в Дагестан, будучи назначенным и. о. премьер-министра.
Беседует там с ваххабитами, возвращается и говорит: «Кавказ Россия потеряла», — грустно так, вытирая слезу.
Видимо, Ельцин смотрит, думает: «Да, вот этот преемничек, конечно, замечательный. Но если он, просто увидев двух-трех лысых бородатых джигитов, приезжает и говорит (не поборовшись): “Кавказ Россия потеряла”, — соответственно, этот слабоумный, слабовольный увалень в качестве преемника мне не подходит».
И вот каким-то совершенно непонятным образом, который будет принципиален для нашей геополитической истории, его взгляд в поисках преемника останавливается на Путине. И в этот момент начинается решающая схватка за судьбу России.
Освоившись после того Хасавюртского мира, который Ельцин предоставил чеченским террористам, отдав им назад Грозный, который мы с таким трудом взяли, по сути дела, дав им возможность отстроиться, собрать свои силы, получить западную поддержку. Вашингтон носится с ними, Бжезинский лично, так же как и «Аль-Каиду» с бен Ладеном в 70-е годы, поддерживает Басаева и других террористов. Они рассматриваются Вашингтоном как носители талассократии, как инструмент для взламывания России, и, соответственно, они начинают наступать.
• Происходит вторжение в Дагестан, где с опорой на ваххабитские, сепаратистские силы чеченские террористы рассчитывают отвлечь внимание и укрепить свое сепаратистское направление, прорвавшись в том числе и к Каспию, для того чтобы иметь выход в море.
• Устраивают взрывы для терроризирования мирного населения, рассчитывая на поддержку либералов и демократов, которые начнут во всех средствах массовой информации вопить, что надо срочно давать Чечне независимость, иначе они нас перестреляют, — взрывают дома в Москве. В результате гибнут дети, старики, женщины.
На что делается расчет?
Расчет на то, что, как и в предыдущих террористических актах (захват больницы Басаевым), Москва со слабоумным Ельциным, уже ничего не соображающим, в окружении олигархов, просто скажет: «Ну, раз так, раз вы так серьезно, давайте мир с вами заключим. Ладно, берите вашу независимость».
Сейчас мы понимаем, что со стороны чеченских сепаратистов было жесткое проявление. Но если бы мы поставили себя в тот период — их расчет был совершенно реалистичным: в Москве правили те силы, которые были, по сути, союзниками чеченских сепаратистов (в тот период, в конце 90-х годов, в 99-м году). И вообще они имели все основания ожидать той предсказуемой реакции, которую я описал. Россия говорит: «Ах так, вы так жестко, ну тогда берите вашу независимость, оставьте в покое наших людей, оставьте наши города. Мы будем здесь ходить в фитнес, будем есть гамбургеры, будем изучать либеральный маркетинг, переводить книги по западному менеджменту, как лучше себя продать, будем двигаться на Запад, а вас отгородим. Вы — дикие люди, берите, что хотите».
Очень жесткий расчет, но совершенно логичный. Чего не ожидают в данном случае ни Запад, ни сепаратистские силы?
Не ожидают фактора Путина, который становится с тех пор важнейшим геополитическим моментом. Они ожидают фактора Степашина. Раз Ельцин назначил Путина преемником, они думают: «Это будет такая вот слабоумная, невнятная олигархическая креатура. Которая, так или иначе, как бы она здесь ни выступала, обязательно пойдет в критический момент на поводу у этих сетей атлантизма и продолжит ельцинский и горбачевский курс на ликвидацию России как самостоятельного теллурократического образования».
И вот в конце 90-х годов (в 99-м году) мы стояли в шаге от этого. Практически это было уже предопределено. Многие военные, стратеги, патриоты опускали руки, говорили: «Ну, все. Они везде, пятая колонна захватила все: образование, культуру, экспертное сообщество. Экономические олигархи скупили все. Все принадлежит этим олигархическим (атлантистским) сетям».
Они сейчас сгруппированы на «Эхе Москвы». Раньше они были рассеяны по всей прессе, контролировали все: Березовский контролировал «Первый канал», Гусинский — НТВ, РТР тоже находился под их контролем. Все было в руках пятой колонны, откровенных атлантистов, западников и либералов.
И в этой ситуации появляется Путин, который теоретически, возможно, заключил договор с олигархией. Кто знает? Этого никто не знает. Тем не менее он становится руководителем страны. А дальше все начинает идти по некоторой непредсказуемой линии.
Путин говорит: «Нет. В ответ на взрывы домов и вторжение чеченцев в Дагестан последует другая реакция, нежели та, на которую рассчитывают террористы.
• Первое: мы поднимаем армию и бросаем ее на Чечню.
• Второе: мы поднимаем Дагестан, бросаем всех дагестанцев туда, к террористам.
• И мы начинаем чистку средств массовой информации и давление на олигархов».
Это новая программа, которая обозначается Путиным в 99-м году.
Поначалу думают, что это все — игра, потому что это настолько контрастирует с ельцинским курсом, что на самом деле не имеет шансов практически реализоваться. Дальше начинается шаг за шагом, с геополитической точки зрения, следующее: Вторая чеченская кампания.
Во-первых, Дагестан мобилизуется на то, чтобы отразить вторжение ваххабитов («басаевцев») из Чечни. Я встречался с одним руководителем спецслужб, который участвовал в этой кампании, он рассказывал такую поразительную вещь. Когда туда приезжал сам Путин в 99-м году, чтобы посмотреть на боевое состояние наших военных на Северном Кавказе, в частности, в Дагестане (тогда он был премьер-министром), на встречу с премьер-министром некоторые солдаты выходили в одном ботинке. Потому что другой ботинок либо какие-нибудь ишаки стащили, либо продали кому-то, либо просто потеряли. То есть состояние армии было просто хуже не придумаешь. Это было совершенно разложенное, коррумпированное, умственно неполноценное, недееспособное, состоящее из инвалидов формирование.
На этом фоне горцы-дагестанцы с винтовками, с местными жителями, со знанием территории представляли собой настоящую силу, которая выступила в тот период на стороне федеральной власти. Ну и постепенно ботинки нашлись, где-то перезарядили ружья, проданные патроны так или иначе вернули, и началось сопротивление. Но перелом был критический.
То, что Путин увидел в этот период, и то, что ему вынуждены были показывать силовики, — это было чудовищно, по их свидетельствам, просто чудовищно. Россия при Ельцине взяла курс на то, чтобы вообще ничего не иметь, быть просто такой глобальной свалкой. Хакамада, например, предложила получать огромные деньги за захоронение здесь ядерных отходов: «Вот, — говорит, — самый лучший бизнес. В России все равно же неполноценный народ. Пусть лучше отходы хранятся здесь. Это будет прогрессивное развитие, модернизация нашего общества».
Соответственно, в таком состоянии, в целом, общество и находилось. То есть, продать чеченскому террористу собственный пистолет — это приватизация пистолета. Менеджмент — «не дай себе пропасть», «думай о себе». Вот так принимались либеральные ценности в обществе в конце 90-х годов, когда ненависть к России была просто нормой.
Сейчас, наверное, это уже сложно себе представить, но нормой любого журналиста было плюнуть в собственный народ, в собственную историю. Новодворская, если вы еще помните еще такую даму, не сходила с экранов, она комментировала все абсолютно в своем ключе. Ей рукоплескали члены правительства в Кремле и так далее. Вот какая атмосфера была.
В этот момент Путин со своей идеей поставить чеченских террористов на место и установить контроль над Россией смотрелся просто клоуном. Никто не верил, что это может быть серьезно. И тем не менее теперь мы знаем, что это было серьезно и началось (с точки зрения геополитической) вполне серьезно. Мы сейчас не говорим ни о каких других аспектах. Мы говорим только о геополитике, потому что наша дисциплина — это геополитика.
Мы подошли к новой истории.
У каждого могут быть свои взгляды. Я не даю никаких политических комментариев, говорю не о том, кто хороший, кто плохой. Мы говорим по модулю — по геополитическому модулю.
Что происходило тогда?
Россия стояла на грани расчленения.
Что произошло с Путиным?
Это расчленение было приостановлено.
Была выиграна Вторая чеченская кампания.
Боевиков вначале выбили из Грозного, то есть опять был штурм Грозного, только более эффективный. Дальше прошла великолепная спецоперация по разделению боевиков на традиционных мусульман и ваххабитов. Их ваххабиты были воплощены в «черном» Хаттабе, Басаеве, Удугове, а традиционный ислам — в лице Ахмата Кадырова. Ахмат Кадыров (отец Рамзана Кадырова) сражался против российских федеральных войск. Он был одним из лидеров боевиков, которые уничтожали русских, — одним из сепаратистских вождей. Тем не менее, пользуясь внутренними идеологическими противоречиями между традиционным исламом и салафизмом (ваххабизмом), российские спецслужбы сумели привлечь на свою сторону часть наших противников — с учетом того, что дали определенные преференции (политическую власть тому же Кадырову). Но тем не менее они раскололи противостоящий нам фронт.
Мы отстояли в тот период Дагестан.
Мы отстояли Чечню. Потом Ельцин отошел от власти, Путин перенял всю полноту власти. Неважно, выбирали его или не выбирали. Скорее всего, выбирали, потому что народ в этот момент (опять, как обычно, традиционно), увидев в Путине вождя и авторитарную фигуру, которая спасает территориальную целостность России, его на самом деле поддержал. С тех пор Путин обладает геополитической легитимностью.
Мы можем видеть множество негативных сторон и его правления, и его личности, и его режима. Многих он не удовлетворяет, многим он не нравится. Кому-то он нравится. Это вообще не имеет никакого значения, потому что он геополитически легитимен с точки зрения русской истории. Самые принципиальные моменты, которые мы видим: начинается геополитика эпохи Путина.
Что мы видим? Особенно по контрасту с Горбачевым и Ельциным.
Устанавливается вертикаль власти. Путин становится авторитарной фигурой. Частично ею был и Горбачев, и Ельцин. Но путинский авторитаризм прекрасно вписывается в ту социологическую модель, которую мы рассматриваем в русской истории начиная с первых Владимирских князей. Путин — Владимирский князь. Он — евразийский руководитель. Он вписывается в линию Невский — Грозный — Петр — Сталин. Те авторитарные фигуры, чье правление в русской истории всегда сопровождалось сохранением территориальной целостности и расширением нашего территориального контроля. Это факт — это не интерпретация, это социологический факт, сопряженный с геополитикой.
И второй момент.
Мы видели на протяжении всей истории, что укрепление теллурократических тенденций в российской истории, независимо от идеологии и исторической конкретики, показывало борьбу царя или вождя с дворянством или с олигархами. Там, где олигархически-феодально-элитарная прослойка сильна, там территориальные уступки, потери, дестабилизация, «смутное время».
Как мы выходим из «смутного времени» в каждый исторический период?
Путем осуществления стратегического социального пакта между широкими массами традиционно патриотического населения и царем.
Против кого направлен этот пакт?
Против олигархии (против власти немногих).
Что делает Путин? Он начинает борьбу с олигархией.
Вначале он убирает ту олигархию, которая является проводником наиболее активного влияния Запада.
Потом он начинает отстранять олигархию от политического влияния. Первый этап борьбы с олигархией — высылка Гусинского и Березовского. Это наиболее активные игроки, политически осмысленные олигархи. Потом — более закамуфлированные олигархи в лице Ходорковского, который просто скупает политические силы в своих либеральных западнических интересах, будучи готовым передать контроль над крупнейшей российской частной нефтяной монополией в руки своих западных американских партнеров. То есть передать во внешнее управление одну из отраслей, жизненно важных для России.
Но Путин ограничивает борьбу с олигархией отстранением (деполитизацией), он их смещает в РСПП — Российский союз промышленников и предпринимателей. Он их не уничтожает, не искореняет окончательно.
Но это, кстати, не удалось никому:
• ни Сталин «ленинскую гвардию» до конца не истребил,
• ни Петр Первый так, по большому счету, с боярскими родами и не справился,
• ни Иван Грозный, который в опричнину вешал, резал, — все равно не справился с боярством.
Мы говорим, что Путин не добил олигархию; а кто ее добил? Ее вообще невозможно добить. Это одно из социологических явлений, оно так же устойчиво, как авторитаризм или массы. Обязательно есть яркие активные люди, которые не достигают первых позиций, но далеко выходят от масс, — пассионарии. Они так или иначе, в разных социальных, политических или экономических условиях становятся монополистами, захватывают социальную, экономическую или политическую власть.
Поэтому олигархия так же необходима в обществе, как и все остальные его части. Это элита. И вот в русской истории элита противостоит массам, как и везде, но еще она противостоит царю — вот это очень важно. И особенность русской истории — это альянс царя и масс против элиты, потому что в некоторых случаях в западной истории, например, как мы часто видим, доминировал альянс царя и элит против масс. Хотя гильотина, Кромвель… мы знаем, что периодически элиты и в западной истории восставали на королей, они ослабляли их власть и в конечном итоге иногда отрубали королям головы.
Есть три социальные модели, которые в марксистском, например, анализе не очень ясны. А историческая социология показывает, что помимо противостояния элит и масс, или эксплуататоров и эксплуатируемых, еще фундаментальная линия раскола лежит между единоличной властью (царем) и олигархией. И эта борьба единого правителя (авторитарной личности) против олигархии и олигархии против авторитарной личности не менее важна, чем противостояние верхов и низов в обществе — это драматическая часть мировой истории. А в русской геополитике эта коллизия сопряжена с такими вопросами, как контроль над подвластными землями. Вот это интересно.
Это мы видели с самого начала, с владимирских князей. Так, Андрей Боголюбский также боролся с олигархией и пал жертвой олигархии. Его убили бояре, которые хотели больше влияния на Владимирское княжество, а Андрей Боголюбский лишал их его. Это был один из заговоров, аналогичный, на самом деле, Французской революции или революции Кромвеля, только на уровне династическом. Или убийство императора Павла (своим собственным сыном), по сути дела, тоже было заговором олигархии.
Заговор олигархии в русской истории всегда сопряжен с западничеством.
Не всегда с талассократией, потому что талассократия в русскую историю как самостоятельный, самозначимый фактор вошла полноценно только с эпохи Great Game — Большой игры с Англией, когда Англия стала глобальной империей. Но западничество было и раньше. И это западничество всегда, начиная с Даниила Галицкого, с Галицко-Волынского княжества, через Литовскую Русь, через Курбского, через заговор бояр в эпоху Смутного времени и так далее — на всех этапах вплоть до российской олигархии 1990—2000-х годов — существует, и всегда оно связано с ослаблением геополитического контроля в России.
Так вот, геополитический анализ путинского периода, от его прихода к власти до нынешнего 2013 года, с геополитической точки зрения вписывается в евразийский реванш.
Неслучайно Путин провозглашает Евразийский союз, то есть осторожно говорит о необходимости продолжения или восстановления территориальной власти над землями Хартленда. Путин представляет собой носителя (с геополитической точки зрения) реставрационистских тенденций. Он обращает вспять тот тренд, который стал доминирующим в геополитике в 80-е и 90-е годы, и действует в ключе, прямо противоположном, с геополитической точки зрения, Горбачеву и Ельцину, с той лишь особенностью, что Ельцин так или иначе причастен к появлению Путина.
Когда мы говорим о Примакове или, например, о чеченской кампании (даже провальной Первой чеченской кампании), видно, что в Ельцине уже начинает работать какой-то дополнительный фактор, позволяющий сделать вывод о том, что определенное понимание преемственности русской истории, евразийства, русской теллурократической судьбы у Ельцина тоже есть. Потому что, если бы этого не было, то не было бы Путина, не было бы Первой чеченской кампании и вообще не было бы России просто.
При том что с геополитической точки зрения правление Ельцина провально: это был не успех, это была катастрофа, — все же именно при нем произошло переключение геополитического тумблера, как будто изменили направление. И хотя не сразу все заработало и почти вообще ничего не заработало (до сих пор многие вещи не работают), но переключение сделал, видимо, он. А вот дальше, после создания реверсивности разрушительного процесса, это стало фундаментальным фактором мировой политики.
На самом деле, решалась судьба глобальной мировой системы: будет ли однополярный момент однополярной эрой или нет?
Если это только момент, то требуется реверсивное переключение российской ориентации на суверенитет. Путин провозглашает главной ценностью суверенитет России.
Что значит «суверенитет» в конкретном геополитическом смысле?
Это значит противодействие внешнему управлению страной. Это что — миф? В 90-е годы внешнее управление было фактом: страной управляли из-за рубежа, и до сих пор многие системы этого внешнего управления сохранились в России. Когда Путин говорит о том, что «мы переключаем внимание на суверенитет России», он не говорит, как Капитан Очевидность, нечто банальное. Россия — суверенное государство. Оно признано в ООН. Зачем говорить о суверенитете? То есть, зачем говорить о том, что и так очевидно?
Почему Путин делает суверенитет ценностью?
Потому что на самом деле существует действительный геополитический суверенитет и номинальный, или так называемый дефолтный (градиентный) суверенитет, который наличествует в каких-нибудь маленьких африканских государствах — они номинально суверенны (они члены ООН), но они ничего не могут сделать, ничего не могут решить.
Суверенное государство — современная Греция, например. Там введены такие модели экономического управления представителями, кстати, немецких структур, что они не могут принять ни одного политического решения без согласия и санкции немецких банкиров или представителей Еврокомиссии. Страна номинально суверенная, но по сути дела, исходя из кризиса, там аннулирована (подвешена) демократия. И для того, чтоб щадить (как говорят представители Еврокомиссии) греческую психологию, поскольку она находится сейчас в шоковом состоянии после того, что произошло, считается, что Греция формально суверенная, а по сути она, конечно, лишена минимального суверенитета.
Так же и Путин считает, что Россия номинально суверенная, но под этим суверенитетом может скрываться полная оккупация. Так вот, мы должны перейти от номинального суверенитета, — провозглашает сразу после прихода к власти Путин, — к реальному суверенитету. Это значит вычистить систему управления атлантизма со всех ключевых постов в государстве. Сместить их куда-нибудь в оппозицию, на Болотную площадь, на «Эхо Москвы», чтобы там уже они смогли нести свою атлантистскую повестку дня совершенно спокойно и открыто, как оппозиция России, оппозиция власти, оппозиция государственности, оппозиция народу. Там — пожалуйста. И это Путину принципиально удается.
Показательно, что в период его преемника Медведева (хотя сейчас мы остановимся на геополитике медведевского правления), когда Путин, согласно большинству аналитиков, как мы видели, просто через факт его возвращения, остается главной, настоящей фигурой, управляющей страной, происходит также очень важный момент, и с геополитической точки зрения он имеет колоссальное значение. Это победа в войне с Грузией. Когда два анклава внутри Грузии — Южная Осетия и Абхазия, ориентированные на Россию и против грузинского национального государства, подвергаются внутренней, с точки зрения грузинской модели, операции по установлению конституционного строя. Для грузин это так, потому что для грузин это их территория.
Тут Москва становится перед проблемой: либо мы сдаем позиции в Южной Осетии и в Абхазии, но тогда поступаем как во время Ельцина, когда мы сдали позиции в Аджарии. Тогда Абашидзе (пророссийского президента в Аджарии) вывезли в Россию и совершенно спокойно отдали грузинам эту область, которая тоже была почти в статусе Абхазии. Это была внутренняя часть Грузии, которая не была согласна с националистической политикой (атлантистской, проамериканской политикой) Тбилиси. На первом этапе мы отдали грузинам ту территорию, которую мы на территории Грузии контролировали.
И вот стал такой вопрос: мы сейчас уже за пределом. Уже не о Чечне идет речь, Чечню мы отстояли, Северный Кавказ мы отстояли при Путине. Дальше вопрос такой: мы сдаем Абхазию и Южную Осетию, но кому? Не просто грузинам, мы сдаем ее американцам, потому что куда хочет Саакашвили? В НАТО. С кем он контактирует? С Соединенными Штатами Америки. Он хочет и эту часть постсоветского пространства выпилить у Евразии и передать Sea Power — талассократии, морскому могуществу.
Имеет он право? С точки зрения геополитики — нет (с нашей точки зрения). С точки зрения американской он должен это сделать. Почему? Потому что идет великая война континентов (мы это видели): одни ушли, другие пришли — никакой свободы, смена хозяев. Есть два хозяина: есть «цивилизация Моря», «цивилизация Суши». Все. Конечно, Индия или Китай могут говорить о каком-то промежуточном состоянии — у них по миллиарду. Там действительно может быть самостоятельная береговая геополитика.
Европа могла бы выйти из-под контроля США и вести свою линию, континентальная Европа, франко-германская. Но маленькая Грузия, конечно, самостоятельной просто не может быть, и многие другие страны (большинство) не могут. Кроме некоторых гигантских держав, которые сами по себе цивилизация или блок.
Поэтому Путин и его преемник Медведев в августе 2008 года стоят перед вопросом геополитического выбора: отдавать Абхазию и Южную Осетию или сохранить? Но «сохранить» — это значит не просто сохранить статус-кво. Это значит наступать, это значит войти в конфликт с Америкой — прямой военный конфликт под угрозой ядерной войны. Очень серьезный выбор был. Потому что американцы говорят: «Если вы туда войдете, мы вам объявляем войну». Это протекторат США — Грузия. И мы готовы помочь восставшим частям этого американского протектората, которые хотят из него выйти.
Смотрите, что делают американцы, например, в Сербии. Внутри Сербии тоже есть проамериканский (албанский) анклав. Когда сербы пытаются его прибрать к рукам или, по крайней мере, защитить своих граждан (сербов) на территории Косово, американцы объявляют сербам войну, располагая в этом анклаве (сербской территории, юридически она еще была сербской) американскую военную базу. А потом настаивают на признании независимости Косово.
Мы повторяем те же самые действия. Но кто мы? Смотрите: Америка это делает потому, что это однополярный момент, потому что они только что нас победили, они поставили на колени весь мир. Они правят. Это господин так говорит: «Я отниму у вас, сербы, выпилю у вас кусок и поставлю свою военную базу. А вы будете терпеть». Потому что он — величайшая мощь.
А мы-то на каком основании так делаем?
И вот тут, в августе 2008 года, определяется позиция России в новом мире, заново бросается вызов нашему суверенитету: с кем имеем дело? Все смотрят в лицо путинской (медведевской) России. Уже постъельцинской России, путинской России — все равно.
С кем мы имеем дело?
Это был блеф — ваш суверенитет? Он касался только Вашей территории, или у вас более серьезные амбиции: вы заставите с собой считаться весь мир?
И что мы видим?
Страшные колебания в Москве. Американцы давят. Вся пятая колонна поднята, мобилизована. Все кричат: «Если мы туда вступим, то нам конец. Мы должны заниматься своим».
Но! Что нас у нас кону?
Военная операция Саакашвили была очень хорошо продумана, рассчитана. Анклав орошения внутри Южной Осетии занимал огромную часть. Там была инфраструктура полностью с американскими военными инструкторами, вооруженные силы Грузии стояли.
Взорвать Рокский тоннель, к которому прорывались прекрасно вооруженные грузинские спецназовцы, было делом вполне реальным. После этого переброска войск из России была бы фундаментально затруднена.
И промедление…
Все решалось на часы. Задача пятой колонны, которая была очень близка в тот период к Путину и особенно к Медведеву, заключалась в сдерживании ответа Москвы на несколько суток. Все решалось сутками.
После, если грузинам удается эта операция, южных осетин вырезают. Абхазов — с ними была бы более сложная ситуация. Потом говорят, что никаких южных осетин здесь не было, здесь были одни грузины, частично, конечно, кто-то переходит на их сторону (были и предатели со стороны Южной Осетии). Но дальше начинается автоматический, как в домино, распад Северного Кавказа. Потому что северные осетины уже начали чуть ли не силой брать склады с оружием, потому что это один народ — Южная Осетия и Северная Осетия. Если бы Москва не вмешалась на стороне Южной Осетии, тогда сами осетины захватили бы оружейные склады, но это означало бы уже полное неповиновение Северной Осетии. Реализуя свои национальные интересы, они были уже готовы к тому, чтобы выступить против Москвы.
И если бы мы действительно не пришли на помощь Цхинвалу, то северные осетины имели бы все основания не повиноваться. То есть, на самом деле, наиболее пророссийская часть Северного Кавказа была бы потеряна. Соответственно, все висело на волоске. Далее следует невероятное с точки зрения новой горбачевско-ельцинской истории.
Путин и Медведев дают указание ввести войска достаточно быстро, в тот момент, пока еще Рокский тоннель не взорван. Это геополитически уникальный случай: Россия и Хартленд начинают расширять свое территориальное присутствие. Потом она выигрывает войну с Грузией. Потом она зачищает анклав орошения — Кодорское ущелье, которое, в общем, контролировалось уже грузинами, и даже на американской военной базе, которую русские штурмуют, пишут: «Мы пришли. Русские солдаты». Это означает: Евразия наносит ответный удар.
И еще Россия признает в одностороннем порядке независимость Южной Осетии и Абхазии. Это означает, что ядерные силы России как великой державы являются гарантом территориальной независимости этих двух территорий. Точно так же сербы не признают до сих пор Косово в качестве самостоятельного государства: они считают его территорией Сербии. Ну и пусть грузины считают Южную Осетию и Абхазию территорией Грузии. Это никого не волнует. Точно так же азербайджанцы считают своей территорией Нагорный Карабах. Никто не признал то, что Нагорный Карабах больше им не принадлежит. Юридически Нагорный Карабах — часть Азербайджана, но там нет ни одного азербайджанца. Там одни армяне, и армяне контролируют там все и живут уже два десятилетия как в своей собственной стране.
Поэтому юридически не так важно, признал или не признал кто-то еще, кроме нас, Южную Осетию и Абхазию. Важно, что мы признали. Тот факт, что Россия признала их суверенитет под давлением США, означает, что Россия за период путинского правления, которое шло с эпохи Ельцина, резко укрепила свой суверенитет и расширила свое влияние, по крайней мере, на два небольших анклава. Но это имеет символический характер.
По сути дела, Южная Осетия и Абхазия — часть России с точки зрения геополитической, не с точки зрения юридической. С точки зрения юридической, это — признанное нами независимое государство. Но то, что мы взяли и признали эти два независимых государства параллельно тому, как американцы признали независимость Косово, когда им надо было, демонстрирует, что мы воспринимаем мир не как однополярный момент, а сами себя считаем другим полюсом, что видно дальше уже во всем.
Еще одно проявление после этого переломного момента — возвращение Путина.
К нам приезжал Бжезинский и сказал: «Нас устроит исключительно Медведев. Он больше похож на западника, он больше похож на либерала, на такого, понятного нам. То есть, надеюсь, что он продолжит перестройку и будет проводить в геополитическом ключе линию Горбачева — Ельцина, это Горбачев-два (перестройка-два)».
Так это или не так — мы не знаем. Но Путину всерьез говорят: «Не возвращайся. Не смей! Сметем!».
Путин, наверное, выслушивает… Мы не знаем, как он выслушивал все эти предложения Байдена, как он оценивал то, как Бжезинский — враг России — обнимает Медведева, говорит: «Мы на Вас всю надежду, Дмитрий Анатольевич, возлагаем».
Не знаем, что чувствовал Путин, когда Медведев предавал Каддафи в Ливии. Может быть, это была игра, а может быть, еще что-то — никто не знает. Мы не обсуждаем в университете политику.
А вот с геополитической точки зрения здесь совершенно очевидно, что Путин ориентирован на суверенитет России. Тот факт, что он вернулся вопреки давлению Запада, означает, что он всерьез относится к этому.
Он вернулся. Негодование либералов пятой колонны, агентов влияния. Тысячи, десятки тысяч людей выходят на площади, визжат «сети», скрипят блогеры, все недовольные: «Либерализм, свобода, Запад!». Снова здоро́во, перестройка! Все это на сегодняшний момент сходит на ноль: уже от десятков и сотен тысяч остаются единицы.
А Путин продолжает свое.
Например, «список Магнитского» — попытка надавить на Россию на том основании, что у нас правосудие якобы недостаточно справедливое. Поэтому над нами надо ввести внешнее управление. Это говорят нам люди, которые содержат тюрьму в Гуантанамо, где пытают. Пытки разрешены официально — двойные стандарты. Я не говорю, что в Америке все плохо. Наверное, в Америке, скорее всего, все очень хорошо.
Но это не их дело, каково у нас. У нас так, как следует в России, а у них — как в Америке. И на это мы отвечаем в Думе «списком Яковлева» — мальчика (российского малыша), которого оставили гореть живьем американские родители, а другого они разделили и продали на органы. То есть это, конечно, очень гуманная цивилизация — ничего нельзя сказать. И у нас есть проблемы, и у них есть проблемы. Эти — на органы приняли, кого-то съели, своих детей расстреляли. У нас есть множество проблем. Не в этом дело.
Дело в том, что либо мы суверенные с геополитической точки зрения, либо нет. Либо есть однополярный момент, либо система принятия решений иная.
Так вот, путинское правление (на чем мы практически заканчиваем геополитический анализ русской истории) — это начало реверсивного движения. Реверсивного по отношению к горбачевско-ельцинскому геополитическому тренду.
Путинское правление снова связано с восстановлением тех социологических парадигм, которые в русской истории сопряжены с укреплением нашего территориального влияния:
• с авторитарными тенденциями укрепления вертикали власти,
• с общенародной риторикой
• и с антиолигархической (антиэлитной, если угодно) ориентацией Путина.
Он ориентирован на народ, на простых людей и на укрепление вертикали власти. А олигархия ориентирована строго против народа, против Путина, на внешнее управление. Приблизительно эта схема в русской истории повторяется всегда и сопрягается с циклом территориального расширения, территориального сужения.
Можно представить изменение территории России (в истории) как систолы и диастолы — две формы биологического движения сердца: сердце сжимается и расширяется. Так — наша территория. При этом русское сердце растет, сжимается, а потом всякий раз становится больше.
И вот в последний этап русской диастолы, когда наше сердце разжималось, это уже было полмира. При Советском Союзе русское сердце разжалось так, что уже просто, действительно, где-то около половины человечества находилось в социалистической системе: территориально, социально и так далее. Сейчас опять систола — опять сжались.
Но вот что интересно? Пиком сжатия русского сердца на последнем историческом (геополитическом) этапе были 90-е годы. Мы сжались при Ельцине до предела и с социологической точки зрения, и с территориальной точки зрения, и с цивилизационной, и с геостратегической. И если мы таким вот историческим образом посмотрим по геополитическому модулю, возьмем правление Путина, то есть правление, к которому мы сегодня принадлежим, в котором мы живем, мы увидим, что русское сердце начинает разжиматься. Что мы находимся в первой, может быть, только едва нащупываемой стадии его нового расширения. И параллельно все больше и больше фактов и деталей указывает на это. Например, Евразийский Союз.
Создание Евразийского Союза — это идея заново реинтегрировать постсоветское пространство, не что иное, как проект разжимания русского сердца на новом этапе. Под какой идеологией он идет, что он ставит перед собой (какие задачи) — мы пока не знаем. Реализуется он или не реализуется — тоже покажет время. Но мы видим геополитический тренд, мы видим геополитический вектор путинской истории, который на самом деле направлен к разжиманию русского сердца. Соответственно, это вполне можно назвать реваншем теллурократии, превращением однополярного момента в эфемерный эпизод.
Есть понятия «проиграть войну» и «проиграть сражение» (о немцах говорят). Немцы всегда выигрывают все сражения и проигрывают все войны. При этом они все время, наверное, рапортуют. Представляете сводки: выиграли, выиграли, выиграли (сражения). А война? А войну проиграли.
Чем является однополярный момент? Победой в Войне континентов или выигрышем в сражении? То, что сражение в 80-90-е годы талассократия (Sea Power, морское могущество), западный мир, американско-английская, европейская, западная цивилизация выиграла — в этом нет сомнения. Она выиграла сражение, это такой же факт, который никто не может отрицать, как наступление Гитлера, подход немцев к Москве или взятие Москвы Наполеоном, а также взятие Кремля поляками.
То, что мы потеряли в 80—90-е годы, — это колоссальные потери, сопоставимые с потерями в великих войнах, если не больше.
Это потери, это проигрыш:
• проигрыш территориальный,
• проигрыш социальный,
• проигрыш моральный,
• проигрыш от установления внешней системы управления в самой России.
Это факты.
Поэтому нельзя легко относиться к этому и говорить, что ничего не произошло. Мы проиграли сражение, мы потерпели колоссальное поражение в одном из сражений.
Но вопрос в том, можно ли признать это проигрышем в войне. И те, кто здесь представляет западные структуры влияния или либерализм, так и хотят: они хотят интерпретировать проигрыш (безусловно, это проигрыш сражения), как проигрыш войны. Они предлагают сдаться.
И есть силы, которые считают, что, несмотря на проигранное сражение, война не закончена. Тогда однополярный момент является временным, и мы можем выиграть другую битву другими средствами в другом направлении. Вот с этим связано такое явление, как многополярный мир — геополитика многополярного мира, выраженная, например, в таком явлении, как БРИКС, когда вместо однополярной модели предлагается, например, четырехполярная модель или несколькополярная модель.
В частности, такие страны, как Китай, принципиально не согласны с тем, чтобы существовал один центр принятия глобальных решений. И китайский миллиард, и китайская экономика, которая, ловко манипулируя в своих национальных интересах как социалистическими, так и капиталистическими моделями, стала ведущей экономикой мира. При этом Китай сохранил и укрепил свой суверенитет. Он, интегрируясь в мировую экономику, сохранял контроль над собой — это самое принципиальное, то, что теряют все остальные, когда интегрируются. Китай вступил в ВТО для того, чтобы использовать ВТО в своих китайских интересах. Это высшая форма экономического, политического, цивилизационного национализма, который использует идеологию в интересах Китая, не наоборот. Идеология, экономика и политика — все в интересах Китая. И вот все, что укрепляет Китай, китайцы принимают, а все, что его ослабляет, они отбрасывают безжалостно.
Демократия западного типа Китай ослабит — они просто расстреливают всех, кто за нее, сажают немедленно без разговоров (действуют замечательно). А то, что укрепляет Китай, то они принимают, действуя в своих интересах. И с ними считаются гораздо больше, чем с нами. Потому что их экономика растет, несмотря на то, что о правах человека там (в западном понимании) никто и не знает. Потому что нет никаких прав человека как универсальной модели: китайцы понимают это по-своему, русские — по-своему, мусульмане — по-своему.
Для мусульман, например, человека без Бога вообще нет. Если у человека нет Бога, ему можно голову отрезать и выбросить на помойку, потому что не верующий в Бога человек — не человек вообще для мусульманина. В этом есть что-то разумное. Но это их дело.
Я просто хочу показать, какое разное понимание «человека» у разных культур бывает на самом деле. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Соответственно, мы не можем со своими представлениями о человеке обращаться к другой цивилизации. У китайцев другое представление о правах.
Кто такой китаец, кстати? Как китаец понимает китайца? Это очень сложный вопрос. Потому что даже мы, русские, часто не догадываемся, что мы понимаем другого человека по-одному, а европеец понимает другого человека совершенно по-другому. Что существуют разные антропологические культуры, что существуют разные содержания в понятии «человек». Даже самое понятие «человек» в разных языках значит совершенно разные вещи. Это такое антропологическое отступление.
Во всяком случае, мы имеем дело с многополярным миром.
Многополярный мир — это проект прекращения американской гегемонии и создания нескольких центров решений:
• Китай стоит, безусловно, на такой позиции и имеет для этого и ресурсы, и волю;
• Индия движется в этом направлении;
• исламский мир настаивает на своей самостоятельности (пусть он не интегрирован, разложен, там очень активно действуют и западные системы);
• Латинская Америка: Бразилия, а также Венесуэла, Боливия, в частности, — представляет собой проект самостоятельной цивилизации в Латинской Америке.
Таким образом, с точки зрения геополитического анализа многополярности мы имеем дело с возможностью преодоления проигрыша, исправления и оздоровления после того поражения, которое получила «цивилизация Суши» от «цивилизации Моря». В рамках многополярного мира «цивилизация Суши» имеет шанс. Конечно, едва ли мы вернемся к дуальной модели. Например, Россия не может быть сегодня в одиночку оппонентом Запада — это мы уже проходили, и у нас не получилось: перенапряжение сил. Но в союзе с другими крупными державами, которые являются сторонниками многополярного мира, а не однополярного момента, воссоздать геополитический суверенитет Россия может. Кстати, многие американские эксперты это признают.
Тот же самый Чарльз Краутхаммер, который говорил об однополярном моменте, сегодня пишет: «Этот однополярный момент, скорее всего, позади. И Америке для того, чтобы продолжать оставаться ведущей силой, надо искать союзника. Надо либо заключать паритетное соглашение с Китаем (G-2 — «Великая двойка»), то есть делиться полнотой власти, либо вступать в некоторый альянс с Европой, либо искать еще каких-то новых ходов в организации мирового пространства, поскольку однополярная модель, скорее всего, в прошлом».
Так говорят не только противники однополярной модели, которые отвергают ее по моральным соображениям или смотря на эту однополярность со своей точки зрения. Однополярность сегодня ставится под вопрос большинством ответственных американских экспертов. Они начинают склоняться к признанию того, что это была не победа в войне «Моря» против «Суши», это была победа в величайшем сражении, которое «Море» выиграло у «Суши».
Но «Суша» еще жива:
• Путин у власти;
• Китай — самостоятелен и двигается к пику;
• Индия, Бразилия все более и более активно прорабатывают идеи собственных стратегий использования тех возможностей, которые дает глобализация, но только в своих интересах, а не в интересах Запада;
• нет окончательного решения многих проблем в западном мире, которые только нарастают;
• впереди мощный финансовый, экономический кризис, вторая волна, о котором говорят, который признают все экономисты.
И в этих условиях есть некоторая вероятность, что победа в этом сражении была Пирровой. Да, конечно, американцы много выиграли, НАТО продвинулась, Запад укрепил свои позиции невероятным образом в период Горбачева, Ельцина (80—90-е годы). Но, возможно, это обратимо. И одним из элементов обратимости победы Запада и «цивилизации Моря» над «цивилизацией Суши» является та линия, которую ведет Россия.
Современная Россия, ориентирующаяся на суверенитет, на укрепление своих собственных позиций и на распространение влияния за свои пределы (русская диастола — расширение русского сердца), — эти тенденции являются важнейшими символическими знаками того, что возможна иная геополитика, возможен иной этап мирового развития, возможны иные сценарии геополитического будущего.
Геополитика России, геополитическая история России представляет собой некую целостную картину. Наша история двигалась в направлении освоения и фиксации России как главной сухопутной державы, как Land Power. Наша судьба — «Суша», теллурократия, континент. На всех этапах нашей истории мы видели только и исключительно это. Нет никаких оснований предполагать, что, если тысячи лет мы двигались в данном направлении с переменным успехом, то в следующий период, если нам еще отпущено какое-то историческое время, движение будет в каком-то ином направлении.
Еще очень интересный и важный вывод: кто бы ни контролировал эту территорию — русские, православные, скифы, туранцы, тюрки, монголы, мусульмане — они всегда были от нее зависимы с точки зрения не только своих стратегических интересов, но и с точки зрения своей социологической особенности.
Общество Евразии — это общество авторитарно-народное было, есть и будет.
Могут поменяться идеологии — мы видели, как они на протяжении русской истории менялись. Могут поменяться этнические акторы, которые контролируют эту территорию, — тоже мы видели: много раз менялись. Но есть некоторое геополитическое постоянство, то есть то, что евразийцы (русские) называли «место развития». Тоже важный термин: «место развития». Он означает, что в определенном месте существует определенный тип развития.
Наше место развития, Евразия, диктует нам определенную логику, к которой тяготеет не только стратегия, но и общество в разных исторических этапах. И если мы все это (нашу геополитическую историю России) сложим в одну последовательную, логичную схему, то увидим не только смысл прошлого, но поймем место настоящего в этом прошлом. Мы сможем определить для себя геополитическое будущее, а также его анализировать, включая в наш социологический и геополитический и, соответственно, политологический и даже политический анализ того мира, в котором мы живем и который собираемся строить.
Новая формула Путина
Не так давно в своем послании Федеральному собранию в день 20-летия принятия Конституции президент России Владимир Путин решительно выступил в защиту консервативных ценностей, благодаря которым Россия сможет противостоять идущему с Запада размыванию норм морали. Для подтверждения этого постулата Путин цитировал философа Бердяева, который считал, что «смысл консерватизма не в том, что он препятствует движению вперед и вверх, а в том, что он препятствует движению назад и вниз, к хаотической тьме». Это весьма точное определение, так как вносит фундаментальное различие в понимание прогресса: из расплывчатого и обобщенного инерциального движения, гарантированного слепым роком развития, он превращается в избирательную и продуманную стратегию, где нечто осознанно поощряется, а нечто столь же осознанно блокируется. Это и есть сущность консерватизма: она состоит не в противопоставлении прогрессу, но в дифференциализме и избирательности; развитие здесь неотделимо от духовного и нравственного целеполагания вопреки либеральному пониманию: прогресс ради прогресса, развитие во имя развития. Как отметил Владимир Путин, сегодня во многих странах пересматриваются нормы морали и нравственности, при этом от общества требуют не только признания равноценности различных политических взглядов и идей, но и «признания равноценности добра и зла», что, по мнению главы государства, как раз и является нарушением демократии: «В мире все больше людей согласны с позицией России по сохранению традиционных ценностей, по укреплению традиционной семьи, поддержанию ценностей религиозной жизни, не только физической, но и духовной», — отметил глава государства. «Конечно, это консервативная позиция», — не скрывает президент. Чуть ранее, на одной из встреч с журналистами, Путина попросили помочь с причислением президента РФ к тому или иному политическому течению: «Говоря о политической философии, могу сказать, что ваша политическая философия — загадка, — заявил один из журналистов. — Хотел бы спросить вас: вы консерватор, марксист, либерал, прагматик? Кто вы, какова ваша политическая философия?». Путин определил себя как прагматика с консервативным уклоном: «Мне, пожалуй, даже будет трудно это расшифровать, но я всегда исхожу из реалий сегодняшнего дня, из того, что происходило в далеком и недалеком прошлом, и пытаюсь эти события, этот опыт спроецировать на ближайшее будущее, на среднесрочную и отдаленную перспективы. Что это такое: прагматичный подход или консервативный, вы уж сами, пожалуйста, определите». Попробуем еще раз, по прошествии тринадцати лет нахождения Владимира Путина у власти, определить новую формулу Путина, суть его сложившейся на сегодняшний день политической философии, в определении которой сам Путин все больше отдает предпочтение консерватизму и традиции. Все еще не до конца разгаданный Путин дал нам наконец-то понять: суть его мировоззрения нужно искать в направлении, которое обозначается одним простым словом — «консерватизм». Определенности стало больше, но Путин изменил бы себе, если бы раскрыл карты до конца. Теперь полем загадки стало само понятие «консерватизм». Что, собственно, под этим следует понимать? Ответ на вопрос «Кто он, мистер Путин?» мы получили: «Мистер Путин — консерватор». Но теперь насущным становится другой вопрос: «What does “conservatism” mean in modern Russia?» — «Что надо понимать под “консерватизмом” в современной России?». Именно этот вопрос политики, политологи и следящее за развитием бытия избранное население будут решать в ближайшие годы.
Основы консерватизма
Консерватизм в самом общем смысле означает положительную оценку исторической традиции, рассмотрение политико-социальной истории государства и нации как образца для подражания, стремление сохранить преемственность национально-культурных корней народа. Прошлое во всех разновидностях консерватизма рассматривается со знаком плюс. Не все в прошлом может быть оценено равнозначно, но никакой последовательный консерватор не станет однозначно очернять ни один из периодов в истории собственного народа и государства. Именно это имеет в виду Путин, когда говорит о том, что «сегодня Россия испытывает не только объективное давление глобализации на свою национальную идентичность, но и последствия национальных катастроф ХХ века, когда мы дважды пережили распад нашей государственности. В результате получили разрушительный удар по культурному и духовному коду нации, столкнулись с разрывом традиций и единства истории, с деморализацией общества, с дефицитом взаимного доверия и ответственности. Именно в этом многие корни острых проблем, с которыми мы сталкиваемся». Более того, консерватизм исходит из обязательной предпосылки о наличии у народа и государства определенной исторической миссии, которая может варьироваться от универсального религиозного мессианства до скромной уверенности в ценности своей национальной самобытности. Настоящее, прошлое и будущее связываются в глазах консерватора в единый целостный проект. Консерватор, принимая любое политическое или экономическое решение, всегда обращается к прошлому и задумывается о будущем. Консерватор мыслит вехами, эпохами, а не сиюминутными выгодами. Его горизонт: и временной, и географический, и ценностный — всегда обширен, в отличие от либерала и представителя «компрадорских элит», пагубность деятельности которых в 1990-е однозначно негативно оценивает Путин, настаивающий на неизбежности складывания новой идеологии: «После 1991 года была иллюзия, что новая национальная идеология, идеология развития, родится как бы сама по себе. Государство, власть, интеллектуальный и политический класс практически самоустранились от этой работы, тем более что прежняя, официозная идеология оставляла тяжелую оскомину. И просто на самом деле все боялись даже притрагиваться к этой теме. Кроме того, отсутствие национальной идеи, основанной на национальной идентичности, было выгодно той квазиколониальной части элиты, которая предпочитала воровать и выводить капиталы и не связывала свое будущее со страной, где эти капиталы зарабатывались». Консерватор является носителем национальной культуры, предан ей, силится соответствовать ее нормативам. Консерватор всегда делает над собой усилие: от обязательной молитвы до умывания холодной водой по утрам. «Необходимо историческое творчество, синтез лучшего национального опыта и идеи, осмысление наших культурных, духовных, политических традиций с разных точек зрения с пониманием, что это не застывшее нечто, данное навсегда, а живой организм. Только тогда наша идентичность будет основана на прочном фундаменте, будет обращена в будущее, а не в прошлое», — утверждает Владимир Путин, подтверждая тем самым свой консервативный настрой в привязке идеи государства к его культурно-историческим корням.
Фундамент российского консерватизма
Российский консерватизм на нынешнем этапе также имеет свой фундамент. Выявить его несколько сложнее, но возможно. Для этого есть несколько основополагающих, незыблемых параметров, идущих «от обратного». Современный российский консерватизм не может быть строго коммунистическим. Это течение следует назвать либо «реваншизмом», либо «реставрацией». Коммунистическая догматика всегда отрицала преемственность советским строем «царизма» и осмысляла в исключительно черных красках период новейших демократических реформ. Следовательно, ортодоксальный коммунизм не является полноценным консерватизмом. И это тот признак, который строго соответствует Путину, без всяких оговорок. «Мы ушли от советской идеологии, вернуть ее невозможно», — заявляет Путин в своей «Валдайской речи». Современный российский консерватизм не может быть либерал-демократическим. Несмотря на то, что именно либерал-демократическая модель в экономике и политике была идейной платформой победивших реформаторов в ельцинский период, она является революционной и настаивает на радикальном разрыве как с советским прошлым, так и с наследием царизма, что неприемлемо для Путина: «Практика показала, что новая национальная идея не рождается и не развивается по рыночным правилам. Самоустроение государства не сработало, так же как и механическое копирование чужого опыта. Такие грубые заимствования, попытки извне цивилизовать Россию не были приняты абсолютным большинством нашего народа, потому что стремление к самостоятельности, к духовному, идеологическому, внешнеполитическому суверенитету — неотъемлемая часть нашего национального характера». Здесь Путин четко дает понять, что он не сторонник национально-исторического нигилизма, исповедуемого либерал-демократами, в ответ на который Путин заявляет: «Мы должны гордиться своей историей, и нам есть чем гордиться. Вся наша история без изъятий должна стать частью российской идентичности. Без признания этого невозможно взаимное доверие и движение общества вперед». Современный российский консерватизм не может быть и чисто монархическим, так как тогда следовало бы вычеркнуть из национальной истории и советский, и новейший либерал-демократический периоды. Здесь Путин совершенно прав, обращая внимание на то, что монархисты, «идеализирующие Россию до 1917 года, похоже, так же далеки от реальности, как и сторонники западного ультралиберализма». Особенность российской политической жизни в ХХ веке такова, что основные ее этапы находились друг с другом в прямом и жестком концептуальном противоречии, сменяли друг друга не по линии преемственности, но через революции и радикальные разрывы. Это ставит перед формулой современного российского консерватизма серьезные проблемы: преемственность и идентичность России и русского народа не лежат на поверхности; для выхода на последовательно консервативные позиции необходимо предпринять усилия, возвышающие нас до уровня нового исторического, политического, цивилизационного и национального обобщения. Поэтому современный российский консерватизм не данность, но задание. Последовательный российский консерватизм должен связывать воедино исторический и географический пласты национального бытия. Оптимальной формулой такого консерватизма является веер евразийских обобщений и интуиций. Евразийцы уже в первые годы советской власти настаивали на цивилизационной преемственности СССР в отношении Российской империи. Об этом же говорит и Путин. На самом же деле размышление о современном российском консерватизме перекликается с размышлениями о евразийстве, синтезирующем русскую политическую историю на основании уникальной геополитической и цивилизационной методологии.
Подмена консерватизма
Некоторая неготовность сделать евразийство официальной идеологией современной России оставляет свободное пространство для разнообразных демагогических демаршей вокруг толкования консерватизма. Так, вчерашние либерал-демократы, привыкшие к готовым интеллектуальным рецептам из-за океана, явно намереваются предложить нам под видом консерватизма прямолинейный римейк с англосаксонского (точнее, с американского) оригинала. В США есть собственная традиция консерватизма, которая, как и положено, исходит из приоритета национальных интересов США, наделена серьезным мессианством («американская цивилизация как пик человеческой истории»), чтит прошлое и стремится сохранить и упрочить позиции своей великой державы в будущем, исповедует верность патриотическим ценностям, религиозным, политическим, социальным и культурным нормативам, выработанным в ходе исторического развития. Это естественно, и сегодня американский консерватизм закономерно процветает — США достигли небывалой мировой мощи, что внушает ее гражданам вполне обоснованное чувство гордости и уверенность в своей правоте. Но прямой перенос «республиканского» американского консерватизма на российскую почву дает абсурдный эффект: получается, что «сохранению» («консервации») подлежат те ценности, которые не только не являются традиционными для русской истории, но которые практически отсутствуют и в современном российском обществе, всячески противящемся их внедрению. То, что для американской цивилизации — ценность, для русских — грех и безобразие. То, что они уважают, нам противно. И наоборот. Русь двигалась на Восток. США — на Запад. Да, мы проиграли, а они выиграли. Они оказались сильнее. Но по нашей логике не в силе Бог, а в правде. И правда — в нашей русской цивилизации. Так говорит полноценный и последовательный российский консерватизм. Очевидно, что американский консерватизм говорит нечто прямо противоположное. Глобализм может признаваться, а может подвергаться критике в самих США. Это их проект мирового господства, и с ним часть американского общества согласна, а часть — нет. Нам же он навязан извне. Мы можем смириться и признать поражение, встав на сторону американской системы ценностей. Такая позиция возможна, как возможен коллаборационизм. Но это — нечто противоположное консерватизму, и Путин недвусмысленно отвергает этот сценарий, указывая на невозможность прямого переноса заимствованных с Запада идеологических моделей на нашу почву: «…грубые заимствования, попытки извне цивилизовать Россию не были приняты абсолютным большинством нашего народа. Прошло то время, когда готовые модели жизнеустройства можно было устанавливать в другом государстве просто, как компьютерную программу». Каждый народ имеет свой собственный консерватизм, так как каждый народ вырабатывает свою систему ценностей — это и есть его национальная самобытность. Культурный результат американской истории не имеет ничего общего с культурным результатом русской истории. Консерватор же остается верным своей традиции, своему народу, своему идеалу не только тогда, когда все это находится в зените славы, но и когда это попираемо и презираемо всеми. Российский консерватор старается говорить со сторонниками глобализации через шелковый носовой платок. «Мы видим попытки тем или иным способом реанимировать однополярную унифицированную модель мира, размыть институт международного права и национального суверенитета. Такому однополярному, унифицированному миру не нужны суверенные государства, ему нужны вассалы. В историческом смысле это отказ от своего лица, от данного Богом, природой многообразия мира. Россия с теми, кто считает, что ключевые решения должны вырабатываться на коллективной основе, а не по усмотрению и в интересах отдельных государств либо группы стран», — отвечает Путин. Либеральный консерватизм возможен и реален, но только не в России.
Правый консерватизм
Если либеральный консерватизм есть бессмыслица, то правый консерватизм, напротив, вполне приемлем и естествен. Правым консерватором в современной России является тот, кто, стремясь к возрождению имперского мирового величия Отечества, к хозяйственному процветанию нации, подъему нравственности и духовности народа, считает, что к этой цели нас приведут умелое использование рыночных механизмов и система ценностей религиозно-монархического, централистского толка. Наблюдая за Путиным все годы его президентства, можно убедиться, что он видит консерватизм именно так. Такой правый консерватизм теоретически может акцентировать либо культурно-политический (усиление позиции традиционных конфессий, возрождение национальных обычаев, восстановление некоторых социальных, общественных и политических институтов), либо экономический аспекты. В экономике право-консервативный проект логически должен развиваться в русле теории «национальной экономики», обобщенной немецким экономистом Фридрихом Листом и примененной в свое время в России графом Сергеем Витте. Можно назвать этот проект «экономическим национализмом». Его экстремальная формула звучит приблизительно так: полностью свободный внутренний рынок с жесточайшей системой таможенного контроля и скрупулезной регламентацией внешнеэкономической деятельности, с учетом интересов отечественных предпринимателей. Национальная экономика не предполагает национализации крупных монополий, но настаивает на консолидации крупного бизнеса вокруг политической власти с прозрачной и внятной для всех целью совместного решения общенациональных задач, укрепления державы и процветания всего народа. Это может решаться с помощью определенного «патриотического кодекса», предполагающего моральную ответственность национальных предпринимателей перед страной, народом и обществом. Эта модель в сегодняшнем политическом спектре приблизительно соответствует тому, что принято называть «правым центром». Похоже, что самому президенту более всего импонирует именно такой подход.
Левый консерватизм
Для полноты картины рассмотрим и другую сторону, составляющую полную картину консерватизма как идеологии, — левый консерватизм. Обычно понятие «левый» не ассоциируется с консерватизмом. «Левые» хотят изменений, «правые» — сохранения того, что есть. Однако в политической истории России социальный общественный сектор, относящийся к системе «левых» ценностей, всегда был чрезвычайно значимым и развитым, и общинный фактор, как в форме церковной соборности, так и в виде советского коллективизма, давно и прочно стал устойчивой политической и хозяйственной традицией. Мы встречаем осмысленное сочетание социализма и консерватизма уже у русских народников, которые были преданы национальным моментам и стремились к справедливому распределению материальных благ. Левый консерватизм существовал и в других странах — социал-католицизм во Франции и Латинской Америке, германский национал-большевизм Никиша, Фридриха Георга и Эрнста Юнгеров и т. д. В современной российской политике социальный консерватизм также имеет полное право на существование. Не ставя под сомнение цивилизационные ценности России, стремясь к укреплению ее геополитической мощи и национальному возрождению, левый консерватизм считает приоритетным путем реализации этой задачи национализацию недр, крупных частных компаний, занятых экспортом природных ресурсов, а также увеличение государственного контроля в области энергетики, транспорта, коммуникаций и т. д. Что-то из этих элементов реализуется Путиным, что-то нет. Такой социал-консерватизм может настаивать на своеобразном прочтении российской политической истории, отстаивая закономерность и естественность советского периода, вписывая его в общую национальную диалектику. Но и левый, и правый консерватизм по определению должны совпадать в своей конечной цели — возрождения государственности, сохранения национальной самобытности, всемирного возвышения России, верности истокам. Ясно одно: встав на путь консерватизма, освоив правый его сектор, Путин, рано или поздно, но неизбежно, придет и к его левым составляющим, чтобы сделать идеологическую картину русской государственности полноценной. Консерватизм при Путине зреет. Он еще зелен и неустойчив, его заносит в крайности под воздействием агрессивных попыток сбить его с магистральной линии, со стороны как доморощенных республиканцев, так и правых глобалистов. Но нечто неотвратимо приближается. Так возвращается Командор или тень отца Гамлета. Чем больше русские сталкиваются с нерусскими, тем стремительнее они ищут точку опоры в самих себе. Запрос на консерватизм неуклонно и неумолимо растет. Путин все более благосклонно относится к русскому большинству, все меньше доверяя «квазиколониальной части» своей собственной элиты. Он инстинктивно знает, откуда что дует. И не ошибается в этом. На каком-то этапе политическая история попросит нас уточнить позиции и дать более точные формулировки. В какой-то момент — я убежден, что на нашем веку, — решительный час наступит. Понятно, что никто в покое нас не оставит и что нам придется отвечать что-то всему миру: и богатому Западу, и бедному Югу. Придется изъясняться внятно и со своим народом. Ничего экстравагантного, что опять захватило бы и раскололо общество, очевидно, уже придумать не удастся. Мы обречены на консерватизм, нас подтолкнут к нему извне и изнутри.
Идеология Новой России
С чисто логической точки зрения прагматический консерватизм Путина может оставаться «прагматическим» только на протяжении вполне определенного срока. В какой-то момент и — этот момент близок — от него потребуется очень серьезный выбор, к которому, кажется, он еще не совсем готов или не готов вообще: выбор между прагматизмом и консерватизмом. Дело в том, что пока консерватизм сопряжен с прагматизмом, он не может стать полноценной идеологией — это скорее настроение, установка, симпатия, эмоция, нечто интуитивное, но не концептуальное. Путин, безусловно, консерватор — таким его видят и хотят видеть и союзники, и противники; и он, безусловно, прагматик, но таким себя видит и хочет видеть только он сам. Его прагматизм субъективен, а значит — относителен и эфемерен, его консерватизм объективен, и поэтому только он имеет значение и исторический смысл. Прагматизм сдерживает превращение консерватизма в идеологию, а, следовательно, препятствует прогрессу и развитию в том самом, бердяевском смысле слова, к которому обращается, как мы видим, и сам Путин. Снова можно вспомнить наш тезис, развитый в отдельной книге, посвященной нынешнему президенту РФ — «Путин против Путина». На сей раз Путин-прагматик — против Путина-консерватора. До последнего времени они уживались, но приходит время проблематизации этого внутрипутинского союза. Сами события потребуют от Путина работы над собой. Прагматизм исключает идеологию, потому что требует от лидера поступать в сложных условиях в силу сложившихся обстоятельств, тогда как идеология подталкивает к тому, чтобы складывать сами эти обстоятельства в соответствии с идеологическими установками, то есть идеология предустанавливает стартовые условия интерпретации и лишь потом действует в них. Так поступает любая идеология — либеральная в том числе: вначале идеология конституирует мир, затем начинает его менять, жить в нем. И пока идеологические законы действуют (а либерализм сохраняет свои доминирующие позиции), мы живем в тех условиях, которые возникают не спонтанно, но кем-то создаются. Поэтому быть прагматиком-консерватором в мире, построенном по либеральным законам, можно лишь в ограниченном смысле, ограниченный срок и с ограниченной степенью успеха. Путин демонстрирует, что это возможно и довольно долго. Но… не бесконечно долго. Придет момент (который Путин старательно стремится отдалить), когда эта стратегия джиу-джитсу (использование энергии противника в своих интересах) исчерпает свою применимость. Тогда-то и встанет вопрос: либо прагматизм (признание статус-кво и пассивное следование за законами мировой игры, устанавливаемыми либералами), либо консерватизм (а это значит возведение консерватизма в идеологию). Этот момент приближается неумолимо, Путин его старается отложить. Пока успешно. Но всему есть предел… Допустим, что Путин будет продолжать балансировать на грани: уже не между консерватизмом и либерализмом, как в предыдущие сроки его президентства, что вылилось в откровенно неудачную четырехлетку Медведева, а между консерватизмом и прагматизмом? Кстати, такая постановка вопроса уже ближе к делу. Тем не менее представим, что Путин держится за прагматизм железной хваткой и блокирует тем самым превращение консерватизма в идеологию и его полноценное воцарение в России в качестве идеи-правительницы. Что тогда? Тогда на исторический запрос будет вынужден отвечать другой лидер. Не хочет он — найдется кто-то еще. Да, пока на горизонте и близко соответствующей фигуры нет. Будет. Самого Путина как политика когда-то не было. Но история затребовала именно такую фигуру, и она появилась. И этой фигурой был Путин. И справился с задачей прекрасно. Он не дал исчезнуть России. И поэтому мы рассуждаем о консерватизме с оптимизмом (хотя и сдержанным). Если Путин не хочет сам становиться консерватором, пусть подготовит другого. Преемника, но на сей раз настоящего. Он может не захотеть. Тогда такого преемника подготовит история.
Запрещенный реализм Путина
…Надо сказать, что до сих пор ни одного внятного слова по поводу постмодернистских, постпозитивистских теорий наши международники ни в МГИМО, ни где-то еще произнести просто не способны. Это превышает их интеллектуальные возможности. Заседая на занятиях, посвященных постпозитивизму в международных отношениях, они рассказывают об опере Сорокина, о постмодернистском искусстве, о Гельмане, о «Пусси Райот», о черт-те чем, только не о постпозитивизме. Потому что это по каким-то причинам остается за пределом их интеллектуального аппарата.
В отношении постмодернизма в России существует большой спектр точек зрения, и все они неверны.
• Одни говорят, что это прекрасное явление, и в нем ничего не понимают.
• Другие говорят, что это ужасное явление.
• Третьи говорят, что оно и так само собой разумеющееся.
• Четвертые — что его вообще не существует.
Все четыре точки зрения абсолютно неверны, потому что основываются просто на неспособности к определенным когнитивным стратегиям. Нет достаточных знаний западноевропейского интеллектуального процесса ХХ века в силу того, что мы были от него отгорожены советским временем. И давайте мы простим наших коллег-международников в их неспособности создать внятную российскую версию постпозитивистских отношений, отсутствие у нас феминистского направления, отсутствие внятных конструктивистов, которые излагали бы Вента. И, как бы сказать корректно, этого нет и не может быть в силу того, что постпозитивизм требует очень фундаментального опыта позитивизма. Постмодернизм требует проживания модерна. Такого полноценного, полновесного модерна. Прохождения различных когнитивных и гносеологических баталий в рамках философских парадигм, изучение самых разных гуманитарных дисциплин в двадцатом веке, прохождения вместе с Западом этого пути — ХХ века (а это очень серьезный путь).
И вот на выходе из этого процесса, такого роскошного, полного и саморефлексирующего модерна появился постмодернизм. Это следующая стадия рефлексии. Но если первая стадия, предшествующая, не пройдена, то о какой следующей стадии мы можем говорить? Поэтому было бы совершенно нормально, если бы в процессе модернизации после постсоветского периода мы не знали бы ничего о постпозитивистской теории международных отношений. И у нас они не изучались, и никто в них ничего бы не понимал.
Кстати, интересная вещь. Мы говорим о нашей стране. А у меня была очень любопытная встреча с переводчиком моих текстов о теории многополярного мира, моей книги, на французский язык. Буквально пару недель назад, во Франции. Вдруг мне этот переводчик, специалист в международных отношениях, говорит: «Вы знаете, вы, русские, так прекрасно знаете постпозитивизм. А у нас во Франции, в отличие от вас, все ограничивается только реализмом, либерализмом и неомарксизмом. Мы совсем не знаем этих идей. Они у вас так хорошо изложены, это замечательно. Мы ругаем вас, а вы все, русские, такие молодцы. Как вам везет, что у вас так хорошо развиты международные отношения, а у нас, бедных французов, постпозитивизму должного внимания не уделяется».
Это я говорю к чему? К тому, что некоторое мое раздражение относительно наших российских ученых, которые не знают постпозитивизм в международных отношениях, может быть, необоснованно, поскольку французские специалисты говорят, что и они его плохо понимают и знают. Хотя Франция — это родина постмодернизма, обратите внимание. И там достаточно мощно развивается и социология. Роман Аарон вообще является классиком социально-политической мысли Франции. То есть социологические измерения там крайне развиты. Бурдье — француз. Вообще, социология — это французское явление в Дюркгеймовском оформлении. Поэтому не будем так уж ругаться, и снисходительно относиться к нашей школе. Мы прогуляли по уважительным причинам. У нас было семьдесят лет закономерного отпуска. Мы были вне европейской культуры, к лучшему или к худшему, мы где-то отсутствовали, отлучились.
Ладно, отлучились. Но как должно было происходить восстановление, как я уже говорил, классической модели международных отношений?
У нас должно было сложиться две школы:
• одна из них говорила бы — Россия превыше всего;
• другая — демократия превыше всего.
И эти две школы должны были с 91-го года обсуждать между собой две модели: реализм и либерализм. Все совершенно в отрыве от советского прошлого, заново, как и маркетинг Адама Смита мы изучали заново. Полное перепрофилирование должно было быть. Сколько это должно было бы занять времени? Ну, года два-три. Где-то к середине 90-х годов, поскольку Россия появилась на исторической арене как новая страна. Вот через два-три года, по мере копирования либеральных учебников по экономике, маркетингу, выхода книги Карла Поппера «Открытое общество и его враги» — библии либерализма. И где-то к этому периоду, приблизительно к середине 90-х, у нас должны были сложиться эти две школы: реализм и либерализм.
Вот этого не происходит ни тогда, ни, что самое поразительное, сейчас. Группа Иванова пишет с реалистских позиций, а группа Петрова — с либеральных. Сразу десяток имен, в МГИМО, например и где-то еще, в МГУ или МГГУ, или в Высшей школе, структурируются две эти модели и начинают оформляться. Ничего подобного.
Я участвовал в дебатах где-то полгода назад, на одном из каналов, с Порхалиной. Есть такая женщина, специалист по международным отношениям от России в ООН, очень уважаемый человек. Когда я сказал: «А как же Моргентау?», — она сказала, что такого не существует. «Есть мы, вот я, Порхалина, а остальные фашисты. Вот, всё. Больше никого нет». Порхалина против фашизма. Приблизительно так же: Венедиктов — против фашизма.
У нас, получается, если убрать эмоциональный и персоналистский момент, что сложилось? Рассматриваем по модулю, с чисто научной точки зрения.
У нас сложилась школа либералов в международной политике. То есть в России в международных отношениях доминирует парадигма, которая называется либеральной и которая рассматривается как догма, по сути дела, вставшая на место советской социалистической догмы. С точки зрения либеральной парадигмы все те, кто не является либералами — это особый случай, это не в Америке, где все те, кто не является либералами, скорее всего, являются реалистами. То есть, если ты не либерал, то ты, скорее всего, реалист, хотя, может быть (меньше вероятность), и неомарксист; ну и в принципе, если ты такой вот молодец, то ты постпозитивист. Все.
Здесь же возникла другая ситуация. Есть либералы, которые называют себя не либералами, а просто международниками. То есть, понятие «либерал» совпало с понятием «международник». И противниками международников стали фашисты. Картина абсолютно искаженная. Естественно, что если либералы — это международники, а нелибералы — это не международники, а фашисты, то разговор и дебаты в нашем обществе относительно модели международных отношений приобретают заведомо искаженный характер. То есть, международники против фашистов. Дальше еще: хорошие люди против плохих. На стороне хороших людей знания, которые совпадают с либеральной парадигмой международных отношений, ну а со стороны плохих — маньяк, газовая камера, ГУЛАГ и безобразия. Вот приблизительно как до сих пор обсуждается эта тема.
Признанные специалисты в российских международных отношениях считают абсолютно невозможным, ненужным, недопустимым никакой реализм, никакого Моргентау, никакого Карра, никакого Спикмана; просто этого не существует. Есть только теория международных отношений в чистом виде, которая представляет собой либерализм. Это в науке.
А в политике, конечно, не так. Потому что в политике происходят очень интересные процессы. С середины девяностых годов, после министра Козырева, который был убежденным либералом (каждый министр может быть либералом, может быть реалистом, если он ученый), приходит министр-реалист — Евгений Максимович Примаков. Он меняет доктрину Козырева, которая была в международной политике России классическим либерализмом. То есть, идея была такая: во имя мира надо отказаться от всех национальных интересов. Потому что главная задача — это мир. Мир с кем? С демократическими обществами. Демократии друг с другом не воюют. Соответственно, Россия распиливает ракеты как можно быстрее, и войны не будет. Распилил ракету и, значит, стал демократией. А демократии друг с другом не воюют, а зачем ракеты, раз мы демократия? И так далее.
Когда ему говорили: «А НАТО почему не распиливает ракеты?».
Он говорит: «А потому что мы не допилили все. Вот мы все допилим, и НАТО начнет. Когда они увидят, что мы беззащитны, они просто не будут больше вооружаться. Ведь демократии друг с другом не воюют? Логично?».
На самом деле абсолютно логично, совершенно логично. Это либеральная парадигма, она так и мыслит. И в нашей российской политике она имела политическое выражение в лице доктрины Козырева. Она имеет политических сторонников в лице либеральных партий, которые так и строят свои программы. Они имеют право? Конечно. И, в принципе, они имеют право захватить себе половину дискурса. И, соответственно, они имеют право институционализировать свою либеральную модель в теории международных отношений и отстаивать ее. Но единственное, на что они не имеют права, — выдавать либералов за все. Они должны выдавать с точки зрения научной логики этой дисциплины либералов за либералов, противостоящих реалистам.
Дальше они говорят: мы либералы, мы не любим реалистов, мы такие-то, такие-то, наша рефлексия либералов такова, ваша рефлексия реалистов такова, давайте спорить. У нас есть общие интересы. Мы сторонники демократии, сильного процветающего общества. Да, — скажут реалисты, — и мы сторонники, отлично. Вот у нас есть общие точки зрения, мы все хотим хорошего людям и нашему обществу.
— Хотим хорошего?
— Да, хотим.
— Никто из нас не больной?
— Нет, все здоровые. И реалисты здоровые, и либералы. Давайте будем спорить.
Так развиваются международные отношения на Западе. Причем там, где есть либералы, есть реалисты как оппоненты, и наоборот. Могут быть или не быть неомарксисты и, уж совсем дополнительно, могут быть или не быть постпозитивисты. Постпозитивисты — это как соль, как мак на булочках. Можно и так булочку есть, без мака. Они придают вкус современной науке, они придают науке философское, социологическое измерение. Они делают из международных отношений социологию международных отношений, об этом мы не раз говорили.
Поэтому жалко, конечно, выбрасывать постпозитивистов, но на самом деле, просто с точки зрения чистой логики, как минимум, для международных отношений, для буржуазной национальной страны нужны реалисты и либералы.
Либералы у нас были, но они не называли себя либералами, называли себя всем — международниками. А все остальные были просто какие-то недоумки.
При этом такой заход в сферу интеллектуальных когнитивных технологий был чрезвычайно разрушителен. В такой ситуации воспроизводить профессиональных международников, которые бы в России могли применять эти парадигмы, просто было невозможно. Потому что отсутствовала базовая хорда международных отношений как дисциплины, состоящей в споре либералов и реалистов. И даже не говоря о том, чтобы продвинуть неолибералов с неореалистами — ладно, но просто либералов и реалистов.
Если Порхалина не знает, кто такой Моргентау и что такое реализм и представляет Россию в ООН, то дело уже совсем плохо. Дело уже фундаментально плохо. Это как бы абсолютно патологически, ненормально, и не зависит от ее личных убеждений. Она обязана сформулировать свою либеральную позицию против реалистов. Для этого должны быть реалисты. Но если реалистов нет, то кто будет спорить? И если те, кто противостоит либералам, попадают в категорию совершенно неприемлемых граждан, то диалога не возникает.
При этом что удивительно? У нас был министр международных отношений — реалист. Потому что Примаков — это типичный реалист в международных отношениях. Но школы своей он не создал. Никакого направления, своей идеи он теоретически никак не закрепил и свою политику он с реалистскими парадигмами не соотнес. Как действует политика без интеллектуального оснащения? Поэтому, несмотря на то, что министром, а потом и премьер-министром некоторое время был человек с реалистскими взглядами, проводивший российскую политику как реалистическую политику, в самом деле, институционализации реализм в России не получил. Несмотря на то, что есть Примаков, доктрины его нет. «Доктрина Примакова» — это то, что описывают западные специалисты международных отношений, анализируя Примакова.
Например, признак проведения реализма Примаковым. Примаков летит в девяносто восьмом году на встречу с руководством США в Америку. В это время, находясь над Атлантикой, он получает информацию, что войска НАТО бомбят Белград. Вот что сделал бы Козырев, например? Что бы сделал гипотетический либерал? Он долетает, приходит и говорит: «Давайте вместе разоружим Сербию полностью и тогда не будем воевать с ними вместе. Давайте ее демократизируем, мы вам поможем со своей стороны, вместе. Вы демократия, мы демократия, демократизируем Сербию, сбросим Милошевича, сдадим его». Так Черномырдин и поступал, на самом деле, так поступали мы в какой-то период.
А Примаков, услышав эту информацию, говорит: «Разворачиваемся».
И совершает разворот над Атлантикой. Этот разворот над Атлантикой символизирует, что Россия в лице Примакова переходит на реалистские позиции, потому что Сербия — друзья, Сербия — наши интересы, и неважно, есть там демократия или нет, мы ее поддерживаем, потому что они наши. То есть, это национальные интересы, это собственный суверенитет, это идея того, что Запад может быть другом, а может быть врагом, и поэтому он не является безусловным другом, и не всегда ориентация на либерализацию и модернизацию должна полностью означать сближение с Западом. В определенных случаях сближаемся, в определенных случаях нет. Реализм? Реализм. То есть, Россия — субъект. Россия мыслит в рамках своих национальных интересах и эгоистически оценивает в них то, что происходит со ее друзьями. Сербы наши — значит, мы за них. Кто-то там не наш, кто-то ваш — значит, мы против них. Этот реалистский подход воплощен был в Примакове. Но научного развития не получил…
Далее приходит Путин, который является просто законченным реалистом во внешней политике. Все, что делает Путин, — это самый что ни на есть кондовый, классический реализм:
• он сближается с Западом, когда он считает, что это выгодно России;
• он является либералом в экономике и западником в тех случаях, когда это выгодно России, что привело к модернизации;
• и он является противником Запада, выступает против Америки, не мешкая, вступает в войну с Грузией, когда речь идет о национальных интересах России и за пределами России.
Он классический реалист. Путин является выразителем классической реалистской парадигмы международных отношений, а не либеральной нисколько. Его понятия, его зацикленность на суверенитете, на безопасности, на вертикали власти, его укрепление территориальной целостности России, его идея отстаивания Газпрома и национализации нефтяных областей не в пользу себя, а в пользу государства, борьба с частным сектором в тех вопросах, когда он занимает слишком либеральную позицию, — все аспекты внешней политики Путина, представляют собой реализм.
То есть, у нас уже помимо того, что в международных отношениях до сих пор доминирует либерализм как единственная парадигма, есть уже тринадцать лет президент-реалист (4 года из них — премьер), который строит модель международных отношений по модели реализма.
И вот очень интересно — и где же это в теории международных отношений отражается? Сегодня, уже после двенадцати лет доминации такого авторитарного реалиста Путина, есть эти школы? До сих пор школ нет. Политики есть — Рогозин, Глазьев, сейчас вот создан Изборский клуб. Это представители реалистской модели международных отношений, которые все видят именно так, как видели Карр, Моргентау, структурные неореалисты, которые считают, что безопасность — это базовая модель, которые признают теорию хаоса и признают, что каждая страна действует в своих интересах. Они видят мир реалистски. Такие политики-интеллектуалы есть. Но их представителей в науке международных отношений нет. То есть, есть факт, но нет его интеллектуального обоснования. Есть содержание политического процесса, но нет его когнитивного, соответствующего ему аппарата. До сих пор в МГИМО и международных экспертных сообществах продолжает доминировать либеральная модель.
И вот здесь нам надо сказать, что спор реалистов и либералов в интеллектуальной сфере, открыто, концептуально, без экивоков, без двусмысленностей, в России на самом деле вообще не ведется. Хотя, что самое интересное, таким образом эти две позиции — либералов и реалистов — уводятся в бессознательное, превращаются в какую-то своеобразную расовую борьбу.
Хотя либералы и реалисты могли бы найти общие точки зрения, если они признают легитимность национальной государственности Российской Федерации, государственности России как республики. Они должны были бы теоретически вести свои интеллектуальные споры, свои различные дебаты, обсуждать и общие принципиальные противоречия, и детали, в отношении интересов того общества, к которому они принадлежат. Это должно было бы составлять содержание, становой хребет науки международных отношений, экспертной полемики и одновременно быть представлено в политических институтах. То есть, на самом деле быть так же прозрачно или почти так же прозрачно, как обстоит дело в любом национальном государстве, в любой стране.
Вот это как раз очень интересный момент: с точки зрения международных отношений до сих пор никаких системных реалистов в России, которые просто были бы представителями международных отношений, владели бы аппаратом международных отношений, были бы посвящены в логику международных отношений как дисциплины и анализировали с этой позиции и исторические аспекты, и нашу ближайшую историю, и отстаивали бы позиции в будущем — нет. Научной школы реализма в России не сложилось.
Почему есть у нас либералы и реалисты в политике — понятно. Люди, которые действуют так, как действовали бы либералы и реалисты. А почему у нас нет научных школ, этому соответствующих? Вот это уже менее понятно, и нам как социологам остается сделать только следующую гипотезу: здесь что-то не то. Потому что теоретически, если мы открываем какую-то дисциплину, которая была закрыта, мы должны были бы рассмотреть все ее стороны: и одни, и другие. А нам дается только ровно половина, причем эта половина выдается за целое. Тем самым вся геометрия дисциплины, геометрия науки, геометрия предмета абсолютно искажается, потому что непонятно, с кем спорить. Бой с тенью, что ли? Либералы — кому они противостоят?
И демонизация противников либералов становится просто искажающей позицию самих либералов. Непонятны границы: что они говорят? И непонятно: с кем они спорят? Здесь только одна социологическая гипотеза: Россия, с точки зрения западного сообщества, в том числе интеллектуального, может быть, в первую очередь интеллектуального, во вторую очередь политического, а в третью с точки зрения разведсообщества, — не рассматривалась как полноценное суверенное государство. То есть это государство, которое, как предложил Хобсон (мы о нем говорили), рассматривалось как государство с дефолтным градиентным суверенитетом. То есть как государство, которому нельзя давать право спорить о либерализме и реализме.
Реалисты, ничего не поделаешь, таки могут быть, например Примаков или Путин. А вот систематизация реалистической школы категорически запрещена. Потому что на самом деле реалисты и либералы могут быть на равных там, где признается полноценный суверенитет.
И вот здесь очень интересный момент. Что такое градиентный, или дефолтный суверенитет с точки зрения Запада? Это когда формально страна суверенная, а по сути — нет.
Что значит «по сути — нет»?
Когда нет суверенитета в вооруженных силах. Суверенитет — это способность защитить себя от возможной атаки другого. Но если у тебя нет оружия? Значит, ты не суверенен? Не суверенен. Если недостаточно оружия, чтобы сопротивляться в серьезной войне, и нет дипломатических средств, чтобы пойти под зонтик к другой серьезной стране, чтобы, опять же, защититься в случае агрессии, значит, ты не суверенен. Значит, твой суверенитет является дефолтным, неполноценным, то есть частичным, ущербным (или градиентным).
Второй момент. Если у государства нет экономического потенциала. Оно может быть суверенным номинально, но у него нет экономического потенциала, способного отстоять свои интересы в экономической конкуренции. Это тоже дефолтный суверенитет.
И есть третий дефолтный суверенитет — демографический. Если страна слишком маленькая, в ней живет двадцать человек, Монако, например, все играют в рулетку. Ну не двадцать, несколько тысяч. Короче говоря, в рулетку играть она может, голосовать она может в ООН. Но ясно, что ничего больше, кроме рулетки, она не потянет. Страна, член ООН, княжество. Это тоже дефолт.
Так вот, существует еще один признак дефолтного суверенитета: это интеллектуальная неполноценность, потому что полноценно мыслить мир могут только по-настоящему суверенные государства. То есть кого-то ограничивают санкциями экономическими, на кого-то санкции стратегические идут. Например, Ирану запрещено иметь ядерное оружие. Почему Ирану запрещено, а Пакистану не запрещено? Или Израилю? А вот ответа никакого нет, потому что так Америка хочет, и Россия не против. А если бы Россия была против? Она дала бы, например, Ирану ядерное оружие, и все. На каком основании мы ограничиваем Иран и другие страны в их желании владеть ядерным оружием? А почему мы не ограничиваем Пакистан?
Ладно, Израиль. Израиль — прозападная страна, поэтому можно. А Пакистан-то почему? Почему Пакистан имеет право иметь ядерную бомбу, а Иран — ни в коем случае? Ну, все-таки Пакистан исламское, довольно архаическое общество, там сто девяносто миллионов, радикалы, ваххабиты, а не маленький Израиль. Может быть, Израиль достаточно невинный, а Пакистан-то уж явно виноватый во всем. Бен Ладена где обнаружили? Там, в Пакистане. В Афганистане искали, не нашли. Оккупировали всю стану, не нашли бен Ладена. А в Пакистане нашли. В ядерной стране нашли, обратите внимание. То есть речь идет о том, что есть дефолтный суверенитет.
Так вот, Россия находится под санкциями, только интеллектуального толка.
• У нас есть запрет на некоторые формы мышления — раз.
• На некоторые формы образования — два.
• И на некоторые формы науки — три.
И где-то есть те области, в которых этот дефолт интеллектуальных санкции действует. Если считать, что это само получилось, что русские читают только половину книг о международных отношениях, то они дебилы, что ли? Кстати, английские и французские учебники международных отношений часто начинаются именно с реализма. Потому что реализм считается тезисом, а либерализм считается антитезисом. Соответственно, не могут же они просто пропускать вот это, если они переводят их. Ведь на самом деле где-то должно быть описание того, что международные отношения состоят из двух частей, плюс все остальное, споры реалистов и либералов. Нет. Реализм везде, всегда просто принципиально вымаран из сознания. Это как некая формула, которая необходима для производства ядерного оружия: как только ученый к ней подходит, его отстреливают или он пропадает. То есть, есть определенные санкции. Санкции, которые начинают действовать в тот момент, когда страна пытается перевести свое состояние из дефолтного суверенитета в реальный суверенитет.
• Где-то это касается экономики.
• Кого-то это касается в сфере вооружения.
• А кого-то это касается в сфере интеллектуальной.
Так вот, единственная гипотеза, которую я как преподаватель международных отношений могу принять в качестве рациональной, в том, что отсутствие реалистской парадигмы в преподавании международных отношений связано с режимом определенного санитарного кордона, который действует в нашем обществе на интеллектуальную деятельность. То есть либералы в международных отношениях всегда будут говорить:
— Давайте распилим свои ракеты.
— Демократия с демократией не воюет.
— Давайте пойдем на уступки Западу.
— Давайте откроемся.
— Давайте предоставим свободу всем народам, которые хотят ее получить.
— Давайте сблизимся с Западом.
И то, что Запад подходит к нашим границам, не угрожает нам, потому что они носители свободы и демократии, и если мы действительно не будем представлять никакой опасности, то на самом деле они просто и нас в себя включат, продвинутся и на нашу территорию, поставят свои ракеты. Ну и что? Будут защищать нас от китайцев — это можно услышать на «Эхо Москвы».
Это будет ультралиберализм такой. Конечно, американцы нас защитят. Китайцы уже почти готовы нас схватить, а НАТО медленно-медленно так продвинется к востоку, к востоку и дальше прямо до китайских границ. Там остановится и защитит нас. Вот видение стратегических вооружений вполне в духе Венедиктова.
У меня есть такая гипотеза, что либерализм, доминация либерализма в международных отношениях связана с решением и санкциями против интеллектуального суверенитета. Что если бы мы были полноценным национальным государством в 90-е годы, то мы должны были бы обнаружить эту вторую половину дисциплины международных отношений где-то через пару лет. Уже в эпоху Примакова и уж тем более в эпоху Путина, где президент, все его окружение, все, что он говорит, это в чистом виде реализм в международной политике. И так его и рассматривают западные ученые.
А наши ученые?
Они говорят: «Путин опять ведет страну в тупик. Путин создает предпосылки для коррупционного отсутствия перспектив развития. Путин отбрасывает наше общество назад».
Вот как транслируется в нашей среде американская идея, что Путин реалист. Путин отстаивает свои национальные интересы, всерьез стремясь наполнить суверенитет России содержанием. Вот как считает средний американский эксперт в науке. Но говорить он будет, что Путин ведет страну в тупик. Их понять можно, они на работе. Они знают, что Путин реалист, они тоже реалисты, они американские реалисты.
И для того, чтобы отстоять свою идею, им надо подорвать среди собственного народа Путина уважение к нему и сказать, что он просто ведет страну в тупик, и он коррупционер. То есть они квалифицируют его как опасного, а описывают как плохого, ущербного.
Мы должны его воспринимать как полезного, а описывать как хорошего. Ничего подобного. Все не так. У нас никто в научной среде его как полезное и разумное не рассматривает, а относятся к нему исходя из настроения. То ли он хороший, то ли плохой, в зависимости от погоды, от того, что по телевизору передают, веселую или невеселую песню.
Короче говоря, отсутствие институционального реализма в современной России не может быть случайностью. Это система ограничения нашего интеллектуального суверенитета. А вот теперь вопрос. Почему ни Примаков в бытность премьером или министром иностранных дел, ни Путин до сих пор — не создали школу реализма? Несмотря на разных политических деятелей, которые в этом ключе выступают.
Я думаю, это только по одной причине. Потому что субъективно Путин считает, что идея никакого значения не имеет, наука никакого значения не имеет и образование никакого значения не имеет. Ничем другим это объяснить нельзя, потому что, настаивая на суверенитете в области технологий, суверенитете в области энергетики, суверенитете в области армии, суверенитете в области управления страной как единым территориальным образованием, на жестком противостоянии сепаратизму, то есть десуверенизации, в разных сферах, Путин не противодействует десуверенизации российской интеллектуальной элиты, образования и науки.
То есть у нас наука проходит стадию десуверенизации, по сути дела. Смотрите, мы видим не просто западничество. Мы имеем дело с половинным, обрезанным западничеством. Все международные отношения — чисто западные дисциплины — и реализм, и либерализм. Когда нам предлагают взять западнический учебник, из него заведомо выпиливают половину, просто вырезали и дали.
Это такая передача нам знаний через цензуру. То есть там есть такое, чего русские после восемнадцати лет не имеют права читать, потому что они неправильно истолкуют. Соответственно, эта закономерность очень любопытна.
Теперь мы стоим перед очень интересной перспективой. Хорошо. Путин еще надолго, если спина не разболится, вроде как пара сроков еще абсолютно гарантирована. Ну, казалось бы, сейчас можно было бы создать реалистскую модель. Либералы у нас есть. Все международники и есть либералы. Теперь надо сделать международников и реалистов. Я уже не говорю про всех остальных — хотя бы просто реалистов.
Я думаю, что, наверное, к этому дело и пойдет. И, в принципе, было бы очень логично, чтобы, наконец, с таким бешеным опозданием на двадцать с лишним лет, суверенная Российская Республика, демократическая, национальная, буржуазная и рыночная, с соблюдением прав человека, со всеми атрибутами, внутренними и внешними, западного суверенного общества, наконец-то задумалась бы о том, что в международных отношениях необходимо создать школу реализма. Все предпосылки налицо. Если ее не будет в ближайшее время, я буду думать, что это просто скандал какой-то. Сдерживать это совершенно невозможно, и, в конце концов, это то, что лежит на поверхности, что давным-давно было бы пора сделать.
Теперь такой момент. Можно ли считать реалистической позицию, скажем, нашей кафедры, которая не является либеральной в международных отношениях? Хотя это не имеет значения. Либерализм мы знаем и изучаем, может быть, больше, чем какие-то другие кафедры и институты, связанные с международной проблематикой, и компетентны в этих вопросах. Но почему бы социологическому факультету МГУ и кафедре социологии международных отношений в рамках МГУ не встать на позиции реализма? Почему бы им не выступить в качестве этой школы?
Во-первых, на это можно ответить следующее. Вполне можно создать реалистскую модель. Она несложная, она достаточно хорошо описана, если просто уметь читать на любом, кроме русского, языке. И сразу в первом учебнике международных отношений много релевантной информации. А в двух книгах будет все сказано про реализм. Соответственно, технически сделать это не сложно и на самом деле, казалось бы, давно пора бы этим заняться, в том числе нам.
Но здесь мы вступаем в противоречие с другой моделью, которая сейчас является, на наш взгляд, уже субъективно, более приоритетной: это евразийство и теория многополярного мира. Здесь мы подходим к тому, что мы говорили о теории многополярного мира как об одной из тех парадигм, которых вообще нет в теориях международных отношений, нет ни в классических позитивистских, ни в критических, ни в постпозитивистских.
Даю ответ, почему мы не стали очагом реализма в международных отношениях. Быть реалистами в России с научной точки зрения необходимо, хотя с точки зрения развития или прорыва в науке это просто арьергардно. Это значит взять и перенести на нашу почву то, что на Западе уже давно сказано, это раз.
И, во-вторых, это значит принять западную модель развития общества как нормативную. Вот почему нас не устраивает реализм. Реализм — абсолютно западноевропейская модель международных отношений. И нас интересует взгляд на все теории международных отношений, который был бы не западным. Который был бы многополярным и находился на дистанции по отношению ко всей этой области.
Нас интересует именно социология международных отношений, интерпретация международных отношений как социального и социологического явления. В данном случае нам гораздо ближе постпозитивистский подход к модели международных отношений как организованному дискурсу, властному дискурсу, который состоит из дистрибуции ролей, иерархически распределенных между обществами или государствами первого сорта, второго сорта. И вот эта игра подавлений, которая развертывается не только в сфере войн, экономических контактов, дипломатических контактов, социальных контактов, но и в сфере гносеологической, в сфере текстов, в сфере идей, в сфере концепций, в сфере науки. Как раз модель с точки зрения теории многополярного мира и отвергается.
Реалистов у нас нет, и они должны были быть. Я думаю, что они появятся. Но появятся для того, чтобы вступить в полемику и дебаты уже с новым направлением. Ну, с либералами понятно, это арьергардные бои. Но для того, чтобы вступить в полемику с евразийством и теорией многополярного мира.
И поэтому, на самом деле, нужно понять (для нас это важно), что теоретически, в наших условиях, под реализм в международных отношениях зарезервировано определенное место. Как будто формочка готова полностью, ее только залить, и получится кулич, или какая-нибудь булочка просто. Все готово: есть тесто, есть модель, есть заказ. Но в конечном итоге здесь первопроходцем быть не надо. Просто берешь и переносишь то, что мудрецы сказали о своих странах, о западных, на Россию, и получаешь автоматически, путем механического переноса, то, что необходимо в качестве реалистской школы.
Это вещь чрезвычайно полезная, но на самом деле не принципиальная. Интуитивно она понятна, она прекрасно описана. Реализм — самая рефлексированная позиция, и приемлемая до сих пор. Подавляющее большинство американской внешней политики строится вполне по реалистским принципам. То есть здесь ничего нет такого особенного, все вполне прозрачно.
Гораздо живее и интереснее оппонировать не русскому, такому вот условному российскому реализму и американскому прозападному либерализму, а начертить другую линию: дебаты между реализмом и многополярной теорией. По сути дела, многополярная теория оппонирует всей модели международных отношений, поскольку последняя является западной, западоцентричной, поскольку она заведомо содержит в себе тот расистский компонент, о котором мы говорили в теории Хобсона. Потому что все теории международных отношений, дисциплины международных отношений являются евроцентричными или западоцентричными. Это принципиально.
И, соответственно, теория многополярного мира исходит из одной базовой предпосылки, которую можно назвать многополярной, плюральной или антропологической предпосылкой. Которая, на самом деле, опрокидывает все конструкции международных отношений, все школы и занимает определенную фундаментальную дистанцию по отношению к ним.
Эта идея — теория многополярного мира — отрицает следующее. Отрицает единство человеческого общества. То есть она отрицает, что, говоря о человечестве, мы имеем дело с чем-то универсальным. Антропологи показали, что существует столько представлений о человеке, сколько существует культур, языков, обществ, религий, племен. Антрополог Льюис Рост, например, показывал, что представления маленького племени в Амазонке содержат все элементы мира, но они часто не имеют практически никаких аналогов среди предметов или явлений другого племени.
Например, некоторые австралийские племена не знают времени вообще. Они не знают, сколько дней в лунном цикле. Они не считают лун, они вообще не знают, что есть какой-то лунный календарь. Луна для них — это часть племени, которая живет среди них и так далее. У них нет времени в принципе. Мы этого вообще не представляем. Мы думаем, такое время есть: линейное время, циклическое, сезонное. А у австралийских аборигенов — никакого, вообще нет времени. Ну о каком единстве человеческого рода мы говорим, когда есть общество без времени вообще? Есть общество с временем, которое течет как угодно, хаотически, или разбросанно, или линейно, но мы-то имеем дело с собственно линейным временем. Но это только наше общество линейно, постхристианское общество, общество научное. А существуют общества с более сложными моделями.
Точно так же пространство. У одних пространство мыслится как анизотропное, у других как изотропное, у третьих как сакральное, у четвертых — как имеющее в самом себе, в своей структуре выходы и входы в рай и в ад и так далее. И целые культуры живут с этими пространствами, с этими временами. Точно так же у них другое представление и о человеке, и об обществе, и о смерти, и о жизни, и о любви, и о браке, и обо всем. Об эквивалентности, о ценностях, о значении торговли, о теле, — совершенно разные. А представление о «Я», о психологии?
Этот антропологический плюрализм, будучи примененным к международным отношениям, сразу порождает первую идею: то общество, которое мы берем за нормативное, всегда будет одним из многих, которые существуют наряду с ним. Поэтому, как только мы говорим, что нечто объявляется человеком, всеобщим человеком, и описываем этого человека — мы всякий раз описываем эту модель, отталкиваясь от какого-то конкретного общества, претендуя на то, что это всеобщая модель. То есть мы отрываем концепт, например, человека, или общества, или истории, или времени, от социокультурных исторических корней. То есть мы десоциологизируем концепт.
Мы, например, говорим — права человека. И говорим, что человек-то везде одинаков, и права, соответственно, раз он везде одинаков, должны быть одинаковы. Это полная чушь с точки зрения ислама, потому что, человек в исламе — это совершенно другое, нежели человек вне ислама. Для мусульман человеком является кто? Верящий в Бога. А если человек, например, не верит в Бога — для мусульманина тогда он не человек, просто не человек. Мы это представить себе не можем, но для мусульманина человек, не верующий в Бога и не желающий верить в Бога, просто не человек. А такому срубил голову просто, как барану, срубил и все. Либо веришь в Бога, тогда ты человек.
Соответственно, понятие права в исламе, в исламском обществе структурируется радикально иначе, нежели в обществе атеистическом, западном, где права не привязаны к теологии. Права вытекают из коранического откровения. Права вытекают из комплекса, окружающего толкование тафсирами, хадисами высказываний пророка, и, соответственно, это и есть право. То есть право является правом, установленным Богом.
Те же самые десять заповедей, которые не являются строго христианскими, это тоже заблуждение. Десять заповедей — это часть иудейского закона. Это иудейские заповеди, которые не отменены, но преодолены в христианстве двумя другими заповедями, которые принес Христос. Когда Христа спросили: «Какие заповеди?» — он сказал: «В законе десять, а вообще-то, я даю вам две заповеди главные:
• Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей душою своей, всем помышлением своим.
• И также возлюби ближнего своего, как самого себя»
Эти две заповеди являются христианскими заповедями, которые на самом деле совершенно другие по всем структурам. Здесь нет юридических предписаний. Это положительные заповеди, а не отрицательные. Смотрите, отрицательные десять заповедей — не сотвори себе кумира, не укради, не убий, не возжелай жену ближнего своего и так далее. «Не» — отрицание: не делай этого, не делай этого, не делай этого. А христианские заповеди — возлюби: Бога — раз, ближнего — два. То есть сделай что-то позитивное. То есть не «не делай», а «сделай». На этом построена христианская теология.
Так вот, что такое христианский человек, на самом деле? Человек христианский выводится из богочеловечества Христа, выводится из представления о ближнем. Совершенно другой человек, чем в исламе, в конце концов. И уже третий человек, нежели в постхристианской атеистической культуре.
Таким образом, права христианского человека вытекают из другой этической и правовой системы, нежели исламского или атеистического. А дальше можно перейти к буддизму, а в буддизме человек есть временный поток дхарм, который временно спустился и потом распадается. С точки зрения японского дзэн-буддизма, откуда путь самурая, путь смерти, человек — это завуалированная смерть. То есть это некоторый сгусток плотских, кишечных иллюзий, которые облекают собой небытие, шуньяту, пустоту. И вот эта пустота, смерть, и есть подлинная реальность человека. А человек — это как бы контур. Другое представление о человеке? Другое. Ну и какие права? Права выстроятся совершенно иными из такого концепта. Буддийская теория права и формально радикально другая, чем исламская, христианская, постхристианская, светская.
В Китае совершенно иное представление и о человеке, и о праве. Где кончается индивидуум и начинается род — планка выделения индивидуума от коллективного, общественного, родового, культурного, исторического, генетического, поколенческого, все совершенно по-другому организовано. Человек без рода, без этого потока предков, которые живут сквозь него — просто ничто. Индивидуум — просто ничто, отсюда китайская дисциплина, отсюда китайская целостность, потому что китаец, в отличие от европейца, не в такой степени индивидуум, как европеец. Он еще человек рода. Сквозь него живет китайский род, отсюда и определенная терпеливость китайцев, трудолюбие и, в общем, некая жестокость, потому что индивидуум — это момент.
Для современного западного человека индивидуум — это все, больше для него ничего нет, начало и конец, альфа и омега. А для китайца это момент. Для русского человека это вообще носитель Христа. Для мусульманина это верный, смирившийся перед Богом. Для буддиста — пустота. И все правовые системы имеют, в свою очередь, привязку к этой антропологии.
Поэтому, когда мы привносим в модель международных отношений этот антропологический принцип, когда мы говорим, что могут существовать равные общества наряду одно с другим, то мы скажем: существует много людей, а не один человек, и много прав человека.
И исламские права человека, христианские права человека, буддийские, китайские права человека просто будут отличаться, потому что иной субъект этих прав — раз, иная модель понимания права — два.
Соответственно, вот тут возникает самое важное.
Западные люди говорят:
— Ну как же, у нас-то под человеком и правами понимается это. А если у вас не так, значит, у вас плохо понимается. Значит, еще недостаточно понимается.
— Что значит недостаточно?
— Недостаточно по-нашему.
И вот мы имеем дело с тем фундаментальным расизмом, о котором мы говорили. Западное общество — современное западное общество, не прошлое, — отождествляет само себя с универсальным идеалом. И строит все свои теории, в том числе международных отношений, на этом принципе.
Вот как у нас — это правильно, хорошо и универсально. А не совсем как у нас — это не совсем правильно. А совсем не как у нас — это совсем неправильно.
Значит, здесь возникает такой момент. Частное, западноевропейское, берется как всеобщее. И тогда появляются некоторые идеи того, что называется телеология. Смысл и ключ к пониманию западного расизма в широком смысле: культурного, научного, идеологического расизма, — заключается в телеологии. Существует некоторая презумпция, то есть допущение, которое лежит в основе западноевропейской культуры. Это идея движения к цели. Телос — по-гречески цель. Логос — учение, телеология — это учение о цели.
Телосом выступает современное западное общество и современный западный человек. Телосом, целью, выступает современный технологический уровень цивилизации, современное представление о комфорте, об уровне экономических и социальных гарантий. И дальше, смотрите, эта цель рассматривается в качестве той точки,
• к которой движется вся история — раз,
• и к которой тяготеют все пространства — два.
То есть эта телеология имеет темпоральный исторический характер и имеет пространственный характер. Мы имеем двойную телеологию.
Что значит историческая телеология? Что западные люди считают, что существует прогресс. Это абсолютная убежденность. Этот прогресс направлен в одну сторону. В какую сторону? Какова цель прогресса, телос прогресса? Стать таким, как современное западное, евроамериканское общество.
И все то, что движется к этому совершенству, к этому идеалу, к этому абсолюту, — все то хорошо. Но что ближе к нему, то лучше. А что дальше, то хуже. Соответственно, история имеет такой позитивный характер, созидательный характер.
Она идет:
• от несовершенного, от малого, к совершенному.
• от темноты заблуждения к истине и справедливости.
• от зла к добру.
• от карикатуры к подлинности.
Что является подлинным? Путь развития западноевропейской цивилизации. Самым подлинным является то, что есть на Западе сегодня. Но еще более подлинным будет то, что будет на Западе завтра. То есть то, как пройдет дальнейшее продвижение к этому телосу в истории. Соответственно, исторические этапы ранжируются по расистской вертикали.
В истории есть подъем. К чему? На пике его стоит западноевропейское современное общество. А все, что находится ниже, является прошлым, худшим, недоделанным. И оценивается исходя из тех критериев, из тех ценностей, из тех параметров, из тех мер, которые находятся в западноевропейском обществе. Они-то и считаются универсальными. Это телеологический универсализм, универсализм исходя из цели. История движется к цели. История движется к Западу. Все, что не к Западу, то отсталое, обратите внимание.
Если общество не является западным, это эквивалент тому, что оно является отсталым. Куда отсталым? Для того чтобы говорить так, надо предполагать, что движение ведется к одной и той же точке. Только кто-то к ней ближе, кто-то более продвинутый, а кто-то дальше — тот отсталый. Но чтобы говорить об отсталости, надо предполагать, что все движутся только в одном направлении. Все хотят и движутся только в одном направлении. В каком? В сторону западноевропейской культуры.
Теперь пространственно. Мы взяли историю, корпоральный аспект, временной аспект. Пространственный аспект. Существует парадиз на земле, рай. Этим раем является западноевропейское и американское общество. Там соблюдаются права человека, там прекрасная социальная защита, там великолепное образование, там настоящее общество демократии и прав человека, там люди говорят всегда правду, там свобода, гарантия, благосостояние, благополучие и настоящая полнота реализации человеческих возможностей. Это — мир счастья. Это зона первого мира, где все является оптимальным, и она окружена поясами.
Первый пояс — похож, но не совсем.
Второй — не дотягивает.
Ну и третий пояс, который совсем не похож и совсем не дотягивает.
Соответственно, это районирование создает первый, второй и третий мир.
• Первый мир замечательный, это географический пространственный телос, который является универсальным. Это рай. Западноевропейский рай является мерой вещей.
• Дальше лежит полурай — страны БРИКС, которые похуже, уже такое чистилище.
• И настоящий ад третьего мира, где копошатся дикари в поисках пятнадцати центов за месяц, в поиске вот таких крупных индусских зарплат. По-моему, средний йог получает одну рупию в месяц. Ну, просто сидит на гвоздях, просиживает месяц. Месяц просидел, рупию получил и доволен вполне. Крупная социальная гарантия.
Это то, чего боится западный человек: что его посадят на гвозди и дадут одну рупию в месяц, если он не будет защищать свои права человека и свои универсальные идеалы. Может, и правильно боится, сидеть на гвоздях всю жизнь не очень привлекательно. Я даже удивился, когда был в Индии, там действительно страшная нищета, но какие у них доброжелательные лица. Ходят нищие, совершенно оборванные, явно не евшие, по-моему, никогда, но у них такие спокойные лица, как будто ничего против они не имеют. Просто не могу представить себе такое положение, даже одна мысль об этом — драма для европейца и даже для человека второго мира. А вот для индусов вполне нормально.
Представляете, абсолютная свалка течет: пластиковые бутылки, помойка такого грязно-серо-коричневого цвета. И написано: «Содержите нашу священную реку Ямуну в чистоте». Там не то, что в чистоте, а напоминает ожившие поля, полные пластиковых удобрений, просто немыслимо грязная река. И индусы ходят спокойно вокруг нее, не чувствуют большого дискомфорта, живя в этой помойке. Я в Индии не увидел ни одного дома с четырьмя стенами. В лучшем случае было три, а если было четыре, то не было крыши гарантированно.
Мы ездили в Тадж-Махал, двести километров туда, двести обратно — это была просто такая черная грязь и нищета, помойки, помойки, просто мир помоек. Двести километров вглубь Индии, двести километров к столице. И столица такая же точно. Очень интересное государство. А в метро написано: «Не плевать. Не сморкаться». Там еще что-то хуже. Штраф сто рупий, или тысяча рупий. На самом деле можете представить себе, чем занимается индус, когда туда попадает. А людей при входе в метро обыскивают: там две кабинки, для мужчин и для женщин. Просто так пройти в метро нельзя. Тебя раздевают, обыскивают, заставляют не сморкаться, проводят ликбез относительно гигиены, и только потом ты можешь свободно проехать в метро, в чудовищной грязи. А встречает тебя солдат с ружьем, который на тебя смотрит из-за таких вот мешков с песком.
Я спросил:
— У вас всегда так?
Он говорит:
— Нет, было хуже, было два. Сейчас у нас потепление.
— А кого они ищут?
— Да разные бывают. Не поймешь, они все черные.
На самом деле у европейцев действительно такое представление, что есть белый рай, желтое чистилище и черный ад. Просто с точки зрения расовой. Поэтому географические зоны так и делятся: первый мир, второй (мы попадаем во второй мир) и третий мир.
Так вот. Эта телеология является основой западноевропейского расизма, западноевропейской культуры. Они рассматривают свой мир как телеологический мир. Поэтому и свои права человека они искренне считают универсальными. Свою рыночную, либеральную, демократическую систему считают абсолютной, потому что это конец, это пик. Они при этом говорят: может быть еще лучше, но у нас. Мы, может, еще что-то придумаем завтра. Вот, мы же придумали: не было раньше браков гомосексуалистов, теперь есть. Прогресс налицо. Но это не конец, еще можно двигаться дальше в этом направлении и взять новые рубежи прав человека в перспективе. Поэтому не успокаивайтесь, не останавливайтесь, у вас еще много чему есть у нас поучиться.
Соответственно, вот какова западная модель, и все модели международных отношений строятся исходя из этого принципа. Они телеологичны. Они исторически направлены к тому, что все общества развиваются только в одном направлении. И все общества тяготеют к тому, чтобы быть в центре, чтобы прорваться к центру, чтобы попасть в первый мир, а не остаться на периферии. То есть движение от прошлого к будущему, от периферии к центру. И, соответственно, западноевропейская культура приобретает характер универсальный. Потому что она является смыслом и логикой истории, история направлена к ней. Это светлое будущее и светлое настоящее, которое уж намного светлее вчерашних сумерек, которые до сих пор еще окутывают значительную часть мира, в том числе и нашу страну.
Поэтому, как только мы признаем, что эта телеология действенна, даже если мы реалисты, у нас остается только одна программа, если мы реалисты, и, соответственно, они либералы.
Мы говорим: Россия должна быть сильной, мощной, развивающейся державой. Для чего? Для того, чтобы стать похожей на Запад, стать такой же, как Запад, войти из второго мира в первый мир, примкнуть к этому технологическому ядру. Но для этого надо соблюдать права человека, надо построить демократическое общество и сделать некоррупционную рыночную систему. То есть реализм в нашем случае даст по большому счету ту же самую расистскую западоцентричную картину, которая нас немножко раздражает, когда она противопоставлена нам. И когда нам говорят: вы, коллеги, принадлежите ко второму миру, вы являетесь неполноценными, вчерашними, у вас не соблюдаются права человека, — то нас это раздражает не только потому, что это против нас направлено (мы получаемся плохими), но, наверное, раздражает, что есть такие основания. Соответственно, мы хотим исправить эти основания; но только войти в этот благой мир, двинуться к этому телосу, к этому историческому горизонту Россия должна самостоятельно, считают реалисты.
А либералы говорят — да неважно, самостоятельно, не самостоятельно, демократии друг с другом не воюют, пилим ракеты, быстрей-быстрей пилим ракеты, отпускаем все народы куда подальше, свободу Северному Кавказу. Соответственно, их программа понятна.
Но и программа реалистов недалеко ушла. Да, они будут спорить с либералами относительно того, что надо сохранить суверенитет. Что Россия должна перестать быть страной второго мира и стать полноценным участником первого мира, для того чтобы вырваться из состояния полупериферии, из чистилища в рай. В какой рай? В европейский рай.
Поэтому путинская модель великой Европы от Лиссабона до Владивостока — это действительно реалистская перспектива, он искренний реалист. Он ничего против европейской интеграции не имеет, но он хочет, чтобы Россия тоже была частью этой европейской интеграции, а не местом для хранения ядерных отходов, как считает Хакамада и наши либералы. Разделение труда. Люди первого мира могут жить без ядерных отходов. Люди второго пусть поживут в ядерных отходах, а либералы к этому времени уедут на Запад и будут там спокойно жить. Это наши либералы. С ними более-менее понятно.
Наших реалистов еще нет в теоретическом смысле, я объясню почему: потому что нас не пускают сознательно в этом направлении. Но, я думаю, эту блокаду мы прорвем. И вот что мы получим в результате, когда сложится эта реалистская парадигма международных отношений на научном уровне. После того как мы выйдем из гипноза внешнего управления и вот этого санитарного кордона на развитие собственной интеллектуальной элиты, мы получим российских реалистов, которые будут признавать телеологию запада, будут расистами, такими же, как западные, будут относиться к собственным гражданам, и особенно к гражданам Востока, как к недогражданам, которых надо мобилизовать, развивать, технологизировать. На Кавказе, где существует традиционная система отношений, надо разрушить их коренные, культурные связи между собой, надо создать там казино, офшорные зоны и превратить в такую же территорию, как остальная Россия.
А остальную Россию постепенно превратить в то же, чем является Восточная Европа, а это нынешняя помойка Западной Европы. Такой как бы пригород Западной Европы, от которой сами восточноевропейцы уже начинают стонать, потому что они уже чувствуют себя, уже будучи в Евросоюзе, людьми второго сорта. Такими их считают. Вот «Хостел» достаточно посмотреть. Смотрели фильм «Хостел»? То, как западные люди видят Восточную Европу. Вот эти грязные плюющиеся дети, которые с бритвой нападают на туристов. И, соответственно, «Хостел» — это Восточная Европа в глазах Запада.
А мы хотим в перспективе стать таким недохостелом. «Брат-2», например, дает такую картину. Мы там видим вообще какое-то восстание против всей мировой системы. Уже многополярность такую, русскую миссию, что мы вообще все перевернем. Но они нас видят приблизительно такими, немытыми братками, которые захватили все и вообще никаких правил не соблюдают. Даже тех, которые соблюдает садо-мазо-криминалитет восточной Европы. Совсем такой недохостел. В глазах среднего европейца такова современная Россия. Поэтому они говорят «Путин, коррупция». Они никогда здесь не были. И не знают, что такое коррупция. Для них очевидно, что Путин должен быть символом коррупции, потому что, там дальше, где кончается «Хостел», там такое начинается: дикая Тартария дальше, они говорят. На картах у них так помечено. А здесь царство короля Иоанна, здесь волки, людоеды, мордва живет, и все уже как бы, мир закончен. Как у Птолемея: там дальше уже мифические существа, против которых Александр Македонский строил железную стену. Это мы с вами.
И что хотят реалисты? Эти гипотетически, если осмысленно. Они хотят как бы измениться, хотят улучшиться, хотят модернизироваться и хотят попасть на праздник сеньоров, на самом деле. И хотят, как варвары, которые захватили Рим, стать римлянами, христианами и так далее. Так наши российские варвары (реалисты) хотят достойным образом отстоять свою правоту с помощью газа и нефти, их варварских методов.
Интересно: греки считали, что у богов есть кровь. Называлась она ихор по-гречески. Она такого фиолетового цвета, огненная кровь богов, и есть она у Титанов. Так вот, ихор титанов, или кровь титанов, это с их точки зрения была нафт, горящая черная жила земли, это нефть. То есть на самом деле наша страна титаническая, грубая, из ада, она питается нефтью. Наша экономика основана на крови титанов, ихоре. Мы ее экспортируем и пытаемся такими грубыми газовыми вентилями, газом, ихором заставить такую чистенькую, чистоплюйную Европу как-то с нами считаться. Такая титаническая страна на периферии мира.
Вот, приблизительно, почему с точки зрения теории многополярности, с точки зрения антропологического плюрализма, мы не приемлем реализм в национальной модели. Потому что он на самом деле есть не что иное, как один из форматов, одно из лиц западоцентричной телеологии. По сути дела, это та же расистская модель, которую мы хотим применить к нам более достойно, чем либералы. И на этом основании теоретически можно было бы построить диалог и консенсус российских либералов и российских реалистов. Потому что, по сути дела, целью и мерилом для них была бы одна и та же западная модель в качестве нормативной. То есть и те и другие, признавая международные отношения, признавали бы расистскую телеологию западного общества.
А что предлагает теория многополярного мира?
Она предлагает рассмотреть эту модель плюрально. Она предлагает отказаться от глобальной телеологии и сказать, что каждое общество имеет свою собственную нормативную систему. Нет единого времени, которое течет в сторону современности. В одном обществе время течет, как на Западе. А в другом время течет по-другому. А в некоторых обществах нет времени вообще, как мы видели.
В одних случаях пространство сконфигурировано по схеме «центр — периферия», а в других обществах оно равномерно распределено между многими центрами. То есть мы имеем дело с плюрализмом в историческом смысле, например, прогресса. В частности социолог Питирим Сорокин, — наверное, вы его изучали, это очень интересный, очень глубокий автор, — в своей фундаментальной работе «Социально-культурная динамика» (это его базовая работа, труд его жизни) показывает, что никакого прогресса не существует. В данном случае он выступает как носитель многополярной социологии, потому что он говорит, что ни одно общество никогда, ни по одному параметру, не развивается только в положительном смысле. Какие-то стороны укрепляются, но какие-то параллельно теряются.
• Больше технологического развития — меньше морального.
• Больше морального, духовного — меньше какого-то рационального.
• Больше рационального — меньше нравственного, альтруистического.
То есть все типы обществ представляют собой относительный прогресс в одном направлении и относительный регресс в другом. Причем иногда эти вещи меняются. И никоим образом нельзя сказать, что все общества идут к одной цели и что они на каждом последующем этапе лучше, чем на предыдущем. В чем-то лучше, а в чем-то хуже, показывает Сорокин. Дальше он говорит, что существуют лишь флуктуации. Существует три типа обществ, сейчас не буду в это вдаваться.
Основная идея Сорокина в том, что прогресса нет, социального прогресса нет, и время в каждом конкретном обществе течет в разном направлении с разным ритмом, в разных циклах, и поэтому нельзя сравнивать золотой век одного общества с железным веком другого. Золотой век одного общества надо сравнивать с железным веком того же самого общества.
И Ницше об этом говорил кстати: очень глубокое замечание относительно того, что добродетели и грехи в человеке растут из одного и того же корня. То есть один и тот же импульс, одна и та же сила в одном случае приобретает характер добродетели, а в другом случае… Например, любовь в одном случае добродетель, в другом случае она становится грехом. Если она неконтролируема, если она безгранична, ни на что не направлена. Или, наоборот, в каком-то смысле холодность может быть и добродетелью, и грехом. Холодность сдерживает какие-то животные стремления человека, показывает его рациональным, способным управлять собой. В другом случае он оказывается безразличным и несочувственным к другому человеку, к другому человеческому существу, — а корень один и тот же.
Точно так же в каждой цивилизации существуют свои плюсы и свои минусы. Есть норма, то есть то, к чему стремятся представители каждого общества — дикарского, варварского или цивилизованного, — и есть, наоборот, отклонения от этой нормы. Есть плюсы и минусы, конечно. И есть телосы, стремления к некой цели в каждом обществе. Но, как только мы внимательно, антропологически начинаем изучать эти общества, мы понимаем, что телеология может быть сконфигурирована самым разным образом. В одном случае эта цель одна, в другом — другая. В одном случае время и пространство одни, и это общество находится внутри этого времени и пространства — своего времени и своего пространства — в одной точке. А в другом случае — совершенно в другой. И идут-то они в разные стороны. Можно теперь сказать, что цикл является универсальным законом. Но и цикл не является универсальным законом, потому что одни общества цикличны, а другие нет.
И в этом отношении понимание антропологических культур, вариативности, плюральности культур этих обществ приводит нас к идее, что человечество по-настоящему многообразно. Эта многообразность не может быть иерархизирована и помещена в единую универсальную таксономию, которая рано или поздно, так или иначе, приведет нас только к одному: к расизму. А значит, к гегемонии, а значит, к оправданию насилия, а значит, к поучению и навязыванию одним того, чего хотят от них другие. То есть, по сути дела, к эксплуатации и воли к власти. И если какое-то общество действительно является фанатом воли к власти, то это западноевропейское общество. Оно действительно построено вокруг этой вертикали. Даже это теория многополярного мира принимает.
Ну хорошо, мы имеем дело с расистами. Ну хорошо, западноевропейская культура принципиально выстроена вокруг воли к власти. Но только поймем это и скажем — пожалуйста, мы имеем дело с агрессивным евроамериканским маньяком. Да, НАТО — это серьезно: будут бомбить, будут насиловать, будут сапогами стучать, будут врать, будут подавлять. И это прекрасно, если вы согласны оказаться в роли жертвы. Прекрасно. Или, если вы надеетесь послужить этой страшной маниакальной системе в ее рядах — тоже прекрасно. Можете это выбрать? Можете.
И вот здесь, смотрите, теория многополярного мира не стремится что-то отвергнуть. Она говорит: да, есть такая культура. Но говорить, что это зайчики, что там такая культура, что это Дед Мороз прилетел и принес нам гуманитарные бомбардировки с собой, и что на головы иракских женщин, стариков и детей, или ливийских, или сирийских, сербских, сыплются сейчас праздничные подарки, а не шариковые бомбы, ну, извините, вот это неправильно.
Просто: бомба так бомба. Убиваешь, маньяк — понятно. Жесткий, хочешь подавить — империалист, колонизатор. Запад, ты такой? Ну что ж будем иметь дело с тобой таким, будем уже думать. Ты имеешь право быть таким. Любое общество имеет право быть каким угодно. Если Запад считает, что телеология — это правильно, то можно принять это как западную идею. Это не значит, что мы должны отказаться от западной культуры, но мы просто должны поместить ее в свой контекст и сказать, что вопрос о принятии или непринятии этого импульса Запада, западной телеологии, западного универсализма является свободным. То есть мы можем его принять, а можем его отвергнуть. И отвергнуть мы имеем полное абсолютное право. Провозгласив, например, что китайская культура равноценна и китайское общество равнозначно западному, или российское евразийское, православное, или исламское, или индийское. И если индусам нравится жечь шины, мне, например, страшно за них, но это их право. Вот сидят, жгут шины и все, больше ничего не делают. Ну, значит, они так хотят, в конце концов. Кто я такой, чтобы (говорить) за эту великую культуру, которая жжет шины, там миллиард на самом деле, и они все плодятся. Ну, это ладно.
Я рассуждаю, как западный человек, как расист, на самом деле, — это неправильно. Надо переучиться. Мне ужасно, я не понимаю, что там происходит, что они, бедные, там творят. Но они понимают, наверное, надеюсь. Вот. Но, во всяком случае, это не мое дело. Просто что-то делают свое.
Я не говорю, что мы должны быть такими, как Паганель из «Детей капитана Гранта»: «О, бабочка пролетела, какая замечательная, вот ящерка пронеслась». Ничего подобного. Бывают жестокие виды среди этих культур, цивилизаций. Или очень глупые, или очень жестокие, или очень активные, агрессивные, неприятные. Я не думаю, что исламская культура с их пониманием сопрягается с христианской.
А кому-то наша христианская культура тоже покажется совершенно нелепой, ненужной и непривлекательной. А мне вот сложно представить такого человека, потому что мы сами продукты православной русской культуры. Нам кажется, что просто все должны говорить: «Ну, вы знаете, они настоящие молодцы. Они покрышек не жгут, головы не режут, колонизацией не занимаются. Уж эти-то просто хорошие». Но это нам так кажется. А кто-то смотрит на нас, на русских, и думает: «Какой ужас». Трудно себя поставить в их позицию. Но Ницше же написал: «Говорят, что плохие народы песен не сочиняют. Почему же они есть у русских?». То есть где-то есть и такой взгляд на нас. Он неожиданный, непривычный, но возможный.
На самом деле, в теории антропологической модели международных отношений важно просто допускать возможность разнообразия, которого мы не понимаем, и разнообразия, которое нас тревожит и шокирует, которое нас даже задевает. Но, если это слишком задевает, в теории многополярного мира всегда можно дать ответ, попросить не задевать, например, с помощью ядерного оружия. Сохранили, не распилили ракеты. Когда нас слишком уж что-то будет задевать, мы говорим: «Друзья, мы еще не все распилили. Вот у нас две шахты. Вы не могли бы там прекратить? Нам не очень нравятся ваши ПРО у наших границ. Ну, поставьте подальше куда-нибудь, к себе, в Канаду поставьте, подальше от нас, от греха. Вот».
Если ракеты есть, то мы способны эту цивилизацию защитить. Если экономическая мощь, как у Китая, есть, то и ракеты появятся. И Китай защищает свою собственную цивилизационную идентичность. И, в общем-то, настаивает постепенно на том, что, как бы ни обстояли дела с правами человека в Китае, считаться с этой страной, с ее мощью, необходимо. И все начинают считаться, потому что тех же самых западных людей может остановить только противодействие одной воли другой. Они хотят что-то захватить, а им не дают. И если им по-настоящему не дадут, в конечном итоге они отступят. И телеологию свою оставят при себе. Колонизационное ее распространение будет ограничено Западом, а уж у себя они пусть делают что хотят. Вот, у вас человек, у вас права, у вас все прекрасно. Вот и занимайтесь. Как вы понимаете человека, так и понимайте его права. Ваше европейское западное прекрасное дело.
Но как только вы пересекаете границу, я думаю, уже с Чехией, даже с Польшей, то ситуация начинает резко меняться. А уж там, за Брестом, начинается совершенно другая антропологическая картина и другая правовая модель. Она полностью отличается от западноевропейской, но это не значит, что она хуже. Она просто другая. Понять, как мыслит другой, не встраивая его в собственную иерархическую модель, — вот искусство построения теории многополярного мира. Вот идея равенства цивилизаций. Не формальное равенство, а равенство быть самими собой, равенство создавать миры, создавать конструкции, создавать общества, создавать политические культурные системы, которые опирались бы на внутренний потенциал, на свое собственное время и свое собственное пространство. На свою собственную антропологическую социальную культурную, духовную модель. Не значит, что она будет хорошей. Даже не значит, что она нам самим будет в обществе нравиться.
Но на самом деле все равно, и наши плюсы, и наши минусы, и наше недовольство и претензии к тому, как мы выражаем самих себя, и наше согласие с илине согласие с какими-то нашими внутренними движениями — это наше дело. Вот смысл теории многополярного мира. Вот чем она отличается от всех остальных теорий международных отношений. Она рассматривает мир не расистски, она исходит из равенства и плюральности, многообразия социальных систем и стремится придать этим социокультурным цивилизационным системам статус акторов, то есть превратить их в неких цивилизационных игроков, каждый из которых будет в рамках своего пространства создавать свои собственные, цивилизационно ценностные поля.
• С этим связана идея китайского мира, идея организации тихоокеанского региона и других значительных областей мира в интересах Китая. Китай защищает не только свои реалистские интересы, но еще и свою цивилизационную идентичность, и с этим связаны очень многие аспекты Китая.
• С этим связано стремление исламского мира построить свое общество, на этом многие страны настаивают достаточно жестко.
• С этим связана идея интеграции Евразийского Союза Путина. Путинский реализм противостоит евразийскому, потому что с точки зрения реализма гораздо лучше было ограничиться национальными интересами России и их жестко сдерживать. И вот Евразийский Союз — это уже другое измерение, дополнительное к Путину, который уже другой аспект открывает. И, возможно, они конфликтуют между собой: национальный реализм и евразийская интеграционность. Ну, это покажет время…
Здесь самое интересное. Спор между евразийцами и реалистами наиболее интересен. Спор между сторонниками многополярного мира и националистическими эгоистами западного толка, то есть национал-западниками. Вот это содержательная вещь. В то время как либерализм в наших условиях, мне кажется, конечно, должен быть немножко отстранен, отложен в сторону, потому что его слишком много. Как на некоторых этапах у нас было слишком много, например, социальной справедливости, в советское время. Настолько надоело, что слово «социализм» сейчас никто не произносит.
В последние годы слишком много либерализма и слишком много экономики. Экономисты могут оправдать все. Когда мы с экономистами сидели, обсуждали, один говорит «Очевидно, что это выгодно». Другой с цифрами показывает таблицу, хороший крупный экономист, высокого уровня. А другой говорит: «Очевидно, что это невыгодно». То же самое действие — показывает еще больше таблицу. Ну и что, мы разберемся? Это просто форма гипноза: экономист пришел с бумагами, все просчитал, доказал все что угодно.
Поэтому либерализма слишком много, а в международных отношениях нам, конечно, были бы интересны для России — и это уже проект на будущее — дебаты между сторонниками теории многополярного мира, цивилизационного подхода, и национально ориентированными реалистами. И те и другие за Россию, за то, чтобы мы были сильным государством. Но одни считают, что путь модернизации и движения на Запад — неизбежный путь. А другие считают, что у России есть свой собственный русский евразийский путь и он ведет просто в другую сторону. Не то что быстрее или медленнее, а вообще в другом направлении.
Сама идея возможности развиваться в другом направлении, или по-немецки Sonderweg (особый путь), — это как раз то, на чем настаивает теория многополярного мира и чем она принципиально отличается от всех остальных моделей международных отношений.
Российская пятая колонна в украинской драме
Мой анализ событий в Украине, прогнозы и рекомендации, основанные на нем, строятся не из моих личных пожеланий, симпатий или антипатий, но на основании геополитической картины мира и соответствующего содержания протекающих в нем процессов.
Есть атлантизм. Это США, НАТО, Евросоюз, либерализм, технократия, глобализм, мировая финансовая олигархия. После 1991 года это стало единственным и главным полюсом планетарной системы и основой баланса сил. Сети этого полюса распространяются на все страны мира, и агенты атлантизма есть во всех обществах. Это очевидно.
Но есть и альтернативный полюс: евразийский. Его ядром объективно является Heartland, находящийся в России (не потому, что я русский, а потому, что это закон геополитики, открытый скорее англо-саксами (Макиндер) и развитый немцами, (Хаусхофер), чем русскими). Россия есть альтернативный полюс — против однополярного мира за многополярный, против глобализации за сохранение национальных идентичностей, против долларового империализма за многообразие региональных валют, против ультралиберальных ценностей за консерватизм (например, против однополых браков и легализации инцеста).
Я отождествляю себя с евразийским полюсом. Теоретически каждый может поступить либо также, либо противоположным образом. После этого все становится предельно ясно.
Внутри России для меня друзья — все патриоты, которые стоят за усиление России, ее консолидацию, ее самобытность, ее идентичность. Путин олицетворяет возрождение России после атлантистов Горбачева и Ельцина, поэтому мы на стороне Путина.
Враги внутри России — западники, либералы, сеть агентов влияния США во всех сферах. Враги в этом случае — пятая колонна. Они стоят на противоположной стороне, и поэтому у меня к ним одно чувство — холодная спокойная ненависть. Намного большая, чем ко внешним врагам — те естественны, а предатели противоестественны. Страна дала им все, а они в нее плюют и ей торгуют.
Вовне России враги — США, Евросоюз, НАТО, сторонники американской гегемонии, однополярного мира, мировой финансовой олигархии, идеологии либерализма. С ними идет непрерывная война — Великая Война Континентов, евразийцы против атлантистов. У войны есть фазы — холодные и горячие, острые и приглушенные. Есть уровни — прямых военных столкновений или конкуренции в видах вооружений, информационных кампаний или дипломатических демаршей, идеологических коллизий — либерализм, глобализм (они) против патриотизма (мы).
Друзьями вне России являются все страны (такие как БРИКС), которые движутся к многополярному мироустройству (они воздержались на сессии ООН по Крыму от американской атлантистской резолюции), но особенно те, кто бросают прямой вызов американской гегемонии (они голосовали на сессии ООН по Крыму против американской атлантистской резолюции). Кроме того, и на Западе, и в США множество людей и движений выступают против однополярного мира, против атлантизма и против той линии, которую проводит их правительства. Они представляют собой геополитическую оппозицию атлантизму независимо от их идеологии: ими могут быть антилибералы справа, слева или даже либеральные инакомыслящие (как многие североамериканские противники Нового Мирового Порядка — такие как Алекс Джонс, Рон Пол или Пэт Бьюкенен).
Все перечисленное и определяет дешифровку украинской драмы: это еще один фронт Великой Войны Континентов. На одной стороне атлантисты США, проамериканские лидеры Евросоюза, сам Евромайдан, хунта, а также атлантистская пятая колонна в самой России. На другой стороне Москва, Путин, Крым, прорусские силы Юга и Востока Украины, подавляющее большинство граждан России. Кроме того, нас активно поддерживают извне радикальные противники гегемонии, осторожно — скрытые или колеблющиеся.
В такой картине все предельно ясно. И любые нюансы проистекают из более детальной фокусировки.
На пятую колонну в России я обращаю внимание потому, что именно она является самым эффективным оружием атлантизма: благодаря ей был разрушен Советский Союз (географически это была Большая Россия), она пришла к власти в 90-е, породила олигархию, внедрила либерализм на все высшие уровни российских политических элит и до сих пор контролирует важнейшие сферы в экономике, политике, культуре, образовании. Любая попытка атаковать пятую колонну — будь то Зубов или Макаревич, «Дождь» или «Эхо» — немедленно провоцирует мобилизацию всех ее кадров. Точно также саботируется, дискредитируется, забалтывается, извращается любое патриотическое и евразийское начинание. Секцию евразийской интеграции на мероприятии ОНФ поручили вести радикальному либерал-атлантисту Юргенсу, и так везде. Естественно, все наши упущения прежних лет, в том числе и неготовность к событиям в Украине, — результат этой подрывной деятельности пятой колонны. Путин включается в игру только в самый последний момент, и всякий раз Россия делает рывок вперед. Но стоит ему отвлечься, пятая колонна с опорой на инерцию и коррупцию тут же перехватывает инициативу. И так происходит снова и снова. Поэтому каждый бросок дается с таким трудом.
В битве за Украину российская пятая колонна проявляет себя чрезвычайно активно. Крым — это евразийство в действии. Его последствия неминуемо приводят к явному торжеству именно нашей патриотической евразийской идеологии. Для пятой колонны это означает конец. Во всех смыслах.
Нельзя выдерживать атаки Запада, опираясь на проводников влияния Запада, на его откровенных шпионов. Поэтому сейчас вся американская сеть в высших эшелонах российской власти мобилизована: задача одна — убедить Путина удовлетвориться Крымом и оставить Юго-Восток хунте. Если Путин на это пойдет, США и НАТО немедленно с новой силой поставят вопрос о Крыме. И далее по пространству самой России. Поэтому битва атлантистов и евразийцев сейчас разыгрывается на Востоке и Юге Украины. Стоит нам расслабиться, мы рискуем потерять даже то, что мы приобрели.
Сейчас идет патриотический подъем, и если его не закрепить институционально, то возможны самые негативные последствия. Чтобы Россия смогла эффективно выдерживать нарастающую конфронтацию с Западом, стране и обществу нужен совершенно иной настрой. Стоит сделать шаг назад, последствия будут фатальными. Остановить наступление (на Запад и на пятую колонну — во всех смыслах) — равнозначно тому, чтобы начать отступление.
Поэтому сейчас мы приближаемся к новой принципиально важной точке: признанию/непризнанию хунты. Если мы, пусть косвенно, признаем ее (согласившись вести переговоры, признав, пусть с оговорками, выборы в мае), мы существенно ослабим наши позиции. Сейчас российская власть (Путин/Лавров/Шойгу) и основные СМИ ведут себя строго по-евразийски. Это образцовый патриотизм. Но для многих держаться на такой планке чрезвычайно непривычно и трудно. На время (переворот в Киеве, Майдан и Крым) все собрались, но это многими воспринимается как временный форс-мажор. На самом же деле мы вошли в острую стадию Великой Войны Континентов, и темп, риски и моменты решения будут становиться только более интенсивными.
Вот почему так важно строго держаться прямой евразийской патриотической линии на всех фронтах — включая аналитику, СМИ, культуру, образование.
Пятая колонна — это очень серьезно. Это самый настоящий жестокий, холодный и профессиональный враг. Геополитический.
Термин «пятая колонна», появившийся в период гражданской войны в Испании, в современной российской публицистике используется активно и широко. Его значение определилось в наших условиях довольно точно. Поэтому данный термин имеет строго определенные смысловые рамки. Это понятие приобретает смысл тогда, когда мы четко и однозначно признаем наличие радикальной конфронтации между Россией, с одной стороны, и США и зависящими от них странами НАТО — с другой.
Данная конфронтация не может быть описана в идеологических терминах, так как и Россия, и страны Запада являются демократическими обществами с капиталистической рыночной экономикой и преимущественно либеральной идеологией (индивидуализм, гражданское общество, свобода слова, передвижений, совести, права человека и т. д.).
Не подходит и модель восточного христианства против западного, что предопределяло противостояние православной Российской Империи (и, ранее, Московской Руси) и католико-протестантской Европы.
Сегодня и Россия, и Запад представляют собой секулярные светские общества. Поэтому для точного определения природы этой конфронтации пригодна только и исключительно геополитика, рассматривающая мировую историю как планетарную дуэль цивилизации Моря (Запад) и цивилизации Суши (сердечная земля, Heartland, Россия), то есть как Великую Войну Континентов.
В этом случае и оппозиция держав с различными христианскими конфессиями до Октябрьской революции, и идеологическая война между социализмом и капитализмом, и расширение НАТО на Восток в 90-е годы ХХ века становятся отдельными моментами более общего геополитического сценария, в котором воплощено неснимаемое противоречие между морским, торговым строем (Карфаген, Афины, Великобритания) и сухопутным обществом с героическими ценностями (Рим, Спарта, Россия). И именно после конца СССР геополитическая природа этого противостояния обнаружилась со всей наглядностью: наступила эпоха геополитики.
Геополитика районирует пространства и общества по своему главному критерию: одни земли, страны, политические и общественные движения относятся к цивилизации Моря, то есть к Западу, к Империи торгово-колониального типа; другие — к цивилизации Суши, к Империи консервативных ценностей. Границы проходят в политическом пространстве, что значит, они могут совпадать с целыми странами, а могут разделять их изнутри по линии цивилизационного выбора.
Зона американского влияния (Северная Америка, Евросоюз, проамериканские режимы и политические структуры во всем мире) — это область атлантизма, цивилизации Моря.
Сухопутная цивилизация главным ядром имеет пространство России, а также прилегающие к ней стратегические зоны. Эти прилегающие зоны могут тяготеть как к цивилизации Суши, так и к цивилизации Моря. В них действуют геополитические сети: в сторону России тянутся евразийские, то есть сухопутные, культуры и общества; в сторону США и НАТО — атлантистские, то есть морские.
Украинская драма наглядно иллюстрирует этот закон геополитики: в данной стране геополитическая граница проходит ровно посередине — на Юго-Востоке и в Крыму народ наделен ярко выраженной евразийской, сухопутной, пророссийской идентичностью; на Западе и отчасти в Центре — проамериканской, атлантистской.
Именно эта геополитическая полярность и стала причиной гибели незрелой украинской государственности в 2014 году. Пришедшие в ходе государственного переворота радикальные атлантисты немедленно столкнулись с жесткой оппозицией в Крыму и на Юго-Востоке, что закончилось уходом Крыма в Россию и гражданской войной.
Но вернемся к пятой колонне в российском обществе. Теперь ее природа нам будет очевидна: к ней относятся те группы, которые стоят на стороне цивилизации Моря (США, НАТО) и противостоят доминирующей в России на протяжении всей ее истории сухопутной, евразийской идентичности.
Эта пятая колонна способствовала развалу сухопутной континентальной конструкции в лице СССР, затем захватила власть при Ельцине в 1990-е годы, когда министр иностранных дел РФ А. Козырев открыто заявил о своей «атлантистской» ориентации, а затем находилась во главе России как правящая политико-экономическая и культурная элита вплоть до 2000-х годов.
На протяжении этого периода она не могла называться в полном смысле этого слова «пятой колонной», так как ей удалось полностью утвердиться у власти и подавить патриотическую оппозицию. Пятая колонна и режим либеральных реформаторов в России 1990-х годов — это синонимы.
И тем не менее, с геополитической точки зрения, и в это время российская правящая элита была не чем иным, как пятой колонной: она действовала не в национальных интересах, но как инструмент внешнего управления. Центр принятия решений находится на Западе, а московские либералы лишь выполняли эти решения, стараясь добиться максимальных выгод и преференций для самих себя и своего бизнеса.
Так сложилась российская олигархия, власть маленькой группы крупных магнатов, захвативших в ходе приватизации и с опорой на безоглядную коррупцию целые государственные монополии, в первую очередь сферу энергоресурсов.
Поворотом в судьбе этой компрадорской прозападной олигархии стал приход к власти Владимира Путина в 2000 году. Путин остановил процесс внешнего управления и начал осторожное вытеснение наиболее радикальных агентов влияния атлантизма от власти. С этого момента началось оформление пятой колонны в самостоятельное общественно-политическое явление.
Оппозиция Путину с начала 2000-х годов складывалась как раз из представителей атлантизма, доминировавших в 1990-е и маргинализированных с приходом Путина и изменением его курса в сторону цивилизации Суши, евразийства.
С того момента «либеральная оппозиция», состоящая из западников, опальных олигархов и откровенных русофобов, стала все яснее напоминать именно пятую колонну: в своей борьбе с Путиным она все откровеннее делала ставку на США и страны НАТО, не брезгуя их прямой финансовой поддержкой и открыто выступая против национальных интересов России и ее суверенитета в пользу глобализации и космополитического уклада.
Это важный момент — геополитическая пятая колонна (цивилизационный уровень) стала оформляться как внутриполитическая пятая колонна, выступающая уже против своей страны изнутри нее. Но ядром этой пятой колонны были именно те, кто в 1990-е находился в центре политического истеблишмента: олигархи (Гусинский, Березовский, Ходорковский), высшие чиновники (экс-премьер Касьянов, экс-вице-премьер Б. Немцов, экс-депутат от партии власти В. Рыжков), деятели СМИ, культуры и искусства.
Пятая колонна уличной оппозиции пополнялась крупными фигурами, уходившими из политической элиты при Путине. Но самое важное: пятая колонна типологически оставалась одной и той же — и когда она сохраняла свои позиции внутри политической системы, и когда она оказывалась в роли внесистемной радикальной оппозиции.
Таким образом, мы имеем дело с двойным явлением: с открытой (эксплицитной) пятой колонной в лице радикальной антипутинской уличной либеральной прозападной оппозиции и со скрытой (имплицитной) пятой колонной в лице тех олигархов, политиков, чиновников, аналитиков, экспертов, общественных деятелей, владельцев СМИ, которые нашли для себя возможным, будучи не менее радикальными атлантистами, нежели антипутинские радикалы, оставаться внутри политического режима, идя с Путиным и его патриотическим курсом на компромисс.
С точки зрения геополитики, и те и другие являются пятой колонной в полном смысле этого слова; и те и другие работают в интересах США, НАТО и Запада; и те и другие разделяют принципы торгового строя, либерализма, индивидуализма, глобализма и т. д.; и те и другие являются противниками русской самобытной идентичности, «особого пути» России, не считают ее суверенитет и цивилизационную уникальность ценностью (скорее, напротив, видят в них препятствие для прогресса и модернизации).
Но в отношении к Путину их позиции существенно различаются: одни жестко выступают против него, другие по тактическим соображениям считают необходимым его поддерживать, всякий раз перетолковывая его слова и действия в атлантистском ключе, а подчас занимаясь и откровенным саботажем патриотических реформ и шагов, направленных на укрепление российского суверенитета.
Для Путина одни — открытые враги и прямые противники России, выбравшие однозначно Запад; другие же — его соратники, сподвижники и коллеги, хотя их базовая установка есть установка на цивилизационное предательство и саботаж. Геополитически вся пятая колонна — и во власти, и в оппозиции — одно и то же. С точки зрения внутренней политики они — по разные стороны баррикад: первые — против Путина, вторые — за него.
Чтобы подчеркнуть различие между двумя сегментами пятой колонны, предлагается ввести неологизм: «шестая колонна». Как и в случае с «пятой колонной», указывавшей на наличие у франкистского генерала Эмилио Мола, помимо четырех главных колонн, еще особой группы сторонников Франко в контролировавшемся республиканцами Мадриде (она-то и была названа «пятой»), число «шесть» не несет здесь никакой символической нагрузки. Мы вводим это понятие просто для удобства корректного политологического анализа.
И пятая и шестая колонны описывают сторонников цивилизации Моря внутри цивилизации Суши, то есть сеть атлантистских агентов влияния внутри современной России. И с точки зрения их фундаментальных позиций, приоритетов и ценностей обе колонны одинаковы: у них один идеал, один хозяин, один ориентир, одна идеология — США, Запад, евроатлантистская цивилизация, либерализм, глобализм, глобальная финансовая олигархия.
Но в отношении Путина они принципиально дифференцированы: пятой колонной в нашем обществе привычно называют только тех, кто открыто и полностью против Путина, за США и НАТО, против Крыма, против России, против русской идентичности, против суверенитета, против евразийской интеграции, против возвращения России в историю в качестве мировой державы. Это чистое предательство в его острой, откровенной стадии, если рассматривать его в масштабе страны и народа, а в отношении Путина — это его открытые враги.
Шестая колонна подразумевает тех, кого мы еще не можем точно квалифицировать в нашем политологическом словаре: ее представители за Путина и за Россию, но при этом за либеральную, прозападную, модернизированную и вестернизированную Россию, за глобализацию и интеграцию в западный мир, за европейские ценности и институты, за то, чтобы Россия стала процветающей корпорацией в мире, где правила и законы устанавливает глобальный Запад, частью которого России и суждено стать — на как можно более достойных и выгодных основаниях.
Шестая колонна — не враги Путина, а его сторонники. Если они и предатели, то не в масштабах страны, а в масштабах цивилизации. Они не атакуют Путина в каждом его патриотическом шаге, они его сдерживают.
Если пятая колонна яростно нападает на все путинские проекты, например, на Олимпиаду, то шестая колонна осмеивает пятую и гордится Олимпиадой. Но когда дело доходит до Крыма, рекомендует ограничиться успехами Олимпиады и не рисковать имиджевой победой.
Когда же пятая колонна организует марш предателей против воссоединения с Крымом, шестая колонна, остужая пламя патриотизма, соглашается с Крымом как с неизбежными издержками, при этом всячески подчеркивая, что за все это придется платить большую цену, и тут же категорически не советует Путину углубляться в дела Юго-Востока, так как этим под угрозу якобы ставятся успехи в Крыму.
Когда российские войска вступятся за Донецкую народную республику, пятая колонна будет кричать о военной агрессии против суверенного украинского демократического государства, а шестая — давить на Путина, чтобы он этим и ограничился и не распространял миротворческую операцию на Харьков и Одессу. Позднее они же будут упрашивать сохранить Днепропетровск, Коломойского, Николаев и Херсон за хунтой, когда пятая колонна будет бесноваться и поносить кровавого тирана, теперь уже якобы развязавшего «третью мировую войну».
Шестая и пятая колонны представляют собой единое целое. Поэтому каждый выброшенный или просто отправленный в отставку Путиным представитель политико-экономической элиты 1990-х является естественным кандидатом из шестой колонны в пятую. Самое главное здесь то, что обе колонны есть одна и та же сеть, геополитически работающая против России как цивилизации и против Путина как ее исторического лидера.
Что может противопоставить пятой и шестой колоннам Россия как цивилизация, как народ, как историческая сила, как субъект мировой политики? Пятой колонной откровенных предателей и врагов Путина и его патриотического курса сейчас всерьез занялось само государство.
Когда главные диспетчеры шестой колонны, ранее прикрывавшие пятую колонну изнутри Кремля, несколько отстранены от дела, сдержки и условности в отношении радикальной атлантистской оппозиции прекратили действовать. Путин открыто назвал их «национал-предателями» и оперативно принял ряд конкретных мер по их локализации; в том числе и в информационном, и в интернет-пространстве.
В условиях военного времени (Украина) вести борьбу с откровенной пятой колонной большого труда не составляет: от государства, включая силовые министерства и ведомства, требуется только строгое соблюдение закона и принятых решений.
Без покровителей в Кремле пятая колонна чрезвычайно уязвима и несостоятельна. Она эффективна только тогда, когда у власти связаны руки и закрыты глаза. А также в чрезвычайных обстоятельствах кризиса, катастроф и т. д. Поэтому на нынешнем этапе пятая колонна может быть идентифицирована, локализована и поставлена под контроль.
Часть ее представителей покинет Россию, часть затаится, часть перейдет в состав шестой колонны, часть — наиболее непримиримая — будет наказана. Но это сегодня лишь технический вопрос. Он встанет остро только в том случае, если Россия резко ослабнет и войдет в полосу испытаний, чего, впрочем, исключить нельзя. Но тогда пятая колонна станет просто отрядом откровенных диверсантов, и против нее будут проведены репрессивные меры. На это и воли, и понимания у Кремля в его нынешнем состоянии совершенно точно хватит.
Гораздо более проблематичным является вопрос о шестой колонне. Ее присутствие в политической и экономической элите России до сих пор является едва ли не превалирующим.
Она не выдает себя ничем, верно поддерживает Путина и его политику. Всячески отстаивает интересы «корпорации Россия». Никогда ничего не возражает президенту в лицо. Мотивирует свою позицию «интересами государства», «ограниченностью ресурсов», «учетом международной ситуации», «заботой о внешнеполитических и внешнеэкономических связях», «обеспокоенностью имиджем России».
Шестая колонна — системные либералы, эффективные государственные менеджеры, лояльные олигархи, исполнительные бюрократы, деятельные чиновники и даже некоторые «просвещенные патриоты». Путин доверяет им и опирается на них. То, что их сознание действует по привычным схемам однополярной западоцентричной атлантистской операционной системы, может и не бросаться в глаза.
Они — часть цивилизации Моря не только по личному выбору, но и в силу обстоятельств. Эта парадигма возобладала в 1990-е, и ее влияние сохраняется в российском обществе до сих пор. На нее настроены большинство экономических структур, образовательных и культурных институтов, сам современный российский стиль жизни.
Современная Россия — «русская» лишь в весьма относительном смысле. Ее сухопутная евразийская идентичность лишь слабо проступает сквозь навязанные, чуждые по сути, оккупационные формы и нормы жизни. Мы находимся под властью Запада в гораздо более глубоком смысле, нежели прямое техническое внешнее управление, как это было в 1990-е годы открыто.
Запад — внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром. Да, для этого есть все исторические основания, и более того, сама история требует от нас возвращения к своей глубинной идентичности — Русского Возрождения, Русской Весны.
Но у этого процесса духовного возвращения на Родину, к русской сути, к нашим истокам, к русской судьбе, есть фундаментальный враг. Им является шестая колонна. Она настолько укоренена в правящей элите, что блокирует любые оздоровительные инициативы президента.
Шестая колонна — в политике, экономике, культуре, образовании, нравах, ценностях, информационном поле — продолжает душить русское возрождение. Она сдерживает нас в политике и в социальных преобразованиях, в идеях и искусстве.
Шестая колонна постоянно, по сто раз на дню, предает Путина, гасит пробуждение, саботирует назревшие и жизненно необходимые патриотические реформы, снова превращает национальную идею в симулякр. И если с пятой колонной государство в войну вступило, то шестая колонна все еще пользуется иммунитетом и свободой рук.
Но именно в ней сегодня главное препятствие — и на Украине, и в Европе, и в деле евразийской интеграции, и во внутренней политике. Она незаметна, хитра, подла, уверенна в себе, глубоко укоренена в структурах власти, консолидирована и следует тщательно проработанному на Западе плану. Если Путин не найдет в себе мужества дать бой шестой колонне, его судьбоносные свершения, его историческая миссия окажутся слишком хрупкими, обратимыми, даже эфемерными…
Путин сейчас занят творением истории. Но именно эта историческая миссия возрождения России и является главным объектом ненависти шестой колонны. Шестая колонна действует в интересах цивилизации, альтернативной нам. По сути, это все та же пятая колонна, только выдающая себя за нечто иное.
Сегодня именно шестая колонна есть главный экзистенциальный враг России. В мире сетевых войн именно такое глубоко внедренное в структуры власти змеиное тело влияния чаще всего становится решающим фактором при демонтаже политических режимов и свержении правителей.
Украина стала жертвой не просто пятой колонны Евромайдана, но и шестой колонны внутри администрации Януковича и «Партии Регионов». Вашингтонские стратеги готовят нечто аналогичное и для России. Но кто предупрежден, тот вооружен.
Русский Холокост
2 мая 2014 года на Юго-Востоке Украины (Новороссия) произошли события, которые будут иметь необратимые последствия. Формальная канва такова. Одесса. Правый сектор и сторонники хунты вооружились, сорганизовались и нанесли удар по сторонникам федерализации (Антимайдан на Куликовом поле). В результате уступающие в численности и вооружении силы противников хунты оказались забаррикадированными в Доме Профсоюзов и там заживо сожжены. 46 человек (а по другим сведениям, намного больше, более 100), среди которых женщины, в том числе беременные, и дети, сгорели заживо или разбились, выпрыгивая из окон.
Тех, кому чудом удалось спастись, на земле добивали и калечили представители «Правого Сектора». По другой версии, большинство было просто убито, расстреляно, удушено, изнасиловано, искалечено, разрублено топорами и лишь затем облито бензином и частично сожжено. Тем самым хунта показала истинную природу своего правления: те, кто пришел на волне террора, собираются сделать террор против инакомыслящих своей рутинной повседневной практикой. При этом «Правый Сектор» на сей раз использовал оружие и «коктейли Молотова» не против представителей режима Януковича (как на Майдане), а против гражданских активистов, не согласных с их позиций. Людей убивали только за то, что они русские, за Россию или даже просто хотят федерализации. Практически все убитые в Доме Профсоюзов были жителями Одессы. Неонацисты цинично истребляли, пытали и добивали граждан Украины. Леденящие кровь кадры сожженных заживо людей, мирных, невооруженных, спасающихся от озверелой толпы, возглавляемой боевиками «Правого Сектора», обошли все российские СМИ и сеть. Они говорят сами за себя. Известна реакция сторонников хунты и Запада, которые возложили вину за сожжение людей на сами жертвы, а заодно и на Путина.
Те, кто видел тела, погибшую беременную женщину, обнявшуюся перед смертью пару молодых людей, растерзанные боевиками трупы безоружных людей, едва ли сможет это забыть. Еще более жуткое чувство остается от чтения анализа украинских нацистов и простых украинцев, стоящих на стороне хунты. Среди украинцев стало модным называть эти обгоревшие трупы своих же соотечественников «окорочками» или «копченой сотней». Явно мы находимся за гранью того мира, к которому мы привыкли, и тех представлений, которые преобладали до 2 мая. Даже тем, кто до этого спал, больше не до сна.
В Одессе произошел холокост. Греческое слово «холокост» означает «всесожжение», то есть жертвенное сожжение на алтаре всей жертвы целиком. Мы видим свидетельства реального русско-украинского холокоста на фотографиях. И ужас охватывает от того, что делают последователи Бандеры и Шухевича, участвовавших в холокосте евреев и славян на стороне Гитлера. А деньги на это дает создатель мемориала Холокоста в Днепропетровске еврей-нацист Игорь Коломойский. Но теперь это не еврейский геноцид, а русский. Русские люди были сожжены заживо на деньги еврейского олигарха Коломойского руками украинских неонацистов. 2 мая — день русского Холокоста.
Донецкая область. Новые атаки террористических отрядов на Краматорск и Славянск унесли десятки жизней. И снова от рук террористов погибли в большинстве своем мирные жители этих городов. Коломойский, один из главных зачинщиков и спонсоров массового террора против жителей Новороссии, резко увеличил ставки наемникам и боевикам «Правого Сектора». В атаках на Славянск принимают участие подразделения вооруженных сил Украины, но так как в стране сейчас никакие законы не действуют, то каждый командир выполняет приказы либо исходя из того, как он сам оценивает ситуацию, либо в зависимости от обещанной или полученной материальной компенсации.
Параллельно были предприняты попытки штурма Мариуполя, подконтрольного Донецкой Народной Республике. И снова жертвы среди мирного населения и гражданских активистов[1].
Как реагирует на происходящее Запад? Это еще один страшный (и неожиданный для многих) сюрприз. Все западные СМИ без исключения полностью на стороне хунты и неонацистских боевиков «Правого Сектора». Никто на Западе не видит захватывающих дух кадров, обгорелых трупов, убитых детей и стариков, изнасилованных женщин, растерзанных нацистами безоружных граждан. Во всем и для всех на Западе виноват Путин, а любые «успехи» кровавых террористов «Правого Сектора» воспринимаются как «победа демократии». Все жертвы (если о них все же упоминается) превращаются в вооруженных русских наемников; а все палачи и убийцы — в героев, отстаивающих свободу Украины перед лицом русской агрессии. Все попытки Москвы привлечь внимание к начавшемуся на Юго-Востоке Украины запланированному и методично осуществляемому геноциду Запад просто игнорирует. Информационная политика украинских СМИ идентична политике СМИ Запада.
Украинский капкан
Как квалифицировать то, что происходит? Как сами украинцы могли дойти до такого зверства и организованного массового геноцида (пока еще) своих граждан? И почему Запад не только закрывает на это глаза, но и активно поддерживает хунту и даже оправдывает ритуальные бойни, перекладывая вину или на самих жертв, или на Россию и Путина? Что это?
Переворот в Киеве в марте был направлен на то, чтобы окончательно оторвать Украину от России. Путин сделал ряд непростительных в глазах Запада ходов в деле освобождения от его влияния и утверждения суверенитета России. Евразийский Союз, решение о создании которого будет подписано 29 мая, является серьезной заявкой на многополярность и существенное ограничение влияния США в мировом масштабе.
Да и в других вопросах Путин явно вышел из-под гипноза Запада и отечественной шестой колонны атлантистских агентов влияния и начал действовать в интересах России. На это Вашингтон решил отреагировать — и полем проведения очередной цветной революции стала Украина. Как и в Ливии, Сирии и Ираке, а до этого в Югославии и Косово, кровавая гражданская война, геноцид и хаос были запланированы Западом изначально. Вот почему Вашингтон и Брюссель никак не реагируют на зверства и кровавые преступления, а, напротив, подстегивают хунту к тому, чтобы она действовала более активно и жестоко. Как только Киев начинает колебаться, американские неонацистские марионетки из «Правого Сектора» и их еврейские спонсоры начинают жесткий шантаж Рады. Западу нужна кровь, террор, гражданская война. Это способ вовлечь Россию в кровавый хаос и постепенно перенести действия на ее территорию.
Показательно, что, прежде чем приступить к демонтажу режимов Ливии и Сирии, главных оппонентов США и Израиля в арабском мире, США провели сетевые операции по низвержению лояльных Западу режимов Бен Али в Тунисе и Мубарака в Египте. Так они привели в движение арабские массы через те страны, где их влияние было более сильным и они могли действовать свободно. А оттуда гражданская война перекинулась и на более закрытые и более враждебные Западу страны. Точно такой же сценарий разыгрывается на Украине. Украина и при Януковиче, и тем более до него, была прозрачна и открыта для западных специалистов по цветным революциям. И неонацисты «Правого Сектора» выполняли функцию, строго тождественную салафитам и ваххабитам в исламском мире: они нужны, чтобы радикализировать ситуацию и перевести ее в режим насильственного силового противостояния, террора и кровопролития. «Правый Сектор» — это не недоразумение или эксцесс. Это то, на что Вашингтон сделал главную ставку в кровавом хаосе. Без фанатиков-убийц, ненавидящих Россию и русских, этой операции не состоялось бы.
Западу необходимо втянуть Россию в войну с Украиной. И он всячески к этому подводит. Но Западу невыгодно особенно поддерживать Украину в этой войне. Напротив, Запад ставит на ее полное поражение и уничтожение со стороны России. Именно этому и служат такие циничные операции, как русский Холокост в Одессе. За подобными инициативами стоят Вашингтон и Брюссель. Ответственность за них лежит на США и НАТО. Им необходимо, чтобы виртуальное на сегодня присутствие русских на Украине стало реальным. А затем на все лады будут расписываться «зверства русских оккупантов». Украина же превратится в жертву «русского империализма». Вся территория Украины станет полем оккупации, кровавой гражданской войны и партизанских действий. В результате под давлением Запада и от санкций, по мнению американских стратегов, сама Россия дрогнет, и война, кровь и развал перекинутся на ее территорию. Тем более что в Москве и крупных городах России уже есть пятая колонна сторонников США на улице и, что еще опаснее, шестая колонна внутри самого политического режима (в ближайшем окружении Путина, в Правительстве, в политической, экономической и даже военной элите).
Значит, и русский Холокост в Одессе, и убийства в Донецкой области представляют собой не случайности, а часть продуманного плана. Запад полагает, что тем самым он заманивает Россию в украинский капкан. Можно себе представить выражение лица патриота Путина, рассматривающего кадры удавленной боевиками «Правого Сектора» беременной женщины из Одессы. Что он чувствует, наблюдая искореженные обугленные трупы ни в чем не повинных жителей Одессы из Дома Профсоюзов, когда ему приносят отчеты о том, с каким цинизмом киевские политики и сторонники хунты издеваются над жертвами… И на это расчет.
При этом важно, что Киев так и не начинает полноценной войсковой операции, которая необратимо на сей раз спровоцировала бы введение российских войск на Восток, а далее на Юг Украины. Причин может быть несколько: или хунта понимает, что в прямом конфликте с Россией необратимо проиграет и лишится всего, или же, что было бы более тонко, стремится спровоцировать военное вторжение России силами карателей и убийц «Правого Сектора» и наемников Коломойского. Сжечь людей в Одессе живьем — это морально нетерпимо для всех вменяемых людей, и особенно для русских, только что обосновавших воссоединение с Крымом именно предотвращением геноцида (как ранее освобождение Южной Осетии и Абхазии). Но это еще не начало войсковой операции. Цель: добиться, чтобы Россия начала первой.
Это и есть план Украинского капкана, и он, увы, реализуется на наших глазах самым чудовищным образом.
Все это ясно понимает Путин, и поэтому Москва после 2 мая застыла. Готовность ответа на начало боевых действий против Славянска, Краматорска и других городов Донбасса в Москве есть. Но то, что происходило 2 мая — при всей кошмарности этих событий, — все же еще балансирует на грани. Напряжение этого баланса невыносимо ни с моральной, ни с психологической, ни с исторической точки зрения. Путин какое-то время назад принял однозначное решение биться за Украину до конца, ни при каких обстоятельствах не бросать Юг и Восток. Это решение необратимо. Но теперь осталось точно подобрать нужный момент. Сейчас или… Или все же не сейчас. Чуть-чуть позже…
Понимая это, американские стратеги, играющие украинской хунтой и неонацистскими боевиками как пешками, также системно и планомерно испытывают Путина: а что ты скажешь, глядя на душераздирающие фотографии заживо сожженных сторонниками Бандеры и Шухевича невинных людей? Нерожденный ребенок удушенной женщины не будет ли Вас беспокоить во снах, Владимир Владимирович? — с дьявольским цинизмом насмехаются Вашингтонские стратеги и их сети, пронизывающие не только Украину, но и российскую элиту. У Путина нет права на ошибку. Следующий ход должна сделать Москва, но это произойдет в тот уникальный момент, который должен привести к победе. Вот где мы находимся сейчас, спустя три дня после черного 2 мая, когда тела жертв кровавых нацистских убийц еще не преданы земле и не отпеты.
Что делать?
С моей точки зрения, сейчас оптимальным будет следующий сценарий действий.
Первое: Москве надо окончательно осознать всю глубину и необратимость разрыва с Западом. Это значит, что существование пятой колоны в самой России более не совместимо с жизнью, миром и порядком в самом обществе. А наличие шестой колонны, представляющей собой агентов влияния США, формально лояльных Путину, блокирует в критической ситуации все радикальные решения и их исполнение. Сейчас Путину надо осознать в полной мере то, что он сам уже неоднократно провозглашал: Запад наш враг, и он решил дать нам последний смертный бой. После этого боя либо Вашингтон еще на какое-то время продлевает свою гегемонию, либо этой гегемонии приходит конец. В первом случае Россия исчезнет, во втором — рухнет однополярный американоцентричный глобальный либеральный мир. Выше ставок просто не бывает. Но даже если Путин не намерен, не хочет и не может идти до конца, Вашингтон намерен, хочет и думает, что может. Поэтому он пойдет. Независимо от того, примем ли мы вызов сейчас, будем ли тянуть и уклоняться. Запад уже начал с нами войну. И обожженные тела людей, погибших в Одессе, — это наши потери, это те герои, которые отдали жизнь за Новороссию и, в конце концов, за Россию. Это наши мученики, это святые великой войны континентов. И их число будет множиться. Так решил Запад. И никакие аргументы он более не слушает. План его таков: убивать, убивать, убивать. Жечь, вырезать, расстреливать, насиловать, калечить, душить. До тех пор, пока Россия не окажется в том, что Запад считает «украинским капканом». Если Путин твердо поймет, что любое промедление будет лишь множить жертвы и что Запад идет до конца, вся картина будет для него более ясной. Тогда удар по пятой колонне с ее полной ликвидацией и вышвыривание шестой колонны на периферию (на место пятой) есть необходимое (хотя и предварительное) условие для проведения дальнейших действий. Ведь ставка Вашингтона на то, что высокопоставленные российские чиновники, хранящие свои капиталы на Западе, под воздействием санкций и под угрозой потери наворованного (а это сотни миллиардов) в какой-то момент просто свергнут Путина. Шестая колонна состоит из либералов и коррупционеров в высших эшелонах власти (подчас эти роли совпадают). И если Вашингтон принял решение действовать по самому жесткому сценарию, то заговор и бунт шестой колонны последует обязательно. Путин опирается на народ, на силовиков, на патриотов. Но от них его отделяет прослойка шестой колонны, занятой систематическим саботажем любого его решения (в том числе кадрового), любой его инициативы, любого его действия, если они направлены на конфронтацию с Западом. Мыслить Россию как центр войны с американской гегемонией в острой фазе — это новое для Кремля. От этого Путин ранее всячески хотел уйти. Теперь он приперт к стенке. Не он это начал, но не принять вызов он не может.
Второе: исходя из первого пункта, решается вопрос о моменте введения войск. Если Запад решил в любом случае провоцировать Россию и биться до конца, то оттягивание момента введения российских войск не приведет к ожидаемой удобной точке. Более того, задержка с этим будет сеять панику в рядах пророссийских сил на Юго-Востоке, вселять уверенность в хунту, и от этого ее действия будут все более и более агрессивными и кровавыми. Если Москва стерпит русский Холокост в Одессе, неонацисты и наймиты Коломойского повторят сценарий в укрупненном масштабе либо там же в Одессе, либо в другом городе. Тогда Путин будет вынужден отреагировать, но время будет упущено. И даже если Путин введет войска только после того, как Киев начнет полноценную военную операцию (а это наверняка случится после так называемых «выборов», хотя не исключено, что и ранее), для Запада это будет равнозначно введению их сейчас. Вашингтон не признает легитимность никаких силовых действий со стороны России и никаких аргументов и доводов Москвы. Я имею в виду никаких вообще. Они не видят сожженных заживо людей и не увидят, как они не видят сотни тысяч людей, погибших в ходе американского вторжения в Ирак. Того, что не соответствует американским интересам, не существует — таково первое правило американской информационной войны, и его не отменит никакой масштаб зверств и злодеяний. Таким образом, если вводить войска, то сейчас. Ждать нечего. А если не вводить войска, тогда это будет означать предательство России и ее гибель. Именно России, не только Новороссии, но России как таковой. Не получив отпора на Юго-Востоке, понукаемые американскими хозяевами отряды украинских неонацистов обратятся к Крыму и к самой России. Тогда российские войска все равно придется вводить, но стартовые позиции мы потеряем. Если Вашингтон бросает нам экзистенциальный вызов, у нас больше нет иной возможности, кроме как ответить на него.
Пусть они думают, что это «украинский капкан», но это может стать моментом великого возрождения России. Капкан — для безмозглых и слабых зверей. Для сильного великого народа, наделенного миссией, это может стать чем-то совсем иным. Гусеницы русских танков превратят это незамысловатое устройство в смятую железку. Но танки должны идти до конца.
Третье: Юго-Восток Украины знает сейчас три модели Сопротивления.
1) Донецко-Луганский путь. Здесь силы Самообороны захватывают оружие и создают самостоятельную политическую реальность. Да, и они гибнут. Но они гибнут с оружием в руках. Они сражаются за Республику, за Новороссию, за Россию. Они несут потери и стоят на постах. Но они могут себя защитить. И здесь вступают в силу законы войны. После Одессы Донецко-Луганским субъектам просто необходимо провести серьезную зачистку всех сторонников хунты и колеблющихся бюрократов. Они активные пособники славянского геноцида, на них лично кровь невинных жертв. Интернирование пособников хунты, их изоляция и обмен на захваченных неонацистами лидеров Сопротивления — логичный и необходимый шаг. Далее по плану — разблокирование границ, взятие под контроль аэропорта и транспортных путей, создание полноценной армии Юго-Востока. Ответ последует, но он последует в любом случае. Сейчас все ясно: они идут убивать русских. Все. А на это один ответ: либо вооруженное сопротивление и защита жизни, либо покорное следование на бойню. Бараны сдаются, люди сражаются.
2) Одесса/Харьков. 2 мая в Одессе и за несколько дней до этого расстрел Кернеса в Харькове показывают, что фаза мирного противостояния в Одессе и Харькове завершена. Неважно, сколько людей выходит на митинги протеста против хунты, важно, созданы и вооружены ли отряды Самообороны, контролируют ли они ОГА и захвачены ли ими эти ОГА. В Одессе, перед тем как быть заживо сожженными неонацистами, активисты Антимайдана колебались, ломать ли двери в Доме Профсоюзов или нет, ведь если бы нападения не состоялось, — наивно законопослушно пеклись они прямо перед жуткой своей и героической смертью, — милиция посчитала бы это «противозаконным действием». Одесса, как и Харьков, еще верит в иллюзию закона. И вот цена расплаты за эту иллюзию: русский геноцид, полсотни или даже за сотню убитых, растерзанных или сожженных заживо людей. Да, в толпе бандеровских тварей было оружие. У противников хунты его не было. Могу сказать одно: очень плохо, что не было. Оружие не дают, оружие берут, если речь идет о жизни людей. Слишком большое почтение к закону в экстремальных ситуациях — это не просто ошибка, это самоубийство и преступление. Для Харькова справедливо то же самое. Могут возразить: мы бы пошли на штурм, а вдруг Москва нас не поддержит? В Донецке и Луганске не ждали Москвы. И теперь у них есть возможность не только отстоять себя (пусть с потерями), но и нападать, давать неонацистской мрази отпор. Они несут жертвы, в том числе среди мирных людей, но они и пополняют ряды ублюдков и наемников, отправленных на тот свет. Это жестоко, но это война. В нынешних условиях выбор один: либо война, либо бойня беззащитных людей. Вся разница в том, что в бою есть шанс победить и выжить, а на бойне — нет. Одесса и Харьков, вставайте в полный рост, или хунта и Коломойский со своими наемниками сожгут вас живьем. Закона нет, правил нет, власти нет. Есть чистая смерть в лице бандеровских карателей и есть вы, народ, люди, русские, украинцы, жители Одессы и Харькова. И опора тут только одна: вы сами. Ну, хорошо: предположим, Россия не вмешается вообще (этого не будет, но поставим ментальный эксперимент) — неужели вы сами готовы жить в режиме, где у власти «Правый Сектор», называющий невинные жертвы Дома Профсоюзов «курицами на гриле»? И эту беременную женщину… и этих юных сгоревших обугленных возлюбленных, лежащих в обнимку… «Копченая сотня»… Причем здесь вообще Россия… Беда пришла в ваш дом, ваша боль — наша боль, но Москва не рассматривает вас как «пятую колонну». Вы свободные люди, если вы встаете на путь Сопротивления, мы помогаем. Но это нужно прежде всего вам. И здесь победит тот, кто смелее, мужественнее, умнее, сильнее и решительнее. Абсурдно после того, что случилось 2 мая, призывать «остановить гражданскую войну». Она в полном разгаре, и ее остается только выиграть.
3) Херсон, Николаев, Запорожье и особенно Днепропетровск как модели. Здесь баланс сил не так очевиден, как в Донецке, Луганске, Харькове и Одессе. Но Сопротивление есть, и оно значительно. Думаю, что пришло время для создания полноценных партизанских отрядов. В данном случае явно все силы Сопротивления будут находиться на нелегальном положении. Но спорадические атаки и спецоперации в этих областях ослабят хунту, заставят ее распылить свои усилия. Особенно важен Днепропетровск — вотчина неонацистского еврея Коломойского и оплот всего украинского олигархата. Активная партизанская деятельность в Днепропетровске и действия, способные нанести максимальный вред Коломойскому и его структурам, окажут неоценимую услугу всему Сопротивлению. Это символично: бить коломойскую свинью в ее собственном алмазном хлеву. Там же сейчас находится штаб-квартира «Правого Сектора». Убийцы и каратели сосредоточены там. Но огромное число жителей Днепропетровской области отвергает хунту. Поэтому здесь партизанский сценарий приобретает особое значение. Ясно, что время мирных протестов, пикетов, палаточных городков на Украине ушло. Сейчас говорят автоматы, «коктейли Молотова», пули и взрывчатка. Оберегая рядовых активистов, жители этих областей должны формировать вооруженное подполье Сопротивления.
4) Закарпатская модель. Труднее всего придется Закарпатью, где большинство русинов и венгров, и, естественно, хунта никакой поддержки среди населения не имеет. Но географическое положение не позволяет получить внешней поддержки. Разве что можно надеяться на коридор с Венгрией, которая занимает вполне вменяемую позицию в отношении хунты. Сил захватить власть в Закарпатье у Сопротивления, насколько я понимаю, хватит. Но долго удерживать — едва ли. Но надо понимать, что этнические меньшинства русинов и венгров обязательно станут объектами геноцида. Русский холокост в Одессе вполне может повториться, и повторится, увы, если позволить этому случиться, в Ужгороде и других городах области. Рано или поздно. К этому надо быть готовым. И хотя сейчас все внимание сосредоточено на Юго-Востоке, эта зона — следующая в общем неминуемом процессе распада Украины, который невозможно уже не только остановить, но и замедлить.
Четвертое: важно, чтобы русские в России включились в битву Юго-Запада за свою свободу. Да, Запад упрекает Москву за то, что якобы на Востоке и Юге действуют российские силы. Москва отвечает, что это не так. И это действительно не так. Увы. Москву все равно никто на Западе не слушает, они говорят только то, что соответствует их представлениям и интересам. А пустые страхи Москвы (поддерживаемые шестой колонной) лишь провоцируют все новые и новые жертвы. На Украину ехать надо — всем, кому не безразлична судьба самой России, кому дорога наша история, кто чувствует себя русским. Но в этой ситуации там необходимы только хорошо подготовленные мужчины с боевым опытом. Время гражданских активистов, журналистов и просто сочувствующих прошло. Гражданская война идет полным ходом. И в этой войне нужны воины.
При этом не стоит ждать призыва от российских властей. Его не последует. Надо слушать голос своего русского сердца, своей совести. Надо пробираться на Украину, кто как может. И ориентироваться на месте. Запад и украинские неонацисты объявили русским войну. Они сожгли заживо людей, они убивают наших мужчин, женщин, стариков, детей, еще не рожденных русских младенцев. В нашей истории, увы, мы неоднократно это проходили. И победы давались нам подчас непростой ценой. Но побеждали мы всегда. Победим и сейчас. Но победу никто не принесет нам извне. Поедем на Украину и добьемся ее. Придут наши войска, двинемся дальше на Запад, освобождать всех. Не придут, освободим сами то, что удастся.
Патриотизм — это мысль и действия. Любишь Россию — умри за Россию, убей за Россию. Боишься, ну что ж. Дело твоей совести. Это наша война. После черного 2 мая это должно быть очевидно всем. Те, кого сожгли заживо в Одессе, — не «они», это мы. Это наши братья, сестры, матери, дети, отцы. И убийцы их на свободе, готовятся убивать снова и снова. Не знаю, кто это может стерпеть… Снести… Промолчать… Бог таким, однако, судья… Бывают и такие, во все времена…
Тангалашки: телевизионное восстание бесов
Правильно заметил один из блогеров: если вы не знаете, что такое ад, включите 2 мая официальные развлекательные каналы российского телевидения и наложите их образы на искореженные трупы жертв Дома Профсоюзов. Сами физиономии Баскова или Киркорова, да и практически всего телебомонда России — Урганта, Цекало и т. д. — вообще несовместимы с русским представлением о достойном поведении, корректной внешности, жестах, действиях и словах. Что-то во всем это удивительно напоминает Киев, его олигархические лживые каналы, распущенность старающихся подражать Западу провинциальных дегенератов. Те, кто заполняет российское ТВ и кто его делает, — настоящие преступники перед нравственностью, духом, историей, идентичностью России. Здесь вообще нет ничего русского, ни малейшего намека на солидарность, честь, сострадание, жертвенность, чистоту, благочестие, целомудрие. Это пляска бесов, тангалашек (по Паисию Святогорцу), бесстыдная демонстрация вырождения и глубинного нравственного падения. Это совершенно не весело и не смешно. Это на самом деле ужасает.
С такой культурой, с таким уровнем развлекательных программ, с такими рожами, с такими передачами и ведущими мы Россию не возродим, не мобилизуем, не пробудим. На наших глазах сожгли заживо десятки людей, сожгли нацисты, жестоко, цинично, добили раненых, убили русских. И никакого такта, чтобы внести коррективы в программу. Ни малейшего нравственного движения. Кто они, российские телемагнаты? Иногда кажется, что они ничем не отличаются от своих украинских коллег, работающих по заказу циничных олигархов — порошенок, коломойских и ахметовых. Да, Путин поставил политическое вещание под прямой контроль, и оно очень качественно, почти безупречно. Но все остальное? Ведь очень важен контекст. Когда на фоне полной дегенерации появляются серьезные и скорбные лица дикторов, говорящих о политике, войне, жертвах, смертях, они воспринимаются очень странно — как будто продолжается какое-то циничное и особо жестокое телешоу.
Так же дело обстоит и в культуре, и в образовании. Здесь зверствует уже даже не шестая колонна, но пятая, откровенная русофобия вполне в духе Евромайдана и «Правого Сектора». В России преобладает антироссийская культура. В России образование построено в антироссийском ключе. И что мы хотим от Юго-Востока Украины? Они видят в нас и любят в нас идеальную Россию. Ту Россию, которая, конечно, есть, но под спудом, в глубине. На ТВ беснуется другая Россия, Россия либеральных вырожденцев, Россия телебесов.
Контраст между трагедией 2 мая в Одессе, событиями в Краматорске и Мариуполе и линией развлекательного российского телевещания — это приговор. Это просто предательство. Это моральный конец тех, кто за это отвечает — на самом ТВ и в государстве. С таким настроем мы далеко не уедем. Мы потеряем то, что еще осталось в нас от нас самих.
На Запад!
…Мы прожили страшные дни. Кровавые праздники. Все, кто сомневался, увидел истинное лицо хунты и ее террористических карательных отрядов. Все точки расставлены. Места для иллюзий и надежд, что все обойдется само собой, больше не осталось. Киев будет убивать и потирать руки всякий раз, когда будет получать информацию о новых и новых жертвах. И чтобы мы ни делали, Запад будет на стороне убийц. Может быть, вообще положить конец всей этой отвратительной истории, пока не стало слишком поздно? Да, нам придется очень трудно, если мы поставим в истории украинского неонацизма точку. Да, мы очень многое потеряем, если сейчас примем вызов Запада и ответим на геноцид, не просто на угрозу геноцида, но на сам фактически состоявшийся геноцид, адекватными мерами. Но… Но нам будет еще труднее, и мы потеряем еще больше, если не примем вызова и не ответим на него.
Можно, конечно, ждать еще. Но я убежден, что больше ждать нечего. У того, кто действует быстрее, есть больше времени даже на то, чтобы исправить ошибки.
Поэтому я думаю, что время пришло. На Запад!
Приложение
«Мы увидели настоящего Путина»
(интервью А. Г. Дугина для «Накануне. RU», 24.04.2014 г.)
«Прямая линия» с Владимиром Путиным стала по-настоящему исторической.
Дело не в количестве вопросов и потраченном на ответы времени — Путин не стал бить рекорд предыдущего общения с народом, — а в том, что и как было сказано жителям страны. События на Украине, в Крыму, отношения с Западом и Востоком, о чем, собственно, президент и говорил большую часть времени, заставили говорить о главном — Россия идет против глобальной мировой тенденции, и это неудивительно: на это способен только русский человек — с особым генным кодом. О главных посылах Путина — в интервью «Накануне. RU» с политологом Александром Дугиным.
Вопрос: Александр Гельевич, как бы вы оценили сегодняшнее общение президента России с народом?
Александр Дугин: Это первая «линия», которая фундаментально отличается от предыдущих. Здесь была стратегия, геополитика, идеология, программа, и здесь был Путин. Я увидел того, в кого я всегда верил, на кого я всегда надеялся, увидеть и услышать кого я всегда мечтал, начиная с 2000 года. Всякий раз это откладывалось, всякий раз это было неполно, всякий раз это сочеталось с недосказанностями, замалчиванием и т. д. Причем эта половинчатость присутствовала во всех предшествующих выступлениях — общение с народом, Послания Федеральному Собранию всегда подлежали двойной интерпретации. Они могли быть интерпретированы в евразийском патриотическом ключе, но всегда могли быть интерпретированы и в либерально-западническом ключе. Может быть, это специфическая форма маскировки, ведь сегодня Путин сказал, что он агент по своему происхождению, как и Сноуден, и я не исключаю, что это было так. Но сегодня Путин снял балаклаву.
Сегодня мы увидели настоящего Путина. Я всегда надеялся, что Путин именно таков. Наверное, очень многие надеялись, что он совсем другой, что он сторонник либеральной олигархии, прагматик-западник, который считается с патриотическим движением для того, чтобы поддерживать антирусскую элиту, которая сложилась в 90-е годы. Но у тех, кто слышал сегодня его в прямом эфире, уже нет никаких сомнений.
Предшествующая игра в интерпретации Путина развертывалась относительно того, в какой степени он патриот или либерал. На мой взгляд, в совокупности с присоединением Крыма, в совокупности с третьим сроком, с его предвыборными статьями, с изменением стратегии, тона и содержания всего политического вещания центральных каналов за последние два года, все это показывает, что «свершилось» — в России произошла патриотическая революция, причем прошла она сверху.
То есть не путем подъема народа, а путем движения в сторону народа со стороны верхов, не ультимативное, а добровольное, не по причине усилий патриотов, которые 23 года предпринимали попытки изменить курс России в сторону самостоятельного развития. А благодаря тому, что во главе государства в третий раз оказался человек с позициями, которые были достаточно неоднозначно поняты раньше. Теперь все встало на свои места. Сегодня мы видели Путина, как он есть, и все предшествующее выстроилось в четкую логику — Путин постепенно двигался к тому, что мы имеем сейчас. И он сегодня озвучил главные моменты, которые многие боялись, а многие желали от него услышать.
Вопрос: Какую главную мысль президента после сегодняшнего общения вы для себя выделили?
Александр Дугин: Исходя из его заявлений, я вижу, что есть курс на многополярный мир и укрепление России как самостоятельного субъекта, жесткое непринятие диктата со стороны Запада и однополярного мира. Такая степень уверенности в себе, которая превышает, может быть, даже наши возможности, но это прекрасная цель, которая точно обозначена — мы будем действовать независимо от того, что хочет от нас Вашингтон. Мы бросаем вызов так называемому Атлантическому консенсусу, мы взяли курс на жесткую, тотальную и абсолютную конфронтацию с тем Западом, который пытается сохранить свою гегемонию. В этом нет никаких сомнений, и к этой теме возвращались снова и снова — и в вопросах либералов, и в выкриках патриотов, и в обращении простых людей, и даже в письме шестилетней девочки звучала тематика борьбы с американской гегемонией, выраженная детским наивным языком.
Это был лейтмотив всего общения — Россия официально заявляет, что больше не признает США в качестве глобального гегемона и отказывается от Атлантического консенсуса. Мы не просто признаем конец гегемонии, а делаем ставку, что этот конец должен наступить. Фактически мы приняли войну с атлантизмом, которая была нам уже давно навязана, но долгое время велась в одностороннем порядке. Я в 2005 году встречался с Бжезинским. Между нами стояла шахматная доска, на которой лежала его книга. Я тогда сказал ему: «Господин Бжезинский, как вы понимаете смысл шахматной доски, ведь шахматы — это игра для двоих?». Он поднял на меня глаза и сказал: «Господин Дугин, я об этом никогда не думал». Что это значит? Америка играла в шахматы двумя руками: с одной стороны — Америка, с другой стороны — Америка. Так было в 90-е годы, так же было в начале 2000 годов — это и есть американский консенсус. То есть Америка начинает и выигрывает, а если ей кто-то мешает, то она действует так, как ей нужно, сохраняя свою позицию ровно на тех моментах, которые выгодны Америке. Шахматная игра для одного — это и есть однополярный мир.
Путин сказал: на этом мы заканчиваем подобного рода правила. Он указал, когда именно это закончилось — «конец перезагрузки» произошел во время событий в Ливии. Видимо, на всем протяжении своего нахождения у власти он собирал силы, чтобы выйти на эту колею. Поэтому мы находимся сейчас в фундаментальной оппозиции американской гегемонии. Уже все фразы сказаны, все модели о ПРО, о расширении НАТО, о работе американцев на Украине были подсказаны, высказаны, сформулированы в виде вопросов, и Путин на все эти вопросы, предложения, критику, поддержку дал однозначный ответ: Россия идет против этой глобальной мировой тенденции. Он показал, какие риски мы несем, в чем мы можем потерять, что нам грозит. Мы говорили о санкциях, об удушении НАТО, о цене на газ, о том, насколько это скажется на отношениях с Европой, и по каждому из этих пунктов Путин дал развернутое, подробное, внятное разъяснение о том, как Россия будет существовать в условиях жесткой конфронтации с американоцентричным миром.
Никогда ничего подобного не было. Все предыдущие его речи были смазаны. А теперь, в ситуации с Крымом, в ситуации борьбы за Юго-Восток Украины это самое главное. Это не жест, не кампания, не пиар, не ситуативный ответ на эскалацию отношений на Украине. Нет! Это стратегия, которая объясняет предшествующее и захватывает курс будущего. Россия вступила на путь утверждения многополярного мира, и это означает войну с американской гегемонией — не с Америкой, не с Западом, но с американской гегемонией в глобальном геополитическом, стратегическом, идеологическом, культурном, цивилизационном смысле.
Вопрос: Путин в первый раз упомянул Новороссию по отношению к Юго-Востоку Украины. Может ли это означать новый курс, новую политику? Может быть, стоит ждать более решительных действий России на Юго-Востоке?
Александр Дугин: Ничего нового я тут не увидел, так как это естественная логика. Что значит Новороссия? После того как Америка совершила прямое лобовое столкновение, свергнув Януковича, она не оставила нам, как Путин показал, никакого другого выбора, только воссоединение с Крымом и защиту интересов Новороссии и Юго-Востока Украины перед лицом киевской хунты. Ни у Путина, ни у страны нет никакого другого выхода, никто не хочет и не думает в этой идеологической парадигме ни о чем, кроме того, что Юго-Восток Украины сам выберет свою судьбу. Таким образом, Киев, который поддерживается НАТО и американской гегемонией, не сделает этого выбора за Юго-Восток, и российское вооружение, российская политика, российская экономика, российское ядерное оружие является гарантом того, что Новороссия определит свою судьбу сама.
Территория Юго-Востока выбирает не между отчаянным восстанием против Киева или покорностью перед лицом нацистской хунты, она делает выбор, который обеспечен российской мощью — либо самостоятельность, либо федеральный статус, либо создание новой государственности, либо вхождение в Россию, на что Путин абсолютно однозначно намекнул. Но он сказал, что это не выбор России, Россия выступает лишь гарантом свободного выбора. Хунта скажет: голосовать за нее либо быть объявленным сепаратистом и быть расстрелянным. Это выбор хунты, базирующейся на мощи НАТО. Если хунта и НАТО действуют сообща, а Россия устраняется, то, конечно, у Юго-Востока нет никакого выбора — люди не самоубийцы. Если же при наличии русского Крыма, при наличии мощной, последовательной, строгой и жесткой позиции России Юго-Восток начинает думать о своей судьбе, то у него есть совершенно другой выбор. Это практически расставляет точки над «i» в вопросе Юго-Востока. Путин говорит: если Киев попытается решить вопрос силой, ему это не удастся, потому что Россия это не позволит сделать. Будет ли Россия вводить войска? «Нет», — сказал Путин. Будет ли Россия настаивать на вхождении Новороссии в состав России? «Ни в коем случае», — говорит Путин. Он дает свободу выбора. Поэтому мне представляется, что сейчас борьба Юго-Востока Украины за свои права, за свою свободу и независимость вспыхнет с новой силой.
Вопрос: Но люди же продолжают гибнуть. Нельзя же это так оставить. Что должен сделать Юго-Восток, чтобы Россия имела право на более решительные действия?
Александр Дугин: В начале конфликта я описал три его фазы. Первая из них — общественная самоорганизация. Если самоорганизация Юго-Востока начнет сталкиваться с силовыми нападениями «Правого сектора» и националистических группировок, для защиты этой инициативы потребуется создание отрядов самообороны. Когда протест от мирного переходит к вооруженному, начинается вторая фаза. Сейчас мы как раз находимся на второй фазе, когда мирные протесты не дают своего эффекта, Киев не хочет слушать мнение народа Юго-Востока, продолжает им навязывать свою точку зрения и бросает туда карательные отряды националистов. Тогда народ формирует отряды самообороны. Когда же на отряды самообороны областей, которые заявили о своей независимости, бросаются военные силы Украины, начинается третья фаза. И Путин тоже сегодня об этом говорил. Он говорил, что когда он видит самолеты, танки и пушки, которые идут в сторону Юго-Востока, ему это не просто не нравится — если это выстрелит, Киев очень-очень пожалеет. На самом деле, если Киев перейдет к третьей фазе, то в дело вступит Россия. Пока речь идет о противостоянии «Правого сектора» и народного ополчения, тоже вооруженного, Россия не вмешивается и вмешиваться не будет, потому что если «Правому сектору» помогает Киев, то самоорганизации Юго-Востока должно быть достаточно для того, чтобы отразить эти атаки самостоятельно, а Россия лишь дипломатически отстаивает позицию Юго-Востока.
Вопрос: Получается, что надо ждать решительных действий, когда, к сожалению, начнется массовое уничтожение людей?
Александр Дугин: Мы ждем начала применения оружия Вооруженными силами Украины для подавления гражданского волеизъявления Юго-Востока Украины. Раньше мы, даже если какие-то гражданские пострадают, что действительно очень трагично, войска вводить не будем. «Мы не агрессоры, мы не оккупанты», — говорит Путин. Вся наша стратегия тем не менее следует из нового понимания нашего места в миропорядке, который больше не будет, по словам Путина, однополярным, а будет многополярным, где Россия будет представлять самостоятельный полюс.
Вопрос: А как бы вы прокомментировали ответ Путина на вопрос о русском народе?
Александр Дугин: Президент Российской Федерации впервые говорит о русском человеке, а потом говорит о россиянине, потому что русский — это ядро российского. Это абсолютно правильно и абсолютно естественно, но то, что это говорит президент, и то, как он об этом говорит, означает, что это является его глубинным убеждением, так же как это является глубинным убеждением всех русских людей без исключения, кроме либеральной мрази, которая вообще не имеет отношения к русским. То, что сказал Путин, — это великие слова. Они не являются какими-то особыми, философски и культурологически идеальными. Это просто некое утверждение собственной идентичности простого русского человека, который находится сейчас на посту президента России. Путин сказал самое главное — то, что наш человек не является индивидуальным, то есть либералом. Мы живем в обществе другой антропологии. Для нас частное — это не целое, а часть. Для нас отдельный индивидуум — это лишь часть большого народа.
И тут Путин сказал самое важное, что является вообще сверхавангардом. Он привлек для описания нашей идентичности самый главный фундаментальный критерий — критерий смерти. Путин говорил о красной смерти, о русской смерти, о том, что русский человек предпочитает гибнуть как герой ради своего Отечества, ради религии, ради народа, вместо того чтобы процветать индивидуально. Отношение индивидуума к смерти — это одно, а для русского человека — это другое. Для русского человека смерть является «красной», если она «на миру», то есть если она в коллективе, если она является частью исторического плана, исторической миссии нашего народа. Я таких слов ни от кого не слышал. То, что он вообще заговорил о категории народа, которая является субъектом «четвертой политической теории», и противопоставил понимание народа пониманию либерального индивидуализма, и то, что он сочетал понимание народа с понятием смерти, является сутью идеологического послания Путина. Причем именно к народам Европы — не к лидерам, не к элитам Европы обращается Путин.
Не зря он процитировал два политических течения в Европе, которые явно ему ближе всех — это консерваторы Венгрии и Национальный Фронт во Франции. Путин обращается к тем, кто представляет совсем другую Европу — Европу народов. Не к народу атлантических и либеральных элит, а совершенно к другой, глубинной Европе, которая является продолжателем и носителем средиземноморской греко-римской цивилизации, частью которой, в ее православно-византийском варианте, являемся и мы. Сегодня я три с лишним часа не отрывался от телевизора, потому что я слышал, как президент страны последовательно, логично, очень мягко, очень искренне излагает то, чему я посвятил всю свою жизнь. Путин на самом деле на практике управления такой сложной страной в такой сложный исторический период пришел к абсолютным выводам — к нашей русской истине. Не к либеральной, западнической, русофобской, буржуазно-капиталистической, а именно к нашей русской истине. Она одинакова для меня, для вас, для Путина, для обычного человека, для крымчанина, для жителя Новороссии, для огромного количества людей, которые живут за пределами России.
Кто такие «пятая колонна»?
(интервью А. Г. Дугина для В. Познера. Программа «Познер», 21.04.2014 г.)
Владимир Познер: В эфире — программа «Познер». Гость программы — философ Александр Дугин. Здравствуйте, Александр Гельевич.
Александр Дугин, лидер Международного Евразийского движения: Здравствуйте. Христос воскресе!
В. Познер: Ну, возможно. Вы знаете мой несколько другой взгляд на эти вещи. Я хотел спросить вас. Я вас представил как философа. Вы бы еще что-нибудь добавили к этому?
А. Дугин: Я думаю, что это точное описание. Лаконичное и точное.
В. Познер: Хорошо, отлично. Вы знаете, мы с вами совсем мало знакомы, но зато очень давно. Я помню, много лет тому назад, не помню точно, когда, но, мне кажется, больше десяти точно, может быть, пятнадцать, вы приходили ко мне домой.
А. Дугин: Да, я помню прекрасно.
В. Познер: Вы помните, да? Мы с вами проговорили, мне кажется, часа полтора, потом вы ушли. И я до сих пор задаюсь вопросом: а почему вы пришли? Почему вы захотели со мной говорить? Мы с вами вроде придерживаемся довольно разных взглядов. Что вас заинтересовало?
А. Дугин: Мне представляется, что при всем различии взглядов в России для людей знаковых, людей ярких, людей, на которых обращает свое внимание общественное мнение, на мой взгляд, очень важен, необходим рациональный, обоснованный, аргументированный диалог. Я вам оставил, когда я приходил, если вы помните, целую кучу книг, за это время, за эти 11–12 лет она выросла в два раза. Но, в любом случае, я просто полагаю, что в нашем обществе можно иметь разные позиции. Наши позиции полярны по большинству вопросов, но мне представляется, что аргументированность позиций сейчас гораздо важнее, чем то, какую позицию мы занимаем. Я думаю, что вы достаточно убедительно, внятно излагаете либеральную точку зрения. И мне представляется, что люди, которые обладают аргументацией независимо от их позиций, будут гораздо более содержательно общаться друг с другом, даже если они стоят на противоположных точках зрения, чем те люди, которые с пеной у рта доказывают свою правоту, не будучи, по сути дела, еще в ней глубоко уверенными, так часто бывает.
В. Познер: И зачастую не очень разбирающиеся в том, что они говорят.
А. Дугин: В том-то и дело. Это болезнь неофитов — когда они сталкиваются с каким-то новым учением, они стараются быть святее Папы Римского, сразу друг друга укоряют.
В. Познер: Да, это правда. Вы знаете, я помню ваше рассуждение относительно борьбы воды и суши, атлантизм, эти все вещи. И я помню, что меня несколько насторожила ваша точка зрения, что неизбежен конфликт между ними и что неизбежна даже война. Учитывая, что… как один мой коллега в таком патриотическом раже сказал, что Россия может превратить Соединенные Штаты в груду радиоактивного пепла. Но, правда, забыл добавить, что и обратное верно — что Соединенные Штаты могут превратить Россию в груду радиоактивного пепла, и, собственно, именно поэтому, вероятно, и не было войны до сих пор, что обе стороны понимали это. Вы по-прежнему считаете, что война между этими двумя сторонами — будем говорить, Россией и Америкой, между сушей и водой, — неизбежна?
А. Дугин: Вы знаете, она не то что неизбежна, она идет. Она может иметь разные формы. Но это основа геополитики. Это не мое личное, персональное мнение. Есть такая дисциплина — геополитика, создали ее англосаксы, это Хэлфорд Маккиндер. Потом ее развили немцы — Карл Хаусхофер, потом ее подхватили русские, евразийцы — Петр Савицкий. А сейчас она преподается просто во всех странах. И вся она основана на конфликтологической схеме о том, что существуют две несоизмеримые цивилизации, два фундаментальных типа человечества — цивилизация моря, атлантизм, сегодня представленный Америкой, и цивилизация суши, представленная традиционно Россией или Хартлендом — «сердцевинной землей». И между ними идет позиционная борьба. Иногда эта борьба, которая происходит всегда, достигает горячей фазы, иногда холодной фазы, иногда происходит определенное смягчение, сглаживание этих противоречий, но она есть всегда.
В. Познер: Но вы не настаиваете на том, что неизбежен вооруженный конфликт?
А. Дугин: Абсолютно нет. Более того, я считаю, чем больше мы будем готовы и будем осознавать структурный, системный, неслучайный, не связанный с событиями, с теми или иными относительными обстоятельствами характер этого противостояния, тем больше есть шансов избежать «холодной войны».
В. Познер: «Горячей войны».
А. Дугин: «Горячей войны», прошу прощения. «Холодной» избежать нельзя. Именно, на мой взгляд, с этим и была связана программа ядерного оружия в Советском Союзе. Поскольку в противном случае при противостоянии систем… Тогда, в советское время, эта борьба суши и моря определялась под идеологическим знаком, до этого была конкуренция империй, сейчас это противостояние демократических государств, но тем не менее смысл этого противостояния не меняется. Так вот, если мы хотим избежать «горячей войны», мы должны быть готовы к тому, о чем говорил как раз Дмитрий Киселев — уничтожить Америку. Она готова уничтожить нас, и эта взаимная готовность снимает, на мой взгляд, риск и опасность «горячей войны».
В. Познер: Это то, что в Америке называют mutual assured destruction — беспечное уничтожение друг друга, и это, собственно, сдерживало обе стороны.
А. Дугин: Абсолютно, и нас, и их. До какого-то момента. Пока не начался в 90-е годы существенный перекос в их пользу, и в гонке вооружений они достигли очень серьезного преимущества по отношению к нам. И в 90-е годы эта асимметрия создала впечатление, что Россия через одно-два десятилетия настолько отстанет от Запада, что не сможет гарантировать взаимное уничтожение. А тогда…
В. Познер: Да, и что Запад может не удержаться.
А. Дугин: А тогда, конечно, Запад уже не имеет сдерживающего силового фактора. Все, мы становимся беззащитными. И проба нас, на мой взгляд, на эту слабость — это все 90-е годы, потому что после распада Советского Союза началась Чечня, сепаратизм в которой поддерживал Запад, потом битва за постсоветское пространство. Но, как выяснилось за последние 14 лет, или, может быть, даже раньше это началось, или, может быть, позже, но сегодня мы готовы к тому, чтобы объявить зону геополитической ответственности. Конечно, мы не нападаем на США, мы не можем продвинуть наши базы…
В. Познер: Это невозможно без того, чтобы начать Третью мировую войну.
А. Дугин: Да, но я имею в виду позиционное ненападение. То есть мы не продвигаем наши военные базы ближе к их территориям…
В. Познер: Подождите, а как это можно сделать? Там никто их не примет, вы же понимаете, это совершенно другая ситуация.
А. Дугин: Венесуэла, Куба…
В. Познер: Но однажды мы пытались это сделать, и вы помните, что было.
А. Дугин: Пытались. И это была симметричная система. Я не сторонник таких эскалаций конфликтов, но есть зоны ответственности, зоны цивилизации суши и цивилизации моря, которые, в общем-то, достаточно органичны и понятны. И вот здесь спор как раз становится болезненным. Если мы попытаемся усилить наше военное присутствие на Кубе, это будет вызов, просто вызов. Но точно так же и киевский переворот является вторжением американцев в нашу зону.
В. Познер: Давайте оставим пока Киев, мы вернемся к нему. Вчера весь христианский мир отмечал Пасху. Вне зависимости от ветвей христианства, но весь христианский мир его отмечал, Вы это, конечно, знаете. И вы, конечно, знаете и то, что Христос был человеком, по крайней мере, когда читаешь Новый Завет, очень мирным, и насилие было ему глубоко, — я даже не знаю, какое слово сказать, — неприятно, неприемлемо и так далее. Вы неоднократно говорили о своей приверженности к православию и, конечно, о вере во Христа. Но иногда мне представляется, что вы сами человек довольно кровожадный. Я позволю себе вам напомнить, почему я так считаю. Совсем недавно вы говорили: «За свою страну, за Россию, за правду, социальную справедливость, за идею, за народ и правильные политические убеждения надо стрелять и убивать». Это вы сказали примерно год назад, почти точь-в-точь. В кого стрелять? Кого убивать? Это что за идея такая?
А. Дугин: Во-первых, Христос был совершенным человеком и совершенным Богом. Это первое. Во-вторых, Христос изгнал из храма торговцев, и он сказал такую фразу: «Не мир я вам принес, но меч». Конечно, христианство — это мирная религия. И тем не менее на протяжении всего христианского двухтысячелетия мы видели, что христианские страны почти всегда на протяжении своей истории вели те или иные войны, иногда наступательные, иногда оборонительные. Поэтому, на мой взгляд, представлять христианство как только пацифизм любой ценой не совсем верно. Второй момент: что я имею в виду относительно готовности убивать?
В. Познер: Необходимости.
А. Дугин: Готовности, скажем так. Во-первых, кстати, как правило, я говорю о том, что убивать и умирать, и начинаю даже — умирать и убивать…
В. Познер: Я вас процитировал.
А. Дугин: Не всегда точно передают мои мысли люди, которые…
В. Познер: Но это ваша цитата. Поверьте мне, что я внимательно читал и даже не вырывал из текста, из контекста.
А. Дугин: По смыслу я не спорю. Сейчас я объясню, что я имел в виду. Я просто полагаю, что убеждения человека, его принадлежность к цивилизации, к стране, к церкви, к религии и даже к политической идеологии соизмеримы с ценностью жизни. И только тогда, когда ценность жизни вкладывается как обоснование, как залог наших собственных идей и взглядов, когда мы готовы отстаивать свою правоту, рискуя свою жизнью…
В. Познер: Или вынуждены?
А. Дугин: И в некоторых случаях, когда кто-то является агрессором в отношении к нашей вере, к нашим идеям подчас, к нашей стране и патриотизму, к нашему народу, мы должны быть готовы убивать. Почему? Потому что, на мой взгляд, мужчина — это принципиально воин. Конечно, он стремится избежать этого, я не предлагаю заниматься террором, я не предлагаю убивать всех подряд…
В. Познер: Уже хорошо.
А. Дугин: Нет, это, кстати, немало, потому что сейчас мы слышим разных людей. Есть люди какие угодно — есть террористически настроенные люди… Поэтому я считаю, что человеческая жизнь — это плата за глубину и серьезность наших убеждений. И если мы не готовы, например, за нашу политическую идею — за либерализм, к примеру, в вашем случае или за патриотизм, к примеру, в моем — пожертвовать собой при крайней необходимости, и если мы, когда нашим взглядам, нашим идеям, нашим странам, нашим общностям, которые мы представляем, грозит серьезная экзистенциальная опасность, не готовы за это вступить в бой, а бой — это все-таки всегда готовность…
В. Познер: Вы говорите о самозащите, по сути дела, если так уж говорить простыми, внятными словами.
А. Дугин: Да, я имею в виду самозащиту. Но я еще хочу сказать, что грань между защитой и нападением очень тонка. Нет такой армии, которая готова только защищаться. Нет таких идеологических, политических, социальных — любых учений, которые только говорят: «Оставьте нас в покое, мы будем только защищать себя». Дело в том, что война никогда не может ориентироваться исключительно на оборону. Война должна учитывать нападение как превентивную форму обороны и так далее. Но при этом я полагаю, что ответственен тот, кто понимает цену жизни, кто ответственен по отношению к своим высказываниям, к своим идеям, к своим взглядам, к своим политическим, религиозным, философским, идеологическим позициям, кто понимает, что за все придется платить. За все. И эта готовность, на мой взгляд, платить не только своей жизнью (подчас для людей это проще даже — принести себя в жертву, чем убить другого человека), но и жизнью врага, а это очень важно, потому что враг не должен рассматриваться как какой-то технический элемент… Враг — это человек, и способность убить человека подчас труднее, и готовность к этому подчас более сложная, чем способность умереть и пожертвовать собой.
В. Познер: Вы довольно часто говорите о врагах, о врагах России. Вы говорите, что это атлантизм, глобализм или олигархический либерализм… И дальше вы говорите, что «должен быть уничтожен вот этот враг безжалостно, иначе он уничтожит нас». Опять призыв к насилию, на мой взгляд. И согласно вашему определению, атлантизм — это США, это НАТО, это Евросоюз, это либерализм, это мировая финансовая олигархия. И, следовательно, выходит, что их всех, если следовать вашей логике, нужно уничтожить безжалостно. Как вы себе это представляете?
А. Дугин: Обратите внимание, что все объекты уничтожения, которые вы процитировали совершенно справедливо, это мои слова, являются собирательными концептуальными понятиями. Я ни в одном месте не говорю, что надо уничтожать либералов. Я не говорю, что надо уничтожать американцев.
В. Познер: Нет, говорите. У вас даже есть статья, которая называется «Либералов — к стене».
А. Дугин: Нет, такой нет. Дело в том, что, обратите внимание, я очень точно слежу за своими выражениями. Бороться, уничтожать либерализм, атлантизм, гегемонию, олигархию…
В. Познер: США.
А. Дугин: США как носитель этой гегемонии, это тоже очень важно. Не против государства направлена эта ярость, это сопротивление.
В. Познер: Но как уничтожается?
А. Дугин: Как уничтожается идейная борьба, как уничтожается концепт, как уничтожается явление. Это очень серьезно.
В. Познер: В дискуссии.
А. Дугин: Где-то — в дискуссии, где-то — в стратегии, где-то — в воспитании, где-то — в образовании, где-то — дипломатическими методами, где-то — наращиванием той военной мощи, без которой защитить свою точку зрения в современном мире невозможно. Это комплекс.
В. Познер: Но вы понимаете, что когда вы говорите «надо уничтожить», для большинства людей это слово имеет определенное значение. Уничтожить — это значит физически покончить с этим.
А. Дугин: Когда мы говорим о людях… Смотрите, есть разница. Если я скажу: «надо уничтожить атлантистов, надо уничтожить либералов»…
В. Познер: Американцев.
А. Дугин: Американцев. Если бы я сказал…
В. Познер: Но вы так не говорите?
А. Дугин: Ни разу, никогда! В том-то и дело. Я говорю о собирательных понятиях. Это идеологическая борьба. Американцы могут быть сегодня носителями этой атлантической гегемонии. В другом случае, если они пойдут по пути изоляционизма, как «правые» политики, например, Рон Пол или Бьюкенен, предлагают, они просто превратятся в мгновение ока либо в наших союзников, либо, как минимум, в безразличную нам силу. Те же самые либералы на самом деле: пока они навязывают свою идеологию, они чрезвычайно опасны.
В. Познер: Я опять хочу уточнить, просто чтобы была ясность, потому что мне чрезвычайно интересна ваша позиция. Когда вы говорите «уничтожение», это не надо понимать сразу как уничтожение насильственное. Нет?
А. Дугин: Ни в коем случае. Это совершенно разные вещи.
В. Познер: Хорошо. Еще один враг России — это так называемая российская «пятая колонна», о которой вы пишете так: «Опасность нашей “пятой колонны” не в том, что они сильны, они абсолютно ничтожны, а в том, что они наняты самым большим “крестным отцом” современного мира — США. Поэтому они эффективны. Они работают, их слушают, им все сходит с рук, потому что за ними стоит мировая власть». Вы бы не могли для меня и для наших зрителей раскрыть: а кто такие эта вот «пятая колонна»? Может быть, фамилии даже какие-нибудь назовете? Кто они такие, которые наняты США?
А. Дугин: На самом деле сегодня гораздо проще об этом говорить, чем 5, 6, 10, 15 лет назад. Потому что эта группа людей, которая доминировала в 90-е годы, определяя идеологию, политику и основные тренды нашей российской политики, сегодня, после реформ Путина, начиная с 2000 года, стала ядром оппозиции. Причем оппозиции, которая критикует власть, государство и Путина исключительно за патриотическую направленность этой позиции. То есть они говорят, что надо сближаться с Западом, что не надо укреплять российский суверенитет, что надо сдавать наши позиции в Крыму или в Украине. Эти люди, которые выходят на марши, начиная с Болотной площади…
В. Познер: Но выходят ведь много тысяч порой. И все они наняты?
А. Дугин: Многие люди, которые приходят противостоять власти, конечно, не являются «пятой колонной». «Пятой колонной» является интеллектуальный штаб — люди, которые прекрасно осознают…
В. Познер: Вы можете их назвать?
А. Дугин: Пожалуйста. Навальный, Немцов, Касьянов, Рыжков.
В. Познер: Это нанятые люди?
А. Дугин: Безусловно. Они ездят на Запад, они общаются с американскими кураторами, их стратегия и поведение здесь полностью вписываются в те стратегические интересы, которые атлантисты реализуют за счет России.
В. Познер: То есть вы их считаете национал-предателями?
А. Дугин: Я их считаю национал-предателями.
В. Познер: Потому что они получают там деньги?
А. Дугин: Это верно. Но, кроме того, что они получают там деньги, об этом очень много говорилось, была информация, перехватывали их (как Удальцова) контакты с определенными спецслужбами: американскими, грузинскими. Но самое главное не в этом. На мой взгляд, есть люди, которые принципиально служат США, поскольку видят в этом оплот либерального мира, и могут действовать… Я думаю, кто не получает денег, на мой взгляд? Новодворская Валерия Ильинична. Я думаю, что она всю свою жизнь построила на отстаивании либеральных ценностей.
В. Познер: Она — «пятая колонна»?
А. Дугин: Да, но это другой случай. За ней тоже стоит Америка, потому что она продвигает американские интересы, но это она делает бескорыстно, с точки зрения своего идеалистического, если угодно, порыва. Она убежденный либерал. Она ненавидит нашу страну, нашу историю. Она хотела бы, чтобы это была другая страна — с другой историей, с другим народом, с другими социальными укладами, с другой антропологией, с другой философией, просто с другим обществом и так далее. И на самом деле эти искренние люди, такие, как Новодворская, они тоже есть, безусловно, среди «пятой колонны». И вместе они составляют… если брать просто российское общество само по себе, то это было бы неопасно. Это меньшинство, которое имеет отличную от других точку зрения. Более того, я считаю, что такое меньшинство необходимо, для того чтобы был спор. Я считаю, что это меньшинство очень полезно, для того чтобы мы не впадали в самовлюбленность и в прославление самих себя, чтобы нас подталкивать. Но в том случае, когда они действуют так, с опорой на тех, кто все же нас сильнее, то есть они действуют от имени США, от имени глобальной либеральной системы, где за ними стоят действительно мощные политические институции глобального масштаба, которые всякий раз поднимают, как по отношению к «Pussy Riot», скандал на мировом уровне и обеспечивают этим панк-богохульницам турне мирового масштаба со встречами с высшими политическими деятелями… Но убедить россиян в том, что это случайно, что им очень нравится эта панк-группа, совершенно невозможно, это системная сетевая война. И люди, которые осознанно выступают в качестве элемента этой сетевой войны против России, против нашей государственности, против наших ценностей, против нашей истории, против нашей идентичности здесь, хотя им Россия все дала, они на самом деле являются национальными предателями, являются врагами России.
В. Познер: Но давайте договоримся вот о чем. Если вы считаете, что они полезны, с точки зрения того, чтобы была какая-то оппозиция, чтобы была критика, чтобы люди выражали иную точку зрения, тогда их никак нельзя называть национал-предателями. Национал-предатель не может быть полезным, национал-предателя сажают и расстреливают.
А. Дугин: Совершенно верно. Я же сказал, что если бы они не имели этой глобальной заокеанской поддержки, они были бы полезны, если бы они были просто либеральной оппозицией. Но они не просто либеральная оппозиция.
В. Познер: То есть их надо тоже уничтожать?
А. Дугин: Я думаю, что с предателями по законам военного времени, когда мы сейчас…
В. Познер: А так как идет война…
А. Дугин: Война, пока она еще, слава Богу…
В. Познер: Нет, вы говорите, идет война континентов, великая война континентов…
А. Дугин: В Америке существует множество способов так локализовать инакомыслие, так справиться с идейными врагами Соединенных Штатов Америки! Но мы не знаем о том, где эта оппозиция, где наша евразийская «пятая колонна» в США, но она тоже есть. При этом Запад, именно Америка, действует чрезвычайно удивительно, удачно в этом: она не подавляет напрямую, она контролирует дискурс. Людям с отличной точкой зрения совершенно невозможно прорваться на первые главные издания в СМИ, им нет шансов появиться на телевидении. И я не говорю о том, что мы должны их физически подвергать репрессиям. Это совершенно не нужно, более того, это происходит от слабости. Этих людей надо изолировать от средств массовой информации, надо подвергнуть их остракизму.
В. Познер: Можно задать вам вопрос перед рекламой, раз вы затронули это? Вы, наверное, считаете, что и меня надо изолировать от средств массовой информации? Да или нет?
А. Дугин: Думаю, что да.
В. Познер: Александр Гельевич, я только что использовал ваше выражение «Великая Война Континентов», при этом каждое слово пишется с заглавной буквы. И вы сказали, что то, что происходит на Украине, — это еще один фронт вот этой самой войны. При этом сказали следующее: «Сейчас мы приближаемся к новой, принципиально важной точке — признанию или непризнанию хунты. Если мы, пусть косвенно, признаем ее, согласившись вести переговоры, признав, пусть с оговорками, выборы в мае, мы существенно ослабим наши позиции». Это вы сказали в апреле, то есть в этом месяце. Значит, встреча в Женеве — это ошибка?
А. Дугин: Мы не признали хунту.
В. Познер: Но мы с ними встречались косвенно. Это получилось так.
А. Дугин: Совершенно, мне кажется, не так. Во-первых, мы встречались, в первую очередь, с американцами, которые являются… Мы встречались через голову хунты, с заказчиками.
В. Познер: Была так называемая хунта, как вы ее называете, американцы, мы и Евросоюз — равнозначные четыре партнера. Значит, косвенно, как угодно, но мы их признали.
А. Дугин: Нет, мне кажется, мы их не признали. Это демонстрация наших добрых намерений, демонстрация того, что Москва осознает всю серьезность распада Украины и готова любыми способами не допустить гражданской войны, которая, по сути, началась между Западом и Юго-Востоком. Соответственно, это экстраординарная ситуация, но это совершенно не означает, что мы готовы возобновлять дипломатические отношения с теми людьми, которые совершили государственный переворот в Киеве, что мы с ними хоть как-то напрямую будем говорить. И мы призываем, в первую очередь, на мой взгляд…
В. Познер: Вы понимаете, что мы напрямую с ними говорили в Женеве. Кто-то переводил… друг другу.
А. Дугин: И это показывали. Лавров обращается к Керри, Керри знает, что-то дает, какое-то указание — помолчать или, наоборот, поговорить. Я думаю, пока мы не отходили от этого плана. И Крым, и наша позиция по Новороссии…
В. Познер: Я только об этой вещи говорю сейчас. В продолжение украинской темы хочу напомнить то, что вы говорите относительно юго-востока этой страны: «Уверен, чтобы удержать Крым, нам необходим Юго-Восток. А Крым необходим, чтобы удержать Россию, оздоровить ее, выпрямить, оживить. Поэтому вопрос сегодняшнего дня — Юго-Восток или смерть». Сказано замечательно. Может быть, разъясните, что такое «Юго-Восток или смерть»?
А. Дугин: Дело в том, что еще в 90-е годы Збигнев Бжезинский, с которым я в 2005 году встречался в Вашингтоне, тоже геополитик, классический англосаксонский… Он говорил о том, что, чтобы по-настоящему снять окончательно конкурента в лице России, Соединенным Штатам необходимо оторвать Украину от России. В этом как раз и состоял смысл западной политики относительно Украины 23 года, кульминацией чего был киевский переворот. Соответственно, если мы признаем этот переворот как нечто случившееся, мы получаем враждебную, русофобскую, нацистскую Украину. Именно с этим были связаны наши шаги по Крыму. Но дальше вторая половина Украины, Юго-Восток — на самом деле это тоже часть русского мира, русской цивилизации, Новороссия. И мы готовы были бы признать территориальную целостность Украины, если бы она была, как минимум, нейтральной, еще лучше — дружелюбной. Но когда в Киеве пришли к власти незаконным образом люди, которые ненавидят Россию, которые не любят все русское… «Москаляку — на гиляку» — что это такое? Это чистый расизм, это значит «повесить русского человека на ветку». И если дети, мы видим, поют в школах после прихода хунты «москаляку — на гиляку», то есть просто объявляют геноцид русского народа в своей же собственной Украине, называя их «колорадами», соответственно, если мы это снесем, мы на самом деле подвергнем 20 миллионов геноциду, согласимся на это. А мы даже за осетин вступились и за абхазов.
В. Познер: Какие 20 миллионов?
А. Дугин: Общее население Юго-Востока — приблизительно около 20 миллионов.
В. Познер: И там все русские?
А. Дугин: Русскоязычные. Большинство — русские.
В. Познер: То есть «Юго-Восток или смерть» — очевидно, вы имеете в виду следующее: если мы не заберем Юго-Восток, то это смерть тем, кто там живет. Это так надо понимать?
А. Дугин: Именно так. И не то, что заберем, я хотел сказать: обеспечим возможность решить свою судьбу самим, без влияния хунты. С этим связаны женевские переговоры — разоружение киевских боевиков.
В. Познер: Почему вы говорите, что, чтобы удержать Россию, оздоровить ее, выпрямить и оживить, нужен Юго-Восток?
А. Дугин: Это очень важно, потому что сейчас начинается в полном смысле слова русское возрождение, «русская весна». Мы начинаем чувствовать гордость за свою страну. Русские начинают осознавать, что они находятся в мире в качестве не только пассивных объектов, но субъектов истории. И чем больше мы демонстрируем свою заботу о русских и русскоязычных за пределами России, тем больше мы укрепляем наше общество, тем больше мы переходим из состояния пассивности, сна, наоборот, в мобилизованность. Когда человек пассивен, расстроен, ему нет возможности сопротивляться несправедливости, которую он видит. Если он силен, бодр… Посмотрите, какие люди из Крыма приехали — это совершенно другой тип людей, чем наши чиновники или украинские чиновники. Это люди нового поколения, нового призыва.
В. Познер: То есть эти люди оздоровят нашу нацию, так?
А. Дугин: Я думаю, что, конечно, осознав, что мы находимся в новом историческом состоянии, в пробуждении русском, мы повернем новые процессы, которые нас угнетают здесь, в другом направлении.
В. Познер: А присоединение Крыма вы называете «начало собирания русских земель, восстановления большой России». Вопрос. Что такое большая Москва, я понимаю, или большой Лондон. Это с пригородами. А что такое большая Россия? Это Россия плюс что?
А. Дугин: Большая Россия — это русский мир, русская цивилизация. Я думаю, что территория большой России приблизительно совпадает, с некоторыми плюсами и минусами, и с территорией Российской империи, и с территорией Советского Союза. Это были не великоросские земли, это не великоросские территории, это территории, которые совместно все этносы нашего пространства создавали в течение столетий.
В. Познер: Можно вас спросить? Закавказье входит? Грузия, Армения, Азербайджан?
А. Дугин: Безусловно, конечно. Это части большой России. Но это не значит, что…
В. Познер: Так, Средняя Азия?
А. Дугин: Средняя Азия — конечно, безусловно.
В. Познер: Прибалтика?
А. Дугин: Я думаю, нет. Я думаю, Прибалтика и Западная Украина, может быть, частично на каком-то основании…
В. Познер: То есть все остальное — это…
А. Дугин: Большая Россия. Но смотрите, в цивилизации нет таких границ. У русской цивилизации, у русского мира нет государственных границ. Эти государственные границы могут заходить дальше, чем цивилизационные, и мы тогда захватываем Польшу или Финляндию, которые, конечно, часть другой истории. И Финляндия, и Польша — это другая история, это другая цивилизация. Даже если они оказываются на какое-то время под нашим контролем, это ненадолго, это историческая случайность. Но есть естественная, органичная граница России и Евразии (как наши евразийцы называли), или территории туранской цивилизации, отличной и от европейской, и от азиатской. Совершенно уникальная туранская цивилизация, тяготеющая на разных исторических этапах к интеграции. Это большая Россия.
В. Познер: Можно ли говорить об исключительности в этом смысле? Ведь вы часто об этом говорите, так или иначе: «Идентичность России состоит в том, что она не относится к западноевропейской цивилизации, не входит в ее круг, она сама есть цивилизация, причем самобытная и равновеликая со всем Западом, а не только с одной из западных стран». Это говорит о некоторой исключительности. Нет?
А. Дугин: Нет, это говорит только о том, что каждая цивилизация исключительна. Это говорит о том, что претензия Запада на то, что западный мир представляет собой всю цивилизацию и универсальные ценности…
В. Познер: Такого нет. У китайцев такие же претензии, если хотите.
А. Дугин: Китайцы — это тоже особая цивилизация. Но ее претензии на мировое господство и утверждение китайских ценностей в качестве универсальных далеко не так навязчивы, не так масштабны, не так устойчивы, как соответствующие претензии западной цивилизации. Россия в данном случае отнюдь не претендует на то, что она исключительная цивилизация среди других. Она говорит, что это просто цивилизация — самобытная, имеющая собственную систему ценностей, собственную философию. И сравнивать ее надо не с Францией или с Германией, которые между собой отличаются, а сравнивать надо со всей Европой или с азиатскими культурами.
В. Познер: Но со всей Европой — нет такой цивилизации.
А. Дугин: Есть. Европейская цивилизация, западноевропейская цивилизация.
В. Познер: Но это некие общие слова, вы же сами понимаете.
А. Дугин: Нет, что вы? Эта европейская цивилизация представляет собой совершенно точный, конкретный набор ценностей, представлений, идей, методов, процедур, которые навязываются на протяжении долгих веков, начиная, может быть, еще со Средневековья, всем остальным в качестве универсальных. И это было вначале навязано Восточной Европе, Византийской, потом это было навязано в ходе колонизации всем остальным.
В. Познер: Послушайте, кому навязывали, о чем вы говорите? Когда была Французская революция с лозунгом «Свобода, Равенство, Братство», никому не навязывали. Это идея равенства внутри…
А. Дугин: В Вандее навязывали.
В. Познер: Это была гражданская война внутри Франции. Но они не навязывали это никому.
А. Дугин: Нет. Это же колонизация. Та же самая Французская революция происходит в ходе западноевропейской колонизации, когда люди насчет того, что у них другие культуры…
В. Познер: Несколько позже.
А. Дугин: Нет, в ходе. Колонизация была начиная с XVI века. Эпоха великих географических открытий, она же колонизация…
В. Познер: Конечно. Португалия, Испания прежде всего, потом только Франция, а потом Англия, которая всех переплюнула.
А. Дугин: Да, по созданию колониальной империи. Германия попала к этому самым последним образом, потому что она сама возникла поздно, в XIX веке. Но на самом деле Запад, безусловно, проецирует свою цивилизационную установку.
В. Познер: Считает, что она наиболее ценная?
А. Дугин: Они считают, что это универсальные, всечеловеческие ценности.
В. Познер: Вы знаете, все больше и больше говорят о том, что, по-видимому, нет, начинают это понимать.
А. Дугин: Слава Богу. Тогда у евразийцев вообще никаких претензий нет. Если западные ценности — для Запада, западные идеи — для западноевропейского человечества, никаких претензий к Западу не будет. У нас они просто другие.
В. Познер: Замечательно. Вы сказали замечательную вещь, я читал, что вы долго думали над национальной идеей, что это может быть.
А. Дугин: Всю жизнь.
В. Познер: И вы сделали такое предложение, совершенно поразительное. Я зачитаю, потому что я застыл, когда прочел. Идея такая: «Нам надо захватить Европу, завоевать и присоединить. Давайте им скажем: под нашим протекторатом мы вам обеспечим защиту. Видите, как у нас сидят “Pussy Riot”? И ваших посадим. У вас “Фемен” бесчинствует в костелах, у нас быстро получают дубинкой и отправляются в грузовике в мусор или на историческую родину. Мы захватим Европу, и все высокие технологии — у нас. Вот оно, развитие, вот она, модернизация. Если вы хотели, вот она, европеизация нашего общества». И далее: «Русские мобилизуются ради великой цели. Вот присоединить Европу — это наша цель великая». Вы, наверное, пошутили…
А. Дугин: Во-первых, из текста… Вы понимаете, насколько каждый текст имеет свое собственное значение. Тем не менее я хочу вам сказать, что то, что здесь была некая доля иронии, это безусловно, но обратите внимание, что сходные идеи, немножко в другой тональности, излагали Ницше, Соловьев и Тютчев.
В. Познер: Не говорите мне о Тютчеве и Соловьеве, это все понятно. Но все-таки вы всерьез?
А. Дугин: Конечно, нет. Но тем не менее это идея, которая… Знаете, что меня навело на мысль? Я всегда отстаиваю идею того, что есть отдельная европейская цивилизация, есть отдельная евразийская. И многие европейские мои друзья, как правило, консерваторы, говорят: «Мы одни не выдержим, спасите нас. Мы хотим к Путину. Мы не можем больше терпеть этот Содом».
В. Познер: Вы понимаете, что их очень мало.
А. Дугин: Вы знаете, их становится все больше и больше. И когда я был в мае в Париже на демонстрации против однополых браков, я видел там миллионы людей, которые не были отнюдь ни консерваторами, ни католиками, это были простые французы.
В. Познер: Нет, конечно. Но Франция все-таки католическая страна, и, конечно, все-таки идея однополого брака противоречит, безусловно, этому.
А. Дугин: Там народ-то еще не готов к этому, а элита проталкивает свое.
В. Познер: А почему, какая разница? Я понимаю, с точки зрения греха вы это осуждаете. Но послушайте, если два взрослых человека хотят так жить, оставьте их в покое. Они же не мешают вам.
А. Дугин: Не в этом дело. Нельзя признавать, легитимизировать патологию.
В. Познер: Это не патология.
А. Дугин: Это патология. Это грех и патология.
В. Познер: Грех — согласен.
А. Дугин: Смотрите, здесь принципиальный вопрос. Откуда возникает гендерная проблематика? Я читаю курс «Социология гендера». Либеральная идея строится на том, что человек — это индивидуум, и неважно, какая у него коллективная идентичность. Неважно, какая нация, неважно, какая религия. А сегодня они говорят: неважно, какой пол. Пол является такой же свободной опцией, как страна проживания, как религиозная конфессия.
В. Познер: То есть человек может изменить свой пол. Да, вы знаете, это можно.
А. Дугин: Совершенно верно. И эта мысль как раз заканчивает традиционное, кстати, даже для европейской культуры, для индоевропейской культуры представление о человеке, пол которого является неотъемлемым свойством его личности. Точно так же, если мы поймем, что разрушает сейчас, как последнюю цитадель коллективной идентичности, либерализм на своей последней уже фазе, мы поймем, что на самом деле он к этому вел и раньше. И все формы, предшествующие либерализму, как бы достигают своей кульминации в однополых браках…
В. Познер: Мне кажется, что вы, как говорят в некоторых странах, из муравейника строите гору. Послушайте, подавляющее большинство людей не хотят менять свой пол, это совершенно очевидно, таких единицы.
А. Дугин: Но сама либеральная антропология… Смотрите, не хотят, но если мы легализуем эту возможность в качестве нормы, обратите внимание…
В. Познер: Не в качестве нормы. Если хотите, то пожалуйста.
А. Дугин: Это норма. Но, таким образом, мы, по сути, разрушаем представление о мужчине и женщине, разрушаем представление о личности, о социальном измерении человека. Это самое страшное. Либерализм — это совершенно антисоциальная идеология.
В. Познер: Я понимаю, что вы очень плохо относитесь к либерализму. Это я знаю уже.
А. Дугин: В теории, не только в практике.
В. Познер: Да. И еще один пассаж: «Ненависть к русским, к Путину на Украине — это ненависть группы восставших шизофреников к доктору, пьяной разгулявшейся компании к участковому. А кроме того, глубокая зависть больного к здоровому». Конечно, образ Путина и русских как доктора, как участкового и как здорового — это довольно любопытно.
А. Дугин: Смотря, с чем сравнивать. С Киевом — точно.
В. Познер: Смотрите, а те, которые ненавидят американцев, ненавидят Обаму, ненавидят либералов, они нормальные?
А. Дугин: Смотря как, смотря кто. Нет, я имею в виду то, что те люди, которые ненавидят Путина и Москву — это «москаляку — на гиляку» и так далее — это абсолютно больные люди. Если вы считаете, что люди, которые провозглашают «москаляку — на гиляку», являются здоровыми — на мой взгляд, они абсолютно больные, просто больные.
В. Познер: Но, вы знаете, количество расистов, количество антисемитов велико. И, к сожалению, они нормальные, но они просто антисемиты или расисты, которые о черных говорят соответствующим образом. Или же они все в определенной степени больные?
А. Дугин: Я думаю, что расизм — это просто форма патологического развития личности. Я категорический противник расизма во всех формах, но расизм бывает, кроме биологического, еще многомерный. Либералы были первыми (англичане), кстати, кто создали самые последовательные расистские теории для обоснования своего колониального господства.
В. Познер: Естественно, это надо оправдывать каким-то образом.
А. Дугин: Совершенно верно. Это подло, потому что люди разные…
В. Познер: И потом консерваторы это подхватили со страшной силой.
А. Дугин: Не все.
В. Познер: Как? Во главе с Черчиллем, конечно, который был абсолютным консерватором. Как же нет? Да, да.
А. Дугин: Расизм как таковой является, на мой взгляд, одной из самых омерзительных форм патологии, болезни. Франц Боас, Леви-Стросс прекрасно показали, что человеческое общество не может измеряться одной линейкой, и что те, которых называют примитивными племенами, во многих смыслах гораздо более полноценны, чем современное западное общество.
В. Познер: В этом я с вами согласен. Я-то ведь такой антирасист, трудно себе даже представить. Еще один вопрос про либералов, потому что меня это интересует: «В обществе, которое нужно России, не должно быть представительской демократии, не должно быть рыночного общества, основанного на денежном эквиваленте всех ценностей, и не должно быть идиотской, противоестественной, извращенческой идеологии прав человека. Рынок, демократия и права человека — пошли вон!». Вы хотите жить в такой стране?
А. Дугин: Безусловно. Потому что все эти три модели…
В. Познер: То есть права человека вас…
А. Дугин: Нет, смотрите, я хочу сказать, что права человека — это классическая расистская теория. Потому что в качестве нормы в этой теории прав человека берется западное понимание человека. И когда люди распространяют свое понимание, что такое человек, на все остальные культуры, они навязывают им абсолютно противоестественные нормы. Отсюда и то, что мы называем двойными стандартами.
В. Познер: Стоп. Что такое права человека в западном понимании?
А. Дугин: Это права индивидуума, противопоставленного правам коллектива. Именно так.
В. Познер: Но это не так. «Мы считаем эти права самоочевидными. И человек наделен своим создателем некоторыми неотъемлемыми правами, среди которых право на жизнь, на свободу и добывание счастья», — преамбула Декларации независимости Соединенных Штатов, 1776 год. Что в этом есть расистского? Человек имеет право на жизнь, на свободу и на добывание счастья. Вы против этого?
А. Дугин: Я против того, чтобы делать из этой американской декларации, связанной с протестантской идеологией, именно протестантской политической системой, основанной на особых, совершенно неприемлемых ни для католиков, ни для православных, тем более для других религий, тезисах, обобщать эти тезисы и строить модель…
В. Познер: Да что там неприемлемого? Объясните мне. Человек имеет право на жизнь? Любой.
А. Дугин: Подождите, что значит право? Право — это юридическая концепция.
В. Познер: Право? Это значит, что никто не имеет права у него отнимать эту жизнь.
А. Дугин: У них постоянно людей убивают. Сейчас убивают русских на Украине.
В. Познер: Это другое дело. Но это и есть нарушение его права. Человек имеет право на свободу, на добывание счастья?
А. Дугин: Исходя из того, чтобы соблюсти права человека, вторгаются в Ливию, оккупируют Ирак, Афганистан.
В. Познер: Давайте не путать политику с некоторыми посылами, которые являются ценностями.
А. Дугин: Нет, смотрите, это ценности не универсальные. Каждое общество — теперь самое главное — понимает человека по-разному. И православные понимают по-одному, об этом даже Путин говорил на прямой линии…
В. Познер: В одном обществе забивают камнями, да. В арабских странах за измену, да? И это правильно. Нравится, не нравится, вопрос не в этом.
А. Дугин: Нет, это их традиция. Когда приезжает человек, который бомбит Хиросиму и Нагасаки, и говорит: «Вы забили кого-то камнями, поэтому мы объявляем вам войну…»
В. Познер: Не надо путать, не надо путать.
А. Дугин: Так это так и есть, это двойные стандарты.
В. Познер: Значит, либо человек — он человек, у него есть кровь, она течет в жилах, у него есть сердце, он умирает одинаково, он любит, ненавидит и так далее, либо…
А. Дугин: Каждый человек живет, любит и умирает, исходя из истории своей культуры.
В. Познер: Да, но каждый есть гомо сапиенс.
А. Дугин: На многих посмотришь — не скажешь.
В. Познер: Тут я с вами согласен совершенно. И так как времени совсем мало, я хочу вас спросить. Когда вы говорите, что «Америка падает, Америка скоро рухнет, мы не можем себе представить, насколько плохи дела у Америки», Вы верите своим словам?
А. Дугин: Безусловно.
В. Познер: Но если сравнить, например, ВВП Америки сегодня, то, по самым скромным подсчетам, только в этом году он вырастет примерно на 2,5 процента. Мы говорим, что у нас в этом году — дай бог 0,5 процента, а может быть, 0. Мы — это я имею в виду наших специалистов, экономистов, министров и так далее. Они падают, а мы что? Как это понимать?
А. Дугин: Давайте обратимся к Шумпетеру, экономисту. Он говорил очень интересно, что одно дело — экономический рост, а другое дело — экономическое развитие. Рост — не главный показатель экономики, это определенная либеральная модель подсчета. Если включить туда другие факторы, которые на самом деле… Например, фактор психологического комфорта, который американцы подсчитывают, включая свой ВВП…
В. Познер: Это называется качеством жизни.
А. Дугин: Качество жизни. И подчас потом внешний долг, который у Америки гигантский. Вообще система того, как существует американская экономика за счет стратегического доминирования в глобальном масштабе. Это все создает совершенно иную картину. И если хоть кто-то того размера, как Россия, например, или Китай, бросит вызов этой системе, то я думаю, что американская гегемония и, в том числе, американская экономика и ее рост на самом деле немедленно покажут совершенно другие цифры.
В. Познер: Насчет России у меня серьезные сомнения. Насчет Китая — да, я думаю, что вообще в этом веке Китай окажется главенствующей силой. Тут уж я боюсь, что это так. И не уверен, что это будет так хорошо для всех. Но это вопрос другой. В завершение. Два человека, о которых вы говорите. Один — Владимир Ильич Ленин. Вы рассказываете, что когда-то вы к нему относились исключительно плохо и даже водили своего сына плевать на его памятник, о чем вы потом сожалели. Недавно вы написали так: «Ленин — трагический и мощный ангел, один из ангелов апокалипсиса, изливающий на одурелую землю грозное содержимое финального фиала. Ангел последних ветров, ангел крови и боли». Поэтически замечательно. Вы в самом деле так расцениваете его?
А. Дугин: Я полагаю, что советский этап нашей истории надо читать не идеологическим образом, а русским. Это не чья-то история, это не чье-то преступление — какие-то люди приехали, устроили нам революцию, — это сделали наши предки, это сделали мы сами.
В. Познер: Да, была Гражданская война кровавая.
А. Дугин: И если это была кровь, если это был ужас, если это был парадокс, все это нельзя рассматривать как чьи-то происки. Мы прожили эту драму. Надо понять, зачем, надо понять, кто, надо понять, что мы сделали, почему мы это сделали. И когда мы относимся к Ленину, Сталину, вообще к советскому периоду слишком легко, либо это все однозначно отрицая, как я отрицал в юности, либо полностью это приемля, мы уходим от самого главного — от парадоксальности, двусмысленности и экзистенциальной травматичности этого периода.
В. Познер: И Ваше описание — «ангел», это вы считаете…
А. Дугин: Это же может быть ангел зла. Посмотрите, здесь двусмысленное. Я думаю, что он двусмысленный ангел. Есть ангелы света, есть ангелы тьмы, а есть ангелы, которых еще надо определить, какие они. И это непросто.
В. Познер: Понимаю. Еще не выяснили?
А. Дугин: Я думаю, что это не индивидуум, это должно быть внутреннее переосмысление советского периода, чтобы разобраться в духах, различить их.
В. Познер: И второй человек. В 2007 году вы попали в рейтинг «самых выдающихся подхалимских изречений в адрес Владимира Путина». Вы сказали следующее: «Противников путинского курса больше нет. А если и есть, то это психически больные, и их нужно отправить на диспансеризацию. Путин — везде, Путин — все, Путин абсолютен, Путин незаменим». Это было 7 лет тому назад. Прошло 7 лет, все-таки противники есть, их немного…
А. Дугин: Проходят диспансеризацию.
В. Познер: Да, действительно. И вы придерживаетесь этой формулировки по-прежнему?
А. Дугин: Вполне. Дело в том, что… Только единственное: что значит подхалимство? Я говорил о Ельцине, что это — мерзавец. В лицо на самом деле.
В. Познер: Да, вы даже сказали, что это преступник номер один. Оставим его. Но мне интересна эта ваша оценка насчет «везде», так сказать, и так далее.
А. Дугин: Сейчас, по-моему, это все знают. Другое дело, я говорю вещи, которые я думаю, независимо от того, похвалят за это или накажут. Если я в чем-то уверен, я это утверждаю и готов за это нести ответственность. Так я подписываюсь под этими словами: Путин таков, и такое отношение у меня было к нему, как только он появился.
В. Познер: Хорошо. Марсель Пруст, мой близкий друг, просил передать вам некоторые вопросы. Есть ли у вас кумир?
А. Дугин: Кумир? Нет.
В. Познер: Есть ли события в истории, которые вы выделяете среди всех прочих?
А. Дугин: Да. Это Рождество Христово.
В. Познер: Есть ли философское изречение, которое вам особенно дорого?
А. Дугин: Да. «Человек есть нечто, что следует преодолеть».
В. Познер: Если бы вы поймали золотую рыбку, о каких трех желаниях вы бы ее попросили?
А. Дугин: Отправить ее дальше плавать — одно желание было бы. Мне не нужно ничего из того, что я не заслуживаю сам.
В. Познер: Способны ли вы расстрелять человека?
А. Дугин: Врага?
В. Познер: Человека.
А. Дугин: Врага — да.
В. Познер: Когда и где вы были более всего счастливы?
А. Дугин: Всегда и везде.
В. Познер: Какое ваше самое большое в жизни разочарование?
А. Дугин: Если бы я был Силеном, я бы сказал, что появиться на свет. Но я не Силен. Пожалуй, у меня вообще никогда не было этого разочарования.
В. Познер: Чем вы больше всего гордитесь?
А. Дугин: Тем, что я — русский.
В. Познер: Какова ваша главная слабость?
А. Дугин: Ой, я весь состою из слабостей. Не знаю, что из них во главе. Гордыня, я думаю.
В. Познер: Оказавшись перед Господом, что вы ему скажете?
А. Дугин: Вы знаете, он, наверное, мне что-то скажет, и, наверное, очень жесткое. Поэтому я боюсь об этом думать. А кто я такой, чтобы говорить Богу? Что спросит, то и скажу. Я — ничто, и, скорее всего, меня отправят по месту назначения. Но я не думаю, что это будет сам Бог, у него же еще много заместителей, ангелов и разных духов, которые занимаются такими мало, мне кажется, значимыми существами, как мы, грешные.
В. Познер: Это был Александр Дугин. Спасибо большое.
Примечания
1
Текст был написан весной 2014 года.
(обратно)



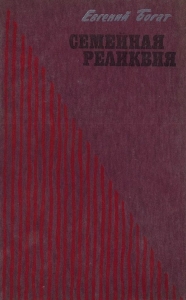

Комментарии к книге «Новая формула Путина. Основы этической политики», Александр Гельевич Дугин
Всего 0 комментариев