Мишель Уэльбек Человечество, стадия 2
Предисловие
Будучи изоморфным человеку, роман в принципе должен был бы вмещать в себя все человеческое. В самом деле, ошибочно думать, будто люди ведут исключительно материальное существование. Ведь они постоянно, снова и снова, так сказать, параллельно своей жизни, задаются вопросами, которые — за отсутствием более точного определения — следует назвать философскими. Я наблюдал это свойство у всех классов общества, от низших до самой верхушки. Ни физические страдания, ни болезнь, ни даже голод и лишения не могут заставить умолкнуть этот вопрошающий голос. Меня всегда поражало данное явление, а еще больше поражало наше безразличие к нему. Это резко контрастирует с тем циничным реализмом, какого вот уже несколько веков мы привыкли придерживаться, когда рассуждаем о человечестве.
А потому теоретические размышления кажутся мне вполне достойным материалом для романа, не хуже любого другого, и даже лучше многих других. То же самое относится и к дискуссиям, и к интервью, и к диспутам… И с еще большей очевидностью — к литературной, художественной или музыкальной критике. Вообще говоря, всё это должно было бы стать той единственной книгой, которую мы писали бы до смертного часа. Жизнь, построенная таким образом, кажется мне разумной, счастливой и, быть может, даже осуществимой на практике или почти осуществимой. Что, по-моему, действительно трудно сделать частью романа, так это поэзию. Я не говорю — невозможно, говорю только, что это кажется мне очень трудным делом. Есть поэзия, и есть жизнь; между той и другой иногда возникает сходство, но не более.
Что объединяет собранные здесь тексты? Проще всего ответить так: меня попросили их написать или, во всяком случае, попросили написать нечто. Все они были опубликованы в различных периодических изданиях, а потом до них стало невозможно добраться. Как сказано выше, я мог бы включить их в некий более обширный труд. Я попытался сделать это, но попытка удалась лишь отчасти. Тем не менее эти тексты важны для меня. Чем и объясняется данная публикация.
М. У, 2008.
Жак Превер — мудак[1]
Жак Превер написал стихи, которые учат в школе. Из стихов явствует, что он любил цветы, птичек, уголки старого Парижа и т. д. Он полагал, будто любовь может расцвести только в условиях свободы. В более широком смысле можно сказать так: в принципе он был за свободу. Он носил кепку и курил Толуаз”; иногда его путают с Жаном Габеном, вероятно, потому, что это он написал сценарии фильмов “Набережная туманов” и “Врата ночи”. А еще он написал сценарий фильма “Дети райка”, который считается его шедевром. Все это дает более чем веские основания ненавидеть Жака Превера, особенно если прочесть сценарии, написанные в те же годы Антоненом Арто, но так и оставшиеся невостребованными. Грустно констатировать тот факт, что омерзительный поэтический реализм, отцом-основателем которого был Превер, продолжает свирепствовать и в наши дни; что люди воображают, будто делают комплимент Лео Караксу, причисляя его к этому направлению (по той же логике Эрик Ромер, очевидно, должен считаться новым Саша Гитри и т. д., и т. п.). Французское кино так и не смогло оправиться от вторжения звука; рано или поздно оно от этого окончательно загнется, но туда ему и дорога.
В послевоенные годы, примерно в то же время, что и Жан-Поль Сартр, Превер пользовался громадным успехом — поразительно, какими оптимистами были люди той эпохи. Сегодня наиболее влиятельным мыслителем был бы, наверное, Чоран. В те годы слушали песни Виана, Брассанса… На скамейках сидят, целуясь, парочки, как голубки, беби-бум, массовое строительство дешевого жилья для всей этой публики. Сплошной оптимизм и вера в будущее и чуть-чуть мудизма. Да, с тех пор мы явно поумнели.
С интеллектуальным читателем Преверу повезло меньше. Хотя в его стихах сплошь и рядом попадается дурацкая игра слов, за которую так любят песни Бобби Лапуэнта; но ведь песня — это, так сказать, малый жанр, а интеллектуалу тоже иногда надо расслабиться. Однако по отношению к написанному тексту — то есть к тому, что для самого интеллектуала составляет основной заработок, — он беспощаден. А “работа над текстом” у Превера пребывает в зачаточном состоянии: он пишет ясно, прозрачно и с полнейшей естественностью, порой даже с чувством. Его не заботят ни проблемы стиля, ни проблема творческой немоты; по-видимому, сама жизнь является для него неиссякаемым источником вдохновения. Поэтому вряд ли кому-то придет в голову препарировать его поэзию в диссертации. Тем не менее сегодня он причислен к сонму великих, а это все равно что вторая смерть. Его творчество перед нами, завершенное и застывшее, словно памятник. Это дает прекрасный повод задуматься: почему поэзия Жака Превера настолько посредственна, что при чтении мы порой испытываем чувство стыда? Обычное объяснение (его стилю “недостает строгости и выразительности”) тут не годится; с помощью игры слов, ритмической легкости и ясности Превер полностью раскрывает перед нами свое видение мира. Форма отвечает содержанию, а это максимум того, что можно требовать от формы. И вообще, когда поэт до такой степени погружен в жизнь, в реальную жизнь своего времени, было бы просто оскорбительно подходить к нему с чисто стилистическими критериями. Если Жак Превер пишет, значит, ему есть что сказать; честь и хвала ему за это. К несчастью, то, что он имеет сказать, бесконечно глупо, иногда глупо до тошноты. Красивые обнаженные девушки, буржуа, которых надо резать, как свиней. Дети прелестно аморальны, бандиты мужественны и неотразимы; красивые обнаженные девушки отдаются бандитам; буржуа — старые жирные импотенты с орденом Почетного легиона, их жены фригидны; священники — омерзительные старые мокрицы, которые выдумали грех, чтобы не дать нам жить полной жизнью. Все это давно известно, лучше уж почитать Бодлера. Или даже Карла Маркса, который, по крайней мере, знает, в кого метит, когда пишет: “Триумф буржуазии утопил священный трепет религиозного экстаза, рыцарского воодушевления и дешевой сентиментальности в ледяных водах эгоистического расчета”.[2] Интеллект не помогает человеку писать хорошие стихи, но может помешать ему написать плохие. Если Жак Превер плохой поэт, то прежде всего потому, что его видение мира пошлое, поверхностное и лживое. Лживым оно было еще при его жизни, а сегодня никчемность Превера-поэта совершенно очевидна, так что все его творчество кажется бесконечным повторением одного и того же громадного клише. В философском и политическом плане Жак Превер — убежденный анархист, то есть, по сути дела, недоумок.
Сегодня мы барахтаемся в “ледяных водах эгоистического расчета” с самого нежного возраста. Можно приспособиться, попытаться выжить, а можно безропотно утонуть. Но совершенно невозможно представить себе, что одного раскрепощения наших желаний будет достаточно, чтобы согреть эти ледяные воды. Говорят, слово “братство” было включено в девиз Республики по настоянию Робеспьера. Сегодня мы можем оценить этот анекдот по достоинству. Превер, без сомнения, считал себя сторонником братства, но ведь и Робеспьер отнюдь не был противником добродетели.
“Мираж”. Фильм Жан-Клода Гиге[3]
Культурная буржуазная семья отдыхает на берегу Женевского озера. Классическая музыка, короткие, насыщенные диалогами эпизоды, панорама озера — все это может создать ощущение дежа-вю. Тот факт, что девушка занимается живописью, только усиливает наше беспокойство. Но нет, речь не об очередном клоне Эрика Ромера. Как ни странно, речь идет о чем-то большем.
Когда в фильме постоянно соседствуют раздражающее и пленительное, редко бывает, чтобы победа осталась за пленительным; но здесь происходит именно так. Актеры не всегда убедительны, им трудно было произносить такой витиеватый, порой до смешного вычурный текст. Критики скажут, что исполнители не смогли найти верную интонацию, — возможно, это не только их вина. Попробуйте найти верную интонацию для такой вот фразы: “Хорошая погода с нами заодно”. Только мать, Луиза Марло, безупречна от начала до конца, и, вероятно, именно благодаря ее великолепному любовному монологу (в кино любовный монолог встретишь нечасто) фильм покоряет нас окончательно. Можно простить несвязность некоторых диалогов, назойливость некоторых музыкальных лейтмотивов, впрочем, в заурядном фильме все это осталось бы незамеченным.
Взяв за основу простой и трагичный сюжет (весна, чудесная погода; пятидесятилетняя женщина жаждет в последний раз изведать плотскую страсть; но природа столь же жестока, сколь и прекрасна), Жан-Клод Гиге пошел на огромный риск: стал добиваться формального совершенства. В итоге получилось нечто равно далекое и от рекламного клипа, и от ползучего реализма, и уж совсем далекое от произвольного экспериментирования; в этом фильме нет изысков, есть только поиск чистой красоты. Классически ясное, простое, но не лишенное дерзости построение эпизодов находит точное соответствие в безупречной геометрии кадрирования. Все это строго и тщательно выверено, как грани у бриллианта, — в общем, редкое произведение искусства. Редкое еще и потому, что в каждой сцене свет глубоко и тонко соответствует эмоциональному настрою. Освещение и оформление в интерьерах решены удивительно точно и с бесконечным тактом. Они держатся на заднем плане как приглушенный, лаконичный оркестровый аккомпанемент. Только в натурных съемках, на озаренных солнцем лугах у озера, свет торжествует, играет главную роль, и это опять-таки абсолютно отвечает идее фильма. Плотское, жуткое сияние лиц. Сверкающая личина природы, под которой, мы отлично знаем, скрывается омерзительное копошение, но которую, тем не менее, невозможно сорвать, — никогда еще, к слову сказать, дух Томаса Манна[4] не был передан с такой глубиной. Нам не приходится ждать ничего хорошего от солнца, но, быть может, человеческим существам все же хоть в какой-то мере удастся любить друг друга. Не помню, чтобы в кино мать настолько убедительно говорила дочери:
“Я люблю тебя”;
я не встречал такого ни в одном фильме.
Со страстью, с тоской, почти с болью “Мираж” стремится к тому, чтобы стать утонченным, европейским фильмом; как ни странно, он достигает этой цели, сочетая в себе подлинно германскую уязвимость с истинно французской гармоничностью и классической ясностью изложения. Да, это в самом деле редкий фильм.
На пороге паники[5]
Я сражаюсь против идей, в самом существовании которых я неуверен.
Антуан Вештер[6]Современная архитектура как вектор ускорения перемещений
Известно, что широкая публика не любит современное искусство. Однако этот очевидный факт на самом деле отражает две противоположные позиции. Случайно оказавшись там, где выставлены произведения современного художника или скульптора, среднестатистический прохожий непременно остановится перед ними — хотя бы для того, чтобы поиздеваться. Его позиция будет колебаться между иронической улыбкой и откровенным глумлением, но в любом случае у него возникнет импульс осмеять увиденное. Самая ничтожность этих произведений искусства станет для него успокоительной гарантией их безвредности. Конечно, он потеряет время, но, в сущности, без особого неудовольствия.
А вот в окружении современной архитектуры прохожему будет не до смеха. При соответствующих условиях (поздно вечером или под завывание полицейских сирен) можно наблюдать четко выраженное состояние тревоги с усилением секреторной деятельности организма. Но в любом случае функциональный комплекс, отвечающий за ориентировку на местности — органы зрения, опорно-двигательный аппарат, — перейдет в режим повышенной активности.
Так бывает, когда туристический автобус, заблудившись в лабиринте непонятных дорожных указателей, выгружает пассажиров в банковском квартале Сеговии или в деловом центре Барселоны. Оказавшись в привычном мире стали, стекла и светофоров, туристы сразу обретают быстрый шаг, твердый и наблюдательный взгляд, которые соответствуют данной окружающей среде. Ориентируясь по картинкам и надписям, они вскоре добираются до исторического центра города, до соборной площади. Их походка тут же замедляется, взгляд делается неуверенным, почти блуждающим. На лице появляется выражение изумления и растерянности (феномен разинутого рта, характерный для американцев). Эти люди явно оказались перед необычными, сложными для их понимания визуальными объектами.
Вскоре, однако, они обнаруживают на стенах пояснительные надписи — благодаря усилиям местного комитета по туризму историко-культурные ориентиры восстановлены; теперь наши путешественники могут доставать видеокамеры, чтобы запечатлеть на память свои перемещения в размеченном культурном пространстве.
Современная архитектура ненавязчива.
О своем присутствии, о присутствии самой себя как архитектуры она сообщает деликатными намеками — обычно это рекламные демонстрации технических средств, с помощью которых она создается (так, нам всегда очень хорошо видны и механизм, управляющий лифтом, и название фирмы — поставщика).
Современная архитектура функциональна, впрочем, все проблемы эстетики в данной области давно были вытеснены формулой: “То, что функционально, красиво по определению”. Это утверждение, во-первых, поражает своей тенденциозностью, а во-вторых, сплошь и рядом опровергается наблюдениями над природой; ведь природа учит нас, что красота — своего рода реванш, взятый у разума. Если мы любуемся созданиями природы, то нередко именно потому, что они не имеют никакого разумного назначения, не отвечают никаким мыслимым критериям полезности. Они множатся вокруг нас в необычайном изобилии и разнообразии, очевидно, побуждаемые к этому внутренней силой, которую можно определить как простое желание жить, простое стремление к воспроизводству. Сила эта, в сущности, непостижима для нас (вспомним хотя бы о неистощимой изобретательности животного мира, вызывающей смех и легкое отвращение), но заявляет о себе с подавляющей очевидностью. Правда, некоторые неодушевленные создания природы (кристаллы, облака, гидрографические сети) как будто подчинены некоему принципу термодинамической оптимальности, однако эти явления самые многосложные, самые разветвленные из всех. Ничто в их структуре, движении и росте не напоминает о работе рационально устроенной машины, скорее это процесс с характерным для него стихийным клокотанием.
Достигнув совершенства в создании конструкций, функциональных до такой степени, что они становятся невидимыми, современная архитектура достигла прозрачности. Поскольку она призвана обеспечить быстроту передвижения людей и оборота товаров, она стремится свести пространство к чисто геометрическим параметрам. Поскольку ее должны непрерывно пронизывать различные текстовые, визуальные и воплощенные в образах сообщения, ее задача — сделать их максимально удобными для чтения (а полную доступность информации можно обеспечить только в абсолютно прозрачном помещении). Что же касается немногочисленных постоянных сообщений, которые она решится вместить в себя, то по неумолимому закону консенсуса им будет отведена роль объективной информации. Так, содержание огромных панно, установленных по обочинам автострад, стало итогом кропотливой предварительной работы. Проводились широкие социологические исследования — нельзя было допустить, чтобы какая-то надпись задела чувства той или иной категории пользователей; привлекались для консультации психологи и специалисты по безопасности движения — и все это для того, чтобы создать тексты типа “Осер” или “Пруды”.
Вокзал Монпарнас являет нам образец прозрачной, ничего не скрывающей архитектуры. В нем соблюдено необходимое и достаточное расстояние между светящимися табло с расписанием поездов и электронными автоматами, принимающими заказы на билеты, в нем с вполне оправданной расточительностью все кругом облеплено стрелками, указывающими путь к поездам. Таким образом, вокзал позволяет западному человеку со средним или выдающимся интеллектом добиться желаемого перемещения в пространстве, сводя к минимуму толкучку, дорожную суету, потерю времени. Если сказать шире, то вся современная архитектура — не что иное, как громадный механизм для ускорения и упорядочения перемещений людей. В этом смысле ее идеальным воплощением следует считать дорожную развязку на автостраде между Фонтенбло и Меленом.
А если попытаться вникнуть в назначение архитектурного ансамбля, известного под именем “Дефанс”, то его можно определить как приспособление для повышения продуктивности и у общества в целом, и у отдельного человека. Этому параноидальному видению нельзя отказать в известной точности, но все же оно не дает представления о том, с каким однообразием архитектура отвечает разнообразным запросам общества (гипермаркеты, ночные клубы, офисные здания, культурные и оздоровительные центры). Зато здесь мы сумеем понять, что у нас не просто рыночная экономика, а рыночное общество, то есть такая цивилизация, при которой вся совокупность человеческих взаимоотношений, а равным образом и вся совокупность отношений человека с миром подчинены расчету, принимающему во внимание такие категории, как внешняя привлекательность, новизна, соотношение цены и качества. Согласно этой логике, подчиняющей себе как собственно отношения купли — продажи, так и эротические, любовные, профессиональные связи, необходимо стремиться к установлению быстро обновляющихся взаимосвязей (между потребителями и товарами, между служащими и фирмами, между любовниками), а значит, добиваться простоты и легкости потребления, основанной на этике ответственности, открытости и свободе выбора.
Строить торговые стеллажи
И вот современная архитектура негласно ставит себе цель, которую можно определить так: выстроить секции и прилавки для социального гипермаркета. Как же она добивается этой цели? Во-первых, в эстетике она старается ни на шаг не отступать от своего идеала — этажерки, а во-вторых, предпочитает использовать материалы со слабо шероховатой или просто гладкой поверхностью (металл, стекло, пластик). Использование отражающих или прозрачных поверхностей вдобавок позволяет нужным образом умножить количество стендов, на которых выставляется товар. В общем, речь идет о создании разных по форме, но одинаково безликих и обязательно подвижных конструкций (та же тенденция прослеживается и в оформлении интерьеров: оборудовать квартиру в последние годы нашего века значит прежде всего сломать в ней стены, заменив их подвижными перегородками, которые никто не станет двигать, поскольку это никогда не понадобится, — важно то, что создана возможность перемещения, а значит, достигнут новый уровень свободы, — и избавиться от постоянных элементов оформления: стены должны быть белыми, мебель — прозрачной). Создаются нейтральные пространства, где можно будет свободно и на виду размещать информативно-рекламные сообщения, порожденные деятельностью общества и, по сути, являющиеся частью этой деятельности. Ибо что производят служащие и специалисты, сидящие в небоскребах Дефанс? Конкретно говоря — ничего. Сам процесс производства материальных ценностей для них — тайна за семью печатями. Обо всех предметах и событиях в мире они узнают через цифры. Эти цифры становятся сырьем для статистики и расчетов, на их основе вырабатываются модели, намечаются проекты, наконец, принимаются те или иные решения и в информационное поле общества вбрасываются новые данные. Так живой, осязаемый мир подменяется его цифровым обличьем, а бытие вещей — графическим отображением его вариаций. Многоцелевые, безликие современные здания-модули приспосабливаются к бесконечному потоку наполняющих их сообщений. Они не могут позволить себе иметь какое-либо самостоятельное значение, создавать какую-либо особую атмосферу; тем самым они не могут обладать ни красотой, ни поэтичностью, ни вообще каким бы то ни было своеобразием. Только так, в отсутствии характерных и неизменных свойств, они смогут принять в себя бесконечный наплыв преходящего.
Современные служащие с их готовностью меняться, приспосабливаться, отзываться на все новое подвергаются такому же процессу обезличивания. Новейшие модные курсы по переквалификации ставят себе целью создание бесконечно изменчивых личностей, лишенных какой-либо интеллектуальной или эмоциональной стабильности. Освободившись от ограничений, которые накладывают на личность происхождение, привычки, устойчивые правила поведения, современный человек готов занять свое место во вселенской системе торговых сделок, где ему будет однозначно присвоена определенная меновая стоимость.
Упростить расчеты
Постепенный перевод всей деятельности микросоциумов в числовое измерение, так далеко продвинувшийся в Соединенных Штатах, в Западной Европе начался с большим опозданием, о чем свидетельствуют романы Марселя Пруста. Понадобились долгие десятилетия, чтобы полностью развеять предрассудки, традиционно придававшие различным профессиям возвышенный (служение Церкви, преподавание) либо позорный (реклама, проституция) смысл. Когда этот процесс закончился, стало возможным установить точную иерархию различных социальных статусов, пользуясь двумя простыми численными параметрами: годовой доход и количество отработанных часов.
Если говорить о любви, то критерии сексуального обмена также долгое время несли на себе печать лирической, импрессионистской, ничем не подтвержденной дескриптивной системы. И первая серьезная попытка выработать твердые стандарты была сделана опять-таки в Соединенных Штатах. Новая система оценки, основанная на простых, объективно доказуемых критериях (возраст-рост-вес плюс объем бедер-талии-груди у женщин; возраст-рост- вес плюс длина и толщина эрегированного полового члена у мужчин), впервые заявила о себе в порноиндустрии, а затем была подхвачена женскими журналами. И если упрощенная экономическая иерархия еще долго вызывала спорадические противодействия (движения в защиту “социальной справедливости”), то иерархия эротическая, как более близкая к природе, быстро завоевала общество, став предметом широкого консенсуса.
Получив наконец возможность определить самих себя с помощью несложного набора числовых показателей, освободившись от мыслей о Бытии, которые долго тормозили поток их ментальных импульсов, западные люди — во всяком случае, самые молодые из них, — смогли приспособиться к технологическим сдвигам внутри своих сообществ, сдвигам, повлекшим за собой масштабные экономические, психологические и социальные перемены.
Краткая история информатизации
Под конец Второй мировой войны, в связи с отработкой траекторий полетов тактических и стратегических ракет, а также созданием моделей расщепления атомного ядра, возникла потребность в средствах расчета больших чисел и алгоритмов повышенной точности. И вот, отчасти благодаря теоретическим трудам Джона фон Неймана, на свет появились первые компьютеры.
В то время стандартизация и рационализация труда уже прочно закрепились в промышленности, но еще не успели добраться до офисов и контор. Когда же были установлены первые компьютеры для обработки документов, всякой свободе и гибкости в управленческой деятельности пришел конец; для класса служащих это обернулось внезапной и жестокой пролетаризацией.
В те же годы европейская литература со смешным опозданием столкнулась с новым орудием труда — пишущей машинкой.
Исчезла неопределенная, многообразная работа над рукописью (вставки, отсылки, пометки на полях) и возникло линейное, одномерное письмо, фактически подстраивавшееся под нормы американского детектива и газетного стиля (рождение мифа об “ундервуде” — успех Хемингуэя). Образ литературы потускнел, и многие молодые люди с “креативным” складом ума избрали для себя более благодарный вид деятельности — кино или сочинение песен (однако оба эти пути, как оказалось, вели в тупик; вскоре американская индустрия развлечений начала свою разрушительную работу в местных индустриях развлечений — работу, завершение которой мы видим сегодня).
Внезапное появление в начале 80-х годов персонального компьютера может показаться исторической случайностью; поскольку в нем не было никакой экономической необходимости, его можно объяснить разве что успехами микроэлектроники. У клерков и управленцев среднего звена неожиданно появилось мощное и простое в обращении устройство, которое помогло им снова — пусть не формально, но на деле, — взять основной объем работы под свой контроль. Несколько лет шла подспудная необъявленная война между руководителями фирм и “базовыми” пользователями, за которыми иногда стояли группы программистов — убежденных сторонников персонального компьютера. Самое удивительное, что руководство постепенно осознало слабую эффективность и дороговизну больших машин, поняло, что массовое производство персональных компьютеров наполнит офисы надежной и дешевой оргтехникой, и сделало выбор в пользу “персоналок”.
Писателю персональный компьютер принес нежданную свободу: конечно, он не обеспечивал той податливости и приятности, как рукопись, но все-таки позволял серьезно работать над текстом. В те же годы по некоторым признакам можно было сделать вывод, что у литературы появился шанс отчасти вернуть себе былой авторитет, но не столько благодаря собственным достоинствам, сколько из-за угасания соперничающих видов деятельности.
Под мощным, обезличивающим воздействием телевидения рок-музыка и кинематограф постепенно утратили свою магию. Прежние различия между фильмами, клипами, новостями, рекламой, актуальными интервью и репортажами стали постепенно стираться, и появился новый жанр универсализированного зрелища.
В начале 90-х появление оптико-волоконной связи и новые промышленные стандарты в информатике сделали возможным создание компьютерных сетей сначала внутри фирм, потом между фирмами. Превратившись в простую рабочую единицу в системе надежной связи между клиентами и сервером, персональный компьютер утратил всякую способность автономной обработки данных. Фактически она вновь оказалась подчинена централизованной системе — более мобильной, широкоохватной и эффективной.
Хотя персональные компьютеры повсеместно утвердились на предприятиях, мало кто желал установить их дома по причинам, которые впоследствии были выявлены и изучены (высокая цена, отсутствие реальной пользы, затрудненность работы в лежачем положении). В конце 90-х годов появились первые пассивные терминалы для выхода в Интернет. Не имевшие ни процессора, ни памяти, а потому стоившие очень дешево, они были предназначены для доступа к гигантским базам данных, созданным американской индустрией развлечений. Снабженные электронной системой оплаты, на сей раз вполне надежной и безопасной (по крайней мере официально), красивые и компактные, они быстро стали неотъемлемой частью каждого дома, заменив одновременно мобильный телефон, “Минитель”[7] и пульт дистанционного управления телевизором.
Вопреки ожиданиям, книга превратилась в очаг активного сопротивления. Литературные произведения пытались публиковать на интернетовском сервере, но интерес вызвали только энциклопедии и справочная литература. Через несколько лет пришлось признать: публика по-прежнему отдает предпочтение печатной книге как более практичной, более привлекательной внешне и более удобной в обращении. Но каждая купленная книга становилась опасным разрывом в цепи. Когда-то в таинственных лабиринтах нашего мозга литература нередко брала верх над самой реальностью, так что виртуальные миры ей ничем не угрожали. Начался необычный, парадоксальный период, который длится по сей день: параллельно с глобализацией в сферах развлечений и деловых обменов — сферах, где язык занимает весьма ограниченное место, — усиливается роль местных языков и национальных культур.
Признаки усталости
В политическом плане противодействие либерально-экономической глобализации началось уже довольно давно: с референдума по поводу присоединения к Маастрихтским соглашениям, который проходил во Франции в 1992 году.
Развернулась целая кампания, чтобы побудить французов сказать “нет” не столько во имя национальной гордости или республиканского патриотизма — и то и другое исчезло в Верденской мясорубке 1916–1917 годов, — сколько из-за всеобщей глубокой усталости, просто из чувства отторжения. Как и все радикальные течения в истории, либерализм играл на запугивании, объявляя себя неизбежным будущим человечества. Как и все радикальные течения в истории, либерализм предполагал ослабление и преодоление простого нравственного чувства во имя светлого будущего человечества, виднеющегося где-то вдали. Как и все радикальные течения в истории, либерализм обещал современникам труды и страдания, а наступление всеобщего счастья отодвигал на два-три поколения вперед. Подобные теории уже причинили достаточно вреда на протяжении всего двадцатого века.
К несчастью, частое извращение понятия “прогресс” радикальными течениями не могло не способствовать появлению шутовских идей, типичных для эпохи растерянности. Часто опирающиеся на Гераклита или Ницше, удобные и понятные для людей со средними и высокими доходами, иногда эстетически привлекательные, идеи эти, как кажется, подтверждались усилением националистических и социальных рефлексов — многоликих, непредсказуемых и необузданных — в менее благополучных слоях общества. Действительно, под влиянием бурно развивающейся математической теории турбулентности историю человечества ныне все чаще представляют в виде хаотичной системы, в которой изобретательные футурологи и философы-публицисты различали один или несколько центров притяжения — так называемых “странных аттракторов”. Не имея никакой методологической базы, эта аналогия все же завоевала популярность в образованных или полуобразованных слоях населения и превратилась в препятствие на пути создания новой онтологии.
Мир как супермаркет и насмешка
Артур Шопенгауэр не верил в Историю. Поэтому он умер в уверенности, что его открытие — концепция мира, существующего, с одной стороны, как воля (как желание, как жизненный порыв), а с другой, воспринимаемого как представление (само по себе нейтральное, чистое, сугубо объективное, а потому поддающееся эстетическому воспроизведению), — что это его открытие переживет века. Сегодня мы можем сказать, что он не совсем прав. Введенные им категории еще можно распознать в сложной канве наших жизней, но они претерпели такие метаморфозы, что можно задаться вопросом, насколько они еще значимы.
Слово “воля” означает долговременное напряжение, постоянное, неуклонное усилие, сознательно или бессознательно направленное на достижение определенной цели. Конечно, птицы все еще вьют гнезда, олени еще сражаются за самок. В шопенгауэровском смысле можно сказать, что один и тот же олень сражается, одна и та же личинка зарывается в землю с того нелегкого дня, когда они впервые появились на Земле. Однако у людей все совсем иначе. Логика супермаркета неизбежно вызывает распыление желаний; человек супермаркета органически не может быть человеком единой воли, единого желания. Отсюда известная вялость воли у современного человека. Не то чтобы люди стали желать меньше, наоборот, они желают все больше и больше, но в их желаниях появилось нечто крикливое и визгливое: это не чистые симулякры, но они по большей части обусловлены извне — скажем так, обусловлены рекламой в широком смысле слова. Ничто в них не напоминает той стихийной, несокрушимой силы, упорно стремящейся к осуществлению, которую подразумевает слово “воля”. Отсюда некоторый недостаток индивидуальности, заметный у каждого.
Что до представления, то оно глубоко отравлено смыслом и полностью утратило чистоту. Можно считать чистым лишь то представление, которое полагает себя только как таковое, которое стремится быть просто отображением внешнего мира (реального или воображаемого, но внешнего), иными словами, не включает собственный критический комментарий. Массовое внедрение в представления аллюзий, насмешки, юмора, вообще второй степени, очень скоро подорвало искусство и философию, превратив их в обобщенную риторику. Любое искусство, как и любая наука, — это способ коммуникации людей. Очевидно, что эффективность и интенсивность коммуникации снижаются и могут сойти на нет, как только возникает сомнение в истинности слов, в искренности выражения (можно ли, к примеру, вообразить науку во второй степени!). Тенденция к творческому оскудению в искусстве, таким образом, — не что иное, как оборотная сторона характерной для нашего времени невозможности разговора. Ведь сейчас в обычном разговоре все происходит так, словно прямое выражение какого-либо чувства, эмоции или мысли стало невозможным, ибо оно слишком банально. Все нужно пропустить через искажающий фильтр юмора — юмора, который, естественно, в конечном счете работает вхолостую, оборачиваясь трагической немотой. Такова история пресловутой “некоммуникабельности” (надо отметить, что широкая эксплуатация этой темы нисколько не помешала некоммуникабельности распространиться на практике и оставаться актуальной как никогда, хотя людям порядком надоело рассуждать о ней), и столь же трагическая история живописи в XX веке. Эволюция живописи в наше время стала отображением эволюции человеческой коммуникации; правда, тут можно говорить не о прямом подобии, а скорее о некоем сходстве атмосферы. В обоих случаях мы оказываемся в болезненной, насквозь фальшивой атмосфере, где все смехотворно и где самая смехотворность перерастает в трагедию. Поэтому среднестатистическому прохожему, оказавшемуся в картинной галерее, не стоит оставаться там слишком долго, если он хочет сохранить ироническую отстраненность. Через несколько минут он помимо воли испытает легкую панику или, во всяком случае, некое оцепенение, некое неудобство, тревожное замедление юмористической функции.
(Трагизм возникает ровно в тот момент, когда смехотворное больше не воспринимается как fun.[8] Это нечто вроде грубой психологической инверсии, которая означает появление у человека неодолимого стремления к вечности. Рекламе удается избежать этого нежелательного для нее эффекта только с помощью непрестанного обновления своих симулякров, но живопись по-прежнему стремится следовать своему предназначению — создавать долговременные объекты, наделенные своеобразием.
Именно эта ностальгия по бытию и придает ей мучительный ореол и в итоге волей-неволей делает ее верным отражением той духовной ситуации, в какой пребывает западный человек.)
Стоит отметить, что литература в тот же период находится в относительно добром здравии. Это легко поддается объяснению. Литература по сути своей — искусство концептуальное; собственно говоря, это единственный концептуальный вид искусства. Слова — это концепты, штампы — это тоже концепты. Нельзя ни утверждать, ни отрицать, ни подвергать сомнению, ни высмеивать что бы то ни было без помощи концептов и без помощи слов. Отсюда и удивительная живучесть литературной деятельности: она может самоопровергаться, саморазрушаться, объявлять себя невозможной, не переставая при этом быть самой собой; она выдержит любую самокритику, любую деконструкцию, любое возведение в степень, какими бы изощренными они ни были; упав, она снова встанет на лапы и отряхнется, точно собака, вылезшая из пруда.
В противоположность музыке, в противоположность живописи и кино литература способна проглотить и переварить насмешку и юмор в неограниченном количестве. Опасности, подстерегающие ее сегодня, не имеют ничего общего с теми опасностями, которые подстерегали, а порой и разрушали другие искусства. Опасности эти связаны скорее с ускорением ритма восприятий и ощущений, присущих логике гипермаркета. В самом деле, ведь книгу можно оценить только постепенно, она требует обдумывания (не столько в смысле интеллектуального усилия, сколько в смысле возвращения вспять). Не бывает чтения без остановки, без попятного движения, без перечитывания, — а это вещь невозможная, даже абсурдная в мире, где все изменчиво, все текуче, ничто не имеет устойчивой ценности — ни правила, ни вещи, ни живые существа. Изо всех сил (а силы у нее когда-то были могучие) литература сопротивляется понятию непрерывной актуальности, вечно длящегося настоящего.
Книги ждут читателей, но у этих читателей должно быть свое, индивидуальное и стабильное существование: они не могут быть чистыми потребителями, чистыми фантомами; в каком-то смысле они должны быть субъектами.
Измученные трусливой манией политкорректности, замороченные потоком псевдоинформации, создающей у них иллюзию постоянного изменения категорий бытия (якобы мы уже не можем мыслить так, как мыслили десять, сто, тысячу лет назад), современные западные люди больше не способны быть читателями, они уже не могут удовлетворить смиренную просьбу раскрытой перед ними книги: быть просто человеческими существами, мыслящими и чувствующими самостоятельно.
Тем паче они не могут играть эту роль перед другим человеком. А следовало бы, ибо этот распад личности — распад трагический. Каждый, испытывая мучительную ностальгию, требует от другого того, чем сам он быть уже не может; точно бесплотный, безглазый призрак, он ищет полноту бытия, которой не находит в себе самом. Ищет прочность, долговечность, глубину. Ищет, но, разумеется, не находит, и его одиночество нестерпимо.
Смерть Бога на Западе стала прелюдией к грандиозному метафизическому сериалу, который продолжается и в наши дни. Всякий историк ментальностей сможет подробно воссоздать различные этапы этого процесса. Коротко говоря, христианство мастерски умудрялось сочетать в душе человека исступленную веру — по сравнению с Посланиями апостола Павла вся культура античности кажется нам сегодня до странности приличной и тусклой — с упованием на вечную сопричастность к Высшему, абсолютному бытию. После того как эта мечта угасла, были сделаны многочисленные попытки дать человеку надежду на какой-то минимум бытия, примирить мечту о бытии, которая жила в его душе, с назойливым, повсеместным присутствием изменения и становления. Но до сих пор все эти попытки оказывались безуспешными, и беда продолжала распространяться.
Последняя по времени из таких попыток — реклама. Хоть она и ставит себе целью возбудить, разжечь желание, сама быть желанием, все ее методы, по сути, весьма близки к тем, которые были характерны для морали прошлого. Ибо она вырабатывает некое устрашающее, жестокое Сверх-Я, куда более беспощадное, чем все когда-либо существовавшие императивы; оно прилипает к человеку и непрестанно твердит ему:
“Ты должен желать. Ты должен быть желанным. Ты должен участвовать в общей гонке, в борьбе за успех, в жизни окружающего мира. Если ты остановишься — ты перестанешь существовать. Если отстанешь — ты погиб”. Начисто отрицая понятие вечности, определяя самое себя как процесс непрестанного обновления, реклама стремится превратить субъекта в пар, в послушный призрак бесконечного становления.
И это поверхностное, на уровне оболочки, участие в жизни мира призвано заменить в человеке жажду бытия.
Реклама не справляется со своей задачей, люди все чаще впадают в депрессию, общая паника чувствуется все сильнее; но реклама продолжает создавать инфраструктуры для рецепции своих сообщений. Она продолжает совершенствовать средства передвижения для существ, которым некуда податься, потому что они нигде не чувствуют себя дома; развивать средства коммуникации для существ, которым больше нечего сказать; облегчать возможности контакта между существами, которым больше не хочется общаться с кем бы то ни было.
Поэзия остановленного движения
В мае шестьдесят восьмого года мне было десять лет. Я играл в шарики и читал комикс про пса Пифа — хорошая была жизнь. О “событиях шестьдесят восьмого года” у меня осталось единственное, но яркое воспоминание. Мой кузен Жан-Пьер учился тогда в выпускном классе лицея в Ренси. В то время мне казалось (и последующий опыт оправдал это предчувствие, добавив еще и тягостные сексуальные впечатления), что лицей — это такое огромное, жуткое место, где большие мальчики изо всех сил зубрят разные трудные предметы, чтобы обеспечить себе профессиональную карьеру в будущем. Как-то в пятницу, во второй половине дня, мы с тетей зашли за кузеном в лицей, не помню уж почему. В этот самый день в лицее Ренси началась бессрочная забастовка. Двор, который, по моим ожиданиям, должны были заполнить сотни деловитых подростков, оказался пуст. Какие-то учителя, не зная, чем заняться, слонялись между гандбольными воротами. Помню, я несколько долгих минут гулял по этому двору, пока тетя пыталась хоть что-нибудь выяснить. Там царил полный покой, абсолютная тишина. Это было восхитительно.
В декабре восемьдесят шестого года я стоял на вокзале в Авиньоне. Было тепло.
Из-за сложностей в личной жизни, рассказывать о которых слишком скучно, мне было совершенно необходимо — во всяком случае, я так думал — сесть на скоростной поезд в Париж. Я не знал, что на всех железных дорогах страны началась забастовка. Так что вся предопределенная последовательность событий — сексуальный контакт, приключение, усталость — вдруг разом распалась. Два часа я просидел на скамейке, глядя на пустынное полотно железной дороги. Вагоны скоростного поезда стояли на запасных путях. Казалось, что они стоят там уже много лет, что они никогда и не катились по рельсам. Просто стояли себе неподвижно — и все. Пассажиры вполголоса обменивались новостями; царила атмосфера смирения и неуверенности. Это могла бы быть война или конец западного мира.
Некоторые люди, ставшие более непосредственными свидетелями “событий шестьдесят восьмого года”, впоследствии рассказывали мне, что это было замечательное время, когда незнакомцы заговаривали друг с другом на улицах, когда все казалось возможным; мне очень хочется им верить. Другие вспоминают только, что не ходили поезда и нельзя было достать бензин, — я готов признать, что они правы. Я нахожу во всех этих свидетельствах нечто общее: гигантская машина подавления каким-то чудом застопорилась на несколько дней. Появилась некая зыбкость, неясность. Все замерло в подвешенном состоянии, и по стране разлилось умиротворение. Потом, разумеется, общественная машина завертелась опять, еще быстрее, еще беспощаднее (май шестьдесят восьмого помог лишь разрушить некоторые моральные устои, умерявшие ее прожорливость). И все же был какой-то момент остановки, нерешительности, момент метафизической неясности.
Вероятно, по этим же причинам, когда проходит первый прилив раздражения, реакцию публики на внезапный сбой в информационных сетях нельзя расценить как однозначно негативную. Это явление можно наблюдать всякий раз, когда выходит из строя электронная система предварительной продажи билетов (дело вполне обычное). Когда люди смиряются с возникшим осложнением, а тем более когда в кассах начинают заказывать билеты по телефону, у пользователей возникает скорее даже какое-то тайное чувство удовлетворения, словно судьба дает им возможность подспудно взять реванш у техники. Точно так же, если есть желание узнать, что в глубине души думают люди об архитектуре, среди которой им приходится жить, достаточно понаблюдать за их реакцией, когда объявляют о сносе одного из унылых, безликих жилых кварталов, построенных в шестидесятые годы на окраинах: это искренняя, бурная радость, что-то похожее на опьянение нежданной свободой. В таких местах обитает злой дух, враждебный человеку, дух жестокой, изматывающей машины, с каждым днем ускоряющей ход. Люди это чуют и хотят, чтобы его изгнали.
Литература уживается со всем, приспосабливается ко всему, она роется в отбросах, зализывает раны, нанесенные несчастьем. Среди гипермаркетов и офисных башен родилась парадоксальная поэзия — поэзия тоски и угнетенности. Это невеселая поэзия, да ей и не с чего быть веселой. Современная поэзия призвана созидать гипотетический “дом Бытия” не более, чем современная архитектура — созидать обитаемые пространства; это была бы задача, сильно отличающаяся от задачи создавать все новые инфраструктуры для передачи и обработки информации. Информация, этот остаточный продукт быстротечного времени, противостоит значению, как плазма противостоит кристаллу. Общество, достигшее точки перегрева, не обязательно взрывается, но теряет способность создавать значение, вся его энергия уходит на информативное описание собственных случайных вариаций. И все же каждому человеку по силам совершить в себе самом тихую революцию, выключившись на миг из информационно-рекламного потока. Это очень легко. Сегодня даже легче, чем когда-либо, занять эстетическую позицию по отношению к миру — достаточно лишь сделать шаг в сторону. Хотя в конечном счете не надо даже шага. Достаточно выдержать паузу, выключить радио, выключить телевизор, ничего больше не покупать, не хотеть больше ничего покупать. Больше не участвовать, больше не знать, временно приостановить всякий прием информации. Достаточно в буквальном смысле замереть в неподвижности на несколько секунд.
Утраченный взгляд. Похвала немому кино[9]
Человеку свойственно говорить, но иногда он не говорит. Когда ему угрожают, он напружинивается, быстро обшаривает взглядом пространство; когда он в отчаянии, то съеживается, свертывается клубком вокруг своего горя. Когда он счастлив, его дыхание замедляется, ритм его существования становится более размашистым. Были в мировой истории два искусства — живопись и ваяние, которые пытались синтезировать человеческий опыт с помощью застывших изображений, остановленного движения. Порой они считали нужным остановить движение в такой момент, когда оно достигало точки равновесия, наибольшей плавности (точки, где оно смыкается с вечностью), — это все изображения Богоматери с младенцем. Порой же останавливали движение в момент его величайшей напряженности, наивысшей выразительности — это, естественно, искусство барокко; но есть еще и многочисленные картины Каспара Давида Фридриха, напоминающие замерзший взрыв. Эти искусства развивались в течение тысячелетий; у них была возможность создавать законченные произведения, законченные в смысле их самой заветной цели — остановить время.
Было в мировой истории человечества и такое искусство, предметом которого было изучение движения. Это искусство могло развиваться всего три десятилетия. Между 1925 и 1930 годами это искусство создало несколько кадров в нескольких фильмах (я имею в виду прежде всего Мурнау, Эйзенштейна, Дрейера), оправдывавших его существование как искусства; затем оно исчезло, по-видимому навсегда.
Галки подают голосовые сигналы, предупреждающие об опасности и позволяющие им узнавать друг друга. Таких сигналов ученые насчитали около шестидесяти. Но галки — это исключение; по большей части мир живет и действует в устрашающем молчании; он выражает свою сущность в форме и движении. Ветер колышет травы (Эйзенштейн); слеза стекает по лицу (Дрейер). Перед немым кино открывались необъятные перспективы: оно не было лишь исследованием человеческих чувств; не было лишь исследованием движения в мире; его глубинной целью было исследование условий восприятия. В основе наших представлений лежит различение фигуры и фона; но есть и более тайный процесс — в различии фигуры и движения, формы и процесса ее зарождения наш разум ищет свой путь в мире — отсюда то почти гипнотическое ощущение, что охватывает нас при виде неподвижной формы, рожденной непрестанным движением, как, например, застывшие волны на поверхности болота.
Что осталось от этого после 1930 года? Кое-какие следы, особенно в творчестве режиссеров, начинавших работать в эпоху немого кино (смерть Куросавы будет чем-то большим, чем смерть отдельного человека); несколько мгновений в экспериментальных фильмах, в научной документалистике и даже в сериалах (один из примеров — фильм “Австралия”, вышедший несколько лет назад). Эти мгновения нетрудно распознать: самое присутствие слова в них невозможно, даже музыка в них производит впечатление китча, кажется тяжеловесной, почти вульгарной. Мы превращаемся в чистое восприятие; мир предстает нам в своей имманентности. И мы бесконечно счастливы каким-то странным счастьем. Такое же состояние бывает, если влюбиться.
Беседа с Жан-Ивом Жуанне и Кристофом Дюшатле[10]
Что превращает твои произведения — от эссе о Лавкрафте до романа “Расширение пространства борьбы”, включая и два поэтических сборника “Остаться в живых” и “Погоня за счастьем”, - в единое целое? В чем их общность или направляющая, сквозная линия этого целого?
Думаю, прежде всего ощущение, что мир основан на разобщенности, страдании и зле, и еще решимость описать такое положение вещей и, возможно, преодолеть его. Какими средствами — литературными или нет, — вопрос второстепенный. Первое, что нужно сделать, — это решительно отвергнуть мир, какой он есть, а также признать существование понятий “добро” и “зло”, захотеть вникнуть в эти понятия, определить границы их действия, в том числе и внутри собственного “я”. Вслед за этим должна последовать литература. Стиль может быть самым разным — это вопрос внутреннего ритма, самоощущения. Я не слишком забочусь о связности и цельности; мне кажется, это придет само собой.
“Расширение пространства борьбы”- твой первый роман. Что побудило тебя после поэтического сборника обратиться к прозе?
Мне бы хотелось, чтобы между тем и другим не было никакой разницы. Сборник стихов должен быть таким, чтобы его можно было прочесть залпом от начала до конца. А роман — таким, чтобы его можно было открыть на любой странице и читать вне всякого контекста. Контекста не существует. К роману лучше относиться недоверчиво, не стоит попадаться в ловушку сюжета, или интонации, или стиля. Точно так же в жизни не стоит попадаться в ловушку собственной биографии или в еще более коварную ловушку личности, которую воображаешь своей. Стоило бы добиться определенной поэтической свободы: в идеальном романе должно найтись место для стихотворных и песенных фрагментов.
А может быть, и для научных диаграмм?
Да, это было бы замечательно. В роман должно было бы входить вообще все. Новалис, да и все немецкие романтики хотели достичь абсолютного знания. Отказ от этого стремления был ошибкой. Мы мечемся, как раздавленные мухи, и тем не менее в нас заложена потребность в абсолютном знании.
Все, что ты написал, проникнуто откровенным и ужасающим пессимизмом. Можешь ли ты привести два-три довода, которые, по твоему мнению, не позволяют покончить жизнь самоубийством?
В 1783 году Кант безоговорочно осудил самоубийство в своей книге “Основы учения о добродетели”. Цитирую: “Уничтожить в лице самого себя субъект морали — значит изгнать, насколько это зависит от тебя, мораль из этого мира”. Такой довод кажется наивным и почти патетичным в своей невинности, как это часто бывает у Канта; и всё же я думаю, что другого не существует. Ничто не может удержать нас в этой жизни, кроме чувства долга. Конкретно говоря, если хочешь обзавестись этим чувством на практике, сделай так, чтобы чье-то счастье зависело от твоего существования: можешь взять на воспитание ребенка или, на худой конец, купить пуделя.
Не мог бы ты разъяснить нам ту социологическую теорию, что, помимо борьбы за социальное преуспеяние, присущей капитализму, в мире происходит и другая, более коварная, и жестокая борьба — борьба полов?
Это очень просто. У животных и в человеческих сообществах есть разные системы иерархии, в основе которых может лежать происхождение (аристократическая система) или же богатство, красота, физическая сила, ум, талант… Но все эти системы кажутся мне равно заслуживающими презрения, и я их отвергаю. Я признаю единственное превосходство — доброту. В наши дни мы живем и действуем внутри системы, имеющей два измерения: эротическую привлекательность и деньги. Из этого проистекает все остальное, счастье и несчастье. По-моему, это даже не теория; мы живем в очень простом обществе, и нескольких фраз вполне достаточно, чтобы дать о нем полное представление.
Одна из самых жестоких сцен твоего романа разворачивается в ночном клубе на побережье Вандеи. Тут и неудачные попытки обольщения, “обломы”, вызывающие обиду и горечь, и просто сексуальные игры. Но в твоих книгах ночной клуб приравнивается к супермаркету. Почему?
Потому что и тут и там потребляют одинаково?
Нет. Можно было бы провести параллель между рекламной распродажей цыплят и мини-юбками: и тут и там — рекламный трюк, но на этом аналогия кончается. Супермаркет — это настоящий современный рай; у его врат социальная борьба прекращается. Бедняки, например, сюда вообще не заходят. Люди где-то заработали денег, а теперь хотят их потратить; здесь их ждет разнообразный, постоянно обновляемый ассортимент товаров; продукты нередко оказываются и в самом деле вкусными, а их питательная ценность всегда указана на упаковке. В ночных клубах мы видим совершенно иную картину. Много закомплексованных людей без всякой надежды продолжают посещать эти заведения. То есть возникает ситуация, при которой они постоянно, каждую минуту ощущают свое унижение, — это уже не рай, а скорее ад. Есть, правда, и супермаркеты, торгующие сексом, они предлагают достаточно широкий перечень порнопродукции, но им не хватает главного. Ведь на самом деле высшая цель сексуальной охоты — не удовольствие, а нарциссическое вознаграждение: привлекательные партнеры отдают должное своим эротическим достоинствам. Кстати, именно поэтому от появления СПИДа мало что изменилось. Презерватив притупляет удовольствие, но тут, в отличие от покупки продуктов, желанная цель — не удовольствие, а нарциссическое опьянение победой. Потребитель порнографической продукции не только не достигает этого опьянения, но зачастую испытывает прямо противоположное чувство. Для полноты картины можно еще добавить, что и для некоторых носителей альтернативных ценностей сексуальность по-прежнему ассоциируется с любовью.
Не мог бы ты рассказать об инженере-программисте, о том, кого ты называешь “человек-сеть”? С чем этот тип персонажа соотносится в современной действительности?
Надо отдавать себе отчет в том, что все рукотворные вещи — железобетон, электрические лампочки, поезда метро, носовые платки — сейчас разрабатываются и производятся немногочисленным классом инженеров и техников, способных придумать, а затем изготовить соответствующие механизмы; только они и являются реальными производителями. Они составляют, наверно, процентов пять от общей численности населения, и процент этот неуклонно снижается. Весь остальной персонал предприятия — сотрудники отдела сбыта и отдела рекламы, клерки, администрация, дизайнеры — приносят куда менее очевидную общественную пользу; если бы они вдруг исчезли, это практически не повлияло бы на производственный процесс. Их роль, по всей видимости, состоит в том, чтобы создавать и обрабатывать различные типы информации, то есть различные копии реальности, которая им недоступна. Именно в таком контексте можно рассматривать сегодня стремительное распространение сетей по передаче информации. Горстка специалистов — максимум пять тысяч человек на всю Францию — должна разрабатывать протоколы и создавать аппаратуру, с помощью которых в ближайшие десятилетия можно будет мгновенно распространять по всему миру информацию любого типа: текстовую, звуковую, визуальную, а возможно, также тактильные и электрохимические раздражители. Некоторые из этих людей видят в своей деятельности позитивный смысл: по их мнению, человек, будучи центром производства и переработки информации, сможет полностью реализоваться лишь через взаимосвязь с возможно большим количеством аналогичных центров. Но большинство не ищет никаких смыслов, а просто делает свое дело. Таким образом, они в полной мере осуществляют технический идеал, который направлял историческое развитие западных обществ с конца Средних веков и который можно выразить одной фразой: “Если это технически осуществимо, значит, это будет технически осуществлено”.
Твой роман читается как психологическая проза, но потом в глаза бросается его социологический характер. Быть может, эта книга преследует не столько литературные, сколько научные цели?
Нет, это все-таки слишком сильно сказано. Подростком я действительно был буквально заворожен наукой, особенно новыми категориями, выдвинутыми квантовой механикой, но по-настоящему я об этом еще не писал; наверно, меня слишком занимали реальные условия выживания в этом мире. Однако я слегка удивляюсь, когда мне говорят, что у меня получаются выразительные психологические портреты людей, персонажей. Может, это и правда, но вместе с тем мне часто кажется, что все люди более или менее одинаковы, а того, что они называют своим “я”, на самом деле не существует; в известном смысле легче дать определение какому-нибудь историческому течению, чем отдельной личности. Возможно, тут есть предпосылки новой теории дополнительности в духе Нильса Бора: волны и частицы, положение в пространстве и скорость, личность и история. В литературном плане я остро ощущаю необходимость двух взаимодополняющих подходов: патетического и клинического. С одной стороны, препарирование, холодный анализ, юмор, с другой — эмоциональная, поэтическая сопричастность, непосредственное лирическое сопереживание.
Ты — романист, но в тебе сказывается естественная склонность к поэзии.
Поэзия для человека — самая естественная возможность выразить чисто интуитивное ощущение данного момента. Ведь в нас присутствует чисто интуитивное начало, которое может быть напрямую выражено в образах или словах. Пока мы остаемся в сфере поэзии, мы остаемся в сфере правды. Проблемы начинаются потом, когда приходится выстраивать эти фрагменты, создавать некую последовательность, осмысленную и музыкальную одновременно. Тут мне, наверно, очень пригодился опыт работы за монтажным столом.
В самом деле, прежде чем стать писателем, ты снял несколько короткометражных фильмов. Кто из мастеров кино оказал на тебя наибольшее влияние? И как связаны кинообразы с твоим литературным творчеством?
Я очень любил Мурнау и Дрейера; еще я любил все то, что назвали немецким экспрессионизмом, хотя эти фильмы в гораздо большей степени перекликаются с живописью романтизма, нежели экспрессионизма. Это был анализ гипнотической неподвижности, я пытался передать ее образами, а затем словами. Кроме того, у меня есть еще одно ощущение, очень глубокое, я бы назвал его чувством океана. Мне не удалось передать его в моих фильмах, да у меня, по сути, и не было случая это сделать. Возможно, иной раз мне удавалось выразить его словами, в некоторых стихотворениях. Но рано или поздно мне, безусловно, надо будет вернуться к образам.
А не возникала ли у тебя идея экранизировать свой роман?
Да, конечно. Ведь это по сути — сценарий, во многом напоминающий “Таксиста”, но визуальный ряд должен быть совсем другим. Ничего похожего на Нью-Йорк; всюду должно быть стекло и сталь, зеркальные поверхности. Офисные ландшафты, видеоэкраны, пространство нового города с налаженным и интенсивным уличным движением. С другой стороны, в моей книге сексуальная жизнь — это череда поражений. Главное — избегать всякого возвеличения эротики, показать истощение сил, мастурбацию, рвоту. Но всё это — в прозрачном, красочном, веселом мире. Можно даже дать диаграммы и таблицы: процентное содержание половых гормонов в крови, заработная плата в килофранках… Не надо бояться теоретизирования, надо атаковать на всех фронтах. Передозировка теории придает неожиданную динамику.
Ты часто пишешь, что твой пессимизм — это как бы один из этапов; и что за ним последует?
Мне бы очень хотелось укрыться от назойливого присутствия современного мира, попасть в мирок в духе “Мэри Поппинс”, где все хорошо. Получится ли у меня — не знаю. Сказать, что ждет всех нас в будущем, тоже довольно трудно. Учитывая нынешнюю социально-экономическую систему, а главное, учитывая наши философские предпосылки, вполне очевидно, что человечество стремительно движется к скорой и жесточайшей катастрофе. Собственно, она уже началась. Логическое следствие индивидуализма — смертоубийство и горе. Любопытнее всего, что мы гибнем с большим энтузиазмом. Поразительно, например, как весело и беспечно мы недавно отбросили психоанализ — который, правда, вполне того заслуживал, — и заменили его упрощенной трактовкой человека, объясняющей все его проявления воздействием гормонов и нейромодуляторов. Постепенный распад на протяжении веков общественных и семейных структур, все усиливающаяся склонность людей воспринимать себя как изолированные частицы, подверженные закону атомных столкновений, как недолговечные скопления более мелких частиц… Все это, разумеется, исключает возможность какого бы то ни было политического решения, поэтому целесообразно будет вначале ликвидировать источники пустопорожнего оптимизма. Если же взглянуть на вещи более философски, станет понятно, что ситуация еще удивительнее, чем казалось раньше. Мы движемся к катастрофе, ведомые искаженным образом нашего мира, и никто об этом не знает. Похоже, и сами нейрохимики не отдают себе отчета в том, что их наука идет вперед по минному полю. Рано или поздно они доберутся до молекулярных основ сознания и тут лоб в лоб столкнутся с новым мышлением, рожденным квантовой физикой. Нам неизбежно придется пересмотреть постулаты познания, да и самого понятия реальности; в эмоциональном плане это нужно было бы осознать уже сегодня.
Так или иначе, если мы не откажется от механистичного и индивидуалистского видения мира, то мы умрем. Мне не кажется разумным и дальше пребывать в страдании и зле. Идея “Я” направляет нас уже пять столетий; пора свернуть с этого пути.
Искусство как снятие кожуры[11]
Понедельник, школа искусств в городе Кане. Меня попросили объяснить, почему я ставлю доброту выше, чем ум или талант. Я, как мог, объяснил, хоть и с трудом, но знаю, что объяснил правильно. Затем я посетил мастерскую художницы Рашель Пуаньян: она использует в композициях муляжи разных частей своего тела. Я впал в ступор перед узкими полосами ткани, на которых во всю длину были наклеены муляжи одного из ее сосков (правого или левого, не помню). По резинообразной консистенции и по виду это точь-в-точь напоминало щупальца спрута. Тем не менее спал я ночью довольно крепко.
Вторник, школа искусств в Авиньоне, “день неудач”, организованный Арно Лабель-Рожу. Я должен говорить о неудачах в сексе. Началось все почти весело, с показа короткометражек под общим названием “Фильмы без свойств”. Одни ленты были забавные, другие — странные, а иногда и то и другое (надеюсь, эту кассету крутят в разных центрах искусств, — не пропустите). Затем я посмотрел видео Жака Лизена. Он одержим своим сексуальным ничтожеством. Его член выглядывал из дырочки, проделанной в листе фанеры, на него была надета скользящая веревочная петля. Время от времени он дергал за веревочку, рывками, как тормошат вялую марионетку. Мне было очень не по себе. В этой атмосфере распада и балагана, окружающей современное искусство, в конце концов начинаешь задыхаться; жаль, что нет больше Йозефа Бойса[12] с его щедростью и благородством. И тем не менее это мучительно точное свидетельство о нашей эпохе. Я думал об этом весь вечер и раз за разом приходил к одному и тому же выводу: мне претит современное искусство, но я сознаю, что оно — лучший из возможных комментариев к нынешнему положению вещей. Мне чудились мусорные мешки, из которых сыплются фильтры с кофейной гущей, яблочная кожура, вчерашнее жаркое в застывшем соусе. Я думал об искусстве как о снятии кожуры, о клочьях мякоти, приставших к очисткам.
Суббота, литературный симпозиум на севере Вандеи. Сидят несколько “региональных писателей правого направления”. (Их правое направление выражается в том, что, говоря о своих корнях, они не упускают случая упомянуть прадедушку-еврея; тем самым каждый может убедиться в широте их взглядов.) В остальном публика весьма пестрая, как и везде: общий у них только круг чтения. Все эти люди живут в краю, где существует бесконечное количество оттенков зеленого цвета; но под вечно пасмурным небом все оттенки меркнут. Так что приходится иметь дело с померкшей бесконечностью. Я подумал о круговращении планет после того, как исчезнет всякая жизнь, в остывающей Вселенной, где звезды гаснут одна за другой, и чуть не заплакал от чьих-то слов о “человеческом тепле”.
В воскресенье я сел на скоростной поезд в Париж; отпуск кончился.
Абсурд как креативный фактор[13]
“Структура поэтического языка” удовлетворяет критериям серьезности, принятым в университетской науке; это не обязательно критическое замечание. Жан Коэн приходит к выводу, что по сравнению с обычным, прозаическим языком, служащим для передачи информации, язык поэзии позволяет себе значительные отклонения. Этот язык постоянно использует неуместные эпитеты (“белые сумерки” у Малларме; “черные ароматы” у Рембо). Он с удовольствием впадает в очевидность (“Не раздирайте его двумя вашими белыми руками” у Верлена; прозаический ум усмехается: у нее что, есть еще и третья?) и не боится известной непоследовательности (“Руфь грезила, Вооз видел сон; трава была черной” у Гюго; “два утверждения стоят рядом, но логическая связь между ними не просматривается”, - подчеркивает Коэн). Он упивается избыточностью, которая в прозе именуется повтором и сурово преследуется; предельным случаем здесь будет поэма Федерико Гарсиа Лорки “Плач по Игнасио Санчесу Мехиасу”, где в первых пятидесяти двух строках слова “пять часов пополудни” повторяются тридцать раз.
Для подтверждения своего тезиса автор проводит сравнительный статистический анализ поэтических и прозаических текстов (причем эталоном прозы-и это весьма показательно — служат для него тексты великих ученых конца XIX века: Пастера, Клода Бернара, Марселена Бертло). Тот же метод позволяет ему утверждать, что у романтиков поэтические отклонения гораздо сильнее, чем у классиков, а у символистов достигают еще большего размаха. Интуитивно мы и сами об этом подозревали; и все же приятно, когда это устанавливают с такой ясностью. Дочитав книгу, мы уверены в одном: автору действительно удалось выявить некоторые отклонения, характерные для поэзии; но к чему тяготеют эти отклонения? Какова их цель, если она у них есть?
После нескольких недель плавания Христофору Колумбу доложили, что половина провизии уже израсходована; ничто не указывало на близость земли. Именно с этого момента его приключение становится подвигом — с момента, когда он решает по — прежнему двигаться на запад, зная, что отныне у него нет физической возможности вернуться. Жан Коэн раскрывает карты еще в предисловии — его взгляды на природу поэзии отличаются от всех существующих теорий. Поэзия, говорит он, создается не добавлением к прозе определенной музыкальности (как упорно считали в те времена, когда любая поэма непременно должна была быть в стихах) и тем более не добавлением к эксплицитному значению значения подспудного (как в марксистском, фрейдистском и прочих толкованиях). Дело даже не в умножении тайных значений, сокрытых под значением буквальным (теория полисемии).
В общем, поэзия — это не проза плюс что-то еще; это не нечто большее, чем проза, а нечто иное. “Структура поэтического языка” завершается констатацией: поэзия отходит от повседневного языка, и чем дальше, тем больше. Напрашивается мысль, что цель поэзии — добиться максимального отклонения, разрушить, взорвать изнутри все существующие коммуникативные коды. Но Жан Коэн отвергает и эту теорию. Всякий язык, утверждает он, обладает межсубъектной функцией, и язык поэзии — не исключение; поэзия говорит о мире по-своему, но говорит именно о мире, каким его воспринимают люди. И вот тут он сильно рискует: ведь если стратегия отклонения для поэзии не самоцель, если поэзия действительно есть нечто большее, чем языковой эксперимент или языковая игра, если она действительно стремится найти новое, иное слово о той же реальности, тогда мы имеем дело с двумя разными и не сводимыми друг к другу видениями мира.
Маркиза вышла в пять[14] семнадцать; она могла выйти в шесть тридцать две; она могла быть герцогиней и выйти в то же время. Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Объем финансовых транзакций в 1995 году значительно вырос. Чтобы преодолеть земное притяжение, ракета при взлете должна развить тягу, прямо пропорциональную своей массе. Язык прозы приводит в систему различные рассуждения, доводы, факты; по сути, главным образом факты. События сами по себе произвольные, но описанные с большой точностью, пересекаются в нейтральном пространстве и нейтральном времени. Любой оценочный или эмоциональный аспект исчезает из нашего видения мира. Это идеальное воплощение мысли Демокрита: “[Лишь] в общем мнении существует цвет, в мнении — сладкое, в мнении — горькое, в действительности же [существуют лишь] атомы и пустота”. Красота этого изречения бесспорна, но ограниченна и помимо воли вызывает в памяти пресловутое “письмо издательства “Минюи””,[15] влияние которого мы ощущаем уже лет сорок — именно потому, что оно отвечает демокритовой метафизике, и по сию пору широко распространенной среди нас; распространенной настолько, что ее иногда смешивают с философией науки вообще, хотя наука заключила с ней лишь временный союз — пусть и просуществовавший много столетий — для совместной борьбы против религиозной мысли.
“Когда свинцовый свод давящим гнетом склепа на землю нагнетет…”[16] Этот стих, ужасающе перегруженный, как и многие стихи Бодлера, имеет целью отнюдь не передачу информации. Не только небесный свод, но и весь мир, все существо говорящего и вся душа слушателя проникнуты чувством тоски и подавленности. Возникает поэзия; патетическое значение обнимает собой весь мир.
Согласно Жану Коэну, поэзия стремится создать глубоко алогичный дискурс, в котором заблокирована всякая возможность отрицания. В языке информирующем то, что есть, могло бы и не быть или быть как-то иначе, в другом месте либо в другое время. Напротив, поэтические отклонения призваны создать “эффект безграничности”, когда пространство утверждения охватывает весь мир, не оставляя места для опровержения. В этом поэзия сближается с более примитивными человеческими проявлениями, такими как жалоба или вопль. Правда, ее регистр значительно шире, но слова, в сущности, имеют ту же природу, что и крик. В поэзии они начинают вибрировать, они обретают свое исконное звучание — но звучание не только музыкальное. Посредством слов обозначаемая ими реальность вновь обретает способность ужасать и очаровывать, обретает изначальный пафос. Небесная лазурь — это непосредственное переживание. Точно так же в сумерках, когда цвета и контуры предметов стираются, медленно тают в густеющей мгле, человеку кажется, что он один на свете. Так было с первых дней его жизни на земле, так было еще до того, как он стал человеком; это гораздо древнее, чем язык.
Поэзия пытается вернуть эти потрясающие ощущения; конечно, она использует язык, “означающее”, но язык для нее — лишь средство. Эту теорию Жан Коэн формулирует в одной фразе: “Поэзия — это песнь означаемого”.
Тем самым становится понятна еще одна его мысль: определенные способы восприятия мира поэтичны сами по себе. Все, что способствует стиранию граней, превращению мира в однородное, почти неразделимое целое, несет на себе печать поэзии (как, например, туман или сумерки). Некоторые предметы несут в себе поэтический импульс не в качестве предметов как таковых, но потому, что одним своим присутствием они разрушают границы пространства и времени, внушая особое психологическое состояние (надо признать, что рассуждения об океане, руинах, корабле производят впечатление). Поэзия — это не просто иной язык, это иной взгляд, это особое видение мира и всех вещей в этом мире (от автострад до змей, от паркингов до цветов). На этом этапе поэтика Жана Коэна уже выходит за пределы лингвистики и напрямую связана с философией.
Всякое восприятие строится на двух разграничениях: между объектом и субъектом, между объектом и миром. Четкость этих разграничений имеет глубочайшие последствия для философии: все существующие философские школы можно без всяких натяжек разнести по двум соответствующим осям. Поэзия, полагает Жан Коэн, стирает вообще все точки отсчета: объект, субъект и мир сплавляются в единую патетическую и лирическую атмосферу. Метафизика Демокрита, наоборот, высвечивает оба разграничения с предельной яркостью (ослепительной, как солнечный свет на белых камнях в августовский полдень: “Существуют лишь атомы и пустота”).
В принципе, дело рассмотрено и приговор вынесен: поэзия объявлена эдаким симпатичным реликтом дологического сознания, сознания дикаря или ребенка. Проблема в том, что философия Демокрита неверна. Уточним: она несовместима с последними достижениями физики XX века.
Ведь квантовая механика исключает саму возможность материалистической философии и требует радикально пересмотреть разграничения между объектом, субъектом и миром.
Уже в 1927 году Нильсу Бору пришлось предложить то, что впоследствии было названо “копенгагенским толкованием”. Выработанное в результате мучительного, а в чем-то и трагичного компромисса, “копенгагенское толкование” выдвигает на передний план инструменты и протоколы измерения. В полном соответствии с принципом неопределенности Гейзенберга, оно задает новые основы для акта познания: если нельзя одновременно с точностью измерить все параметры данной физической системы, то не просто потому, что они “искажаются в процессе измерения”; по сути, вне измерения они не существуют. Следовательно, говорить об их предшествующем состоянии не имеет никакого смысла. “Копенгагенское толкование” высвобождает акт научного познания, помещая на место гипотетического реального мира пару “наблюдатель — наблюдаемое”. Оно позволяет переосмыслить науку в целом как средство коммуникации между людьми, обмена “тем, что мы смогли наблюдать, тем, что мы узнали”, говоря словами Нильса Бора.
В общем и целом физики нашего столетия остались верны “копенгагенскому толкованию”, хотя оно весьма усложняло им жизнь. Конечно, в повседневной исследовательской практике легче всего добиться успеха, придерживаясь строго позитивистского подхода, который можно сформулировать так: “Наше дело — собрать наблюдения, наблюдения, сделанные людьми, и связать их между собой определенными законами. Понятие реальности ненаучно, и оно нас не интересует”. И все же, наверное, иногда бывает неприятно сознавать, что разрабатываемую тобой теорию совершенно невозможно изложить внятным языком.
И тут намечаются странные сближения. Я уже давно с удивлением замечаю, что стоит физикам-теоретикам выйти за рамки спектральных разложений, гильбертовых пространств и эрмитовых операторов и прочих вещей, о которых они обычно пишут, как они в любом интервью начинают усиленна хвалить язык поэзии. Не детектив и не додекафонию, нет: их интересует, их волнует именно поэзия. Я никак не мог понять почему, пока не прочел Жана Коэна. Благодаря его поэтике я осознал, что с нами точно что-то происходит и это “что-то” так или иначе связано с идеями Нильса Бора.
Перед лицом концептуальной катастрофы, вызванной первыми открытиями квантовой физики, иногда звучало мнение, что пора создавать новый язык, новую логику, а может, и то и другое. Понятно, что прежний язык и прежняя логика не годились для отображения квантовой Вселенной. Бор, однако, высказывался более сдержанно. Поэзия, подчеркивал он, служит доказательством того, что искусное, а отчасти и неправильное, противоречивое использование обычного языка позволяет преодолеть его границы. Введенный Бором принцип дополнительности — это своего рода тонкая настройка противоречия: одновременно вводятся две взаимодополняющие точки зрения на мир; каждую из них в отдельности можно выразить вполне однозначно и ясным языком, но каждая из них в отдельности будет ложной. Их совместное присутствие создает новую, весьма неудобную для разума ситуацию; но лишь благодаря этому концептуальному неудобству мы можем получить корректное представление о мире. Со своей стороны, Жан Коэн утверждает, что абсурдное использование языка в поэзии для нее отнюдь не самоцель. Поэзия разрывает причинно-следственные связи, неустанно играет с взрывной силой абсурда, но сама она — не абсурд. Она — абсурд, превратившийся в креативный фактор; она творит некий новый смысл, странный, но сиюминутный, безграничный, эмоциональный.
Праздник[17]
Цель праздника — заставить нас забыть, что мы одиноки, ничтожны и непременно умрем; иначе говоря, превратить нас в животных. Вот почему у первобытного человека чрезвычайно развито чувство праздника. Славный костерок из галлюциногенных трав, три барабана — и вперед: он уже тащится от любого пустяка. Среднему западному человеку, напротив, удается впасть в экстаз, и то не до конца, лишь в результате нескончаемых пьянок, после которых он чувствует себя пришибленным и одурелым: у него чувство праздника отсутствует вовсе. У него развито самосознание, он чувствует абсолютную свою чуждость другим, идея смерти наводит на него ужас: конечно, он не способен к какой-либо экзальтации. Но он упрям, он не сдается.
Его печалит утрата животного состояния, он стыдится и досадует; ему хочется стать праздным гулякой, или хотя бы сойти за такового. Малоприятная ситуация.
И НА ХРЕНА Я ТУСУЮСЬ С ЭТИМИ МУДАКАМИ?
“Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них” (Мф, 18, 20). Вот в этом и вся проблема: собраны во имя чего? Что, собственно, может оправдать тот факт, что мы собрались?
Собрались во имя забавы
Это худшая из всех гипотез. В обстоятельствах подобного рода (в ночном клубе, на публичном балу или тусовке) явно нет ничего забавного, поэтому единственный выход — клеиться. Тогда мы переходим из праздничного регистра в регистр яростного нарциссического соперничества, с опцией совокупления или без (традиционно считается, что мужчине, чтобы достичь желанного нарциссического вознаграждения, нужно совокупление; он тогда ощущает нечто вроде щелчка в старых автоматах для пинбола, означающего бесплатную партию. Женщине чаще всего достаточно уверенности, что с ней хотят совокупиться). Если эти игры не про вас или вы не уверены, что будете на высоте, единственный выход — уйти как можно скорее.
Собрались во имя борьбы (студенческие демонстрации, митинги экологов, дебаты о пригородных зонах)
Априори это неглупая идея: в самом деле, общая цель может стать веселящим цементирующим раствором, породить эффект единой группы, вызвать чувство сопричастности и даже самое настоящее коллективное опьянение. К несчастью, психология толпы подчиняется неизменным законам: в итоге верх всегда берут самые тупые и агрессивные элементы. И вот вы уже в банде шумных, хорошо если не опасных, крикунов. Так что выбор у вас тот же, что в ночном клубе, — либо уйти прежде, чем все передерутся, либо клеиться (здесь условия более благоприятные: под действием общих убеждений и эмоций, возникших по ходу демонстрации, нарциссическая скорлупа могла слегка потрескаться).
Собрались во имя секса (клубы любителей групповухи, оргии на дому, некоторые группы “нью — эйдж”)
Одна из самых простых и древних формул: собрать человечество во имя того, что в нем есть действительно общего. Совокупления имеют место, пусть иногда и без всякого удовольствия. И то хлеб; но и не более.
Собрались во славу Господню (мессы, паломничества)
Религия предлагает совершенно особую формулу праздника: дерзновенно отвергая разобщенность и смерть, она утверждает, что, вопреки всякой видимости, мы купаемся в божественной любви и притом направляемся к благословенной вечности. Таким образом, религиозная церемония, все участники которой исполнены веры, будет уникальным примером удачного праздника. Больше того, некоторые агностики, участвуя в торжестве, могут ощутить себя верующими; однако потом они рискуют весьма жестко рухнуть с небес на землю (почти как в сексе, только хуже). Выход: проникнуться благодатью.
Паломничество сочетает в себе преимущества студенческой демонстрации и отдыха по дешевой турпутевке; к тому же все протекает в атмосфере обостренного усталостью духовного подъема. Возникают идеальные условия, чтобы клеиться: это происходит почти невольно, даже искренне. Возвышенный выход (гипотеза): после паломничества жениться, а затем обратиться в веру. Противоположный исход — стремительное падение с небес на землю.
Стоит запастись путевкой Национального союза спортивных центров (парашютный спорт), ее всегда можно вернуть (предварительно ознакомьтесь с условиями возврата).
Праздник без слез
Подведем итоги. Если вы готовитесь развлекаться, будьте уверены: непременно подохнете со скуки. Таким образом, в идеале следовало бы вообще отказаться от праздников. К несчастью, праздный гуляка — персонаж столь уважаемый, что подобный отказ влечет за собой значительное понижение социального статуса. Несколько советов, приведенных ниже, призваны помочь избежать худшего (по гроб жизни оставаться в одиночестве, в тоске и скуке, близкой к отчаянию, и в ошибочном убеждении, что все вокруг веселятся).
— Заранее хорошенько проникнуться мыслью, что праздник так или иначе будет испорчен. Зримо представить себе примеры предыдущих неудач. Вовсе не обязательно разжигать в себе циничное, скептическое настроение. Наоборот, смиренно, с улыбкой приняв общую катастрофу, вы достигнете определенного успеха: провальный праздник превратится в будничный, а потому приятный момент.
— Всегда иметь в виду, что домой вы вернетесь один и на такси.
— Перед праздником: выпить. Алкоголь в умеренных дозах придает общительности и производит эффект эйфории, которого вы никак иначе не достигнете.
— Во время праздника: пить, но в пониженных дозах (алкогольный коктейль в сочетании с эротической атмосферой стремительно вызывает потребность в насилии, в само — и смертоубийстве). Умнее всего — вовремя принять полтаблетки лексомила. Алкоголь усиливает действие транквилизаторов, и вы скоро ощутите сонливость: тут пора вызывать такси. Хороший праздник — короткий праздник.
— После праздника: позвонить и поблагодарить. Мирно ждать следующего праздника (соблюдать интервал не менее месяца; в период отпусков его можно сократить до одной недели).
И наконец, утешительная перспектива: с возрастом необходимость в праздниках снижается, а склонность к одиночеству усиливается; реальная жизнь берет верх.
Мертвые времена[18]
Что тебе здесь нужно?
“После феноменального успеха первого опыта” в выставочном комплексе у Порт-де-Шампере открылся второй салон порнографического видео. Не успел я выйти на эспланаду, как молодая женщина с совершенно незапоминающейся внешностью сунула мне листовку. Я было хотел заговорить с ней, но она уже присоединилась к группке протестующих; все они пританцовывали на месте, чтобы согреться, и у каждого была кипа листовок в руках. На листовке — огромный заголовок: “Что тебе здесь нужно?” Подхожу ко входу; выставочный комплекс расположен под землей. Среди громадного пустого пространства тихо гудят два эскалатора. На эскалаторах — мужчины, по одному или небольшими компаниями. Все это больше похоже на гипермаркет электроники, чем на подземный храм разврата. Спускаюсь на несколько ступенек, подбираю брошенный кем-то каталог. Специализированная фирма “Карго — товары почтой” предлагает видео категории X. И впрямь, что мне здесь нужно?
На обратном пути, в метро, стоя на платформе, начинаю читать листовку. “От порнографии гниют мозги” — утверждает она, подкрепляя это утверждение следующими аргументами. У всех сексуальных маньяков — насильников, педофилов и т. д. — при обыске находят множество кассет с порно. “Согласно последним исследованиям”, многократный просмотр порнофильмов приводит к стиранию грани между фантазмом и реальностью, облегчает переход от намерения к действию, одновременно лишая какой бы то ни было привлекательности “классические сексуальные практики”.
“И что вы об этом думаете?” — услышал я вдруг. Передо мной стоял молодой человек, коротко стриженный, с умным, слегка озабоченным лицом. Подошел поезд, и это дало мне время оправиться от удивления. Годами я ходил по улицам и думал: когда же наконец кто-нибудь заговорит со мной не для того, чтобы попросить у меня денег. И вот долгожданный день настал. Для этого всего лишь нужно было открыться второму салону порнографического видео.
Я было принял его за борца с порнографией, но ошибся. Он сходил на выставку.
Он вошел. Но то, что он увидел, ему не понравилось. “Сколько там мужчин… и глаза у всех какие-то бешеные”. Я возражаю, что желание нередко превращает лицо в маску, напряженную и, да, бешеную. Нет, это он и сам знает, он имеет в виду не бешенство желания, а реальное бешеное бешенство. “Я стоял среди этих мужчин… (воспоминание, похоже, его слегка тяготит), а кругом кассеты с изнасилованиями, сценами пыток… они были так возбуждены, эти взгляды, эта атмосфера… Это было…”
Я слушаю, жду. “По-моему, добром это не кончится”, - вдруг заявляет он и выходит на станции “Опера”.
Сильно позже, уже дома, я просмотрел каталог “Карго — товары почтой”. Аннотация к фильму “Содом для молодняка” обещает нам “франкфуртские колбаски в маленькой дырочке, красотку, нафаршированную равиоли, трах в томатном соусе”. А вот “Братья Эяк-б”: “Рокко пашет сзади: выбритые блондинки, влажные брюнетки, Рокко творит ректальные вулканы и извергает в них свою пылающую лаву”. Аннотация к “Изнасилованным шлюхам-2” заслуживает того, чтобы привести ее целиком: “Пять шикарных шлюх попадают в лапы к садистам, которые насилуют их спереди и сзади. Напрасно они будут отбиваться и выпускать коготки: под градом ударов им останется лишь превратиться в живой унитаз”. И так далее, шестьдесят страниц в том же духе. Признаюсь, такого я не ожидал. Первый раз в жизни во мне проснулось нечто вроде симпатии к американским феминисткам. Я уже несколько лет слышал разговоры о новом модном течении — трэш и по глупости считал, что дело в освоении нового сегмента рынка. “Чушь твоя экономика”, - объясняет назавтра моя приятельница Анжель, автор докторской диссертации о мимикрии у пресмыкающихся. Все гораздо серьезнее и глубже. “Чтобы самоутвердиться в своей мужской силе, — вещает она воинственно-игривым тоном, — мужчине уже недостаточно простого совокупления. Ведь он постоянно ощущает, что его оценивают, сравнивают с другими самцами, определяют, чего он стоит. Чтобы избавиться от дискомфорта, чтобы получать удовольствие, ему теперь необходимо бить, унижать партнершу, глумиться над ней, чувствовать, что она целиком в его власти. Впрочем, — с улыбкой заключает она, — в последнее время это явление стало наблюдаться и у женщин”.
“Значит, нам хана”, - говорю я после минутного раздумья. Ну да, соглашается она, хана. Похоже, что хана.
Немец
Жизнь типичного немца протекает так. В молодости и в зрелые годы немец работает (как правило, в Германии). Иногда он остается без работы, но не так часто, как типичный француз. Так или иначе, проходит время и немец достигает пенсионного возраста; теперь ему надо выбирать, где доживать свой век. Может, он купит себе крошечную ферму в Швабии? Или виллу в пригороде Мюнхена? Бывает и так, но все реже и реже. От пятидесяти пяти до шестидесяти лет в немце происходят глубокие перемены. Словно журавль по осени, словно хиппи былых времен, словно израильтянин — приверженец “Гоа-транса”, шестидесятилетний немец движется на юг. Мы обнаруживаем его в Испании, чаще всего на побережье между Картахеной и Валенсией. Отдельные экземпляры — обычно из более обеспеченных и более культурных слоев общества — попадаются на Канарах и на Мадейре.
Эти глубокие, необратимые экзистенциальные перемены никого из окружающих не удивляют; они подготовлены заранее и почти неизбежны: немец часто проводил отпуск на юге и наконец купил там квартиру. И вот немец на закате дней наслаждается жизнью. Впервые я столкнулся с этим феноменом в ноябре 1992 года. Я ехал по автостраде чуть севернее Аликанте, и вдруг мне пришла шальная мысль остановиться в крошечном городке, скорее даже поселке у самого моря. Поселок был без названия; очевидно, его еще не успели как-то назвать: я не обнаружил ни одного дома старше 1980 года. Было около пяти вечера. Шагая по безлюдным улицам, я поначалу заметил странную вещь: вывески магазинов и кафе, меню в ресторанах были на немецком языке. Я купил каких-то продуктов, а потом увидел, что городок начал оживать. Все больше и больше народу толпилось на улицах, на площадях, на набережной; казалось, всех вдруг охватила страсть к потреблению. Домохозяйки выходили из своих домов. Усатые дядьки радостно приветствовали друг друга и, похоже, строили планы на вечер. Однородность этого люда сперва поразила меня, потом стала тревожить, а часам к семи мне пришлось смириться с очевидностью: ГОРОД БЫЛ НАСЕЛЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НЕМЕЦКИМИ ПЕНСИОНЕРАМИ.
Таким образом, по своей структуре жизнь немца напоминает жизнь рабочего-иммигранта. Предположим, существует страна А и страна Б. Страна А — это страна, где работают; там все функционально, скучно и предсказуемо. Страна Б — это место, где проводят досуг: недели отпуска и годы заслуженного отдыха. Оттуда не хочется уезжать, туда мечтают вернуться. Именно в стране Б завязываются настоящие, глубокие дружеские отношения; именно в стране Б приобретают домик, который надеются оставить детям в наследство. На карте страна Б обычно расположена южнее страны А.
Можно ли сделать из этого вывод, что Германия стала страной, где немцу жить уже не хочется и откуда он бежит при первой возможности? Думаю, можно. Следовательно, к родине он относится примерно так же, как турок-иммигрант. Принципиальной разницы тут нет, однако мелкие отличия наблюдаются.
Как правило, немец имеет семью, то есть жену и одного-двух детей. Его дети работают, как и родители в их возрасте. Таким образом, у пенсионера возникает повод для микромиграции — явления сугубо сезонного: оно приходится на праздники, то есть на период между Рождеством и Новым годом. (ВНИМАНИЕ: феномен, описанный ниже, не наблюдается у рабочего-иммигранта в прямом смысле; сведения о нем предоставлены официантом Бертраном из пивной “Средиземное море” в Нарбонне).
Путь далек от Картахены до Вупперталя даже за рулем мощного автомобиля. Поэтому к вечеру немец нередко ощущает потребность отдохнуть и подкрепиться. Лучше всего этой потребности отвечает область Лангедок-Руссильон, обладающая развитой сетью современных отелей. На этом этапе самое трудное уже позади: что ни говори, а французские дороги лучше испанских. После еды (устрицы, кальмары по — провансальски, легкий сезонный буйабес на двоих) немец слегка расслабляется и ему хочется излить душу. Тогда он рассказывает о дочери, которая работает в художественной галерее в Дюссельдорфе; о зяте — программисте; об их семейных проблемах и возможных решениях этих проблем. Он говорит.
“ Wer reitet so spat durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind”.[19]Что именно говорит немец в этот час и на этом этапе, уже не столь важно. В любом случае он находится в третьей стране и может свободно высказывать свои глубокие мысли; а глубокие мысли у него есть.
Потом он спит; наверно, это лучшее, что ему остается делать.
Это была наша рубрика “Паритет франка и марки, немецкая экономическая модель”. Всем спокойной ночи.
Снижение пенсионного возраста
Когда-то давно мы работали аниматорами в курортных гостиницах; нам платили за то, чтобы мы развлекали людей, — пытались развлекать людей. Позже, уже женатыми (а чаще разведенными) людьми, мы вернулись в курортную гостиницу, на сей раз в качестве клиентов, и молодые люди, другие молодые люди, пытались нас развлекать. Мы, со своей стороны, пытались наладить сексуальные связи с некоторыми служащими курортной гостиницы (и бывшими аниматорами, и нет). Иногда у нас получалось, но чаще всего нас посылали. Не очень-то мы развлеклись. Честное слово, подвел итог бывший экс-аниматор курортной гостиницы, сегодня нам вообще нечем заполнить жизнь.
Отель “Холидей Инн Ресорт” в Сафаге, на берегу Красного моря, построен в 1995 году. В нем 327 уютных номеров и 6 просторных комфортабельных люксов. Кроме того, отель располагает салоном, кофейней, рестораном, пляжным рестораном, дискотекой и террасой для развлекательных мероприятий. В торговом центре отеля имеются различные магазины, банк, парикмахерская. Развлекательные мероприятия проводит симпатичная франко-итальянская группа аниматоров (вечера танцев, разнообразные игры). В общем, как выразился турагент, “весьма привлекательный объект”.
Если пенсионный возраст снизят до пятидесяти пяти лет, продолжал экс-аниматор, туристический бизнес будет всячески приветствовать эту меру. Трудно обеспечить рентабельность структуры подобного масштаба в рамках короткого отпускного сезона, ограниченного преимущественно летними месяцами и, в меньшей степени, зимними каникулами. Решение проблемы очевидно: организовать чартерные рейсы для молодых пенсионеров по льготным тарифам — это позволит обеспечить постоянный приток отдыхающих. После кончины супруга или супруги пенсионер оказывается в положении ребенка: он путешествует в группе, ему надо заводить друзей. Но если мальчики играют с мальчиками, а девочки болтают с девочками, то пенсионеры охотно общаются с такими же пенсионерами обоего пола. Замечено, что они часто прибегают к намекам и аллюзиям сексуального характера; их отличает поразительная словесная похотливость. Каким бы тягостным ни был для них в свое время сексуальный опыт, приходится признать, что впоследствии они о нем сожалеют, охотно предаются ностальгическим воспоминаниям. На этой почве двое или трое могут стать друзьями. Они вместе ходят менять валюту, планируют совместные экскурсии. Слегка расплывшиеся, коротко стриженные, пенсионеры похожи на гномов — ворчливых или добродушных, в зависимости от характера. Часто они бывают удивительно выносливыми и крепкими, сказал в заключение экс-аниматор.
— А я вот считаю, у всех своя вера и всякую веру надо уважать, — некстати вмешался организатор утренней гимнастики.
Обиженный экс-аниматор замкнулся в угрюмом молчании. Ему было пятьдесят два, и в этот заезд, в конце января, он был одним из самых молодых клиентов. К тому же он не был на пенсии, но получал предпенсионное пособие или оформлял досрочную пенсию, что-то в этом роде. Он всем представлялся как экс-профессионал туристического бизнеса и сумел произвести впечатление на местную группу аниматоров. “Я открывал первый Club Med в Сенегале”, - любил он повторять. А потом напевал, пританцовывая: “Я прошвырнусь по Сенега-а-алу, девчонок славных там нема-а-ало”. В общем, классный был тип. Но я нисколько не удивился, когда на следующее утро его труп обнаружили в огромном гостиничном бассейне.
Город Кале, департамент Па-де-Кале
Поскольку, как я вижу, все уже пробудились,[20] я хочу воспользоваться случаем и обнародовать небольшое заявление, не получившее, на мой взгляд, должного освещения в средствах массовой информации: это призыв Робера Ю и Жан-Пьера Шевенмана провести референдум о переходе на единую европейскую валюту. Конечно, компартия уже не та, что прежде, это верно, и Жан-Пьер Шевенман представляет разве что самого себя — да и то в лучшем случае; и тем не менее они выражают мнение большинства, а Жак Ширак в свое время обещал такой референдум провести. Из чего логически следует, что на данный момент он является лжецом.
Вряд ли нужно быть исключительно тонким аналитиком, чтобы убедиться: мы живем в стране, население которой беднеет, считает, что будет беднеть и дальше, и вдобавок пребывает в уверенности, что все несчастья происходят от всемирного экономического соперничества (просто потому, что наша страна в этом “всемирном экономическом соперничестве” проигрывает). Еще несколько лет назад на объединенную Европу всем было глубоко плевать; подумать только: проект не вызвал ни малейшего противодействия и не возбудил ни малейшего энтузиазма; нынче, скажем так, возникли определенные затруднения, и он скорее вызывает все возрастающую враждебность. Уже одно это было аргументом в пользу референдума. Напомню, что референдум 1992 года по Маастрихту едва не сорвался (сомнительная историческая заслуга Валери Жискара д’Эстена, который счел проект “слишком сложным, чтобы выносить его на голосование”) и что, когда на нем все-таки настояли, едва не завершился результатом “против”, хотя вся политическая элита и центральные СМИ призывали голосовать “за”.
Это упорное, прямо-таки непостижимое стремление правительственных партий протащить проект, который никому не интересен и от которого всех уже начинает тошнить, само по себе говорит о многом. Лично я, когда мне говорят о “демократических ценностях”, отнюдь не чувствую в себе воодушевления; скорее мне хочется расхохотаться. Когда мне предлагают выбирать между Шираком и Жоспеном (!) и не желают знать мое мнение о единой европейской валюте, то единственное, в чем я уверен, это что мы живем не в демократическом обществе. Ладно, предположим, демократия — не лучший из режимов, она, как говорится, создает благоприятную почву для “опасных популистских тенденций”, но тогда пусть мне скажут прямо: судьбоносные решения давно уже приняты, это решения мудрые и справедливые, они выше вашего понимания; однако вам дозволяется в соответствии с вашими взглядами в известной степени повлиять на политическую окраску будущего правительства.
В номере “Фигаро” от 25 февраля я обнаружил любопытную статистику по департаменту Па-де-Кале. Здесь сорок процентов населения живет за чертой бедности (данные Национального института статистики и экономических исследований); шесть из десяти супружеских пар освобождены от уплаты подоходного налога. Как ни странно, за Национальный фронт в Па — де-Кале голосуют немногие; правда, число иммигрантов там постоянно сокращается (а процент рождаемости очень высок, явно выше среднего по стране). Депутат парламента от Па-де-Кале — коммунист; интересный факт: на последнем съезде партии он единственный проголосовал против отказа от тезиса о диктатуре пролетариата.
Кале — поразительный город. Обычно в таких крупных провинциальных городах есть исторический центр со старинными домами, пешеходные улицы, по которым в субботу вечером движется оживленная толпа, и т. п. В Кале ничего подобного нет. Во время Второй мировой войны город был практически стерт с лица земли; в субботу вечером его улицы безлюдны. Пешеход шагает вдоль заброшенных домов, громадных и пустынных автостоянок (если есть во Франции город, где решены проблемы с парковкой, то это Кале). В субботу вечером в городе повеселее, но веселье это своеобразное: почти все поголовно пьяны. Среди забегаловок есть казино с шеренгами игральных автоматов, где жители Кале добывают у игральных автоматов свой минимальный доход. Единственное место прогулок воскресными вечерами — площадка у въезда в железнодорожный туннель под Ла-Маншем. Горожане с семьями, иногда с колясками, стоят у решетки и смотрят, как отправляется поезд “Евростар”. Они машут рукой машинисту, тот отвечает им гудком — и ныряет под дно морское.
Человеческая комедия в подземке
Женщина угрожала повеситься; на мужчине был костюм из мягкой ткани. Вообще-то женщины редко вешаются; они по-прежнему предпочитают снотворное. Реклама: “Высший уровень” — ну да, высший уровень. “Надо меняться” — а зачем? Кожзаменитель на соседнем сиденье разрезан, вылезают потроха. Парочка вышла на станции “Мезон-Альфор”. Рядом со мной уселся пижон лет двадцати семи. Он мне сразу не понравился (может, из-за волос, собранных в хвост, или из-за оригинальных усиков, а может, из-за отдаленного сходства с Мопассаном). Он развернул длинное, на несколько страниц, письмо и стал читать; поезд подъезжал к станции “Либерте”. Письмо было написано по-английски и отправлено, судя по всему, какой-то шведкой (вечером я сверился с иллюстрированным словарем Ларусса: действительно, город Уппсала находится в Швеции, в нем сто пятьдесят три тысячи жителей и очень древний университет; а больше о нем сказать нечего). Пижон читал медленно, с английским у него было туго, и я без труда восстановил сюжет во всех подробностях (у меня было мелькнула мысль, что нравственность моя хромает; но, в конце концов, метро — место общественное, разве нет?). Судя по всему, они познакомились прошлой зимой в Шамруссе (и с чего это шведке вздумалось ехать в Альпы, чтобы покататься на лыжах?). Эта встреча изменила всю ее жизнь. Теперь она ни о чем, кроме него, не может думать, да, по правде говоря, и не пытается (тут он самодовольно ухмыльнулся, развалился на сиденье и пригладил усы). По письму чувствовалось, что ей страшно. Она готова на все, чтобы снова встретиться с ним, она собирается искать работу во Франции, может быть, кто-нибудь согласится предоставить ей жилье, вроде бы есть возможность устроиться домработницей с проживанием. Мой сосед раздраженно нахмурился: и впрямь еще свалится в один прекрасный день ему на голову, от нее всего можно ждать. Она знает, что он очень занят, что сейчас у него масса работы (последнее показалось мне сомнительным: было три часа дня, а молодой человек не то чтобы сильно спешил). Тут он поднял голову с несколько одурелым видом, но мы были еще только на станции “Домениль”. Письмо заканчивалось словами: “I love you and I don’t want to loose you”.[21] Я нашел, что это здорово сказано; бывают дни, когда мне самому хочется так писать. Она подписалась: Four's Ann-Katrin, а вокруг подписи нарисовала сердечки. Была пятница, 14 февраля, день святого Валентина (этот весьма полезный для коммерции праздник англосаксонского происхождения, похоже, отлично прижился в Скандинавии). Я подумал, что женщины иногда бывают очень храбрыми.
Пижон сошел на станции “Площадь Бастилии”, я тоже. На какое-то мгновение мне захотелось пойти за ним (небось, шел в пивнушку, куда ж еще?), но у меня была назначена встреча с Бертраном Леклером в “Кензен литтерер”. Мне хотелось затеять в этом обозрении полемику с Бертраном Леклером по поводу Бальзака. Во-первых, потому, что мне не вполне понятно, каким образом эпитет “бальзаковский”, которым он время от времени награждает какой-нибудь роман, может иметь сколько-нибудь уничижительный смысл; во-вторых, мне осточертели дискуссии о таком раздутом авторе, как Селин. Впрочем, Бертрану в конечном счете уже не особо хочется ругать Бальзака; наоборот, его поражает невероятная свобода этого писателя; похоже, он считает, что, если бы у нас сейчас были романисты “бальзаковского” толка, это бы не обязательно было катастрофой. Мы сходимся на том, что романист подобного масштаба неизбежно является бездонным источником клише; состоятельны ли эти клише сегодня — другой вопрос, и его нужно как следует изучить применительно к каждому конкретному случаю. Конец полемики. Я вспоминаю бедняжку Анн — Катрин и воображаю ее в возвышенном облике Евгении Гранде (все персонажи Бальзака, и патетические, и отталкивающие, оставляют ощущение какой-то ненормальной жизненной силы). Есть неубиваемые персонажи, которые кочуют из книги в книгу (жаль, что Бальзак не был знаком с Бернаром Тапи). А есть персонажи величественные, которые немедленно врезаются в память — именно потому, что они величественны и в то же время реальны. Был ли Бальзак реалистом? С тем же успехом его можно назвать романтиком. Как бы то ни было, не думаю, что наша эпоха показалась бы ему совсем чуждой. В конце концов, в жизни всегда есть место мелодраме. Впрочем, главным образом в чужой жизни.
Просто надо держать удар
Субботним вечером на Фестивале дебютного романа в Шамбери по случаю парижского Книжного салона происходит дискуссия на тему: “Превратился ли дебютный роман в коммерческий продукт?”. На мероприятие отведено полтора часа, но, к несчастью, Бернар Симеон сразу же дал правильный ответ: да. И даже внятно объяснил почему: в литературе, как и во всем, публике нужны новые лица (кажется, он употребил более сильное выражение: “свежее мясо”). Правда, извинился он, его представления могут оказаться и не совсем верными, ведь половину времени он проводит в Италии, стране, которая, похоже, во многих областях находится в авангарде худшего. Затем разговор плавно перешел на менее понятную тему: о роли литературной критики.
Собственно, раскрутка дебютного романа стартует в конце августа с броских заголовков типа: “Встречайте нового романиста” (и групповым фото на мосту Искусств или в каком-нибудь гараже у метро “Мезон — Альфор”) и финиширует в ноябре, когда вручают литературные премии. Дальше идет праздник нового божоле, праздник рождественского пива — все это позволяет спокойно продержаться до Нового года. Жизнь — штука несложная, просто надо держать удар. Отметим попутно, что бизнес оказывает литературе честь, приурочивая литературные торжества к самому мрачному периоду, своего рода понедельнику года, въезду в темный туннель. А вот теннисный турнир “Ролан-Гаррос”, наоборот, обычно происходит в июне. Впрочем, я последний стану бросать камень в моих собратьев, которые творят невесть что, толком не понимая, чего от них хотят. Лично мне очень повезло. Была, правда, одна неувязка с журналом “Капитал”, который издает торгово-промышленная группа “Ганц” (а я решил, что речь идет о телепередаче с тем же названием на канале М-б). У девицы, явившейся брать у меня интервью, не было с собой камеры, что уже само по себе должно было меня насторожить, и все же я удивился, когда она призналась, что не прочла ни строчки из моего романа. В чем дело, я понял позже, прочитав заметку под названием: “Днем он служащий, ночью — писатель: нелегко стать вровень с Прустом или Сулитцером” (между прочим, от моих слов там ничего не осталось). На самом деле ей хотелось услышать от меня необыкновенную историю. Надо было предупредить, я бы рассказал ей сказку — с Морисом Надо, ворчливым старым волшебником, и Валери Тайфер в роли феи Колокольчик. “Сходи к Надд-о, сынок. Он наш талисман, наша память, хранитель наших священных традиций”. Или, может, скорее в духе “Рокки”, версия для умных: “Днем, вооружившись программой выведения таблиц, он сражается со сроками поставок, а ночью, вооружившись текстовым редактором, атакует перифразы. Его сила — вера в себя”. Вместо этого я говорил до глупости откровенно, даже агрессивно; нечего ждать чудес от человека, не объяснив ему, в чем дело. Мне бы, конечно, купить этот журнал, но я не успел (надо сказать, что “Капитал” читают в основном безработные, что, по-моему, вовсе не смешно).
Еще одно памятное недоразумение, позже, в одной из муниципальных библиотек Гренобля. Вопреки всем ожиданиям, пропаганда чтения среди молодежи принесла здесь определенные плоды. Много выступлений в духе: “Слышь, господин писатель, скажи чё-нить этакое, дай мне надежду!” Писатели за столом в ступоре. Нет, они вообще-то не против; они даже смутно припоминают, что и впрямь, когда-то очень давно, одной из миссий писателя считалось… но чтобы вот так, устно, за пару минут? “Им что, сказали, что будет Брюель?” — проворчал не помню кто. В общем, по крайней мере эти, похоже, что-то читают.
К счастью, под конец было четкое, честное и предельно ясное выступление Жака Шармеца, организатора фестиваля в Шамбери (в те не столь уж давние времена, когда дебютный роман был чем-то большим, чем повод для шумихи): “Они сюда пришли не для этого. Если хотите, требуйте от них правды в какой-нибудь форме, хоть аллегорической, хоть реалистической. Если хотите, требуйте, чтобы они вскрывали раны и даже по мере возможности посыпали их солью”. Цитирую по памяти, но все равно: спасибо.
Зачем нужны мужчины?
— Он не существует. Понимаешь? Не существует.
— Да, я понимаю.
— Я существую. Ты существуешь. А вот он не существует.
Установив факт не-существования Бруно, сорокалетняя женщина нежно погладила по руке свою спутницу, гораздо моложе нее. Дама походила на феминистку, к тому же на ней был пуловер, какой носят феминистки. Молоденькая, похоже, была певицей в варьете, в какой-то момент она заговорила о фонограммах (а может, о килограммах, я не расслышал). Чуть пришепетывая, она постепенно привыкала к исчезновению Бруно. К несчастью, под конец обеда она попыталась установить факт существования Сержа. Пуловер аж передернуло от ярости.
— Можно я еще расскажу? — робко спросила молоденькая.
— Можно, только покороче.
Когда они ушли, я снова углубился в кипу газетных вырезок и в двадцатый раз за последние две недели попытался прийти в ужас от перспектив клонирования человека. Надо сказать, получается плохо, особенно когда видишь фото этой славной шотландской овечки (которая, как мы могли убедиться в новостях TF-1, еще и блеет ну совсем как овечка). Если уж нас хотели напугать, проще было клонировать пауков. Я пытаюсь представить себе два десятка субъектов, разгуливающих по земному шару с моим генетическим кодом. Не спорю, меня это смущает (так ведь даже Билла Клинтона это смущает, шутка сказать!), но уж никак не ужасает. Может, я дошел до того, что мне плевать на мой генетический код? Тоже нет. Решительно, смущает — очень точное слово. Одолев еще несколько статей, я вдруг осознаю, что проблема совсем в другом. Вопреки дурацкому расхожему мнению, идея, что “оба пола смогут размножаться по отдельности”, неверна. На данный момент, как настойчиво подчеркивает “Фигаро”, женщина остается “неустранимой”. Зато мужчина уже действительно мало на что годен (и что самое обидное во всей этой истории, сперматозоид заменяют “легким электрическим разрядом”; какая дешевка!). А в сущности, зачем вообще нужны мужчины? В доисторические времена, когда кругом бродили медведи, мужское начало, наверно, могло играть особую, незаменимую роль; но сегодня оно под вопросом.
Последний раз я наткнулся на упоминание о Валери Соланас в книге Мишеля Бюльто “Flowers”; он встречался с ней в Нью-Йорке в 1976 году. Книга написана спустя тринадцать лет; встреча его явно потрясла. Судя по его описанию, это была девушка с “зеленовато-бледной кожей, с сальными волосами, в джинсах и грязной майке в сеточку”. Она нисколько не раскаивалась, что стреляла в Уорхола, отца-основателя клонирования в искусстве: “Еще раз встречу гада — опять не удержусь!” Еще меньше она жалела о том, что основала движение “ОПУМ” (SCUM, Society for Cutting Up Men)[22] и собиралась воплотить свой манифест в жизнь. С тех пор — гробовая тишина; она что, умерла? Что еще более странно, ее манифест исчез из книжных магазинов; теперь, чтобы хоть что-то о нем узнать, приходится до поздней ночи смотреть канал “Арте” и терпеть дикцию Дельфин Сейриг. Но, несмотря на все неудобства, дело того стоит: отрывки, которые мне довелось услышать, действительно впечатляют. А сейчас, благодаря Долли-Овечке-Будущего, впервые сложились реальные условия для того, чтобы мечта Валери Соланас — мир, состоящий из одних женщин, — осуществилась. (Пылкая Валери, впрочем, высказывалась на самые разнообразные темы; я по ходу дела отметил фразу: “Мы требуем немедленной отмены монетарной системы”. Право, пора переиздать этот текст.)
(А в это время хитрюга Энди спит себе в ванне с жидким азотом в ожидании весьма проблематичного воскрешения.)
Для тех дам, кого это интересует: первые опыты по клонированию человека могут начаться уже скоро, возможно, пока в ограниченном масштабе; надеюсь, мужчины сумеют уйти тихо и мирно. Но позвольте перед уходом дать добрый совет: остерегайтесь клонировать Валери Соланас.
Шкура неубитого медведя
Прошлым летом, где-то в середине июля, Брюно Мазюр в восьмичасовых новостях сообщил, что американский космический зонд зафиксировал на Марсе окаменелости со следами некогда существовавшей жизни. Сомнений нет: обнаруженные молекулы, чей возраст исчисляется сотнями миллионов лет, были молекулами биологическими; они не встречаются нигде, кроме живых организмов. В данном случае организмы эти были бактериями, скорее всего метановыми археобактериями. Сообщив сей факт, он перешел к другим новостям; тема явно интересовала его гораздо меньше, чем события в Боснии. Это минимальное освещение в средствах массовой информации, по — видимому, объясняется не самым зрелищным характером жизни бактерий. В самом деле, бактерия ведет мирное существование: находит в окружающей среде простое, однообразное пропитание, растет, затем размножается — довольно примитивно, простым делением. Ей никогда не изведать мук и услад сексуальной жизни. В благоприятных условиях она продолжает размножаться (“И обрела она благодать пред очами Яхве, и было потомство ее, как песок земной”), а потом умирает. Необдуманные порывы не омрачают ее короткий и безупречный жизненный путь; бактерия — не героиня бальзаковского романа. Бывает, конечно, что свое мирное существование она ведет внутри другого организма (например, таксы), отчего означенный организм страдает и даже гибнет; но бактерия не имеет об этом ни малейшего понятия: болезнь, которую она вызывает, развивается, ничуть не нарушая ее безмятежного покоя. Бактерия сама по себе безукоризненна; при этом она абсолютно неинтересна.
Но событие остается событием. Оказывается, на одной из близких к Земле планет когда-то возникли биологические макромолекулы, которые образовали непонятные самовоспроизводящиеся системы, состоящие из примитивного ядра и какой — то неведомой науке мембраны; а потом все затормозилось, вероятно, под влиянием климатических изменений; размножение делалось все более затрудненным и наконец прекратилось вовсе. История жизни на Марсе выглядела достаточно скромно. Однако (хотя Брюно Мазюр явно не отдавал себе в этом отчета) короткий рассказ о довольно жалкой неудаче резко противоречил всем мифологическим и религиозным системам, которыми традиционно тешится человечество. Не было единого, грандиозного акта творения; не было не только избранного народа, но даже избранного биологического вида или планеты. Были лишь робкие и, как правило, малоубедительные попытки во всех уголках Вселенной. К тому же попытки удручающе однообразные. ДНК бактерий, обнаруженных на Марсе, полностью идентична ДНК земных бактерий; это обстоятельство повергло меня в смутную печаль — коренное генетическое тождество выглядело предвестьем изнурительных исторических совпадений. В судьбе бактерии уже ощущалось сходство с судьбой тутси или серба — в общем, всех тех людей, что истребляют сами себя в нескончаемо-нудных военных конфликтах.
Учитывая вышесказанное, жизни на Марсе пришла на редкость удачная мысль остановиться, не успев причинить слишком большого вреда. Вдохновившись примером Марса, я засел за петицию об истреблении медведей. Незадолго до того в район Пиренеев завезли еще одну пару медведей, что вызвало неудовольствие у овцеводов. В этом упорном стремлении извлечь косолапых из небытия действительно было что — то нездоровое и извращенное; само собой, эту меру поддерживали экологи. Сначала выпустили самку, потом, на расстоянии нескольких километров, — самца. Что за нелепые люди, честное слово. Никакого достоинства.
Я открыл свой истребительный замысел одной даме, замдиректора художественной галереи, и она привела необычный довод против, скорее культурологического свойства. По ее мнению, медведя следует охранять, ибо он — часть древнейшей культурной памяти человечества. Действительно, на двух самых древних наскальных изображениях, какие нам известны, фигурируют медведь и женский половой орган. По последним данным, медведь, похоже, появился даже чуть раньше. А мамонт, а фаллос? Нет, это Позже, гораздо позже, никакого сравнения. Перед столь авторитетным мнением я признал себя побежденным. Бог с ними, с медведями, проехали. А вот в отпуск поезжайте на остров Лансароте, он очень похож на планету Марс.
Opera Bianca[23]
Текст звучит во время фаз темноты. Он состоит из двенадцати эпизодов, которые читают двое невидимых исполнителей (один мужской и один женский голос). Порядок эпизодов произвольный, меняется от представления к представлению. Таким образом, эти тексты следует рассматривать как двенадцать возможных истолкований одной и той же пластической ситуации.
Первое представление состоялось 10 сентября 1991 года в Центре современного искусства Жоржа Помпиду (Париж).
4″
Он: Какова мельчайшая составляющая человеческого общества?
36″
ОНА: Волну мы связываем с женским началом,
А частицу — с началом мужским.
Мы сочиняем мелкие драмы
По злому умыслу хитрого Бога.[24]
ОН: Вне всякого конфликта возникает мир, мир развивается. Сеть взаимодействий накрывает пространство, творит пространство мгновенным своим развитием. Наблюдая взаимодействия, мы познаем мир. Определяя пространство через объекты наблюдения, вне всякого противоречия, мы полагаем мир, доступный нашему слову. Мир этот мы называем — реальность.
43″
ОН: Они плавали в ночи подле безгрешной звезды,
Наблюдая рождение мира,
И развитие растений,
И нечистое вскипание бактерий;
Они явились издалека, они никуда не спешили.
У них не было явственных
Мыслей о будущем,
Они видели, как мука,
Нужда и желание
Поселились на Земле,
Среди людей.
Они познали войну,
Они оседлали ветер.
ОНА: Они собрались вместе на берегу пруда,
Туман поднимался, и небо оживало.
Вспоминайте, друзья, сущие формы жизни,
Вспоминайте человека,
вспоминайте долго.
50″
ОН: Я хотел бы нести добрые вести, расточать слова утешения; но не могу. Могу лишь смотреть, как ширится пропасть между поступками нашими и взглядами.
Мы бороздим пространство, ритм наших шагов режет пространство безупречно, как бритва.
Мы бороздим пространство, и пространство становится все чернее.
И был момент, когда мы сорвались. Не помню, но, должно быть, случилось это на большой высоте.
ОНА: Должно быть, настал момент причастности, когда не могли мы возразить ничего против мира;
Почему же теперь одиночество наше столь безгранично?
Должно быть, случилось нечто, однако истоки взрыва и пламени нам недоступны.
Наши взгляды ищут вокруг, но отныне все видится нам эфемерным, отныне все видится нам текучим.
56″
ОНА: Мы шагаем по городу, мы встречаем чужие взгляды,
И этим очерчено наше присутствие среди людей.
В безмятежном покое воскресного дня
Мы неспешно шагаем к вокзалу.
Наши одежды слишком просторны,
Наша серая плоть почти неподвижна вечерней порой.
Наша крошечная, вполовину проклятая душа
Шевелится в складках, и вот уже вновь недвижима.
Мы жили когда-то, гласит наша легенда;
И из наших желаний воздвигся этот город.
Мы сражались с враждебными силами, и победили.
А потом исхудавшие наши руки не удержали рычаги власти.
И мы уплыли вдаль, за черту всех возможностей;
Жизнь остыла, жизнь оставила нас,
Мы созерцаем размытые наши тела,
И в молчанье всплывают островки чувственных данных.
59″
ОН: Светозарно-прозрачное небо
Вливалось в хрусталики наших глаз.
Мы не думали больше о завтрашнем дне,
Ночь была почти полна пустотой.
Мы сделались пленниками приборов,
А измерения казались совсем не важным делом.
Мы пытались когда-то совершить нечто полезное
И муравьи плясали под неспокойным солнцем.
Воздух был пропитан безумием,
И электрическими разрядами,
избавлением от оков,
Прохожие метали друг в друга полные ненависти взгляды,
И словно вынашивали в уме дивные мучения.
ОНА: Ты познаешь три измерения пространства
И осмыслишь природу времени,
Ты увидишь, как солнце садится над прудом,
И решишь, что в ночи твое место.
ОН: Рассвет возвращается, между телами вихрится песок;
Дух ясновидения, правь беспристрастно свой путь на Север;
Дух непримиримости, поддержи наши усилия и битвы;
Этот мир ждет от нас стимула к смерти.
1′00″
ОНА: Наступает миг, когда слова,
сказанные друг другу, Уже не превращаются в брызги света,
А обвивают вас, душат ваши мысли,
У слов есть вещество
(Вещество вязкое,
Когда они весят много;
Таково у слов любви,
Любовное вещество.)
ОН: Жизнь длится и длится в пересеченье молний,
Обращается информация;
В недрах ночи соединяются судьбы;
Но игра идет краплеными картами.
ОНА: Мы идем через дни с неподвижным лицом,
Из наших взглядов бесплодных исчезла любовь, —
Детство закончилось, ставок больше нет,
Мы движемся к концу партии.
ОН: Последние частицы Плывут в тишине,
И в ночной тьме
Проступают очертания пустоты.
ОНА: Над серой почвой вихрится зыбкая пыль;
Поднявшийся ветер очищает пространство.
Мы хотели жить — и желание это оставило следы;
Наши замедленные тела застыли в ожидании.
1′04″
ОН: Одиночество, тишина, свет заряжают человека умственной энергией, которую он затем растрачивает, общаясь с другим. Равнодушный, совершенный и круглый мир хранит память о том, что возник сразу весь, целиком. Отдельные участки мира то появляются, то исчезают; и снова появляются.
ОНА: Где кончается белизна, начинается смерть,
И тела разделяются
Среди оголенных частиц,
Я завершаю путь своих чувств.
ОН: Жизнь совершенна, жизнь кругла;
Это новая история мира.
ОНА: Нет больше топологии
В субатомной Вселенной.
И дух находит себе новое жилище
В глубине квантовой расселины,
Дух скручивается в спираль и свертывается в клубок
Во взволнованной Вселенной
В распаде симметрии,
В великолепии тождества.
ОН: Все являет себя, все блестит в нестерпимом свете; мы стали как боги.
1′06″
ОНА: В какой-то момент
Происходит встреча,
Глаза полны ночной тьмой,
И конечно, мы ошибаемся.
ОН: Мир раздроблен; он состоит из отдельных людей. Люди состоят из отдельных органов; органы — из молекул. Время течет; оно делится на секунды. Мир раздроблен.
ОНА: Процесс обольщения
Есть процесс измерения,
Одинокой меры в ночи взаимодействия
Света и грязи.
ОН: Нейроны похожи на ночь. В звездчатой сети нейронов формируются представления; жизнь их случайна и коротка.
ОНА: Нужно было б пройти сквозь лирическую Вселенную
Словно сквозь тело, что любил много раз,
Нужно было б разбудить стесненные силы,
Смутную и возвышенную жажду вечности.
ОН: Мозг окутан глубокой ночью,
Она сотворила мир
И весь набор измерительных приборов.
Мы неуклонно спускаемся к белизне.
1′10″
ОНА: Наши утра объяты противоречием,
Да, мы дышим, и небеса безмятежны,
Но мы больше не верим, что жизнь возможна,
Нам больше не кажется, что мы -
люди.
ОН: Движение индифферентности
По холодной, болезненной оси
Есть метафора отсутствия,
Начавшегося перехода к пустоте.
Сигналы скрытой от глаз реальности
С их еле заметным свечением,
Уродливые, как звездное небо,
Суть начавшийся переход к отсутствию.
Столкновения нейронных механизмов
На поле мнимых желаний
Задают границы свободного мира,
Где нет ничего устойчивого.
ОНА: Природа должна уподобиться человеку,
А человек должен стать завершенным и жестким.
Я всегда очень боялась упасть в пустоту,
Я была одинока в пустоте, и мне было больно рукам.
ОН: В смерти истлевшие до костей тела
Тех, кого мы, казалось, знали,
Держатся чуть надменно,
Словно не собираются возрождаться.
Они здесь, перед нами, простые,
без ран,
Все желания их утихли.
Они теперь — просто скелеты,
И время обратит их в прах.
1′17″
ОН: Мы предполагаем наличие наблюдателя.
ОНА: Ты здесь
Или где-то еще,
Ты сидишь по-турецки
На кафельном полу в кухне,
И твоя жизнь рухнула,
Воззови же к Господу.
Смотри! Бывают молекулы,
У которых связи разорваны наполовину.
Бывают измены наполовину,
Бывают смешные моменты.
ОН: Мы не живем; мы производим движения и считаем их результатом нашей воли. Мы недоступны для смерти; мы уже мертвы.
ОНА: Ты думаешь о коте Шрёдингера, Который наполовину мертв или наполовину жив,
И о природе света,
И о двойственности белизны.
ОН: С языком дело обстоит так же, как с мытьем посуды в альпийской хижине, говорил Нильс Бор. У нас грязная вода и нечистые кухонные полотенца, и все же в итоге нам удается отмыть тарелки.
ОНА: Ты стоишь на мостике над бездной
И думаешь о средстве для мытья посуды.
ОН: Два человека сошлись вместе, мозг каждого погружен в ночь. И все же ровно в срединной точке обеих картин мира, в момент, зафиксированный в протоколе измерения, в момент определенный, не произвольный, в момент необходимый, в ночи возникает представление.
2′15″
ОН: Заряженные энергией частицы движутся в замкнутом пространстве в ограниченный промежуток времени. Назовем это пространство городом, уподобим энергию желанию; мы получаем метафору жизни.
ОНА: Ты думаешь, что задаешь границы личности,
Твой глаз каждый миг осуществляет измерение,
Бывают исключения, остаточные явления,
Но ты уверен в себе, ты знаешь природу.
ОН: Повинуясь теории столкновений, частицы вступают в реакцию, обрастают панцирями, шипами, орудиями обороны и нападения; мы получаем метафору эволюции животного мира.
ОНА: В ночной тьме ты видишь траектории
Движущихся объектов, четкие, как в полдень.
Для тебя свобода есть смысл истории,
А дистанционное воздействие -
смутная греза.
ОН: Как скале нужна вода,
Которая подтачивает ее,
Так нам нужны новые метафоры.
ОНА: У тебя есть блокнот и система координат,
Люди подвижны и часто подвержены воздействию,
Несколько лет они сталкиваются с другими людьми,
А затем распадаются на неустойчивые соединения.
Две частицы соединились,
Их волновая функция совместилась,
А потом они расстаются в ночи
И удаляются друг от друга.
Подвергнем частицу Б воздействию электрического поля,
Реакция частицы А будет идентичной,
На любом расстоянии
Между ними будет воздействие,
будет влияние.
ОН: Разделение мира на отдельные объекты есть ментальная проекция. Имеют место некие явления; определен механизм эксперимента. Сообщество наблюдателей может прийти к согласию относительно результата измерений. Можно определить некоторые величины, в большем или меньшем приближении. Эти величины — результат взаимодействия мира, сознания и прибора. Так, через разумную интерсубъективность мы можем свидетельствовать о том, что наблюдали, что видели, что узнали.
Письмо Лакису Прогидису[25]
Дорогой Лакис!
С самого начала нашего знакомства я замечаю, что тебя смущает периодически проявляющееся у меня странное (навязчивое? мазохистское?) пристрастие к поэзии. Ты, естественно, предвидишь всяческие осложнения: беспокойство издателей, замешательство критики; для полноты картины стоит добавить, что, прославившись как романист, я стал раздражать поэтов. Неудивительно, что такое маниакальное упорство вызывает у тебя вопросы; из этих вопросов и родилась статья в девятом номере “Мастерской романа”. Скажу честно: эта статья поразила меня своей серьезностью и глубиной. Прочитав ее, я понял, что отмалчиваться дальше уже невозможно; что пора и мне попытаться ответить на вопросы, которые ты передо мной ставишь.
Идея, что история литературы существует сама по себе, отдельно от общей истории человечества, представляется мне малопродуктивной (стоит добавить, что демократизация знания делает ее и вовсе надуманной). Поэтому не сочти за вызов или пустую блажь, если я буду обращаться к внелитературным областям знания. Не приходится сомневаться, что XX век останется в истории как эпоха, когда в умах широкой публики утвердилась научная картина мира, которую эта публика связывает с материалистической онтологией и с принципом локального детерминизма. Так, например, с каждым днем получает все более широкое распространение теория, согласно которой поведение людей можно объяснить, исходя из небольшого перечня числовых показателей (в основном процентного содержания в крови гормонов и нейромедиаторов). В плане этих ученых материй романист, разумеется, является частью широкой публики. А значит, если он не лукавит сам с собой, создание персонажа должно показаться ему занятием вполне бесполезным и формальным; в конце концов, для этого за глаза хватило бы техпаспорта. Стыдно сказать, но мне лично кажется, что понятие “персонаж романа” предполагает наличие, может, и не души, но во всяком случае определенной психологической глубины. Следует как минимум признать, что исследование психологии героя долгое время считалось одной из прерогатив романиста и что столь радикальное сокращение полномочий не может не посеять в нем сомнения относительно того, насколько состоятельно его занятие.
Еще одна, быть может, даже более прискорбная вещь: как убедительно показывает пример Достоевского или Томаса Манна, роман самым естественным образом становится ареной философских споров или расколов. Сказать, что торжество сциентизма ведет к опасному сужению пространства этих споров, масштаба этих расколов, значило бы еще приукрасить положение дел. Желая побольше узнать об окружающем мире, наши современники уже не обращаются к философам или мыслителям-“гуманитариям”, считая их (чаще всего вполне заслуженно) безобидными шутами; они углубляются в книги Стивена Хокинга, Жан-Дидье Венсана или Чинь Суан Тхуана. Всплеск кухонных сплетен, широчайшая популярность астрологии или ясновидения представляются мне всего лишь слегка шизофренической компенсаторной реакцией на распространение научного видения мира, которое воспринимается как неизбежность.
В этих условиях роман, не в силах вырваться из удушающих тисков бихевиоризма, в конечном счете хватается за последнюю, единственную спасительную соломинку — “письмо” (на этом этапе слово “стиль” выходит из употребления: оно не столь внушительно, в нем не хватает тайны). Короче говоря, одно дело серьезная наука, познание, реальность, а другое — литература с ее бесцельностью, изяществом, игрой форм; это лишь производство “текстов”, игрушечных вещичек, которые надо комментировать с помощью всяких приставок (“пара-”, “мета-”, “интер-”). Говорить о содержании этих текстов неразумно, неприлично, а то и опасно.
Картина довольно-таки грустная. Лично я никогда не мог без сердечной боли наблюдать, какую безудержную оргию приемов закатывает какой-нибудь “формалист из “Минюи” ради столь ничтожного результата. Мне помогали выстоять слова Шопенгауэра, которые я не устаю себе повторять: “Первое, и практически единственное условие хорошего стиля — это когда человеку есть что сказать”. Фраза характерно резкая, и потому выручает.
Когда, например, в литературной беседе начинает звучать слово “письмо”, сразу понимаешь, что можно слегка расслабиться. Оглядеться вокруг, заказать еще пива.
При чем тут поэзия? На первый взгляд ни при чем. Наоборот, на первый взгляд кажется, что поэзия еще сильнее отравлена дурацкой идеей, что литература — это работа над языком с целью производства некоего письма. Отягчающим обстоятельством служит то, что поэзия особенно зависима от формальных условий (например, прозаик Жорж Перек сумел вырасти в большого писателя, несмотря на УЛИПО,[26] но я не знаю ни одного поэта, который бы устоял перед леттризмом). Стоит, однако, заметить, что исчезновение персонажа поэзию никак не затронуло; что поэзия никогда не была ареной философских споров, как, впрочем, и любых других. Тем самым она сохраняет в целости значительную часть своих возможностей — естественно, при условии, что согласится их использовать.
Интересно, что ты, говоря обо мне, помянул Кристиана Бобена, пусть даже только затем, чтобы подчеркнуть различия между мной и этим обаятельным идолопоклонником (впрочем, меня в нем раздражает не столько восхищение “смиренными тварями в мире, созданном Господом”, сколько то, что он все время словно восхищается собственным восхищением). Ты бы мог спуститься еще на пару ступенек в ужас и кошмар и помянуть нечто по имени Коэльо. Я не собираюсь уклоняться от подобных малоприятных сравнений, они лишь необходимое следствие моего выбора: пробудить спящие силы поэтического слова. Потому что если поэзию сегодня так легко обвинить в метафизике или мистицизме, стоит ей попытаться заговорить об окружающем мире, то лишь по одной простой причине: между механистичным редукционизмом и тем вздором, какой несут философы нью-эйдж, больше ничего нет. Вообще ничего. Разительный интеллектуальный вакуум, выжженная земля.
Двадцатый век останется в истории еще и как парадоксальная эпоха, когда физики отвергли материализм, отказались от локального детерминизма, одним словом, отбросили целиком ту онтологию объектов и свойств, которая в то же самое время получила распространение у широкой публики и считалась главным элементом научного видения мира. В том же девятом (на редкость содержательном) номере “Мастерской романа” упоминается такая притягательная фигура, как Мишель Лакруа. Я внимательно прочел и перечел его последнюю работу “Идеология нью-эйдж”. И пришел к четкому выводу: у него нет шансов выйти победителем из затеянного им спора. New Age — это ответ на невыносимые страдания, порожденные распадом общества, она изначально выступала за развитие новых способов коммуникации, предлагала эффективные пути к улучшению жизни, и Лакруа прав, утверждая, что ее потенциал неизмеримо больше, чем нам кажется. Прав он и в том, что философия нью-эйдж отнюдь не сводится к перепеву каких-то старых врак: в самом деле, она первая додумалась поставить себе на службу последние достижения научной мысли (изучение глобальных систем, несводимых к сумме их элементов, демонстрация квантовой неразделимости). Однако, вместо того чтобы вести наступление на этом поле, где философия нью-эйдж в конечном счете уязвима: ведь все эти открытия в не меньшей степени совместимы как с онтологией в духе Бома, так и с откровенным позитивизмом), Мишель Лакруа ограничивается трогательными жалобами и ребяческими заверениями в своей преданности идеям инаковости, наследию греческой и иудео — христианской культур. Не из такого теста нужны аргументы, чтобы выстоять против бульдозера холистики.
Но и сам я ничуть не лучше. Это-то меня и удручает: в интеллектуальном плане я чувствую себя неспособным продвинуться дальше. И все-таки интуитивно я чувствую, что поэзия еще сыграет свою роль; быть может, станет чем-то вроде химической первоосновы. Поэзия предшествует не только роману, она — прямая предшественница философии. Если Платон оставляет поэтов за стенами своего знаменитого государства, то только потому, что уже не нуждается в них (и потому, что, сделавшись бесполезными, они не преминут стать опасными). В сущности, я пишу стихи, наверно, главным образом затем, чтобы обратить внимание на чудовищный, глобальный дефицит: его можно рассматривать как дефицит эмоций, социальных связей, религии, метафизики — любой из этих подходов будет верным. А еще, наверно, потому, что поэзия — единственный способ выразить этот дефицит в чистом виде, в зародыше; и выразить одновременно каждый из дополнительных его аспектов. И еще для того, чтобы оставить по себе следующее лаконичное послание: “В середине девяностых годов XX века некто остро ощутил, как рождается чудовищный, глобальный дефицит; он был неспособен ясно и четко осмыслить этот феномен, однако, в качестве свидетельства своей некомпетентности, оставил нам несколько стихотворений”.
К вопросу о педофилии[27]
В том, как вы ставите вопросы, чувствуется тонкая подначка: вы подталкиваете к политически некорректным высказываниям, — наверно, из-за того, что делаете упор на сексуальных импульсах, которыми якобы пронизано все детство; я по этому пути не пойду. На самом деле никаких сексуальных импульсов в детстве нет; это чистейшей воды выдумка. Во всех уголовных делах, которые так охотно смакуют СМИ, ребенок — всегда жертва, целиком и полностью. Тем не менее в этом назойливом внимании к педофилии и инцесту есть что-то успокоительное; мне кажется, что педофил — это идеальный козел отпущения для общества, которое делает все, чтобы разжечь желание, но не дает никаких средств его удовлетворить. В каком-то смысле это нормально (вся реклама, да и экономика в целом, основаны на желании, а не на его удовлетворении); и все же, по-моему, небесполезно напомнить очевидную истину: сейчас состояние дел в сексуальном хозяйстве таково, что мужчина зрелого возраста хочет совокупляться, но уже не имеет такой возможности; по сути, у него даже нет на это права. Стоит ли удивляться, что он хватается за единственное существо, неспособное дать ему отпор, — ребенка?
Идеальный педофил — это мужчина пятидесяти двух лет, лысый и с брюшком. Он работает в отделе сбыта прогорающей фирмы и обычно живет в пригороде, в жутком спальном районе; у него нет никакого чувства ритма. Он двадцать семь лет состоит в браке со своей сверстницей; он католик, исправно посещает церковь и пользуется уважением соседей. Его сексуальная жизнь отнюдь не бьет ключом.
На первых порах педофил открывает для себя порнографию и превращается в ее усердного потребителя; тем самым он изрядно усугубляет свои муки, одновременно снижая покупательную способность семьи. Проституция приносит ему облегчение лишь в весьма ограниченных пределах; камень преткновения для него — ослабленная, короткая эрекция: он хоть и платит деньги, но побаивается презрения проститутки. В принципе он не зря боится женщин; зато он знает, что с ребенком ему бояться нечего. Он сам хотел бы быть ребенком.
Ребенок — существо невинное, в самом деле невинное, он живет в идеальном мире, мире, еще не знающем сексуальности (и кстати, еще не знающем денег). Ему недолго там жить (всего несколько лет), но пока он этого не ведает. Его любят родители, и он действительно достоин любви. Взрослых он считает доброжелательными и мудрыми. Он ошибается.
Встреча этих двоих, педофила и ребенка (один — самый счастливый в мире, потому что еще не познал желания; другой — самый несчастный в мире, потому что познал желание, но не может его утолить), создает условия для полноценной мелодрамы. В итоге их противостояния ребенок будет раз и навсегда испачкан грязью. У него украдут те самые несколько лет невинности, мира до секса. Педофил, со своей стороны, опустится еще на много витков вниз по спирали отвращения к самому себе. Он будет радоваться аресту и тюрьме как подтверждению своих предчувствий: да, он — самое чудовищное и самое нелепое существо в мире. Он старый, грязный, у него уродская душонка — и к тому же он даже не писатель. Он первый потребует, чтобы его кастрировали. Он наконец понял то, что знали все вокруг: когда перестаешь быть желанным, теряешь право желать. Он очень дорого заплатит за свою ошибку. Долгие годы его будут опускать, избивать и унижать другие заключенные. Даже в тюрьме он будет последним изгоем (убийцу, дикого зверя, за то и уважают; но чтобы связаться с ребенком, как верно полагают его сокамерники, надо быть совсем уж ничтожным трусом).
Поскольку сам я не педофил и не жертва педофила, то, в сущности, не знаю, какое отношение ко мне имеют эти вопросы. Лично я открыл для себя сексуальное желание в нормальном возрасте (если мне не изменяет память, лет в тринадцать или около того). Я очень рад, что инициация моя не состоялась раньше и что феномен этот, так сказать, свалился на меня как снег на голову, как природная биологическая катастрофа — то есть так, что винить в этом некого. Я бы, конечно, предпочел иметь еще несколько лет отсрочки; тем не менее, по-моему, несколько смешно говорить о “педофилии”, когда дело идет о девушках 16–17 лет (мне несколько раз случалось слышать эту нелепицу в новостях на TF1). Впрочем, та же двусмысленность присутствует и в вашей анкете: вы поочередно используете понятия “несовершеннолетний” и “ребенок”; но между детством и взрослостью существует очень важный этап, он называется “подростковый возраст”. Подростковый возраст в нашем, современном обществе — это не какое-то второстепенное, преходящее состояние, совсем наоборот: это состояние, в котором мы, постепенно дряхлея телом, сегодня обречены жить практически до самой смерти.
Человечество, стадия 2[28]
Признаться, я всегда считал феминисток симпатичными дурехами, в принципе безвредными, но, к несчастью, представляющими опасность из-за полнейшего, обезоруживающего сумбура в головах. К примеру, все мы видели, как в 70-е годы они боролись за признание контрацепции, за право на аборт, за сексуальную свободу и т. п., причем боролись так, словно “патриархальная система” была изобретением злодеев-самцов, при том что очевидная историческая цель всех мужчин состояла в том, чтобы перетрахать как можно больше телок, не повесив себе на шею семью. Бедняжки оказались настолько наивны, что вообразили, будто лесбийская любовь, излюбленная эротическая приправа почти всех активных гетеросексуалов, — это опасный подрыв мужской власти. И наконец, что самое грустное, они проявляли непостижимую тягу к получению профессии и участию в жизни предприятия; мужчины, уже давно усвоившие, чего стоят “свобода” и “расцвет личности”, которые дает работа, только тихонько хихикали.
Сегодня, спустя тридцать лет с того момента, как феминизм “пошел в массы”, мы имеем весьма плачевные результаты. Огромное большинство женщин не только стали участвовать в жизни предприятий, но и выполняют на них основную часть работы (всякий, кому действительно довелось работать, знает, что обычно говорится в таких случаях: служащие-мужчины глупы, ленивы, неуживчивы, недисциплинированны и вообще неспособны трудиться в коллективе). Поскольку рынок сексуальных потребностей значительно расширил свои владения и власть, им приходится параллельно, иногда на протяжении десятков лет, всеми силами сохранять свой “капитал желанности”, растрачивая безумное количество энергии и денег ради, вообще говоря, не слишком убедительного результата (признаки старения так или иначе — штука необратимая). Ни в коей мере не отказываясь от материнства, они вынуждены в придачу ко всему прочему воспитывать ребенка или нескольких детей, которых им удалось силой вырвать у мужчин, встреченных на жизненном пути, — меж тем как означенные мужчины бросили их ради молоденькой; и им еще очень повезло, если удалось подать на алименты. Короче говоря, колоссальный труд, проделанный женщинами за предыдущие тысячелетия с целью приручить мужчину, подавить его первобытные инстинкты (тягу к насилию, сексуальную озабоченность, пьянство, страсть к азартным играм) и превратить в существо, более или менее пригодное для жизни в обществе, пошел прахом на протяжении одного поколения.
Главная цель феминисток (войти в качестве “свободных и равноправных” членов в мужское общество, хотя бы и растеряв по дороге часть исконно женских ценностей) худо-бедно достигнута, по крайней мере на Западе. Цель Валери Соланас (разрушить мужское общество и построить на его месте общество, основанное на прямо противоположных ценностях), мягко говоря, совершенно другой природы. Впрочем, уже с первых страниц “Манифеста ОПУМ” чувствуется, что мы имеем дело с текстом иного пошиба. На смену милому лепету какой-нибудь Симоны де Бовуар (с ее знаменитой формулой “Женщиной не рождаются, женщиной становятся”, свидетельствующей лишь о непроходимом невежестве в области биологии и незнании самых элементарных вещей) приходит реалистичная, не лишенная здравого смысла позиция: различия между мужчиной и женщиной имеют в первую очередь генетический, и во вторую — культурный характер. Впрочем, этот вопрос не слишком занимает Валери Соланас: ведь для нее женщина не просто отличается от мужчины, она стоит гораздо выше. Мужчина, этот побочный биологический продукт, несостоявшаяся женщина, — всего лишь эмоциональный калека, неспособный испытывать к другим ни интереса, ни сострадания, ни любви. Глубочайший эгоцентрик, раз навсегда запертый в себе самом, он обретается в “той сумеречной зоне, что пролегает между обезьяной и человеком”. У этой несчастной обезьяны, сознающей, как ей не повезло, в жизни есть один-единственный интерес — исступленно демонстрировать свои половые признаки (совокупляться с максимальным количеством женщин; вступать в бесплодные и пагубные состязания с другими самцами, своими товарищами по несчастью). Короче говоря, мужчина — это обезьяна с автоматом. В полном соответствии со своей эгоистичной и грубой природой он сумел превратить мир, по выражению ехидной Валери, в “гигантскую кучу дерьма”.
У читателя неизбежно возникнет искушение послать подальше это скороспелое толкование Истории в бредовых категориях; однако же по сравнению с более солидными теориями (марксизмом и т. д.) оно куда как более жизнеспособно. Забавным тому подтверждением стал “ложный друг переводчика” в английском заглавии: читая слова cutting up, едва ли не все мужчины поголовно решают, что их хотят кастрировать, и испытывают странное облегчение, когда выясняется, что to cut up означает скорее “разрезать на куски”, “делить на части”; настолько глубока пафосная тревога мужчин за свое пресловутое мужское достоинство. Стоит также отметить, что личности, которые сегодня растрачивают свою энергию на дурацкие сражения (спортивные состязания, бандитские разборки, этнические конфликты, гражданские или религиозные войны), незаслуженно привлекая к себе исключительное внимание СМИ в ущерб более стоящим сюжетам, не имеют между собой ничего общего: у них разные религиозные убеждения и политические взгляды, они принадлежат к разным расам; объединяет их лишь одна черта, и как раз та, которую подчеркивает Валери Соланас: все они — мужчины. Вы не найдете ни единой женщины среди тех никому не ведомых кретинов, что играются в свои мачете, реактивные гранатометы и Калашниковы. Точно так же, несмотря на тридцать лет беспрерывной феминистской пропаганды, женщина отнюдь не всегда выглядит уместно на деловом совещании или в Совете министров. Это несоответствие, сказала бы Валери Соланас, есть свидетельство врожденного превосходства. Женщина не изобретала ни государственной власти, ни состязаний, ни войны; оно и видно.
К сожалению, надо признать, что после первых блистательных страниц “Манифест ОПУМ” скатывается во всякую чушь в духе Штирнера и даже хуже. По правде говоря, мы с самого начала ощущаем смутное беспокойство из-за того, что Валери Соланас так хорошо понимает мужскую психологию; мало-помалу это беспокойство обретает под собой основания: мы с грустью наблюдаем, как у дерзкой памфлетистки проявляется все больше типично мужских черт. Прежде всего это гигантомания, бессмысленное тщеславие, абсурдно завышенная самооценка (черты, из-за которых она в итоге выглядит почти так же смешно, как Ницше в последний период жизни). Кроме того, это нездоровая тяга к насилию, убийству, конспирации, “революционной” деятельности; на самом деле все это в зародыше присутствует уже в начале, когда она из бесспорного тезиса о естественной неполноценности мужчины делает вывод, что эта богом обиженная часть человечества должна быть уничтожена. Тем самым в финале мы получаем довольно гнусный текст, полный откровенно нацистских фантазмов (начиная с упоминания “вырождения искусства” и кончая предложением использовать газовые камеры и картиной “ночи длинных ножей”). Наконец, как типичный представитель своей эпохи и своей страны,
Валери Соланас, похоже, опрометчиво увязает в почтении к “личности” и “свободе”, даже не пытаясь дать сколько-нибудь убедительное определение этих понятий; тем самым ее мало аппетитное описание “свободной женщины” — то есть женщины — члена ОПУМ, — отбрасывает нас к самым мрачным моментам 60-х годов. Все это тем более прискорбно, что Валери, похоже, несколько раз подходит вплотную к самому настоящему представлению о не-существовании личности; что ее мало трогает столь популярная в ее время реакционная болтовня вокруг “права на различие”, и она продолжает энергично ратовать за улучшение человечества научными методами; что, вопреки всем глупостям культурологов, рассуждающих о неоднозначности и “недостоверных идентичностях”, она пребывает в неколебимой уверенности, что единственное решение поставленных ею проблем связано с развитием генной инженерии.
Конечно, вопреки утверждениям Валери Соланас, “Манифест ОПУМ” в том виде, каков он есть, отнюдь не “лучший текст в истории”; но нельзя не поражаться тому, насколько глубокие встречаются в нем догадки в области биологии. С одной стороны, последние эмбриогенетические исследования безоговорочно подтвердили вторичную и факультативную роль мужского пола в размножении животных. С другой, прогресс в технике клонирования позволяет надеяться на наступление эпохи более надежного размножения и одновременно создает возможность для новых отношений между людьми — отношений странных, основанных одновременно и на различии, и на идентичности (сегодня они существуют, например, между однояйцевыми близнецами). Наконец, в более длительной перспективе прямое вмешательство в генетический код должно позволить преодолеть некоторые ограничения, которые сегодня считаются неотъемлемой чертой удела человеческого (наиболее наглядные из них — это, естественно, старение и смерть).
Подобные перспективы вселяют ужас в приверженцев всех известных нам религий (сотворение жизни они считают исключительно божественной прерогативой), и это понятно; куда менее понятна, напротив, уклончивая позиция разного рода мыслителей, которые априори считают себя “прогрессивными”. Может, дело в ограниченности всей западной политической мысли, от Гоббса до Руссо, которая, будучи неспособна представить себе общество иначе, нежели как набор отдельных личностей, достигла своего апогея в классическом представлении о “правах человека” и о “демократии”? Или в смутной, инфантильной ностальгии по трагическому этапу, по “философии абсурда” и даже по случайности как регрессивному божеству?
Или в зависти нового типа, в упреждающей зависти к возможностям, открывающимся перед будущими поколениями? Как бы то ни было, Валери Соланас (существо неполное, страждущее, раздираемое противоречиями, одновременно влекущее и отталкивающее, как и все пророки) принадлежит к лагерю прогресса. Ее презрение к природе бесконечно, безгранично, абсолютно. Вот, к примеру, абзац, где она — великолепно — формулирует жизненный идеал хиппи: “Он хотел бы вернуться к Природе, к дикой жизни, поселиться в пещере с пушными зверями, себе подобными, вдали от города, где по крайней мере заметны какие-то зачаточные следы цивилизации, и жить на низшем видовом уровне, предаваясь простым, не требующим умственных усилий трудам: пасти свиней, трахаться, нанизывать жемчужины”.
Таким образом, несмотря на некоторые нацистские заскоки, Валери Соланас в самый разгар 70-х годов, среди беспрецедентного идеологического бардака, практически единственной в ее поколении хватило мужества держаться прогрессивной, разумной позиции, отвечающей самым благородным чаяниям западного мира: установить абсолютный технологический контроль человека над природой, в том числе над своей биологической природой, и над ее эволюцией. И сделать это, имея в виду долгосрочную цель: выстроить новую природу на основаниях, отвечающих нравственному закону, то есть утвердить всеобщее царство любви как его высшей точки.
Пустые небеса[29]
Пазолини, задумав снимать фильм о житии апостола Павла, намеревался перенести его миссию в самое средоточие современного мира; представить себе, какую форму она могла бы принять в нашей торговой повседневности — при этом оставив текст посланий апостола без изменений. Однако Рим он собирался заменить на Нью — Йорк по одной простой причине: подобно Риму на заре христианства, Нью-Йорк сегодня — это центр мира, вместилище всех царящих в нем сил (аналогичным образом он предлагал заменить Афины на Париж, а Антиохию — на Лондон). Приехав в Нью — Йорк, я уже через несколько часов обнаружил, что, вероятно, есть и другая, менее очевидная причина, которую мог бы раскрыть только этот фильм. В Нью-Йорке, как и в Риме, несмотря на внешнюю динамику ощущается странная атмосфера угасания, смерти, конца света. Я прекрасно знаю, что “город напоминает кипящий котел, доменную печь, здесь вращается бешеная энергия” и т. д. и т. п. Тем не менее, как ни странно, мне скорее хотелось сидеть безвылазно в гостиничном номере; смотреть, как чайки летают среди заброшенных портовых кранов на берегу Гудзона. Тихий дождик сеялся на кирпичные пакгаузы; это очень успокаивало. Я очень ясно представлял себе, как сижу запершись в огромном номере, небо за окном грязно-коричневого цвета, а на горизонте угасают красноватые сполохи последних сражений. Со временем я смогу выйти, ходить по пустынным улицам, куда уже никогда не вернется жизнь. В Нью-Йорке здания разной высоты и разного стиля стоят бок о бок в непредсказуемом беспорядке; это немножко похоже на переплетение растений разных видов в непроходимом подлеске. Иногда кажется, что идешь не по улице, а по глубокому каньону, между скалистых крепостных стен. Иногда кажется, что движешься внутри живого организма, подчиненного закону естественного роста, — почти как в Праге (но не такого древнего; нью-йоркские небоскребы все-таки возведены не больше века назад). (И наоборот, дурацкие колонны Бюрена в парках Пале-Рояля так и будут всегда противопоставлять себя архитектурному окружению; в них отчетливо ощущается присутствие человеческой воли, намерения, причем намерения довольно лукавого, вроде гэга.) Возможно, человеческая архитектура достигает высшей красоты лишь тогда, когда своим бурлением и наслоением начинает напоминать явление природы; точно так же, как природа достигает высшей красоты лишь тогда, когда своей игрой света и абстрактностью форм внушает неясное, летучее подозрение в ее намеренном происхождении.
Мне снится сон[30]
Скажу сразу, чтобы не было недоразумений: жизнь, как она есть, — штука неплохая. Мы воплотили в ней некоторые наши сны. Мы можем летать, можем дышать под водой, мы выдумали кухонный комбайн и компьютер. Проблемы начинаются с человеческим телом. Например, мозг — чрезвычайно богатый орган, а люди умирают, не использовав до конца его возможности. Не потому, что голова слишком большая, а потому, что жизнь слишком маленькая. Мы быстро стареем и исчезаем с лица земли. Почему? Мы не знаем, а если б и знали, все равно были бы недовольны. Все очень просто: все люди хотят жить и тем не менее должны умереть. Поэтому первое желание — быть бессмертным. Конечно, никто не знает, на что похожа вечная жизнь, но мы можем напрячь воображение.
В моем сне о вечной жизни ничего особенного не происходит. Быть может, я живу в пещере. Да, я люблю пещеры, там темно, прохладно, в их стенах я чувствую себя в безопасности. Я часто спрашиваю себя, далеко ли мы продвинулись вперед с тех пор, как жили в пещерах. Когда я сижу внутри, спокойно слушая шум моря, в окружении дружелюбных существ, я думаю о том, что бы мне хотелось убрать из этого мира: блох, хищных птиц, деньги и работу. Наверно, еще порнофильмы и веру в Бога. Время от времени я решаю бросить курить. Вместо сигарет я предпочитаю принимать пилюли, они оказывают такое же стимулирующее действие на мозг. К тому же у меня большой выбор синтетических наркотиков, и каждый из них развивает мою способность чувствовать. Благодаря им я способен слышать ультразвуки, видеть ультрафиолетовые лучи — и другие вещи, которые выше моего понимания.
Во сне я немного другой, и не только моложе: мое тело изменилось, у меня четыре лапы, и это хорошо, я гораздо устойчивее, я прочно стою на земле. Даже в сильном подпитии я не боюсь упасть. В отличие от первобытного человека, кенгуру и пингвина, меня трудно выбить из равновесия. К тому же мне теперь не нужна одежда. Одежда, какой бы формы они ни была, вещь непрактичная, она мешает коже дышать и потеть. Нагишом я чувствую себя свободнее. А самое важное, я не самец и не самка, я гермафродит. Прежде — поскольку я не гомосексуалист — я мог лишь воображать, что ощущаешь при пенетрации. Теперь я имею об этом некоторое представление; это очень существенный опыт, я его ждал с давних пор. Мне больше нечего желать. Кто-то из читателей спросит себя, не прискучит ли в конце концов, по прошествии тысяч лет (и даже сотен тысяч лет, как в моем случае), жить даже в самой красивой пещере и с самыми очаровательными существами. Нет, не думаю, по крайней мере мне не прискучит. Мне не кажется скучным бесконечно повторять то, что мне нравится делать, скажу даже больше: настоящее счастье — в повторении, в постоянном возобновлении одного и того же, как в танце и в музыке, например в “Автобане” группы “Крафверк”. Так же и в сексе: когда все кончается, мы хотим начать сначала.
Счастье — это привычка, привычка, которую можно обрести в химических препаратах и в человеческих существах, когда мои пилюли и мои друзья при мне, мне нечего больше желать. Скука — это противоположность счастью, это быт, это новые продукты и новая информация, даже в привлекательной обертке. В своей пещере я нашел счастье, мне больше нечего желать, я купаюсь когда захочу. Снаружи тепло и светло, мне смутно вспоминается Германия, где люди жили скученно на небольших пространствах, и я счастлив, что раю не грозит перенаселение. Люди вольны сами выбрать себе могилу, они катят по жизни, сколько захотят.
Я открываю глаза и убеждаюсь, что мой сон довольно легковесен. Закуриваю очередную сигарету, пожевываю фильтр; на самом деле гармонии с миром нет. В минуты счастья, например любуясь красивым пейзажем, я моментально чувствую, что не являюсь его частью, мир видится мне чем — то странным, я не знаю ни одного уголка, где бы мог чувствовать себя дома. Сам Бог не может разрешить эту проблему, к тому же я не верю в Бога, он не является необходимым ни здесь, ни в раю. Я верю в любовь, это единственная стоящая штука, какая у нас есть, она лучше, чем фитнес, лучше, чем спорт. Быть может, однажды мой сон о вечности сбудется, и я тогда буду существом с лапами, крыльями или яйцами, возможно, на каком-нибудь другом месте. В отличие от большинства людей я не боюсь смерти, старея, я возвращаюсь в давно позабытую молодость, а время от времени, когда дела плохи, удобно зарываюсь в работу. Мои книги уже гарантируют мне какую-то форму бессмертия.
Нил Янг[31]
За свою тридцатилетнюю карьеру, почти целиком состоящую из блужданий, Нилу Янгу время от времени случайно удавалось совпадать с определенной модой. В середине 70-х годов альбом “Harvest” был у всех хипповых девиц, и в 80-е он дорого заплатил за этот успех — покуда поколение гранжа не обнаружило, что он выпускал еще и диски мучительно-яростные, со странными жалобами электрогитары; на несколько лет Нил Янг снова вошел в моду: ему поклонялись как предтече. Странно, что, несмотря на все это, он ни разу не сбился с пути; хотя, сказать по правде, чтобы сбиться, надо этот путь иметь. Смысл всякого стиля, пишет Ницше в конце “Ессе homo”, состоит в том, чтобы “поделиться состоянием, внутренней напряженностью пафоса путем знаков, включая сюда и темп этих знаков… и, ввиду того что множество внутренних состояний является моей исключительностью, у меня есть много возможностей для стиля — самое многообразное искусство стиля вообще, каким когда-либо наделен был человек”.[32] Путь Нила Янга в музыке — бессвязный, неуправляемый, но всегда ошеломительно искренний, можно сравнить с биографией больного маниакально-депрессивным синдромом; или с путем атмосферного фронта, пересекающего область гор и долин. Право, складывается впечатление, что он хватает первый попавшийся музыкальный инструмент и попросту, напрямую, выражает эмоции, возникающие в его душе. Чаще всего ему подворачивается гитара; но великих гитаристов и без него хватает. Зато очень мало музыкантов, которые настолько непосредственно присутствуют, живут в каждой своей ноте, в каждой вибрации голоса. “Soldier”, неуклюже сыгранная на рояле двумя пальцами, — одна из самых загадочных и красивых его песен; в “Little wing” губная гармоника звучит яростной печалью, дышит извечным отчаянием; a “Twilight”, одна из самых пронзительных его импровизаций, возникает в абсолютно неподходящем джазовом контексте. Совершенство у Нила Янга неустойчиво и хрупко, оно рождается из хаоса. Ни один его альбом нельзя назвать абсолютной удачей; но, насколько я знаю, на каждом из них есть хотя бы одна великолепная песня.
Лучшие его диски — безусловно, те, где печаль, одиночество, мечта сменяются мирным счастьем. Там можно представить себе его идеального слушателя, его незримого двойника. Песни Нила Янга написаны для тех, кто часто чувствует себя несчастным, одиноким, кто стоит на грани отчаяния, — и кто тем не менее продолжает верить, что счастье возможно.
Для тех, кто не всегда счастлив в любви, но всегда влюбляется снова. Кому знакомо искушение цинизмом, но кто неспособен поддаться ему надолго. Кто может плакать от ярости из-за смерти друга (“Tonight’s the night”); кто по-настоящему спрашивает себя, может ли Иисус Христос спасти их.
Кто продолжает всем сердцем верить, что можно жить счастливо на Земле. Нужно быть великим художником, чтобы иметь мужество быть сентиментальным, едва ли не впадая в слащавость. Но так хорошо иногда слышать, как мужчина смиренно, тихим печальным голосом, жалуется, что его бросила женщина; а потому “A man needs a maid, What did you do to my life” будут слушать всегда. А еще так хорошо с головой погрузиться в те искрящиеся, волшебные, настоящие гимны любви, какие Нил Янг создавал на протяжении многих лет в соавторстве с Джеком Ницше: “Such a woman”, а главное, невероятный “We never danced”. Но Нил Янг, подобно Шуберту, потрясает, быть может, еще сильнее, когда пытается описать счастье. “Sugar mountain” и “I am a child” настолько чисты и простодушны, что сжимается сердце. Такое счастье невозможно, не здесь, не у нас. Для этого мы должны были бы уметь сохранять детство. Я не знаю не только ни одной песни, но и вообще ни одного художественного произведения, где была бы, как в “My boy”, сделана попытка выразить неясное, щемящее чувство, какое испытывает взрослый человек, видя, что его сын уже покидает берега детства. У тебя будет так мало времени, сынок; у нас с тобой будет так мало времени побыть вместе. “Are you better take your time / My boy /I thought we had just begun”.
Некоторые тексты Нила Янга заставляют вспомнить отрочество, такая в них неистовая сила любовного чувства; но это общая черта рока, и, по-моему, самые красивые и оригинальные его песни — те, в которых ему удалось снова стать ребенком. Иногда этот взрослый мужчина видит какие-то странные вещи в небе, в волнении воды на поверхности пруда. “After the gold rush” переносит нас прямо в сновидение; “Неге we are in the years”, такая будничная и такая волнующая, напоминает искристые вечера в романах Клиффорда Саймака.
Как становятся Нилом Янгом? Он рассказывает об этом в автобиографической “Don’t be denied”: детство в недружной семье, колотушки в школе, встреча со Стивеном Стиллсом, желание стать звездой. И через всю жизнь — одно стремление: не сдаваться. Не дай миру разрушить тебя. “Oh, friend of mine! Don’t be denied”. Для кого он поет? Для себя, для целого мира? Признаюсь, у меня часто было ощущение, что он поет для меня. Когда я слушаю огромные, бессвязные, невероятные импровизации, которые разбросаны по его творчеству (“Last trip to Tulsa”, “Twilight”, “Inca queen”, “Cortez the killer” и т. д.), мне на ум всегда приходит одна и та же картина: человек идет вперед по неровной, каменистой дороге. Он часто падает, его колени разбиты в кровь; но он встает и продолжает идти вперед. (Почти та же картина, что в “Зимнем пути” Шуберта; только у Шуберта стоят морозы, дорога заснежена и человек чувствует ужасное искушение уютно устроиться в ласковом тепле снега и смерти.) Электрогитара пересекает странные, пугающие или величавые пейзажи; иногда все вокруг спокойно и мир пульсирует в ритме теплого, размашистого соло; иногда же мир охвачен яростью и ужасом. Но голос, упрямый и хрупкий, не умолкает. Голос ведет нас за собой. Он идет из далеких, очень далеких глубин души; он не отступится. Голос не очень мужественный; в нем есть что-то женственное, старческое или детское. Это голос живого человека, который в придачу хочет сказать нам одну важную и наивную вещь: мир может быть каким угодно, это его дело; но это отнюдь не повод для нас отказаться от стремления сделать его лучше. Такова простая идея “Lotta love”: “It’s gonna take a lotta love / To change the way things are.” Таков смысл “Heart of gold”, его в буквальном смысле бессмертной песни: “I’m still searching for a heart of gold / And I’m getting old”. Сегодня прошло уже почти двадцать лет с тех пор, как я начал слушать Нила Янга; он часто сопровождал меня в страданиях и сомнениях.
И сейчас я знаю, что времени нас не одолеть.
Интервью с Кристианом Отье[33]
“Опиньон индепандант”: Как вы отнеслись к полемике вокруг ваших высказываний об исламе'?
Мишель Уэльбек: На самом деле такого я не ожидал. Я знаю, это может показаться странным, но, когда я говорил, что ислам — все-таки самая идиотская религия, для меня это было самоочевидно. Я не думал, что кто-то станет это критиковать и даже оспаривать. Большинство дельных авторов прошлого, от Спинозы до Леви-Стросса, пришли к тому же выводу; поэтому я думал, что можно ограничиться кратким изложением. Я не учел того, какую силу набрало почтение к идентичностям. Почтение к любой культуре, в том числе самой аморальной или глупой, стало обязательным.
В последние годы даже католическая церковь стала себя вести словно какое-нибудь меньшинство, требующее уважения к себе, хотя она по-прежнему куда менее злобная, чем ислам. Самое занятное, что никто не предвидел такой реакции. Пьер Ассулин[34] меня точно ненавидит и очень старался раздуть это дело. В общем, я воспринял все это с удивлением и некоторым ужасом.
Нет ли у вас ощущения, что, несмотря на видимость свободы, мы живем в пуританскую эпоху?
Есть; у меня такое впечатление, что несколько веков назад и даже еще в начале XX века люди более свободно говорили о религии. Но в какой-то момент все отвердело и закоснело. В моем случае, по-моему, не полемика обеспечила успех, а успех обусловил полемику. Если бы книга хуже продавалась, у меня было бы больше шансов, что все пройдет незамеченным; да и Ассулин в своем издании признает, довольно-таки подло, что так озлился из-за моего вполне предсказуемого успеха.
Что вы почувствовали, когда Гийом Дюран на съемочной площадке “Кампуса”[35] спросил, почему вы носите рубашку “виши”, не в честь ли Петена?
Я очень люблю Гийома Дюрана, но мне было как-то не смешно. Это он так пытался шутить, не самым удачным образом. Думаю, просто выпуск новостей вывел его из себя.
Вы должны были понимать, что “Платформа” и помимо отрывков об исламе и ваших заявлений по этому поводу может вызвать весьма бурную реакцию. Эта книга — злой шарж на западный мир. И над журналистами вы издеваетесь, рассказываете всякие истории, называете имена…
Смеяться над прессой всегда не слишком ловко, но вообще самая бурная реакция последовала не от журналистов, они — то привыкли к критике. Я больше всего боялся брендов. В частности, “Eldorador”, группы “Accor/Aurore”…[36] От “Гида путешественника” я на самом деле ничего такого не ждал, но и не могу сказать, что сильно удивился. По сути, я не ожидал ничего особенного. Мне казалось, что эта книга менее опасна, чем “Элементарные частицы”. По-моему, с момента выхода “Частиц” все стало еще хуже. За эти три года нас окончательно обязали быть нормальными. Мы все ошиблись: и я, и издатель, и пресс-атташе… никто не предвидел, с чем будут проблемы. Честное слово, никто и не думал про ислам, это не главная тема книги, а просто один из элементов фона.
Не прошло и нескольких дней после полемики, как этот “элемент фона” с грохотом вломился в срочные выпуски новостей…
Данные о террористах меня удивили. Я слышал, что радикальные исламисты иногда получали довольно продвинутое образование, но мне как-то не верилось. На самом деле террористы скорее напоминают членов какой-нибудь секты, чем обычных террористов. И это страшно. В некоторых газетах наконец заговорили о том, что мне давно приходило в голову, то есть что исламский фундаментализм — вовсе не обязательно какое-то отклонение от ислама Корана. Это просто одно из толкований Корана, имеющее полное право на существование. И что мне больше всего нравится, подавляющее большинство журналистов продолжают твердить, что основная идея ислама — это идея толерантности, запрет на убийства, глубокое уважение к иноверцам… У меня вообще есть одна теория по поводу Истории: чтобы объяснить недавние исторические события, незачем ссылаться на далекие эпохи. Достаточно отойти на одно-два поколения назад, и картина в целом будет ясна. Меня всегда раздражает, когда ссылаются на сокровища средневековой Андалузии или еще не знаю чего, ведь к нынешней практике это не имеет никакого отношения.
Один из героев “Платформы” думает, что в долгосрочной перспективе ислам обречен, что он будет поглощен глобальным либерализмом и что широкие массы мечтают только о западной модели развития…
Да, думаю, так и будет, но кому-то покажется, что эта долгосрочная перспектива уж чересчур долгосрочная. По-моему, массы действительно мечтают о западной модели. В данном случае мне это кажется наименьшим из зол. Происходит вполне наглядная борьба между двумя “злами”, и одно из них хуже, чем другое.
Говоря об упадке сексуальности на Западе, Мишель винит в нем нарциссизм, утрату вкуса к взаимному общению и к дару, а также невозможность ощутить секс как нечто естественное. Вы считаете, что проблема действительно в этой нарциссической культуре?
Да, главное именно в ней. Мы слишком много времени тратим на самооценку и на оценку других людей. Чтобы заниматься любовью, надо все-таки забыть о собственной ценности. Как только сексуальная привлекательность становится самоцелью, секс больше невозможен. Угасание эмоциональности также вызывает угасание секса. Популярность садомазохизма — не мода, это нечто большее. Конечно, тут есть стремление раскрутить новый имидж, но на более глубоком уровне это соответствует нашему представлению о человеческих отношениях. В садомазохизме очень мало собственно плотского, там прибегают ко всяким аксессуарам и нет контакта на уровне кожи. По-моему, в нашем обществе существует реальное отвращение к плоти, и объяснить его довольно трудно. В какой-то момент Мишель говорит, что угасание сексуальности на Западе, быть может, имеет психологические причины, но что в первую очередь речь идет о социологическом явлении. Мне очень нравится мысль, что бессмысленно объяснять социологические факты с точки зрения психологии, это очень позитивистская точка зрения, В самом деле, если я поставлю этот вопрос с психологической точки зрения, я могу найти всякие объяснения вроде порнофильмов, после которых реальность выглядит несколько бесцветной… и что порнография вредит реальной сексуальности… и что изображение убивает реальность… Это все правдоподобно, но меня поражает главным образом именно социологический аспект. Человеческие отношения сократились везде и во всем.
Но сексуальность Мишеля и Валери — естественная, инстинктивная.
Для меня сексуальность невинна. В ней нет никакого нарушения; в этом я недалеко ушел от Катрин Милле; однако общая направленность порнографии в современном искусстве гораздо ближе к “трэшу”. По-моему, воображение убивает сексуальность и само по себе не слишком интересно. С литературной точки зрения интереснее и труднее всего выразить ощущения. Язык не слишком приспособлен для передачи ощущений, хоть приятных, хоть мучительных. У Огюста Конта есть очень верное замечание о том, как трудно больному описать врачу свои симптомы. Он может показать место, где болит, определить боль как сильную или не очень, но сказать что-то точнее очень трудно. Та же проблема и с удовольствием. Особенно трудно, если не хочется прибегать к метафоре. В “Платформе” Мишель и Валери любят друг друга, и чем больше любят, тем больше сексуальности в их отношениях. Значит, речь идет о смеси ощущений и эмоций. Я пытаюсь приблизиться к реальности. А это не самое легкое дело.
Часто забывают, что “Платформа” — это роман, быть может, в первую очередь о любви…
Это точно, об этом все забыли. А жаль, потому что я в первый раз создаю такой полноценный женский персонаж. К тому же шокирующий аспект этой книги — любовь в западном мире — почти нигде не затрагивался. Это слишком опасно, слишком сложно… Наконец, “Эль” все-таки упомянул, что любовь драматична, и это чистая правда, но журнал заявил, что в это не верит.
История любви вот-вот завершится хеппи-эндом…
Я бы предпочел написать полноценную идиллию — от начала до конца. Здесь я хотел придумать финал с одиноким героем в Паттайе. Меня там поразил один факт: то, что на уровне проституции возможно абсолютно все, приводит к ослаблению желания. Если считать, что желание вещь дурная, а я так считаю, то это выход. Чтобы уничтожить желание, его надо удовлетворить, так проще всего. С моей стороны не такая уж максималистская позиция.
Мишель больше не верит ни в коллективные планы, ни в политику. Для него и для Валери выход — нечто вроде бегства в индивидуализм…
В этой истории главная-Валери. Именно она пытается отвоевать у общества деньги, необходимые для их совместной жизни. Себя она называет маленькой хищницей с ограниченными потребностями; я очень ее люблю. Я, как Достоевский, думаю, что от носителя любой благородной и всеобщей идеи надо потребовать, чтобы он составил счастье одного отдельно взятого человека. Все мои персонажи — политические нигилисты, это верно. Я вынужден признать, что общество, в котором я живу, движется к целям, которые мне совершенно чужды. Запад непригоден для жизни человека. По сути, на Западе можно по-настоящему делать только одно — зарабатывать деньги. То есть позиция Валери довольно часто встречается среди молодежи: быстро заработать денег, а потом уехать жить в другое место. Вполне разумно.
Мишель говорит, что у его предков была цель, что они верили в прогресс, в цивилизацию и были приверженцами идеи связи поколений. Ваши персонажи — прекрасное воплощение отказа от всего этого…
У нас делается все, чтобы на Западе ничего не менялось. Например, Берлускони роняет одно-единственное замечание, и все тут же заявляют, что располагать цивилизации на шкале ценностей — идиотизм… Нет, не идиотизм. Нас хотят отучить от мысли, что западная цивилизация в некоторых отношениях оказалась лучшей; и цивилизация эта тут же растворяется в цинизме. Долгое время существовала идея, что благо будущих поколений — штука важная. Безусловно, в наши дни люди строят куда меньше планов. Жизнь все больше и больше сводится к бытовым ценностям. Эвтаназия — довольно характерное явление для того представления о жизни, согласно которому в ней нет ничего, кроме корысти и удовольствия.
В “ Платформе” есть совершенно дикие сцены городского насилия. Вы пишете, что, когда утрачена возможность отождествить себя с другим, остается только один способ жить — страдание и жестокость…
Думаю, что это происходит по большей части из-за притягательности потребления. И еще, естественно, из-за левой культуры, которая в значительной мере старалась возвысить Зло, придать ему ауру, в частности, через образ “плохого парня”, например, Жене, причисленного Сартром к лику святых. Единственным мотивом у Сартра могла быть лишь пропаганда имморализма, он, естественно, в состоянии был понять, что Жене — писатель посредственный. Все это способствовало общему обесценению понятия морали.
Но в Соединенных Штатах ситуация еще хуже, а там левацкая культура все-таки распространена куда меньше. Под этим всем есть что-то более странное: людям хочется драться, им хочется насилия. У меня такое впечатление, что компромиссов становится все меньше, даже когда противоречия совсем незначительные. Например, я знаю, что мои враги так и останутся всегда моими врагами. Гедонистический индивидуализм в чистом виде порождает закон джунглей. Но в джунглях животные стараются свести собственный риск к минимуму. У современного же западного человека присутствует к тому же реальная тяга к насилию. Недавняя подборка в журнале “Текникарт” “Жизнь как Бойцовский клуб” с этой точки зрения довольно убедительна. Возможно, насилие связано с тем, что людям трудно испытывать ощущения сексуального порядка. Они утратили вкус к обычным приятным вещам. А потом, визуальные СМИ удачно поддерживают эту тенденцию.
“ Платформа” несет очень сильный комический заряд, в частности, в первой трети романа. Вы хотели захватить читателя целиком и не отпускать'?
Да, наверное. Мне нравились персонажи Робера и Жозианы. Я люблю Робера. Я очень люблю персонажей, которые всех достают. Такие есть в любой группе. В забавных фрагментах — кроме “Гида путешественника” — мне хотелось отплатить американским бестселлерам. И вообще мне хотелось написать книгу, которую можно прочесть в один присест, без перерывов. Я много чем пожертвовал ради гибкости повествования и его быстроты. Еще я вернулся к более классическому употреблению времен — на основе испытанных имперфекта и простого прошедшего: это делает книгу более доходчивой и придает ей более классический вид.
Зачем на заднем плане появляются такие фигуры, как Ширак, Жоспен, Жером Жаффре или Жюльен Лenep?
Я считаю, что когда читаешь романы прошлых времен, одно из удовольствий состоит в том, что перед тобой оживает эпоха, даже в самых незначительных ее аспектах. Так что я позволяю себе это и в своих собственных книгах. А потом, в сущности, все мы в своей жизни так или иначе думаем о Шираке. Нельзя о нем не думать. Всякий, кто живет во Франции, знает Ширака. По той же причине я упоминаю реальные бренды. У романа должно быть свое место во времени. Это отвечает логике романа. Он нуждается в настоящем времени.
Наверное, довольно удачным описанием “Платформы”, как персонажа Мишеля, так и Запада в целом, может служить одна фраза: “Здесь больше нет сердца”.
Не думаю, что Запад по-настоящему хочет жить. Это чувство присутствовало уже в первой сцене “Расширения пространства борьбы”. Способности людей к эмоциональной ангажированности ограниченны. Никто не начинает жизнь заново. Разве что американцы в это верят.
“И меня забудут. Очень быстро”. Это последние слова Мишеля. Вы думаете, что вас очень быстро забудут?
На самом деле я писал весь финал в сильнейшем приступе мазохизма. Ну, может, и не думаю. Но я был очень доволен, мне казалось, это моя последняя книга, что-то типа завещания. Тщеславие у меня не так уж сильно развито. Меня забудут, не обязательно очень быстро, но все равно забудут.
Не говоря уж о недавней полемике, вы вообще вызываете у читателей весьма страстную реакцию. Я присутствовал при нескольких таких сценах, и у меня сложилось впечатление, что у некоторых иногда возникает желание сойтись с вами в рукопашную… Чем вы это объясняете?
Не знаю… может, тем, что я внушаю беспокойство. В конечном счете всем бы хотелось, чтобы я говорил всякие утешительные слова вроде: “Это все была шутка. На самом деле все хорошо. Все хорошо, а будет еще лучше”. Думаю, что от меня требуют примерно такого: “Все будет в порядке. Нет никакого конфликта цивилизаций. Жак Ширак сидит на своем месте. Это только кажется, что все плохо, а на самом деле все замечательно…”. Чего-то не хватает в моих романах, и меня хотят заставить произнести это в реальности; а не хватает в них финального ободряющего месседжа. В этом отражается определенная форма коммуникации вообще, типа: “ситуация серьезная, но уже приняты необходимые меры”, “конечно, она умерла, но я уже делаю все, что полагается при трауре”. Чисто негативный способ выражения сейчас уже неприемлем.
В одной из передач на “Каналь+”, примерно год назад, вы говорили, что боитесь, что в один прекрасный день вас линчуют. Сегодня вы по-прежнему боитесь, что вам не простят ни ваших текстов, ни ваших заявлений?
Да, во Франции проблем будет все больше и больше. Не думаю, что все может успокоиться. А значит, да, я немного боюсь.
Но ведь можно писать в стол.
Среди “побочных последствий” недавних споров было и то, что ваше имя исчезло из списков номинантов на Гонкуровскую премию, которую, no мнению многих, должны были получить вы. Вас это расстроило?
Нет, нисколько. Важно было одно: чтобы меня до конца поддерживал Нурисье.[37] Что он и делал. На самом деле меня больше задело, что я выпал из списка кандидатов на премию Французской Академии. Я рассчитывал на большую поддержку академиков. Что до Гонкура, то я прекрасно знал, что по сути там за меня был один Нурисье. Так что я в нее и не верил. Но что мне причиняло боль, это прежде всего реакция разных людей, индивидуальная реакция. Некоторые слегка выводили меня из себя. И наоборот, Ален Финкелькраут меня пылко защищал. Самое страшное, это до чего же никому ничего нельзя сказать… Ницше, Шопенгауэр и Спиноза сегодня были бы недопустимы. Политкорректность, вернее, то, во что она сегодня превратилась, делает неприемлемой чуть ли не всю западную философию. Становится невозможно ни о чем мыслить, и чем дальше, тем больше. Это ужасно.
А может, просто складывается чистое, спокойное общество, не приемлющее негативизма, о котором вы говорите, и стремящееся искоренить Зло?
Я вполне допускаю мысль, что рождается человечество, свободное от дурных мыслей. Я могу спорить о том, насколько этот проект глобален, но проблема в том, что человечество рождается с дурными мыслями. Возьмем простой пример: я очень хочу родиться генетически модифицированным, таким, чтобы желание курить у меня исчезло начисто. Это вполне убедительный проект: чистое, гладкое человечество, не знающее дифференциации. Вот только его пытаются создать путем кастрации, принуждения, а так дело не пойдет. Не знаю, чем таким может быть человечество, но на сегодняшний день нам навязали переизбыток норм, но не дали взамен никакого реального удовлетворения. Ну буду я политкорректным, и что мне за это будет? Мне даже не обещают семидесяти двух девственниц. Мне обещают разве что доставать меня и дальше и позволить покупать рубашки поло от Ральфа Лорена… Вот потому я и думаю, что единственная суть проекта — в стремлении исчезнуть. На самом деле мне глубоко плевать на будущее Запада; но может стать трудно бороться против самоцензуры.
Надо прилагать все больше и больше сил. Это просто бесит.
Каковы ваши планы?
Я готовлю книжку в издательстве “Либрио”: “Лансароте и другие тексты”. Еще мы с Филиппом Арелем собираемся снимать фильм по “Элементарным частицам”. Но пока еще не все улажено, нет продюсера.
Утешение технологией[38]
Я себя не люблю. Я питаю к себе не самую большую симпатию и еще меньше уважения; к тому же я не слишком себе интересен. Свои основные характеристики я знаю уже давно, и они мне в конце концов надоели. Подростком и юношей я говорил о себе, думал о себе, я был словно переполнен собственным “я”; теперь все иначе. Я исчез из своих мыслей и от одной перспективы рассказывать что-то о себе впадаю в уныние, близкое к каталепсии. Если деваться некуда, я лгу.
И тем не менее, как ни парадоксально, я ни разу не пожалел о том, что воспроизвел себя в потомстве. Можно даже сказать, что я люблю сына, причем начинаю любить еще сильнее всякий раз, как узнаю в нем следы собственных недостатков. Я вижу, как со временем они проявляются, как действует безжалостный детерминизм, вижу и радуюсь. Я самым бесстыдным образом радуюсь тому, как повторяются и тем самым увековечиваются характеристики личности, в которых нет ничего особо почтенного; которые зачастую даже довольно-таки презренны; и единственная заслуга которых на самом деле состоит в том, что они мои. Впрочем, даже и не то чтобы исключительно мои; я отлично понимаю, что некоторые скопированы без всяких изменений с личности моего отца, законченного мудака; но странное дело — это нисколько не умаляет мою радость. Эта радость есть нечто большее, чем просто эгоизм; она глубже, она бесспорнее. Это как объем есть нечто большее, чем его проекция на плоскости, а живое тело — чем его тень.
И наоборот, огорчает меня в моем сыне то, что в нем обнаруживаются (влияние матери? разница в возрасте? чистая индивидуальность?) черты автономной личности, в которой я себя никоим образом не узнаю и которая мне чужда. Вместо того чтобы удивляться и восхищаться, я сознаю, что оставлю по себе лишь неполный, ослабленный образ самого себя; на несколько секунд я начинаю куда отчетливее чувствовать запах смерти. Да, я могу подтвердить: смерть воняет.
Западная философия отнюдь не поощряет изъявления подобных чувств; подобные чувства не оставляют места прогрессу, свободе, индивидуальности, становлению; их цель — не что иное, как вечное, дурацкое повторение одного и того же. Больше того, в них нет ничего оригинального; их разделяет едва ли не все человечество и даже большая часть животного мира; они — не что иное, как вечно живая память сокрушительного биологического инстинкта. Западная философия — это долгосрочный механизм жестокой и терпеливой дрессуры, задачей которой является убедить нас в нескольких ложных идеях. Первая — что мы должны уважать другого за то, что он отличается от нас; вторая — что мы можем что-то выиграть у смерти.
Сегодня благодаря западным технологиям весь этот глянец условностей трескается и быстро осыпается. Само собой, я клонирую себя при первой возможности; само собой, все и каждый будут клонировать себя при первой возможности. Я отправлюсь на Багамы, в Новую Зеландию или на Каймановы острова; я заплачу сколько нужно (ни моральные, ни финансовые императивы никогда не могли перевесить императивы размножения). У меня, возможно, будет два или три клона, как бывает двое или трое детей; я буду соблюдать подходящий интервал между их рождениями (не слишком маленький и не слишком большой); сам я уже взрослый, зрелый мужчина и буду вести себя как ответственный родитель. Я обеспечу своим клонам хорошее образование; а потом я умру. Умру без удовольствия, потому что мне не хочется умирать. Тем не менее, пока не доказано обратное, я обязан это сделать. Благодаря клонам я смогу достичь определенной формы жизни после смерти — не совсем полноценной, но все же лучше той, какую я бы получил благодаря детям. На сегодняшний день это максимум, что могут мне предложить западные технологии.
Сейчас, когда я пишу эти строки, у меня нет возможности предугадать, родятся ли мои клоны из живота женщины или нет. То, что профану казалось технически простым (обмен питательными веществами через плаценту — априори не такая великая тайна, как акт оплодотворения), оказалось труднее всего воспроизвести. В случае, если в развитии технологий будет достигнут соответствующий прогресс, мои будущие дети, мои клоны начальный период своего существования проведут в колбе; мне от этого немного грустно. Я люблю женскую киску, я счастлив находиться в женском животе, в эластичной податливости вагины. Я понимаю всю необходимость безопасности, все технические императивы; я понимаю причины, по которым мы постепенно перейдем к вынашиванию in vitro; я всего лишь позволяю себе выразить по этому поводу легкую ностальгию. Сохранят ли, переймут ли они вкус к киске, мои дорогие малыши, рожденные вдали от нее? Я надеюсь, надеюсь от всего сердца, ради них. В мире много радостей, но мало удовольствий — и так мало удовольствий, не причиняющих никакого вреда. Конец гуманистического отступления, скобки закрываются.
Если моим клонам суждено развиваться в колбе, то они родятся без пупка: это само собой разумеется. Не знаю, кто первым употребил в уничижительном смысле термин “литература, созерцающая свой пуп”; но знаю, что это пошлое клише мне никогда не нравилось. Какой интерес в литературе, если она намерена повествовать о человечестве, отметая любые личные соображения? Не подскажете? Люди куда более одинаковы, чем воображают в своем комичном самомнении; куда легче, чем они воображают, достичь всеобщего, говоря о самом себе. И вот вам второй парадокс: говорить о себе — занятие нудное и даже отвратительное; но писать о себе в литературе — единственно стоящее дело, настолько, что книги традиционно (и вполне справедливо) оценивают по способности автора вложить в них свою личность. Это, если угодно, гротеск, это безумное бесстыдство, но это так.
Я пишу эти строки, созерцая свой пуп — в буквальном смысле. Обычно я редко о нем думаю; тем лучше. Эта складка плоти несет в себе наглядный знак разреза, наспех завязанного узла; он — память о взмахе ножниц, который без лишних церемоний выбросил меня в мир и предоставил разбираться с ним самому. Вам, как и мне, никуда не деться от этого воспоминания; даже и в старости, в глубокой старости, вы сохраните посреди живота нетленный след этого разреза. Через эту плохо заткнутую дыру ваши самые скрытые от глаз органы могут в любой момент вырваться вон и сгнить в атмосфере. Вы в любой момент можете выпотрошить ваши внутренности на солнышке; и сдохнуть, как рыбина, которую приканчивают ударом сапога прямо в спинной хребет. Не вы первый, не вы самый известный. Помните, что сказал поэт?
Перед нами наг и убог Корчится мертвый Бог, Как снулая рыба треска Под сапогом рыбака.Скоро и с вами так будет, детишки, мелкие ничтожества. Вы станете как боги — и этого все равно будет мало. У ваших клонов не будет пупка, зато у них будет литература, созерцающая свой пуп. И вы тоже будете созерцать свой пуп; вы будете смертными. Ваш пупок покроется грязью, и на том все кончится. А в лицо вам накидают земли.
Небо, земля, солнце[39]
Успешному писателю положены некоторые предметы роскоши, которые общество предоставляет только выдающимся или богатым своим членам; но для мужчины самым сладким подарком славы служит то, что именуется англо-саксонским словом groupies. Речь о прелестных, чувственных девушках, которые хотят подарить вам свое тело для любви единственно потому, что вы написали несколько страниц, тронувших их сердца. Сегодня я уже не исключаю, что могу устать и от поклонниц, и от славы; это грустно, но вполне вероятно. Но даже в этом случае я не перестану писать.
Следует ли из этого, что писать стало для меня необходимостью? Высказывать эту мысль мне неприятно: по-моему, это китч, банальность, вульгарность; но реальность еще хуже. Наверно, говорю я себе, случались порой моменты, когда мне было достаточно жизни; этой самой жизни, полной и цельной. В норме живым людям должно быть достаточно жизни. Я не знаю, что такое случилось, наверно, какое-то разочарование, не помню; но я не считаю нормой, когда у кого-то есть потребность писать. И даже что у кого-то есть потребность читать. И тем не менее.
Я сейчас в Ирландии, и у меня вид на море. Это подвижный, не совсем надежный и все же материальный мир. Я ненавижу сельскую местность, она вас давит и гнетет своим присутствием; я ее боюсь. Сегодня я впервые живу в таком месте, откуда могу через окно смотреть на море; и спрашиваю себя, как я мог жить до сих пор.
Описывая мир, превращая в слова куски реальности, живой и неопровержимой, я их релятивизирую. Сделавшись письменным текстом, они окрашиваются некоей радужной красотой, связанной с их опциональным характером. Сельская местность не бывает опциональной; море иногда бывает.
Тумана недостаточно, в наши дни уже нет; он недостаточно материален — его можно сравнить с поэзией. Облаков, вероятно, было бы достаточно, если бы мы жили среди них. Тумана недостаточно; но нет ничего прекраснее в этом мире, чем туман, поднимающийся над морем.
Уйти из XX века[40]
Литература — вещь совершенно бесполезная. Если бы от нее была какая-нибудь польза, левацкая шваль, монопольно присваивавшая себе сферу интеллектуальных дебатов на протяжении всего XX века, не могла бы даже существовать. Век этот, к величайшему счастью, кончился; настал момент в последний раз (по крайней мере, надо надеяться) обратить внимание на зло, причиненное “левыми интеллектуалами”; для этого лучше всего, наверно, сослаться на “Бесов”, опубликованных в 1872 году: здесь их идеология уже изложена полно и верно, ее злодеяния и преступления четко и ясно предсказаны в сцене убийства Шатова. Но какое, спрашивается, влияние интуитивные прозрения Достоевского оказали на ход истории? Ровно никакого. Марксисты, экзистенциалисты, анархисты и леваки всех мастей процветали и разносили свою заразу по всему миру точно так же, как если бы Достоевский не написал ни строчки. Может, они по крайней мере привнесли какую-нибудь идею, какую-нибудь новую мысль по сравнению с предшественниками-романистами? Да ни единой. Ничтожный век, не придумавший совсем ничего. И при этом пафосный до невероятия. Как он любил важно задаваться самыми дурацкими вопросами, вроде: “Можно ли писать стихи после Освенцима?”,[41] и до последнего издыхания утыкаться в разные “непреодолимые пределы” (сначала в марксизм, потом в рынок); а ведь еще Конт задолго до Поппера уже указывал на то, что всякие “измы” не только глупы, но и по сути своей аморальны.
Принимая во внимание невероятную, постыдную посредственность “гуманитарных наук” XX века, с одной стороны, и успехи, которых достигли за тот же период точные науки и технологии, с другой, вполне естественно ожидать, что самой блестящей, самой изобретательной литературой этой эпохи будет научная фантастика; именно это мы и наблюдаем — с одной поправкой, которая требует пояснений. Во — первых, напомним, что писать стихи после Освенцима, равно как и до него, естественно, можно, и при тех же самых условиях; а теперь поставим другой, чуть более серьезный вопрос: а можно ли писать научную фантастику после Хиросимы? Если посмотреть на даты публикаций, то ответ, по всей видимости, будет: можно, но не так, как раньше; и притом, надо сказать, откровенно лучше, чем раньше. За несколько недель из нее испарился подспудный оптимизм, наверно, несовместимый с романной литературой. Судя по всему, Хиросима стала необходимым условием для того, чтобы научная фантастика поднялась до уровня настоящей литературы.
Долг авторов, которые пишут “литературу вообще”, - указать народонаселению на своих талантливых, но не слишком удачливых собратьев, которые имеют неосторожность работать в “жанровой литературе” и тем самым обречены на полное молчание критики. Лет десять назад я занялся Лавкрафтом; не так давно Эмманюель Каррер взял на себя Филипа К. Дика. Проблема в том, что, кроме них, есть и другие, много других, даже если ограничиться классиками (то есть теми, кто начал печататься незадолго до или сразу после Второй мировой войны и чье творчество более или менее завершено). За один только “Город” Клиффорд Саймак достоин навсегда остаться в истории литературы. Напомним: книга состоит из череды коротких сказок, где действуют псы и другие животные, а также роботы, мутанты и люди. Каждая сказка предваряется противоречивой аннотацией, где приводятся точки зрения филологов и историков из различных собачьих университетов; чаще всего их споры вращаются вокруг одного вопроса: существовал ли человек в действительности или же, как полагает большинство специалистов, это всего лишь мифологическое божество, придуманное первобытными псами, чтобы объяснить тайну своего происхождения? Интеллектуальное богатство книги Саймака (оригинальное название — “City”)[42] не исчерпывается захватывающими размышлениями на тему исторической значимости человеческого рода; в ней есть и рассуждения о городе, его роли в эволюции социальных отношений, попытка понять, закончена эта роль или нет. По мнению большинства псов, ни города, ни человека в реальности никогда не существовало; один из собачьих экспертов даже доказал такую теорему: существо с нервной системой, устроенной достаточно сложно, чтобы создать такую единицу, как город, было бы неспособно в нем жить.
В период своего расцвета научная фантастика могла делать следующие вещи: предлагать по-настоящему новый взгляд на человечество, на его обычаи, познания, ценности, на само его существование; она была в самом буквальном смысле слова философской литературой. Еще она была литературой глубоко поэтичной. В описаниях американских пейзажей и сельской жизни Саймак, хотя и с совершенно иными намерениями, почти сравнялся с Бучаном, который изображал шотландские ланды, чтобы придать космический размах своему противопоставлению цивилизации и варварства, Добра и Зла. Правда, в плане стиля научная фантастика, наоборот, редко достигает той степени изощренности и изящества, какой отличалась фантастическая литература (в частности, английская) начала века. Достигнув зрелости уже в конце 1950-х годов, она лишь совсем недавно стала подавать реальные признаки истощения — примерно так же, как фантастическая литература могла подавать признаки усталости непосредственно перед появлением Лавкрафта. Наверное, именно поэтому до сих пор никто из авторов не испытывал реальной потребности раздвинуть границы жанра — весьма, впрочем, зыбкие. Быть может, единственным исключением будет один странный, очень странный писатель — Р. А. Лафферти. Иногда возникает впечатление, что Лафферти пишет не столько научную, сколько философскую фантастику. только у него одного онтологическая мысль занимает более важное место, чем социологические, психологические или моральные проблемы. В романе “Мир как воля и цветная бумага” (в английском названии, “The World as Will and Wallpaper”, куда сильнее эффект аллитерации) рассказчик, стремясь исследовать вселенную до самых ее пределов, через какое-то время замечает повторы, оказывается в похожих ситуациях и в конечном счете осознает, что мир состоит из маленьких цельных единиц, каждая из которых рождена одним и тем же волевым актом и бесконечно повторяется. Тем самым мир одновременно и безграничен, и безнадежен; я знаю очень мало текстов подобной пронзительной силы. В “Автобиографии машины Ктистек” Лафферти идет еще дальше, изменяя обычные категории репрезентации; но, к сожалению, текст из-за этого становится почти нечитабельным.
Надо еще упомянуть Балларда, Диша, Корнблата, Спинрада, Старджона, Воннегута и многих других, которые иногда в одном романе и даже в одной новелле привнесли в литературу больше, чем все “новые романисты” вместе взятые и подавляющее большинство авторов детективов.
В научно-техническом плане двадцатый век стоит примерно на том же уровне, что и девятнадцатый. В плане же литературы и философской мысли, наоборот, наблюдается почти невероятный упадок, особенно после 1945 года; общий итог удручает: если вспомнить полнейшее научное невежество какого-нибудь Сартра или Бовуар, якобы вписавших свое имя в историю философии; если задуматься над тем почти невероятным фактом, что Мальро, пусть и очень недолго, могли считать “великим писателем”, то можно оценить, до какого отупения довело нас понятие политической ангажированности. Даже удивительно, что сегодня кто-то еще может воспринимать интеллектуала всерьез; удивительно, например, что какой-нибудь Бурдьё или Бодрийяр еще находят газеты, готовые печатать их вздор. На самом деле я готов утверждать, что в интеллектуальном плане от второй половины века не осталось бы вообще ничего, если бы не научная фантастика: если это и преувеличение, то очень небольшое. Этот факт ни в коем случае нельзя упускать из виду, когда мы соберемся писать историю литературы этого столетия, когда мы согласимся взглянуть на него как на прошлое, допустить, что наконец ушли от него. Я пишу эти строки в декабре 2001 года; надеюсь, этот момент уже близок.
Филипп Мюре в 2002 году[43]
Прогресс есть только развитие порядка
Огюст Конт2002 год запомнится долгожданным событием: мысль Филиппа Мюре наконец-то стала доступна довольно широкой аудитории. Не то чтобы эти толстые сероголубые тома с устрашающими названиями и в самом деле притягивали к себе восторженные толпы; но все-таки его стали цитировать, а иногда интервьюировать многие еженедельники с высокими тиражами; теперь, для того чтобы узнать мнение Филиппа Мюре по разным вопросам, не обязательно всякий раз вылезать из сети; это уже большой прогресс. Если уж придется говорить о современности (в чем я временами сильно сомневаюсь), то опираться на книги Филиппа Мюре будет куда приятнее и познавательнее, чем во времена, когда приходилось взваливать себе на плечи Бурдьё и Бодрийяра (согласен, эти примеры несколько карикатурны).
Рассмотрим Филиппа Мюре как автомат, в который закладывают факты (иногда реальные, чаще всего — почерпнутые из СМИ) и получают на выходе их интерпретацию. Интерпретация эта вытекает из единой связной теории — теории вхождения в силу мягкого террора, террора нового типа, сущность которого он блистательно обобщил в нескольких отточенных формулах (“гиперфестивность”, “страсть судиться”, а главное, толерантность, “которая перестала быть толерантной ко всему, кроме самой себя”). Теория эта отныне стала классикой и, на мой взгляд, должна иметься в культурном багаже всякого образованного человека.
Год 2002 запомнится также тем, что автомат Мюре в первый раз выдал несколько сбоев. Однако причина отнюдь не в его действии; можно даже сказать, что он никогда не функционировал столь блистательно. К примеру, великолепное описание двухнедельной акции протеста против Ле Пена, потешавшей всю Францию в апреле-мае 2002 года, — безусловно, один из лучших его текстов. Здесь в полной мере раскрылись все его достоинства: широта взглядов, историческое чутье, точность в деталях, а главное, поистине необыкновенный взгляд, позволяющий из всей массы деталей выбрать самую значимую, ту, что сразу раскрывает суть вещей (в данном случае это плакат “НЕТ плохим людям” в руках маленькой девочки). На самом деле моя мысль заключается в том, что пошатнулся не Филипп Мюре, а мир вокруг него, что этот мир начинает выдавать некие странные, неправильные явления, которые не то чтобы вовсе не поддаются Мюре-интерпретации, но по крайней мере Мюре-амбивалентны; что в общем и целом благое единомыслие и проистекающий из него мягкий террор начинают покрываться едва заметными трещинами.
Начнем со злополучного скандала вокруг “Ярко-розового”[44] Филипп Мюре (у которого, правда, “Фигаро-Магазин” брал интервью совсем уж “по горячим следам”) усмотрел в нем очередной повтор нудной пантомимы цензора и жертвы цензуры (которая в классическом варианте всегда кончается комическим и паническим бегством цензора). Впрочем, на сей раз факты, казалось, подтверждали его правоту; напомню, однако, что дело зависло и получило развязку лишь после вмешательства Николя Саркози, осознавшего, что ассоциации с “возрождением порядка и нравственности” могут сильно осложнить его президентскую карьеру. “Голубой ребенок” проиграл дело, но при таких обстоятельствах, которые позволяют ему предрекать скорую победу. Истина этого скандала состоит в том, что антипедофильский крестовый поход в упоении от собственных успехов перешел все и всяческие границы, даже уважение к презумпции невиновности, не говоря уж, естественно, о “свободе самовыражения писателя”. Звучали даже совсем уж бредовые аргументы, когда Жон-Горлена объявляли виновным вдвойне, поскольку он как автор романа не предоставил подлинного свидетельства о событиях, а значит, не заслуживает доверия. Я не преувеличиваю: такое говорили и писали люди, занимающие высокие посты в общественных организациях.
Но сторонники благого единомыслия оказываются здесь в весьма затруднительном положении. Ибо они, конечно, любят беспокойных и непокорных творцов, но любят и маленьких детей, причем не менее пылкой и искренней любовью. Иначе говоря, на наших глазах в стане благого единомыслия (которое я в дальнейшем буду условно называть “левым”) рождается и развивается противоречие.
Мое собственное дело на первый взгляд выглядит куда менее увлекательным; ибо я западный человек и принадлежу к мужскому полу, а стало быть, “средний француз”, обыватель, и в этом смысле мои взгляды более чем логичны. Остроумный критик Пьер Ассулин даже сделал открытие: оказывается, я изначально был одержим ненавистью к арабам; вопреки всякой видимости именно эта ненависть определяет истинный сюжет “Платформы”, а может, и всех моих книг. Честное слово, не могу понять, почему я сдержался и не подал в суд на это ничтожество; наверно, мне надо натренировать в себе страсть судиться. Если же отвлечься от моего конкретного случая, то любому непредвзятому наблюдателю станет ясно, что тут назревают большие проблемы. Что левому деятелю придется, с одной стороны, травить исламофоба, а с другой — продолжать оказывать поддержку Таслиме Насрин[45] (которая, со своей стороны, не устает весело повторять, что тупость и жестокость — отнюдь не чудовищные отклонения от ислама, а проявления самой его сущности); учтем также, что подобных примеров скорее всего станет еще больше — не говоря уж о всякой швали из предместий с ее склонностью к антисемитизму и прочих неприятностях. Здесь приходят на ум лабораторные крысы, которых бездушные этологи постоянно подвергают противоречащим друг другу раздражителям. Не помню точно, что с этими крысами происходит, но уж точно ничего особо радостного. Одним словом, заявляю раз и навсегда: леваку придется туго.
Самый значимый эпизод открывающегося сейчас периода — это, безусловно, дело “новых реакционеров”,[46] получившее достаточно широкое освещение в прессе. Книжка была воспринята, мягко говоря, без энтузиазма. Эдви Пленель как главный шпик почел своим долгом прикрыть подчиненного; он взялся за это с умом, хотя и без всякого восторга: быть может, уже предчувствовал, что дело пахнет жареным. В самом деле, большинство журналистов явно недоверчиво отнеслись к очередному занудному швырянию именами, name dropping; список показался им чересчур длинным, даром что в нем всего девяносто шесть страниц (опять-таки стоит это сравнить с тем явным упоением, с каким они цитируют самомалейший отрывочек из толстенных кирпичей Филиппа Мюре).
Все это покуда не так уж огорчительно; в том, что левый деятель сочинил пошлую книжку, нет ничего ненормального, это скорее в порядке вещей; гораздо важнее, решительно гораздо важнее оказалась реакция обвиняемых. Бедняга Линденберг, видимо, воображал, что они разбегутся кто куда как тараканы, зарекаясь раз и навсегда… другие пусть сколько угодно, но чтобы они еще хоть раз… ох, как они попали… Ничего подобного; что мы видим? Финкелькраут откровенно разозлился и обзывает книжку то “идиотской”, то “подлой”. Весельчак Тагиев приветствовал появление “первого мягкого памфлета”, вышедшего из рядов “крайних центристов”.
Оба они, и еще несколько человек, тут же сочинили “Манифест свободной мысли”. Так что в глазах виновных нарисовался отнюдь не стыд и не ужас перед разоблачением, а скорее легкие искорки удовлетворения при известии о возобновлении военных действий.
Еще более значимый факт заключается в том, что против смешения имен в одной обойме выступили главным образом их противники, тогда как они сами выглядели скорее довольными, что в эту обойму попали (со своей стороны, заявляю, что оказаться в списке по соседству с Финкелькраутом, Тагиевым, Кристофером Лэшем, Мюре и Дантеком лично для меня большая честь; остальных я знаю меньше, но теперь скорее склоняюсь к тому, чтобы их почитать). Дошло до того, что эти самые противники поспешно сняли с них ненавистный эпитет, задним числом испугавшись, как бы они не потребовали его назад.
Увы, дело было сделано, козел попал в огород. Бедняжка Линденберг! Иногда катализатором самых решительных и глобальных перемен становятся ничтожнейшие происшествия. Вспомним: всего несколько месяцев назад “новые реакционеры” были такими слабенькими, призрачными, а главное, плохо организованными, что не способны оказались даже грамотно поддержать кандидатуру Жан-Пьера Шевенмана.[47] И вот эта тоненькая брошюрка заставила их сомкнуть ряды, осознать, что на их стороне ум и талант, и превратила их помимо их собственной воли в главную интеллектуальную силу страны. Отличная игра, товарищ Розанваллон![48] На ближайшем форуме в Давосе будете принимать поздравления.
Теперь, когда нас официально признали лучшими, можно наконец обнародовать перед восхищенной нашим умом публикой масштабы наших расхождений. Я уже оставил место в своем ежедневнике для дебатов с Филиппом Мюре относительно благодетельной роли массового туризма; и для дебатов с Дантеком о перспективах репродуктивного клонирования человека; и для какого-нибудь общего коллоквиума о монотеизме, и, быть может, еще для одного, о проституции (у обеих тем есть по крайней мере одна общая черта — у всех найдется что сказать по этому поводу). А еще предупреждаю сразу: в 2003 году разборки пойдут серьезные; придется отвыкать от Фонда Сен-Симона.
Остается найти спонсора, и теперь я с волнением обращаю взор к вам, любезные реакционеры-классики, благородные хранители древнего рода. Возрадуйтесь же в эти рождественские дни, ибо Всевышний наградил вас обильным потомством. Конечно, вы с некоторым беспокойством следите за его массовой высадкой на ваши еще вчера мирные берега; тем более что предыдущие нашествия нового (новый роман, новые философы) вполне способны были породить законные сомнения относительно качественного аспекта этой иммиграции. Не волнуйтесь: они умны, интеллигентны, работящи и в курсе ваших обычаев; они сумеют адаптироваться. Мы сумеем сохранить лучшие из ваших традиций; и мы выстоим. Еще мы сумеем поставить любые заплатки, в каких нуждаются ваши идеи на пороге третьего тысячелетия. Расслабьтесь, детки, мы берем дело в свои руки; вы увидите свет в конце туннеля. Мне нет нужды расхваливать перед вами наших интеллектуалов, вы с ними уже немного знакомы. Вы знаете, что в лице Финкелькраута и Тагиева получаете наводящих ужас воителей, способных стереть в порошок любого “нового левого”, пусть только попробует сунуться. С романистами, согласен, дело обстоит не так гладко. Быстренько рассмотрим вопрос о нравах, если вам угодно (наркотики, групповые оргии); но вы уже ассимилировали многих других, ничем не лучше. И кто сегодня сможет угадать, что через пять лет будет думать Морис Дантек?
На данный момент он явно питается приличными авторами (Ревелем, де Местром); но главной его целью остается синтез католицизма и ницшеанства. Цель эта недостижима и потому внушает беспокойство: она, конечно, может иметь любопытные побочные эффекты (создание литературных шедевров), но, по сути, ее идеологическая состоятельность ничем не гарантирована. Сознаюсь, мой случай вряд ли менее сомнителен, учитывая к тому же авторов, на которых я люблю ссылаться (Шопенгауэра, Огюста Конта, Витгенштейна, когда я в хорошем настроении). Ну что тут скажешь? Вам придется рассчитывать только на себя. Набросить покров снисхождения или лукавой насмешки на идеологические блуждания; сделать над собой усилие и сосредоточиться только на литературных достоинствах текстов. Вы это можете; вы уже это делали, и ваше славное прошлое тому порукой. Ничего не бойтесь; у вас уже получается, я чувствую.
К частичной реабилитации обывателя[49]
В недавней статье в “Нувель обсерватёр”, посвященной страданиям левых, блистательный Лоран Жоффрен, на мой взгляд, допускает ошибку, заявляя, что моя фраза “все-таки ислам — самая идиотская религия” сближает меня со взглядами лямбда-обывателя.[50] Во Франции, стране с сильной антиклерикальной традицией, типичные взгляды лямбда-обывателя будут скорее сводиться к чему-то вроде: “по-моему, все религии друг друга стоят, что в лоб, что по лбу”. Если заставить его объясниться, он уточнит что-нибудь вроде: “это все сплошной мудизм, чтобы подавлять людей, не давать им взбунтоваться и заставлять убивать друг друга, а еще чтобы покупать себе красивые золоченые одежды, когда простой народ подыхает с голоду”. Впрочем, эта позиция, как всегда у лямбда-обывателя, не лишена некоторого сиюминутного правдоподобия.
Поскольку выследить, а значит, и расспросить лямбда-обывателя — дело нелегкое, обратимся за подтверждением к кому-нибудь из обывателей знаменитых, вроде Ги Бедо, Сине (позволю себе напомнить его изящные высказывания в адрес Катрин Милле), а еще лучше — Кабю,[51] который и изобрел этот термин. Для начала установим их место в иерархии обывательской стаи: они, естественно, не принадлежат к разряду лямбда-обывателей, однако термин “альфа-обыватель” предпочтительно закрепить за личностями более харизматическими, вроде Жана-Мари Ле Пена; на первый взгляд, им бы вполне подошел термин “бета-обыватели”, но я бы предпочел определить их как обывателей недоразвитых. Обладая врожденными наклонностями обывателя, они не сумели их вырастить и заставить плодоносить (какая-то детская травма или еще что-то сбило их с пути), а значит, так и не смогли достичь чисто обывательской безмятежности; поэтому в них есть что-то вымученное, нехорошее, и выражается это в полном отсутствии чувства юмора. Дзен-буддизм бывает иногда весьма забавным, племенной обыватель тоже, Кабю — никогда.
Каковы же взгляды Кабю на религию?
Да примерно таковы, как я сказал. Но если для Кабю все религии стоят друг друга, то потому, что он неспособен отличить одну от другой; выбирать он умеет разве что костюмы.
Лишенный ума и чувства юмора, недоразвитый обыватель лишен к тому же и нравственного чувства — напомним, что большая часть рисунков Кабю посвящена насмешкам над инвалидами и завуалированным призывам их уничтожать (его поистине звериная ненависть к “Дайте им жизнь”,[52] неизменно ассоциирующейся с образами больных монголизмом и паралитиков, довольно плохо скрывает подспудное “Убейте их”). Неспособный разобраться в разных религиях, он тем более будет неспособен дать им оценку, сказать, например: вот эта религия благородная и великолепная; а та весьма посредственная и бесполезная; а третья — откровенно неприемлемая. Однако же рассмотреть разные религии в интеллектуальном плане и оценить их в плане моральном — задача, которую обязан решать любой живой человек. Обыватель обычный снимает с себя эту обязанность, отстаивая нечто вроде невинности животного; напротив, обыватель недоразвитый полагает, что благодаря отречению от всех религий возвышается над своим уделом; поэтому, рассмотрев его весьма придирчиво, приходится сделать вывод, что в этом, как и во многих других отношениях, он стоит чуть ниже нормального человеческого уровня.
Прелиминарии к позитивизму[53]
Исчезновение метафизики
В политической и моральной мысли Огюста Конта все будто нарочно устроено так, чтобы привести в отчаяние современного читателя; но прежде чем перейти к этому, то есть собственно к предмету книги, нужно обойти или, по крайней мере, обозначить одно затруднение: мы по-прежнему еще не вышли из метафизического состояния, конец которого он считал неизбежным; более того, мы меньше чем когда-либо намерены из него выходить; какой-нибудь сатирик при виде наших журналов, регулярно пестрящих заголовками о “возвращении Бога”, мог бы даже задаться вопросом, не грозит ли нам выйти из него через задний проход; говоря же серьезно, возникает вопрос: действительно ли метафизическое состояние является промежуточным этапом в процессе распада предшествующих теологий, как считал Конт, или же, наоборот, оно искусственно поддерживает в них жизнь, поскольку для любой метафизики характерно отсутствие окончательных выводов.
Эпоха современной метафизики в собственном смысле начинается с Декарта; поразительные успехи науки и техники Возрождения были достигнуты в состоянии, так сказать, философской невинности, в отсутствие мысли, способной свести их в единую систему; наверное, именно поэтому католическая церковь не сразу заметила опасность и среагировала слишком поздно, когда основы ее духовного авторитета были уже расшатаны. Оставшись в гордом одиночестве среди развалин, Декарт совершил нечто абсолютно новое: впервые ясно и четко отделил физику от метафизики. Противопоставив друг другу две бесполезные категории, материю и дух, он разом создал предпосылки для большинства позднейших философских заблуждений.
Категории духа, придуманной специально для того, чтобы вобрать в себя все бессодержательные проблемы (Бог, человеческая душа и т. п.), суждено было пережить бурный и шумный закат, ознаменованный разнообразными попытками вновь придать ей видимость реального существования; некоторые из них были грандиозными — например, кантианство; некоторые же убогими — например, психология.
Напротив, на долю материи, казалось, выпадал успех за успехом. Демагогическая и упрощенческая декартовская мысль (с одной стороны, мир-машина, состоящий из материальных шестерней и зубчатых колес, а с другой — дух, помещенный туда словно из предосторожности, на потребу чувствительным душам или для решения сложных проблем) господствует в умах и в наши дни. Ее даже иногда путают с научным методом или с позитивизмом: жестокая ошибка, поскольку она лишь создавала помехи для их прогресса. Она тут же попыталась противопоставить себя ньютоновой физике, упирая на то, что с точки зрения материалиста движение, распространяющееся в пустоте, помыслить нельзя; в конце концов вразумить ее сумели только наглядные экспериментальные данные. Спустя много лет споры вокруг толкования квантовой механики, не утихавшие на протяжении всего XX века, нельзя объяснить иначе, как только попыткой спасти любой ценой материальную и каузальную онтологию. Действительно, с позитивистской точки зрения ни ньютонова, ни квантовая механика не представляют особой проблемы: законы установлены, они позволяют моделировать явления и предсказывать результаты опытов; категорий ровно столько, сколько необходимо, — чего же больше?
Паскаль (который был весьма сведущ в науках, пока не погряз в ночи мистицизма) уже предупреждал: “Можно сказать в общем: это происходит с помощью числа и движения. И это верно; но говорить, какие именно [изменения], и создавать машину — это смешно. Это и бесполезно, и сомнительно, и трудно”.[54] Во фразе этой, характерно дерзкой и острой, как бритва Оккама, уже заключен позитивистский дух. Действительно, материя в глазах позитивной мысли заслуживает пощады не более, чем Бог. Онтологическая скромность, полная покорность опыту, стремление прежде всего предсказать и объяснить, если можно: вот ее стиль, и хотя он позволил совершить на протяжении последних пяти сотен лет множество научных открытий, более широкую публику он не привлекает до сих пор.
Уж если сообществу физиков не удалось до конца изгнать призраки метафизики, то что говорить об остальных? Напомним, что Конт даже не счел нужным выделить в отдельную науку “психологию” (с его точки зрения, речь идет об одном из ответвлений животной физиологии) и что после его смерти пышным цветом расцвели теории, попросту считающие доказанным существование “субъекта”, неуловимого ноумена, феноменом которого следует считать, по — видимому, нечто вроде “я”. В плане политики достаточно сослаться на одну черту, которую Конт считает одним из смертных грехов метафизического состояния: склонность рассуждать, вместо того чтобы наблюдать — и тем самым видеть, на каком мы свете. Точно так же достаточно напомнить о непреходящей популярности теорий “общественного договора”, основанных на фикции свободных индивидуумов, якобы существующих прежде коллектива, и на понятии “прав человека”, независимых от всякого вытекающего из них долга.
Считая, что науки о материи и о жизни уже совершили переход к позитивизму, Конт предполагал перенести его и на науки об обществе; в общем и целом вся его философия стала возможной лишь благодаря гигантской ошибке в исторической оценке ситуации. Поскольку ее предпосылки не только не были реализованы, но даже и сейчас далеки от реализации, вероятность ее воздействия можно отнести лишь в неопределенно далекое будущее.
Его курьезный исторический оптимизм характерен для эпохи; сегодня трудно представить себе тот неслыханный подъем, какой охватил Европу после Великой французской революции и слегка приутих лишь на время эпизода с Наполеоном. Это целиком и полностью относится к литературе: если учесть, что в 1830 году (ограничимся только Францией и даже одним Парижем) такие писатели, как Бальзак, Шатобриан, Гюго, были на пике активности — при том, что мы берем лишь самые существенные примеры, — то поневоле представляется мощное, бесформенное творческое бурление, которое распространялось во всех направлениях. Эта кипучая деятельность затронула и сферу философии: все знают о философии немецкой, и гораздо меньше-о французской. Может показаться странным сопоставлять Конта и Фурье, настолько противоположны их системы. Тем не менее у них есть общие черты — и не только широта взгляда, граничащая с мегаломанией и едва ли не с безумием (у Фурье это скорее бред, у Конта-мания), но и убежденность, что общество можно перестроить на совершенно новых началах на протяжении нескольких поколений, если не нескольких лет, в зависимости от исходной общественной формации.
Главная тема Фурье — это то, что можно назвать мотивацией производителей; здесь ему нет равных, и он обещает головокружительные улучшения на протяжении одной человеческой жизни. Конту по этому поводу сказать особо нечего (так же, впрочем, как и Прудону, и Марксу, и, собственно говоря, всем социальным реформаторам, кроме Фурье). Второе его новшество, на внедрение которого он отводил более длительное время, касается семьи, супружества и сексуальных нравов в целом; здесь Конт также лишь повторяет уже существующие схемы — за исключением странного образа грядущей Девы-Матери в конце.
При всем при том умолчания Шарля Фурье не менее значимы, но в ином плане.
Он не говорит ни о собственности, ни о наследовании, ни, по-настоящему, о политической системе; а главное, он почти ничего не говорит о религии — в эпоху, когда религиозные основания французского общества начали рушиться, он довольствуется расплывчатыми антиатеистическими заявлениями. Сближает обоих авторов и то, что они писали много и чересчур поспешно, что обоим пришлось тяжелым трудом зарабатывать себе на хлеб, и что оба высокомерно пренебрегают самыми обычными стилистическими условностями. Обоих сегодня относят к разряду абсолютно нечитабельных и годных разве что для нескольких извращенцев, которые обожают их странности — бурлескную бессвязность у Фурье, назойливые повторы у Конта — и видят в них признак гениальности.
До сих пор у Фурье комментаторов и толкователей было больше: наверно, потому, что на протяжении всего XX века секс все больше превращался в навязчивую идею. Говорят, широкая публика вновь проявляет признаки духовной жажды. Это утверждение мне представляется несколько преждевременным; мне представляется, что сегодня сексуальные потребности гораздо более насущны, чем потребности духовные; но если предположить, что когда-нибудь они получат удовлетворение, а следственно, настанет черед проявиться потребностям духовным, тогда интересно будет вновь обратиться к Конту. Ибо его истинная, центральная тема — это религия; и сказать, что он выступает здесь новатором, значит не сказать ничего.
Обоснование религии
Человек — животное общественное; этот факт лежит в основании всей системы Конта, и его всегда следует иметь в виду, если мы хотим попытать счастья и разобраться в его рассуждениях. Конт с почти исчерпывающей полнотой рассматривает социальные институты рода человеческого, их становление и различные способы устройства: собственность, семья, система производства, образование, наука, искусство — ничто не ускользает от его изящной систематизации. Однако из всех структур, порожденных обществом и, в свою очередь, становящихся его основанием, наиболее важной, наиболее характерной и наиболее подверженной опасности ему представляется религия. По мнению Конта, человека можно довольно точно определить как общественное животное религиозного типа.
До него в религии видели главным образом систему объяснения мира; все остальное более или менее вытекало из этого. Конт одним из первых почувствовал, что эта система непоправимо изношена, и также одним из первых понял, что основания общественного миропорядка, лишившись главной своей опоры, в свою очередь рухнут. Он одним из первых понял, что рациональное объяснение мира должно несколько обуздать свои притязания, и, безусловно, стал первым, кто попытался дать социальному миру новое религиозное основание.
Сказать, что он потерпел неудачу, значило бы не сказать ничего; у позитивистской религии было несколько адептов, очень маленькая группка, а затем она угасла. Подобный провал у философа, не намеренного ограничиваться одной лишь сферой умозрительных построений, но собиравшегося создать нечто практическое и действенное, причем в самое короткое время, не может не вызывать вопросов.
Конт прекрасно понял, что религия, с одной стороны, вписывается в систему мира, приемлемую для разума, но, с другой — призвана объединять людей и регулировать их поступки (на этом этапе нет ничего лучше, чем обратиться к его тексту и его собственным словам); он предусмотрел и таинства, и церковный календарь. Быть может, он не уловил, насколько глубоко желание бессмертия, заложенное в человеке: пассажи, в которых он, сам подняв этот вопрос, сворачивает разговор на молитвы, весьма увлекательны; не имея, возможно, времени перечитать сам себя, он оставил в своей философии нечто вроде зародыша сомнения. Абстрактное бессмертие, заложенное в человеческой памяти, как бы то ни было, перестало быть убедительным для людей его времени — не говоря уж о нашем: они жаждали более материального обетования вечной жизни. Предположим, в самом деле, что предпосылки контовской системы реализованы — на что понадобится, быть может, несколько веков. Предположим, что теизм во всех его видах угаснет, материализм обесценится, а позитивизм утвердится как единственно пригодный для научной эпохи образ мысли.
Предположим, кроме того, что “незаменимость и уникальность” человека будет признана пошлым вымыслом; а его общественный характер оценен во всей полноте и принят во внимание. Предположим, что все это перестанет быть предметом споров, столкновений и неприятия, но будет объективной оценкой, таким же предметом консенсуса, как в наши дни — результаты генетики. В чем мы хотя бы на шаг продвинемся вперед в утверждении общей для всех религии? Чем, собственно, мысль о человечестве или Верховном Существе станет более привлекательной для людей? И что может побудить их, сознающих, что каждый из них исчезнет, довольствоваться своей причастностью к этому чисто теоретическому фетишу? Кто, наконец, может проявлять интерес к религии, не гарантирующей от смерти? На все эти вопросы Конт не дает ответа; вполне вероятно, что ответа и не существует. Утверждение физического бессмертия средствами новых технологий есть, безусловно, необходимый переходный этап, после которого религия вновь станет возможной; но Конт дает нам почувствовать то, что эта религия, религия для бессмертных, останется почти столь же необходимой.
Альмерия, октябрь 2002 г.
Интервью с Жилем Мартен-Шоффье и Жеромом Бегле[55]
Что вы можете сказать о французской литературе последних лет?
В 1994 году, с выходом в свет “Гимна шпане” Венсана Равалека и моей книги “Расширение пространства борьбы”, с созданием премии Флор, с превращением “Энрокюптибль” в еженедельник у нас появилось нечто новое. Некоторые институты, как, скажем “Каналь +” или серия “Я читал”, сразу откликнулись на это движение. Когда на книжках “Я читал” появились слова “Новое Поколение”, мы все разозлились: мы были слишком большими индивидуалистами, чтобы чувствовать себя принадлежащими к одному поколению; но по прошествии времени это оказалось верным: “Я читал” и “Либрио” прекрасно сделали свою работу. В литературу пришли люди, культурный багаж которых сложился на книжках карманного формата — то есть на классике, но также и массовых жанрах (детективе, фэнтези, научной фантастике); но которые зато мало читали своих французских предшественников.
А разве Филипп Джиан[56] был не в той же ситуации?
Да, вы правы, он был нашим предшественником — но он был один, а стало быть, оказал меньше влияния.
Важны ли были романы “Черной серии”?
Из нас только Дантек по-настоящему дебютировал в этой серии, но знали ее мы все. Долгое время одна только “Черная серия” и поддерживала традицию изучения окружающего мира: для “большой” литературы эта тема стала слишком пошлой. К несчастью, ее уклон в крайнюю левизну развивал у авторов стереотипное мышление (типичный сюжет: махинации с недвижимостью в окрестностях Ниццы, в которые замешан депутат от каких-нибудь правых…). Кроме того, жанровые клише запрещали описывать интимные отношения (например, там весьма трудно найти настоящий женский персонаж). Но несмотря ни на что эта серия, которую двигал Патрик Рейналь, сохранила традицию популярной и в то же время качественной литературы; что касается фэнтези или фантастики, то во Франции ничего подобного не было.
А что произошло с этим движением, возникшим в середине девяностых? Оно исчезло?
У меня такое чувство, что в прошлом году что-то сломалось. Смерть Гийома Дюстана меня потрясла; он был очень светлый человек, максималист, само его присутствие было не менее важно, чем его книги. За ним в свой черед ушел Филипп Мюре; он был такой несносный, никого не боялся…
В ближайшие годы нам их будет очень не хватать.
Что же возникло вместо этого движения?
Появились книжки, которые всех устраивают — к всеобщему величайшему облегчению. Произошло настоящее возвращение назидательной литературы, с добрыми чувствами, предсказуемым негодованием: довольно удачным символом этого течения может служить Филипп Клодель.
Великая литература — литература XIX века, тот же Флобер, — наверное, лучше умела обращаться с негативом?
Когда есть сильное, уверенное в себе общество, как во Франции XIX века, оно может себе позволить негативистскую литературу. В сегодняшней Франции на самом деле все иначе. Люди хотят, чтобы их утешили и подбодрили. Они больше не выносят ни намека не только на негативизм, но даже на реализм.
Почему же эта литературная школа исчезла?
В конечном счете мы оказались меньшими карьеристами, чем можно было ожидать. Лично я это заметил, когда встал вопрос, кто заменит Рафаэля Сорена в “Фламмарионе”. Меня спросили, кого бы я хотел видеть на его месте. Я мог бы ответить “себя”, но я слишком ленив для издателя. Тогда я предложил Фредерика Бегбедера, подумав, что его это позабавит; через два года он ушел. Это говорит об удручающем отсутствии стремления захватить власть. Из всех тех, кто пришел в литературу в середине девяностых, никто толком не хотел получить власть. В свое время Жид, Нимье, Соллерс сумели занять прочное положение в обществе. По сути, мы все остались панками, и судьба наша будет такой же.
Вы не показали пример другим…
Это точно. Я был не прав, потому что претенденты на власть всегда найдутся; и мы упустили шанс громко заявить о своих литературных вкусах.
Но еще не поздно занять места во власти.
Нет, слишком поздно. Например, в 1998 году у нас на руках были все козыри.
Но момент упущен, теперь пусть пробуют другие, помоложе. Нас победили те, кого Паскаль называл “полумудрецами”:[57] учителя, книготорговцы…
Значит, движение продержалось всего десять лет. Это мало.
Вообще говоря, великая эпоха поп-арта длилась не больше десяти лет, и эпоха наивысшего подъема романтизма или сюрреализма тоже. Нет, я не хочу нас сравнивать с этими людьми, мы все-таки на голову ниже.
Но если литература возвращается к чувствам добрым и к слащавости, то остается ли место для вас?
Я не идиот, я знаю, что надо делать, чтобы прослыть милым и приятным. Но как-то не очень хочется. Я уже много чего сказал о современном обществе, и в сущности это современное общество мне слегка осточертело. Так что я подумываю вернуться к своей первой любви — научной фантастике. “Возможность острова” стала одним из этапов этого возвращения. Научная фантастика позволяет мне сделать разворот в сторону литературы более поэтичной, более открытой для мечты и грезы. Мотивировки персонажей там могут быть в меньшей степени продиктованы реальностью, которую мы все знаем и которая уже была прекрасно описана Бальзаком с его дихотомией удовольствия и золота. Переносясь в будущее, можно вообразить себе и другие движущие силы.
Почему хорошей научной фантастики довольно мало?
Это слишком умная литература, тут не прокатит только чувство, рождающееся из-за отождествления себя с героем. Не так уж много научно-фантастических романов, где персонажи волнуют читателя и не забываются через пять минут. Для меня это искушение. Мне интересна эта задача.
На вас было много нападок. Такого рода агрессия сильно задевает?
Думаю, Гийом Дюстан был слабее среднего уровня. Сам я чуть более устойчив. Конечно, когда тебя оскорбляет мудак, в этом есть своя приятность. И уж точно лучше, когда тебя оскорбляют, чем когда не обращают на тебя внимания. Но с “Возможностью острова” дело зашло слишком далеко.
Что вызвало неприятие — книга или ее автор?
Было что-то вроде озлобления против меня, как будто мне хотели отплатить за слишком громкий успех или излишнюю популярность. Я зашел слишком далеко, и мне этого не простят. Это я чувствовал. Когда я сдал рукопись в издательство, я сказал себе, что, похоже, не оберусь неприятностей. Когда я в июне давал интервью “Энрокюптибль”, я знал, что доживаю последние спокойные деньки. В этой стране живет какая-то жуткая жажда мести. Могу только утешаться поездками в Хорватию или в Аргентину.
И тем не менее во Франции существует культ писателей?
Это точно, в этой стране придают большое значение литературе, в отличие от других наций, которые ничего не имеют против того, что в продаже у них нет ничего, кроме американских книжек. В этой стране писателю легче попасть на телевидение, чем где-либо в мире. Но когда ты имеешь слишком большой успех, это считается неприличным. Тут все одержимы эгалитарной лихорадкой, которая плохо вяжется с успехом.
А хороши ли французские издатели?
Немножко склонны к трафаретам: не любят рассказы, не любят поэзию… Однажды я хотел помочь напечатать книгу, которую мне прислали. Ничего не вышло. Это были рассказы, написала их одна девушка, они мне показались удачными, и я передал их издателю, но на том дело и кончилось. Меня это вывело из себя. Особенно если учесть, что издатели поручают читать рукописи, присланные по почте, неизвестно кому. Это в издательстве считается черновой работой, при том что ее следовало бы доверять самому квалифицированному сотруднику. На данный момент вполне возможно, что великие тексты пропадают в безвестности.
Чего вы ждете от издателя?
Чтобы он не правил мой текст. Это кажется пустяком, но поскольку меня почти каждый раз тягают в суд, добиться этого было бы уже немало. А кроме того, меня главным образом интересует книга как вещь. По-моему, французские книги безобразны. Я хочу, чтобы книга была красивой, практичной, чтобы ее приятно было взять в руки. Зато я никогда не спорил с рекламной стратегией своих издателей — это их работа.
Кто были ваши лучшие издатели, от первого, Мориса Надо, до последнего, Клода Дюрана?
Самый одаренный издатель, которого я когда-либо встречал — это Жоаким Виталь, директор “Ла Дифферанс”. У него был нюх во всех областях и поразительная широта ума. Но он был человек совершенно несерьезный, не платил авторам, со скрипом платил сотрудникам, по сути, он был неспособен управлять фирмой. Нельзя сказать, что французские издатели вообще ничего из себя не представляют. “POL” или “Ле Дилетант” сыграли по-настоящему важную роль. Я бы скорее ругал книготорговцев, чем издателей.
Почему?
Меня бесят их “хиты продаж” и само выражение “хит продаж” тоже! И в целом они удручающе склонны к конформизму. Больше, чем издатели.
А что вы думаете о литературной прессе?
Вкус к полемике можно считать одним из достоинств этой страны, но мы переусердствовали, в последние годы мы слишком часто взывали к правосудию. Николя Жон-Горлен, Эрик Бенье-Бюркель, Рено Камю и еще многие писатели оказались в центре скандала, судебного процесса, и ни один из них после этого не оправится, они спеклись навсегда. У меня самого тоже были проблемы, но у меня были более сильные позиции… И больше того, писателей каждый раз обвиняли в том, что они устроили “провокацию”, чтобы продать свои книги, тогда как издатели терпеть не могут всяких полемик, они ничего так не любят, как мирную продажу проверенного продукта, который попадет в “хиты” у книготорговцев…
Но вы сами нарвались на неприятности, когда в момент выхода “Платформы” заявили, что ислам — самая идиотская религия в мире…
Это верно, это было глупо с моей стороны, потому что я вдруг оказался героем в битве, которая мне глубоко неинтересна. Я по-прежнему думаю, что вера в Бога должна, по логике вещей, сойти на нет, пусть даже события говорят скорее об обратном. У меня такое впечатление, что сегодня к религиям относятся примерно так же, как к бретонским танцам: они традиционные, слегка устаревшие, а значит, сразу становятся почтенными и почти симпатичными.
Книга Джонатана Литтелла[58] не возбудила никакой полемики. Вы ему завидуете?
Да, враждебность в конце концов утомляет. После того как вышла “Возможность острова”, я развил в себе то, что назвал бы “синдромом Жан-Жака Гольдмана”. Певец выкупил целую страницу рекламы, чтобы собрать и учесть все негативные отзывы об одном из своих альбомов. Он с пафосом обратился к слушателям, к своей публике.
Я пережил то же самое: я растрогался почти до слез, когда кто-то на улице сказал мне, что ему понравилась моя книга. Конечно, по сути верно, что только публика имеет значение, но все-таки предполагается, что критика высказывает авторитетное мнение. Докатиться до того, чтобы искать славы в негативной критике, — это не вполне нормально.
Подводя итог, можно сказать, что в вас что-то надломилось?
Это точно. У меня есть ощущение, что я несколько лет участвовал в чем-то новом и блистательном. Равалек, Дантек и я — мы смотрели миру прямо в лицо. Этого в тогдашнем пейзаже не хватало. Мне приятно вспоминать этот период. Но только вспоминать. Это была молодость, и она позади. Когда Гийом умер, я понял, что моя молодость кончилась. Мы славно повеселились, но праздник окончен. А вот литература продолжается. У нее бывают бесплодные периоды, но потом все возвращается.
Я читал всю жизнь[59]
Первый мой опыт — почти даже не воспоминание, я не могу подобрать подходящие слова. Была тенистая веранда и залитый солнцем двор (в моих детских воспоминаниях всегда светит солнце). Кресло посреди веранды и ощущение бесконечно повторяющегося, чудесного погружения. И еще ощущение чего-то такого, что останется со мной на всю жизнь. Впечатление полноты, потому что “вся жизнь” в то время (быть может, позже я сумею этому улыбнуться, но сегодня говорю с некоторой горечью), “вся жизнь” казалась мне чем-то очень долгим.
Я думал, что моя жизнь будет счастливой, и даже не совсем точно представлял себе, что такое несчастье, жизнь виделась мне восхитительным даром, а чтение было одной из радостей этой бесконечно чудесной жизни.
Я был ребенком. Я был счастлив, а счастье почти не оставляет следов.
Мало-помалу я узнал, что такое на самом деле жизнь взрослых людей; и узнал, помимо прочего, из написанных ими книг. По-видимому, мои дедушка с бабушкой никогда не обращали внимания на то, что книжки “Розовой библиотеки” и “Зеленой библиотеки” предназначены в принципе для разного возраста; иначе как объяснить, что десяти лет от роду я умудрился прочесть “Грациеллу”?[60]
В ней был весь романтизм периода своей юности, своей молодой силы, а “Первое сожаление”, которым завершается книга, — это стихи невероятной чистоты. Ни до Ламартина, ни после (даже Расин, даже Виктор Гюго) никто никогда не писал и не будет писать александрийским стихом с такой естественностью, стихийностью, с таким душевным подъемом.
Как же Ламартин, узнав в восемнадцать лет Грациеллу, которой тогда было шестнадцать, мог забыть ее? Как он мог после всего жить дальше? И как человек, читавший Ламартина, может посвятить свою жизнь не поискам шестнадцатилетней Грациеллы, а чему-то другому? И какая все — таки увлекательная хрень эта литература… Такая пагубная, сильная, несравненно более сильная, чем кино, и даже более пагубная, чем музыка.
Были еще и другие вещи. Тошнотворный Джек Лондон, которого так любил Ленин (видимо, именно это подчеркнутое восхищение Ленина Джеком Лондоном, его циничное приятие борьбы за выживание, несовместимой с тем пресловутым великодушием, какое связывается со словом “коммунизм”, открыло мне глаза и заранее, раз и навсегда, отбило желание близко познакомиться с марксизмом). Чудесный Диккенс (никогда я не буду хохотать так сильно и искренне, никогда я не буду смеяться до слез, хохотать до упаду так, как в девять лет, когда первый раз прочел “Записки Пиквикского клуба”). Был Жюль Верн, были сказки Андерсена — “Девочка со спичками” разбила мне сердце, и каждый раз, когда я ее перечитываю, с беспощадной неумолимостью разбивает его снова и снова.
Еще мне вспоминается серия “Красное и Золотое” с ее наивными иллюстрациями (наверно, она стоила немного дороже, скорее это был подарок на день рождения или на Рождество); в общем, из этого времени мне вспоминается только хорошее. И все — таки не надо было позволять мне читать “Грациеллу” в десять лет. В то время девочки со мной заигрывали, и, как я сейчас понимаю, некоторые уже не без задних мыслей, в общем и целом начало было весьма многообещающим, но тут сразу начался пубертатный возраст, и он пришелся на то время, когда в моду вошли мини-шорты, мне было трудно примирить все это с чтением “Грациеллы”, я начал отворачиваться от тех, кто протягивал мне руку — и к кому, однако, меня ужасно влекло, — и искать в жизни вещи, которых в ней не найти, короче, я стал здорово лажать и до сих пор думаю, что в этом немного виноват Ламартин. И как раз примерно в это время я забросил детские серии и пристрастился к карманным книжкам.
Для меня существовали две стоящие серии: “Ливр де пош” (“Карманная книжка”) и “Я читал”. Я ненавидел “Фолио” и “Присутствие Будущего”: слишком дорогие, обложка мерзкая — типа “скромный рисунок на белом фоне”, - а главное, качество самой книги не лезло ни в какие ворота: стоило открыть ее с десяток раз, как плохо склеенные страницы выпадали и книжка разлеталась в клочья. А вот “Ливр де пош” и особенно “Я читал” были несокрушимы, а им и нужно было быть несокрушимыми, потому что открывал я эти книги куда больше десятка раз, я таскал их с собой всюду, в кафе, в лицейской столовке, в поезде — а скоро я стал ездить уже не в пригородных поездах, а в поездах, шедших через всю Европу, то было время европейских месячных проездных билетов, и я спал в пыльных кемпингах и сырых подвалах, а мои “Я читал” все еще со мной, лежат рядом, когда я пишу эти строки, а я теперь богатый и путешествую бизнес-классом, им нечего бояться, и это хорошо.
Позже, после того как распался мой брак и моя профессиональная карьера, я начал писать. Точнее, я стал писать романы, они печатались и принесли мне относительную известность и состояние. Я вдруг начал читать современников, я открыл для себя нормальные издания. Но все равно продолжал читать и перечитывать книжки карманного формата, и для меня было большой радостью напечататься в “Я читал”: конечно, я бы не отказался и от “Фолио” или “Пресс-Покет”, если бы на то была воля моего издателя, и все-таки минута, когда я впервые увидел себя под обложкой “Я читал”, остается одним из самых прекрасных моментов моей жизни.
Сейчас я немного реже читаю современников, больше перечитываю — это нормально, старею. Теперь я знаю, что буду читать до конца своих дней: быть может, брошу курить, естественно, не буду заниматься любовью, и разговоры с людьми постепенно утратят для меня интерес; но представить себя без книги я не могу.
Я никогда не испытывал особых фетишистских чувств к оригинальным изданиям, к книге как вещи — меня прежде всего интересует содержание. И я понемногу заменяю свои нормальные или карманные издания некоторыми из тех восхитительных и таких удобных в путешествии предметов, как издания “Плеяды”, “Букен” или “Омнибус”. И все-таки остаются исключения, из сентиментальных соображений, и мне кажется маловероятным — даже в том случае, если все опять обернется скверно, даже в том случае, если я опять окажусь в меблированной комнате с парой столовок в доме, в конце концов, это всегда возможно, — что я расстанусь с некоторыми моими книжками; в частности, из серии “Я читал”.
Срезы почвы[61]
Хотя сочинения Алена Роб-Грийе сразу навеяли на меня глубокую и неистребимую скуку, я потратил целые часы, а может даже дни, пытаясь их прочесть. Я испробовал все, что обычно проделывают в таких случаях: перескакивал страниц пятьдесят, чтобы посмотреть, не лучше ли будет дальше, брал другую книжку, говорил себе, что попытаю счастья попозже, в другое время дня, при более благоприятных обстоятельствах. Однако ничто не нарушало мою скуку, ничто не нарушало моей уверенности, что во всем этом нет ни интереса, ни смысла. Не помню, чтобы я проявлял подобную снисходительность в отношении хоть кого-нибудь еще из писателей.
Думаю, что объясняется это прежде всего причинами внелитературного порядка: мы учились в одном и том же заведении. Оба мы, с разницей лет в тридцать, окончили училище инженеров-агрономов. В рамках системы французского образования быть выпускниками одного высшего училища — значит быть союзниками, пусть и не признаваясь в этом; тем более это относится к Агро, с его совсем особым образованием, отдельным от изучения всех прочих наук уже с подготовительных классов. Так что если бы мы когда-нибудь встретились — чего, слава богу, ни разу не произошло, — нам пришлось бы обращаться друг к другу “дорогой товарищ”; более того, думаю, мы бы это делали (естественно, уснащая это обращение целым арсеналом иронических улыбок, — но делали бы). Ален Роб-Грийе, всю жизнь демонстрировавший величайшее пренебрежение ко всяким институтам (которое в случае с Французской академией доходило до самого настоящего хамства), всегда и везде выказывал безупречную покорность и признательность в отношении первого института в своей жизни: Национального Института Агрономии (Пари-Гриньон). Со мной дело обстоит ровно так же: мы, ни тот, ни другой, никогда не отрекались от Агро.
Думаю, он на меня злился, потому что до моего появления гордился тем, что он — “инженер-агроном французской литературы”, и необходимость с кем-то делить это звание привела его в бешенство. Правда, у него были и другие причины для бешенства, были некоторые статьи, которые подлили масла в огонь, особенно за границей, где говорилось, что я — “единственное, что появилось во Франции стоящего со времен Нового романа”. Ему-то вовсе не хотелось, чтобы после Нового романа во Франции появлялось что бы то ни было.
Так что в течение нескольких лет между нами шла подспудная, зашифрованная борьба. Он твердил, вопреки всякой очевидности, что романы Бальзака соответствовали эпохе бесплодия, ледниковому периоду в истории французской литературы? Я тут же превозносил Бальзака до небес, утверждая, что он — второй отец любого романиста и что никто не может считать, что постиг азы романного искусства, если не признается в любви и верности Бальзаку. Я утверждал, что в моих собственных текстах социология преобладает над психологией? Он немедленно начинал плакаться на то, что современные писатели отказались от формальных притязаний чистой литературы, свели все к разработке социологического измерения. И все это имплицитно, от начала до конца: мы всегда воздерживались от публичных намеков друг на друга.
Думаю, мы оба были абсолютно искренни: он в своей ненависти к Бальзаку, я в своей любви к нему; он в своем презрении к моей литературе, я в своем презрении к его.
Теперь, когда Ален Роб-Грийе, так сказать, механически опередил меня и сошел в могилу, я могу немного свободнее поговорить о своем “дорогом товарище”, не рискуя никого обидеть. Потому что я в конечном итоге понял, что в упорстве, с которым я пытался вникнуть в его неудобоваримую литературу, было не только товарищество бывших однокорытников, но и что-то другое. Да, Ален Роб-Грийе напоминал мне Агро, и даже напоминал нечто куда более конкретное, знакомое только бывшим студентам Агро: Ален Роб-Грийе напоминал мне срезы почвы.
Очевидно, что почвоведение — это основополагающая наука для агронома, но она была бы еще важнее, если бы могла похвастаться возможностью повторять свои результаты, делать точные прогнозы, позволять агроному, то есть практику, давать обоснованные заключения. К несчастью, дело обстоит совсем иначе. В то время, когда я учился (не говоря уж о времени, когда учился Роб-Грийе), почвоведение пребывало в зачаточном состоянии. Даже назвать его наукой значило бы сделать ему слишком много чести; оно было, самое большее, наблюдательной дисциплиной.
Изначально главнейшим методом почвоведения было взятие среза почвы. Он состоит в том, чтобы вырыть в земле канаву с отвесными краями той или иной высоты, в зависимости от изучаемой почвы (как правило, роют, пока не докопаются до скального грунта). И что дальше, после того как выроют канаву? А ничего, просто наблюдают. Иначе говоря, зарисовывают со всей возможной точностью то, что видят (расположение корней растений, наличие камней, воздушных карманов, животных и т. п.): как правило, по мере удаления от поверхности все это очень быстро меняется. Естественно, свой рисунок можно дополнить заметками. Любопытно, что фотографируют при этом очень редко (фотографии служат лишь для того, чтобы сделать рисунок позже, в более комфортных условиях и, по возможности, достаточно быстро; умный взор наблюдателя почв всегда котировался несравненно выше фотографического изображения). Химические анализы in situ[62] остаются рудиментарными (в мое время они сводились к нескольким замерам показателя кислотности на разной глубине). Конечно, можно взять образцы почвы для последующего изучения; но тут мы уже оказываемся в сфере анализа почвы, а это совсем другая история.
Даже если будущий агроном движим надеждой обнаружить в результате своего наблюдения некий уже известный тип почвы (а, как правило, почва, которую он наблюдает, оказывается именно такой, как и ожидалось, с учетом геологического субстрата и климата), это не должно иметь никакого значения в ходе его наблюдений: так ему строго-настрого велят преподаватели. Он может ожидать, что обнаружит подзол в Сибири или латерит на Мадагаскаре, это свойственно человеку; но это ни в коей мере не должно влиять на его нейтралитет, объективность его эскизов и комментариев.
Тем самым благодаря срезу почвы студент-агроном приобщается к суровой дисциплине, состоящей в том, чтобы смотреть на мир нейтральным, чисто объективным взглядом: и разве не это Ален Роб-Грийе позднее попытался проделать в литературе?
Эта стойкая приверженность к внетеоретическому нейтралитету, безраздельно царящая в сфере срезов почвы, отнюдь не является предметом единодушного согласия в философии науки. “Теория и только теория решает, что именно следует наблюдать”, - решительно замечает Эйнштейн.
Огюст Конт, приведя более развернутые аргументы, приходит к заключению, что без предварительной теории, пусть и весьма приблизительной, наблюдение обречено на бесцельный эмпиризм и сводится к скучной и бессмысленной компиляции опытных данных.
“Скучная и бессмысленная компиляция опытных данных”: разве не так можно совершенно точно описать творчество Алена Роб-Грийе?
Четко определив, в чем состоит его ограниченность, не могу не добавить, что именно в этом одновременно состоит и его сила — правда, сила сугубо негативная. Отвергая любую теорию, предшествующую наблюдению, Ален Роб-Грийе тем самым ограждает себя от любых клише (ибо любое клише несет в себе в сжатом виде какую-нибудь теорию и признается таковым лишь тогда, когда саму теорию сочтут устаревшей и отсталой). И наоборот, открыв свои тексты для теоретических концепций, которые можно выработать об окружающем мире, я постоянно подвергаю себя опасности клише — и, по правде говоря, даже обрекаю себя на них; мой единственный шанс быть оригинальным состоит в том, чтобы (говоря словами Бодлера) вырабатывать новые клише.
Примечания
1
Статья впервые опубликована в № 22 (июль 1992 года) газеты “Леттр Франсез", перепечатана в сб. “Мир как супермаркет” (Interventions, 1998).
(обратно)2
К. Маркс. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.
(обратно)3
Статья впервые опубликована в газете “Леттр Франсез” (№ 27, декабрь 1992 года), перепечатана в сб. “Мир как супермаркет” (Interventions, 1998).
(обратно)4
В основу фильма положена новелла Томаса Манна “Обманутая" (Здесь и далее — примечания переводчика).
(обратно)5
Статья впервые опубликована в коллективном сборнике “Genius Loci” (P.: La Difference, 1992); перепечатана в “Десять” (Les Inrockuptibles. Grasset, 1997), в сб. “Мир как супермаркет” (1998) и “Остаться в живых и другие тексты” (Librio, 1999).
(обратно)6
Антуан Вештер — французский общественный и политический деятель, в начале 90-х годов один из руководителей движения зеленых.
(обратно)7
Абонентская телеинформационная сеть во Франции.
(обратно)8
Забава (англ.).
(обратно)9
Статья была опубликована в № 32 (май 1993 года) газеты “Леттр Франсез”; перепечатана в сборнике “Мир как супермаркет”.
(обратно)10
Опубликовано в № 199 (февраль 1995 года) журнала “Арт — Пресс”; перепечатано в сборнике “Мир как супермаркет”.
(обратно)11
Эссе было опубликовано в рубрике “Блокнот на пружине” журнала “Энрокюптибль” (№ 5, 1995 год); перепечатано в сб. “Мир как супермаркет”
(обратно)12
Йозеф Бойс (1921–1986) — немецкий скульптор, рисовальщик, художник-акционист и теоретик современного искусства.
(обратно)13
Жан Коэн, теоретик поэзии, написал две книги: “Структура поэтического языка” (“Фламмарион” / Шан, 1966) и “Высокий язык” (“Фламмарион”, 1979). Последняя была переиздана “Жозе Корти” в 1995 году, вскоре после смерти автора. Настоящая статья в журнале “Энрокюптибль” (№ 13) была приурочена ко второму изданию; перепечатана в сб. “Мир как супермаркет”.
(обратно)14
“Маркиза вышла в пять” — фраза, ставшая знаменитым “символом реализма” благодаря Полю Валери, который, по словам Андре Бретона, заявил, что никогда бы ее не написал; широко использовалась в спорах вокруг “нового романа” и стала названием романа Клода Мориака (1961).
(обратно)15
В издательстве “Минюи” выходило большинство текстов французских структуралистов и представителей “нового романа”.
(обратно)16
Первая строка стихотворения Бодлера “Сплин” (пер. Вяч. Иванова).
(обратно)17
Статья была опубликована в 1996 году в журнале "20 лет"; перепечатана в сборнике "Остаться живым и другие тексты".
(обратно)18
Эти хроники публиковались в журнале “Энрокюптибль" (№№ 90–97, февраль-март 1997 года); перепечатаны в сб. “Мир как супермаркет” и “Остаться живым и другие тексты”. Заглавия принадлежат Сильвену Бурмо.
(обратно)19
Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?
Ездок запоздалый, с ним сын молодой (нем.).
(обратно)20
Намек на призыв к “пробуждению гражданского чувства” на обложке предыдущего номера журнала “Энрокюптибль” (в связи с движением в защиту нелегальных иммигрантов). (Прим. автора).
(обратно)21
Я люблю тебя и не хочу тебя терять (англ.).
(обратно)22
“Общество по уничтожению мужчин”.
(обратно)23
“Opera Bianca” — подвижная озвученная, инсталляция, созданная скульптором Жилем Туйаром на музыку Бриса Позе. Инсталляция состоит из семи подвижных объектов, по форме напоминающих обстановку человеческого жилья. Во время фаз освещенности эти неподвижные белые объекты на белом фоне накапливают световую энергию. Они расходуют эту энергию во время фаз темноты: пересекаясь в пространстве, но не соприкасаясь друг с другом, они испускают слабое свечение, которое затем меркнет; в эти моменты они похожи на те призрачные световые пятна, которые возникают на сетчатке глаза после яркой вспышки.
(обратно)24
В оригинале тексты представляют собой сочетание рифмованных и нерифмованных стихов. При переводе использован белый стих.
(обратно)25
В статье, напечатанной в № 9 журнала “Мастерская романа”, Лакис Прогидис ставит вопрос о связях между поэзией и романом, в частности, на примере моих произведений. Этот мой “ответ” появился в № 10 того же журнала (весна 1997 года); перепечатан в сб. “Мир как супермаркет”.
(обратно)26
УЛИПО (полностью и в переводе — “Правила для потенциальной литературы”) — группа французских писателей под руководством поэта и прозаика Раймона Кено.
(обратно)27
Этот текст был напечатан в № 59 журнала “Инфини” (1997), который откликнулся на дело Дютру подборкой, посвященной проблемам педофилии и защиты прав детей; авторам предлагалось ответить на следующие вопросы:
I — Чем вы объясните тот факт, что дело Дютру вызвало такой громкий общественный резонанс? Кого, по вашему мнению, сегодня называют ребенком? Кого называют педофилом?
II — Когда вы были несовершеннолетним, была ли у вас любовная связь со взрослым и что вы о ней помните? Сохранились ли у вас лично воспоминания о детской сексуальности?
III — Считаете ли вы, что ученые и защитники прав детей говорят нам все? Не хотели бы вы что-либо добавить?
(обратно)28
Статья была опубликована в качестве послесловия к работе Валери Соланас “Манифест ОПУМ” (Solanos К SCUM Manifesto. Paris: Mille et une nuits, 1998).
(обратно)29
Статья была опубликована в сб. "Остаться живым и другие тексты" (Librio, 1999).
(обратно)30
Этот текст — перевод Мишеля Мейера на французский язык английского перевода Роэла де Бая интервью, которое Мишель Уэльбек дал немецкому журналисту Вольфгангу Фаркасу и которое было опубликовано 2 ноября 2000 года в еженедельнике “Ди Цайт” в рамках цикла под общим названием “Ich habe einen Traum" (“Мне снится сон”).
(обратно)31
Статья была опубликована в “Словаре рок-музыки” под редакцией Мишки Ассейя (издательство “Робер Лаффон”, 2000).
(обратно)32
Перевод Ю. М. Антоновского.
(обратно)33
Интервью было напечатано в еженедельнике "Опиньон Эндепандант" ("Независимое мнение") в январе 2002 года.
(обратно)34
Пьер Ассулин — известный французский журналист и писатель, сотрудничает как литературный обозреватель в газетах “Монд” и “Нувель обсерватёр”, а также на нескольких радиостанциях; главный редактор журнала “Лир” (“Читать").
(обратно)35
“Кампус” — телепередача о литературе на канале “Франс-2” (ведущий — журналист Гийом Дюран).
(обратно)36
Туристические и гостиничные компании.
(обратно)37
Франсуа Нурисье — известный французский романист.
(обратно)38
Этот текст был опубликован в сборнике "Лансароте и другие тексты" (Издательство "Либрио", 2002).
(обратно)39
Этот текст был опубликован в сборнике “Сельские сказки" (издательство “Миль э юн нюи”, 2002) и перепечатан в сборнике “Лансароте и другие тексты" (“Либрио”, 2002).
(обратно)40
Эта статья была опубликована в “Нувель ревю франсез” (апрель 2002 года, № 561) и перепечатана в сборнике “Лансароте и другие тексты”.
(обратно)41
Знаменитый вопрос Теодора Адорно.
(обратно)42
Во французском переводе роман Саймака называется “Назавтра псы” (“Demain les chiens”).
(обратно)43
Статья была опубликована в газете “Фигаро" от 6 января 2003 года (под другим названием).
(обратно)44
“Ярко-розовое” (“Rose bonbon”) — роман Николя Жон — Горлена, вышедший в 2002 г. в издательстве “Галлимар”; вызвал протесты и судебные иски ряда общественных организаций — в том числе ассоциации защиты прав детей “Голубой ребенок”, - обвинявших писателя в пропаганде педофилии (что, впрочем, привело к резкому увеличению тиража).
(обратно)45
Таслима Насрин — бенгальская писательница-феминистка.
(обратно)46
Книга Даниеля Линденберга “Призыв к порядку: Исследование о новых реакционерах” (“Rappel a l’ordre: Enquete sur les nouveaux rcactionnaires”) вышла в октябре 2002 г.
(обратно)47
Жан-Пьер Шевенман — французский политик, один из основателей Социалистической партии; в 2002 г. принимал участие в президентских выборах (занял шестую позицию, получив около 5 % голосов).
(обратно)48
Пьер Розанваллон — один из крупнейших европейских политических теоретиков, специалист по истории и теории демократии; был секретарем Фонда Сен-Симона (1982–1999), организации, объединявшей государственных деятелей, крупных предпринимателей и университетскую интеллигенцию и призванной оказывать поддержку независимым идеям и исследованиям либеральной направленности.
(обратно)49
Данный текст является интернет-публикацией.
(обратно)50
Уничижительное слово “beauf”, которое употребляет автор в названии и тексте статьи, означает “средний француз”, “обыватель с реакционными шовинистическими взглядами".
(обратно)51
Ги Бедо — французский комедийный актер, сценарист и певец; Сине и Кабю — известные политические карикатуристы.
(обратно)52
“Laissez-les vivre", ассоциация помощи женщинам с осложненной беременностью.
(обратно)53
Статья представляет собой предисловие к книге Мишеля Бурдо “Огюст Конт сегодня” (Bourdeau М. Auguste Comte aujourd’hui. P.: Kime, 2003).
(обратно)54
Цит. по: Паскаль Б. Мысли / Пер. с фр. Ю. Гинзбург. М., 1995. С. 99 (№ 84).
(обратно)55
Это интервью было напечатано в “Пари-Матч” в октябре 2006 г., № 3000.
(обратно)56
Филипп Джиан — французский писатель, стремящийся сочетать традицию европейского романа с опытом американской массовой культуры.
(обратно)57
Паскаль Б. Указ. соч. С. 100 (№ 90).
(обратно)58
Роман “Благоволительницы” (2006), посвященный Второй мировой войне и получивший Гонкуровскую премию и Гран-при Французской академии.
(обратно)59
Этот текст Мишель Уэльбек послал в редакцию серии "Я читал" по случаю её пятидесятилетия.
(обратно)60
Автобиографический роман А. де Ламартина (1852).
(обратно)61
Статья была впервые напечатана в журнале "Артфорум" в сентябре 2008 г.
(обратно)62
На месте (лат.).
(обратно)


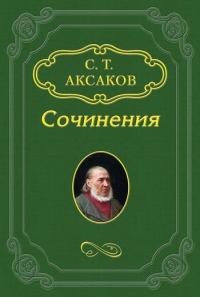
Комментарии к книге «Человечество, стадия 2», Мишель Уэльбек
Всего 0 комментариев