Скульптурная группа «Рабочий и колхозница» является главным произведением В. И. Мухиной. Эта работа обессмертила ее имя. История создания скульптурной группы особенно важна для понимания творчества и мировоззрения художницы, черт ее таланта, явных и внутренних, скрытых от поверхностного взгляда, и стимулов ее работы. Представляется, что здесь важна каждая деталь и в этой истории не может быть второстепенных моментов. Восстановление всех событий, сопутствовавших созданию этой группы, необходимо для более полного ознакомления с творческой биографией Мухиной. Скульптурное произведение «Рабочий и колхозница» стало символом нашей страны в определенный период ее истории. Появление его было не только художественным, но и политическим событием.
Кроме того, оно было этапным явлением в становлении советской культуры, по-видимому, высшим ее свободным взлетом в предвоенную эпоху. По значению и силе в одном ряду с ним могут быть поставлены, вероятно, такие произведения, как «Хорошо!» и «Во весь голос» В. Маяковского, «Броненосец «Потемкин» С. Эйзенштейна. Однако эти вещи были созданы несколько ранее. В 1930-е годы в кино, живописи, театре, где сильнее чувствовался пресс сталинских ограничительных установок в искусстве, ничего равного «Рабочему и колхознице» появиться не могло. Исключение составляют лишь «Тихий Дон» и некоторые архитектурные работы, кстати сказать, тесно связанные как раз с произведением Мухиной. Поэтому с различных позиций: социокультурных, психологии искусства, взаимодействия и взаимовлияния различных его видов и жанров, а также роли и места, которое они занимают в общественном сознании, такое явление, как статуя «Рабочий и колхозница», представляет исключительный интерес. И это еще раз говорит о том, что в истории создания «Рабочего и колхозницы» не может быть второстепенных и незначительных деталей. Каждый даже кажущийся случайным эпизод с какой-то точки зрения может оказаться весьма важным или даже ключевым. Все это обязывает нас с особым вниманием отнестись ко всем известным на сегодняшний день событиям, связанным с возникновением и жизнью этого выдающегося произведения.
АРХИТЕКТУРНЫЕ ИДЕИ
Известно, что идея увенчания советского павильона Всемирной парижской выставки парной статуей «Рабочий и колхозница», выполненной из металла, принадлежит архитектору Б. М. Иофану. Как родилась эта идея и что ей предшествовало?
В самом начале 1930-х годов происходили серьезные события в советской архитектуре. Прежние острые разногласия между конструктивистами и традиционалистами были притушены, и представители всех прежде враждебных друг„другу течений вошли в 1932 году в единый Союз советских архитекторов. Новые веяния в архитектуре явились опосредованным отражением изменений в общественном сознании. В социальной психологии общества наметились две, казалось бы, разнонаправленные тенденции.
С одной стороны, перестал удовлетворять массы идеал аскетизма и самоограничения первых революционных лет.
Люди как бы несколько устали от суровости быта, им захотелось чего-то более человечного, понятного и уютного. Уже в конце 1920-х годов Маяковский устами спящих вечным сном у Кремлевской стены революционеров спрашивал у своих современников: «А вас не тянет всевластная тина? Чиновность в мозгах паутину не свила?» Поэт явно чувствовал возникающее стремление не столько даже к ненавидимой им «изящной жизни», сколько просто к более спокойному, прочному существованию в капитально построенных домах среди настоящих, крепких, красивых, «дореволюционных» вещей.
С другой стороны, успехи индустриализации, выполнение первого пятилетнего плана, пуск новых заводов, строительство Днепрогэса, Магнитогорска, Турксиба и т. д. порождали энтузиазм, желание видеть и в искусстве, в том числе и в архитектуре, увековеченными эти победы.
Хотя истоки этих двух тенденций были различны, они, переплетаясь и взаимодействуя, породили желание видеть несколько иное искусство — не чисто агитационное и только призывающее, не аскетичное и суровое, а более светлое, утверждающее, близкое и понятное каждому и в определенной мере пафосное, прославляющее. От этого нового, небывалого еще искусства ждали понятности и впечатляющей величавой силы. Это искусство не должно было резко рвать с традицией подобно конструктивизму и производственничеству 1920-х годов, но, наоборот, в чем-то опираться на культурное наследие прошлых эпох и на мировой художественный опыт... Это было естественно: новый, вышедший на историческую и государственную арену класс должен был освоить культурные богатства свергнутых классов, а не «перепрыгивать» через них.
Именно такую архитектуру предложил Б. М. Иофан в конкурсных проектах Дворца Советов и Парижского павильона, смело сочетая ее с пластическими искусствами, в частности со скульптурой, приобретавшей новые «архитектурные» качества. Справедливо пишет доктор архитектуры А. В. Рябушин, что в сложившихся социально-психологических условиях творческая фигура Иофана оказалась в высшей степени исторически современной. Воспитанный в традициях классической школы, он не остался чужд архитектурных веяний периода своего ученичества. Тщательно изучив старую архитектуру Италии, он в то же время прекрасно знал современную ему западную практику и мастерски владел языком зодчества 1920-х годов.
Архитектура Иофана представляет собой цельный и, главное, образный сплав разнородных тенденций и истоков. Это была архитектура эмоциональная, динамичная, устремленная вперед и вверх, построенная на достаточно привычных, хорошо воспринимаемых пропорциях и сочетаниях масс и объемов, вместе с тем выразительно использующая прямолинейность, четкую геометричность конструктивизма, да и к тому же еще в сочетании с фигуративной пластикой и отдельными классическими деталями — профилированными тягами, картушами, пилонами и т. д. Причем классические мотивы часто нарочито упрощались, а от архитектуры 1920-х годов брался лаконизм и структурная ясность целого. Все это позволяло Б. М. Иофану, как считает А. В. Рябушин, создать «свой ордер, свой порядок построения и развития архитектурных форм, крупномасштабность и сочная пластика которых сочетались с филигранной профилировкой вертикально устремленных членений».
Для нашей темы наибольший интерес представляет отношение Иофана к синтезу архитектуры со скульптурой. Первоначально в первых конкурсных проектах Дворца Советов (1931) Иофан использовал скульптуру в здании достаточно традиционно — если не в виде атлантов и кариатид, то, во всяком случае, в целях скорее декоративных. Это были рельефы и отдельные группы па пилонах. Собственно же содержательная скульптура, несущая главную идейную нагрузку, устанавливалась рядом, но отдельно от здания, в виде специального монумента или памятника. Так, в первом конкурсном проекте Дворца Советов предполагалось поставить два отдельных объема основных залов для заседаний Верховного Совета и различных торжественных собраний, а между ними помещалась башня, увенчанная скульптурой рабочего, держащего факел. Но а этот же конкурс бывший учитель Иофана итальянский рхитектор Армандо Бразини представил проект, где предлагалось все сооружение завершить статуей В. И. Ленина. Такая идея увлекла многих, и специально созданный совет строительства Дворца Советов при Президиуме ЦИК СССР после проведения закрытых конкурсов в 1930-х годах, когда проект Иофана был принят за основу, особым постановлением от 10 мая 1933 года утвердил следующее положение: «Верхнюю часть Дворца Советов завершить мощной скульптурой Ленина величиной 50—75 м с тем, тобы Дворец Советов представлял вид пьедестала для фигуры Ленина» (В 1936 г. С. Д. Меркуров в эскизе статуя В. И. Ленина предусматривал ее высоту 100 метров).
Много лет работавший с Б. М. Иофаном И. Ю. Эйгель, хорошо знакомый со всеми перипетиями проектирования Дворца Советов, писал позже, что «это решение не могло быть сразу воспринято автором проекта, основанного на не-сколько ином приеме композиции, Иофану нелегко было преодолеть самого себя». Он пытался вначале найти другое эксцентричное решение, при котором здание все же не превращалось бы в пьедестал, а огромная скульптура помещалась впереди него. Однако ставшие позднее соавторами Иофана по Дворцу Советов В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейх в проектах 1934 года установили статую па здании, причем точно по вертикальной оси.
Иофан понимал, что такое объединение статуи со зданием превращает Дворец Советов просто в гигантски увеличенный памятник, где собственная архитектура сооружения становится уже вторичной, подсобной по отношению к скульптуре. Как бы ни была эта архитектура интересна, значительна, впечатляюща, она уже самой логикой памятникового образа обречена на второстепенные роли, ибо главным в памятнике неизбежно является статуя, а не пьедестал. Иофан, по-видимому, понимал и общую нерациональность предлагаемого решения, ибо при увеличении здания до 415 метров по высоте 100-метровая статуя в условиях московского климата была бы, по предсказаниям синоптиков, более 200 дней в году скрыта облаками.
Однако все же грандиозность задачи привлекала Иофа-па, и он, в конце концов, иё только «преодолел самого себя», но и глубоко воспринял идею объединения скульптуры со зданием. Эта идея вошла уже в 1930-х годах не только в массовое сознание, но и в практику строительства в виде более обобщенного принципа «однообъектного синтеза». Если в предыдущую эпоху, реализуя ленинский план монументальной пропаганды, архитекторы пытались добиться, условно говоря, «пространственного синтеза», то есть художественной увязки памятников и монументов с площадью, улицей, сквером и т. д. (удачным примером чего является реконструкция площади Никитских ворот с памятником К. А. Тимирязеву и Советской площади с монументом первой Советской Конституции в Москве), то в строительстве 1930-х годов как раз после конкурсов на проект Дворца Советов получил распространение синтез в масштабе одного объекта. В этом случае здание или сооружение включало скульптурные элементы, но не в виде традиционных кариатид и атлантов, а как «самоценные» содержательные произведения. Примерами тому являются многие подземные станции московского метрополитена предвоенной и военной постройки, шлюзы канала имени Москвы, здание Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, новые многоэтажные дома в начале улицы Горького и т. д. Этот принцип оказался весьма прочно закрепленным в сознании и продолжал использоваться еще и в конце 1940-х — начале 1950-х годов, в том числе в некоторых высотных зданиях (например, на площади Восстания, на Котельнической набережной), в домах-новостройках на Смоленской набережной и в ряде других мест.
Проект Дворца Советов стоял у истоков этого направ-шнпя «однообъектного синтеза», и сам Иофан, в конечном счете, искренне увлекался этой идеей. В своем собственном творчестве он начал довольно регулярно ее реализовывать. В предвоенном варианте Дворца Советов мыслилось установить еще 25 скульптурных групп, по четыре на каждом ярусе. А в так называемом «свердловском варианте» того же проекта, подготовленном в годы войны, предполагался пояс из 15-метровых скульптур в нишах между пилонами на высоте 100 метров, а у входа планировалось поставить органически связанные со зданием статуи К. Маркса и Ф. Энгельса. Парижский павильон 1937 года венчала статуя «Рабочий и колхозница», а нью-йоркский павильон — скульптура рабочего со звездой. Проектируя в 1940 году памятник-ансамбль «Героям Перекопа», Иофан предложил объединить с архитектурными элементами скульптуру «Красноармеец», и даже в его набросках 1947—1948 годов комплекс нового здания МГУ должен был увенчаться скульптурой. Таким образом, почти во все свои проекты, выполненные после 1933 года, Иофан вводил скульптуру, причем последняя служила у него для развития и конкретизации архитектурной идеи.
С наибольшей же художественной завершенностью и гармонической полнотой этот принцип был воплощен в павильоне СССР на Всемирной выставке 1937 года в Париже (в дальнейшем мы будем его именовать Парижским павильоном). Любопытно в этой связи еще раз отметить, что идея содержательного объединения скульптуры с архитектурой после публикации проекта Дворца Советов настолько проникла в сознание архитектурной общественности, что участники конкурса проекта Парижского павильона в 1935—1936 годы (Б. М. Иофан, В. А. Щуко с В. Г. Гельфрейхом, А. В. Щусев, К. С. Алабян с Д. Н. Чечулиным, М. Я. Гинзбург, К. С. Мельников) почти все исходили из «однообъектного» объединения архитектуры со скульптурой. Известный исследователь истории советской архитектуры А. А. Стригалев отмечает, что в начале 1930-х годов прием увенчания здания скульптурой воспринимался как композиционная находка, специфичная для новой направленности советской архитектуры. Он же, анализируя проекты Парижского павильона, говорит о том, что «во всех проектах, в разной степени и по-разному, присутствовала особого рода «изобразительность» архитектурной формы, как прямой результат целенаправленного поиска наглядной образности. Полнее всего эта тенденция проявилась в проекте Иофана, менее других — в проекте Гинзбурга».
* * *
Главным французским сооружением на выставке являлся Дворец Шайо, возводимый на холме Трокадеро. Ниже и слева на берегу Сены, на набережной Пасси, был выделен узкий, вытянутый прямоугольный участок для павильона СССР, а напротив него, через площадь Варшавы,— примерно такой же прямоугольник для павильона Германии. Издали, с противоположного берега Сены, вся эта композиция с Дворцом Шайо в центре и несколько вверху и павильонами СССР и Германии по флангам воспринималась как своего рода планировочное отражение социально-политической ситуации в тогдашней Европе.
Проект Б. М. Иофана, победивший на конкурсе, представлял собой длинное, поднимающееся стремительными уступами к мощной головной вертикали здание, увенчанное парной скульптурной группой. Автор его писал позже: «В возникшем у меня замысле советский павильон рисовался как триумфальное здание, отображающее своей динамикой стремительный рост достижений первого в мире социалистического государства, энтузиазм и жизнерадостность нашей великой эпохи построения социализма...
Эту идейную направленность архитектурного замысла надо было настолько ясно выразить, чтобы любой человек при первом взгляде на наш павильон почувствовал, что это — павильон Советского Союза...
Я был убежден, что наиболее правильный путь выражения этой идейной целеустремленности заключается в смелом синтезе архитектуры и скульптуры.
Советский павильон представляется как здание с динамичными формами, с нарастающей уступами передней частью, увенчанной мощной скульптурной группой. Скульптура мне представлялась сделанной из легкого светлого металла, как бы летящей вперед, как незабываемая Луврская Нике — крылатая победа...»
Сегодня, спустя несколько десятилетий после парижской «Экспо-37», мы можем, наверное, назвать и еще одну причину упорного стремления всех участников конкурса к «изобразительной» архитектуре, причем к динамичной и идейно-образной. Дело было в том, что сам наш павильон должен был быть экспонатом, причем наиболее впечатляющим и сильно воздействующим на воображение. Его предполагалось создать из натуральных материалов. Это не только отвечало девизу выставки «Искусство и техника в современной жизни». Главное же, что за этими броскими формами триумфального, по выражению Иофана, здания,, скрывалась достаточная бедность экспозиции. Нам еще почти нечего было показывать, кроме диорам, фотографий, макетов, красочных панно. Последний, 4-й, завершающий зал павильона вообще был пустым: в середине стояла большая статуя Сталина, а на стенах располагались плоские панно. В советском павильоне преобладали скульптура и живопись. В частности, к выставке были выполнены следующие произведения — Л. Бруни «Московское море», П. Вильямса «Танцы народов Кавказа», А. Гончарова «Театр», А. Дейнеки «Марш на Красной площади», П. Кузнецова «Колхозный праздник», А. Лабаса «Авиация», А. Пахомова «Дети», Ю. Пименова «Завод», А. Самохвалова «Физкультура», М. Сарьяна «Армения». Естественно поэтому, что повышались требования к выразительности павильона, демонстрировавшего вполне реальные и достаточно выразительные достижения советского зодчества, уже вполне определившиеся к этому времени.
Б. Иофан писал, что во время работы над конкурсным проектом у него «очень скоро родился образ... скульптуры, юноша и девушка, олицетворяющие собой хозяев советской земли — рабочий класс и колхозное крестьянство. Они высоко вздымают эмблему Страны Советов — серп и молот».
Однако в последнее время появились утверждения, что не сама идея парной скульптуры с эмблемой была «изобретением Иофана» и что «плакатный» жест руки — рука с некой эмблемой, даже образы юноши и девушки с молотом и серпом,— все это уже было многократно обыграно в советском искусстве. В частности, имелся фотомонтаж 1930 года художника-антифашиста Д. Хартфильда, изображающий молодых парня и девушку с серпом и молотом в поднятых руках. А. Стригалев утверждает еще, что в начале 1930-х годов в зале Всекохудожника была выставлена парная погрудная скульптура: юноша и девушка держат молот и серп в вытянутых руках, и на основании всего этого делает вывод, что Иофан лишь «решительно обратился к тому, что «носилось в воздухе»,— именно в этом состояла сила и убедительность его замысла».
Но как бы там ни было, сам ли Иофан придумал первый эскиз «Рабочего и колхозницы» и «врисовал» его в свой проект, или же он воспользовался каким-либо источником для визуального формулирования этой идеи (Недавно были опубликованы воспоминания И. Ю. Эйгсля — секретаря Б. М. Иофана, в которых он утверждает, что на создание парной композиции «Рабочий и колхозница» Иофана натолкнула идея античной статуи «Тираноборцы», изображающей Крития и Несиота, стоящих рядом с мечами в руках. («Рабочий и колхозница» // Скульптура и время / Автор-составитель Ольга Костина. М.: Сов. художник, 1987. С. 101.) , но его предложение о постройке здания с парной статуей на крыше было принято и подлежало осуществлению. Однако необходимо сразу же отметить, что даже если считать этот рисунок одним из конкретных проектов будущей статуи, то он, пожалуй, наиболее сильно отличался от того, что было создано затем в натуре. Отличался не общей композицией, которая действительно была найдена и задана Иофаном, но характером ее воплощения. На нарушение этой композиции пошел в своем конкурсном проекте лишь И. Шадр. Отличие же рисунка Иофана от других проектов — в деталях, в передаче движения, в позе и т. д. Но прежде чем переходить к конкурсу на проект статуи «Рабочий и колхозница», посмотрим, каким путем к воплощению этой идеи шла В. И. Мухина.
ПУТЬ СКУЛЬПТОРА
В самой общей форме будет вполне справедливо сказать, что вся предыдущая творческая деятельность В. Мухиной была своего рода подготовкой к созданию статуи «Рабочий и колхозница». Однако, по-видимому, из всего творчества Мухиной до 1936 года можно выделить какие-то работы, более близкие по теме, сюжету, образным задачам, пластическому подходу к решению скульптуры «Рабочий и колхозница», и сосредоточить внимание именно на них, не касаясь ее творчества в целом.
Представляется, что решающую роль для Мухиной в осознании себя как скульптора преимущественно монументального направления и для выбора именно этого пути творчества сыграл ленинский план монументальной пропаганды. Активно включившись в его осуществление, Вера Игнатьевна в 1918—1923 годах создала проекты памятников Н. И. Новикову, В. М. Загорскому, Я. М. Свердлову («Пламя революции»), «Освобожденный труд» и монумента Революции для города Клипа. С точки зрения нашей темы наибольший интерес представляют проекты памятников «Освобожденный труд» (1919) и «Пламя революции» (1922-1923).
Проект памятника «Освобожденный труд», закладку которого производил В. И. Ленин на месте разобранного памятника Александру III, подробно описал М. Л. Нейман. Это была двухфигурная композиция, посвященная союзу рабочего класса и крестьянства. Достаточно схематично Мухина представила здесь фигуры рабочего и крестьянина, как бы устремившихся к общей единой цели, на которую указывает рабочий. В этом проекте еще не проявлялась внутренняя убедительность и правдивость образов, характерная для «Рабочего и колхозницы» и скорее присутствовали лишь верно подмеченные, хотя и несколько поверхностные, черты облика тех современных художнице рабочих и крестьян, которых она наблюдала в революционные и предреволюционные годы. Но в скульптуре воплотились уже определенный напор, решительность движения, объединяющая персонажей. Н. И. Воркуыова также считает эту группу первым «далеким прообразом» знаменитой парижской статуи».
Памятник Я. М. Свердлову, проект которого Мухина разработала в 1922—1923 годах, особенно интересен тем, что скульптор воспроизводит здесь не портретный облик, а пользуется аллегорическим образом деятеля революции, придавая статуе не черты натуры, а воплощая идею и смысл жизни и деятельности Свердлова. Наиболее же важным является то, что Мухина решает тематическую задачу всем образным строем предполагаемой скульптуры, и поэтому для нее атрибутика играет второстепенную роль. Она даже рисует несколько вариантов этого памятника — с факелом, с венком... Подобный же подход увидим позже в парижской статуе — не эмблематические атрибуты определяют ее основное содержание, и не они являются главными в композиции, а сама пластика вдохновенного образа. Вместе с тем именно эту деталь — «руку с некоей эмблемой» — А. Стригалев считает одним из «косвенных прототипов» проекта Иофана, прямо указывая на «Пламя революции» В. Мухиной.
У этих двух произведений есть некоторые общие черты, среди которых для нас представляет особый интерес воплощение порыва, движения. Однако даже еще более сильно, чем в «Освобожденном труде» и «Пламени революции», оно выражено в сравнительно небольшой вещи «Ветер» (1926), которую сама Мухина считала одной из главных своих работ. Это фигура женщины, сопротивляющейся бурному ветру, буквально рвущему ее одежду и волосы, заставляющему ее максимально напрячься в противостоянии яростному порыву. Динамизм, напряженность, энергия преодоления — воплощение всех этих черт словно специально отрабатывается скульптором заранее, чтобы потом с небывалой мощью быть реализованными в «Рабочем и колхознице».
И конечно, даже неискушенный читатель назовет среди предшественниц парижской статуи мухинскую «Крестьянку» (1927). Это могучее олицетворение плодородной матери-земли. Критики по-разному оценивают эту скульптуру, пользовавшуюся неизменным успехом как в СССР, так и за границей, в частности на Венецианской Биенале 1934 года, где она была отмечена специальной наградой. Так, например, Н. Воркунова считает, что «стремление к монументализации образа привело Мухину в данном случае к внешнему подчеркиванию чисто материальной, физической силы, выявленной в утрированно массивных объемах, в общем огрублении и известном упрощении человеческого образа». Однако нам этот образ представляется вполне правдивым и отнюдь не огрубленным. Просто В. И. Мухина, не имея в это время возможности создавать действительно монументальные произведения, но испытывая внутреннюю тягу к этому, пошла в создании станкового произведения на явное применение приемов аллегории и монументализации. Отсюда и установка скульптуры «Крестьянка» на своего рода пьедестал из снопов, что было рекомендовано комиссией, просматривавшей эскиз статуи, а также явилось выражением общего стремления решить эту вещь как своеобразное обобщение и символ. Лишь с позиций станкового искусства можно воспринимать «Крестьянку» как некое утрирование и упрощение, говорить об «отвлеченности самого художественного замысла» и т. д. Нам представляется, что художница вполне сознательно создавала монументальный образ по тем канонам, которых она тогда придерживалась. Особенно важно заметить, с какой настойчивостью Мухина выявила внутреннее достоинство, веру в правильность жизни, мерилом которой был труд, уверенного, как тогда казалось, в себе человека, крепко и незыблемо стоящего на собственной земле. Это был образ хозяйки и кормилицы России, каким он рисовался в общественном сознании в конце нэпа. И главным образом своим достоинством и свободой, выразившимися в его облике, он близок последовавшим через десятилетие после «Крестьянки» «Рабочему и колхознице».
Важнейшее достоинство этой символической скульптуры состоит в том, что она прославляет свободный труд. К этой теме Мухина особенно интенсивно обращалась в конце 1920-х — начале 1930-х годов. Здесь можно вспомнить фриз для здания Межрабпома (1933—1935), проекты монументальных статуй «Эпроновец» и «Наука» («Женщина с книгой») для гостиницы Моссовета (будущая гостиница «Москва»).
Анализируя собственные монументальные работы, большинство из которых остались неосуществленными, а также некоторые монументализированные портретные вещи, прежде всего портрет архитектора С. А. Замкова (1934—1935), Мухина еще до создания «Рабочего и колхозницы» четко осознала и выразила основную тему своего творчества. И эта твердая идейная позиция, ясное понимание направления работы явились, как нам кажется, решающим фактором в ее победе на конкурсе и завоевании ею права на выполнение статуи для Парижского павильона. Еще в конце 1935 — начале 1936 года Мухина работала над журнальной статьей, где она сформулировала свое творческое кредо. Симптоматично само название статьи: «Я хочу показать в моих работах нового человека». Вот что тогда писала Вера Игнатьевна:
«Мы — творцы нашей жизни. Образ творца — строителя нашей жизни, в какой бы сфере он ни работал, вдохновляет меня больше, чем какой-либо другой. Одной из наиболее заинтересовавших меня в последнее время работ был бюст-портрет архитектора С. Замкова. Я назвала его «Строитель», так как такова была основная идея, которую я старалась выразить. Кроме портретного сходства с человеком я хотела воплотить в скульптуре синтетический образ строителя, его непреклонную волю, его уверенность, спокойствие и силу. Наш новый человек — вот в основном та тема, над которой я работала последние полтора года...
Стремление создать искусство больших и величественных образов является основным истоком пашей творческой силы. Почетное и славное дело советского скульптора быть поэтом наших дней, нашей страны, певцом ее роста, воодушевлять народ силою художественных образов».
Итак, «новый человек — вот тема, над которой я работаю». Эта убежденность в значимости и важности найденной темы делали Мухину, пожалуй, в значительно большей степени, чем остальных участников конкурса, внутренне подготовленной к тому, чтобы наиболее вдохновенно и впечатляюще решить предложенную ей задачу — создать образы молодых строителей нового мира — рабочего и колхозницы.
Чтобы закончить этот «предысторический» экскурс, необходимо сказать еще об одной немаловажной детали, относящейся к чисто пластическим особенностям творчества В. И. Мухиной. В начале 1930-х годов где-то на пути от «Крестьянки» к «Рабочему и колхознице» в процессе работы над надгробием Пешкову, над «Эпроновцем» и «Наукой» менялось понимание Мухиной задач монументальной скульптуры, происходила эволюция художника: от утяжеленных форм, от крупных и ясно читаемых основных объемов, выраженных нередко с нарочитым лаконизмом, Мухина переходит к большой детализации, а иногда даже к филигранной отделке поверхности, к отшлифовке более тонких форм. Б. Терновец отмечал, что с начала 1930-х годов Мухина вместо «больших, обобщенных плоскостей стремится к богатству рельефа, к пластической выразительности деталей, которые скульптор дает с законченной четкостью». Однако детали не становятся мелочными, не нарушают целостности впечатления. Это новое направление в творчестве Мухиной особенно отчетливо сказалось в ее решении проекта «Фонтана национальностей» для площади у Кропоткинских ворот в Москве.
Конечно, эта эволюция в творчестве Мухиной была порождена не только внутренним «саморазвитием» скульптора, но и в определенной мере является отражением общих процессов, происходивших в советском искусстве в 1930-е годы. Это было время ликвидации ранее существовавших свободных художественных группировок и повального объединения всех художников в единую организацию на основе общей платформы узкопонимаемого реалистического искусства, время исторического принятия весьма тяжелого для искусства постановления ЦК Коммунистической партии «О перестройке литературно-художественных организаций» (23 апреля 1932 г.), время введения принципов единообразия в художественном образовании. В 1934 году на Первом съезде писателей А. М. Горький сформулировал особенности метода социалистического реализма, а несколько ранее, летом 1933 года, посетив выставку «Художники РСФСР за 15 лет», А. М. Горький в своем отзыве о ней сказал: «Я за академическую, за идеальную и четкую форму в искусстве...» — и подчеркнул необходимость «некоторой... идеализации советской действительности и нового человека в искусстве» 1.
Именно в 1930-е годы были созданы произведения, ставшие классикой социалистического реализма, как «В. И. Ленин у прямого провода» И. Грабаря, «Трубачи Первой конной» М. Грекова, «Допрос коммунистов» Б. Иогансона, «Колхозный праздник» С. Герасимова, портреты академика И. Павлова и скульптура И. Шадра (Иванов) М. Нестерова, портрет В. Чкалова работы С. Лебедевой и др., где мы видим не только высокую идейность, но и тщательное, порой даже любовное отношение к частностям, к деталям, иногда буквально к мелочам, которые, однако, не только не снижают, но, наоборот, усиливают доходчивость и воспринимаемость произведений.
Особо следует отметить, что в монументальной скульптуре и монументальном портрете в это время у ряда авторов наблюдается стремление отойти от лапидарности и экспрессивности.
Наиболее важным в этой эволюции творческих принципов является тот факт, что отказ от утяжеленных форм, от формальных приемов монументализации не привел таких скульпторов, как Андреев, Мухина, Шервуд, к утере монументальности вообще. Наоборот, мухинские надгробие Пешкова, «Женщина с книгой», «Рабочий и колхозница» — новаторские работы, монументальные внутренне. Именно это дало ей возможность впоследствии говорить, что монументальность — это не приемы и не техника, а характер художника, метод его мышления, особенности его мироощущения. Монумеитализм — это не обобщенные формы, большие размеры и крупные массы, а прежде всего идея, это вид мышления художника. Монументализм не может быть прозаическим, но он вовсе не обязательно связан с лаконизмом форм, с отказом от внимательной проработки деталей. И кто скажет, что «Рабочий и колхозница» не монументальны? А ведь у них проработаны даже шнурки и ранты на ботинках, которых, в общем-то, никто не видит.
Но дело, конечно, не только в проработке форм. Мухина отказалась от спокойной статуарности, внушительной статичности, свойственной монументальному искусству, от концентрированного выражения в памятниках одной все-подчиняющей идеи и одного доминирующего чувства. Она пыталась внести в монументы естественность, передать в памятниках эмоциональное богатство и разносторонность натуры, то есть наряду с высокой идеей вдохнуть в монументы непосредственность, жизненность и теплоту, привнести даже некоторые черты жанровости, чтобы это были не герои, стоящие над людьми, а личности, вышедшие из народа, его плоть и кровь.
Началом нового этапа в творчество Мухиной была фигура женщины с кувшином из «Фонтана национальностей», вершиной — «Рабочий и колхозница», а показателем перехода к другим тенденциям, идущим со станкового и даже жанрового искусства, но не успевшим до конца выявиться,—памятник П. И. Чайковскому перед зданием Московской консерватории и группа «Требуем мира» К
В. И. Мухина всегда стремилась работать в архитектуре, ясно понимая, что это накладывает некоторые ограничения на деятельность скульпторов, но одновременно дает их работам и определенный выигрыш. Ещё в 1934 году она написала статью «Законы творчества, условия сотрудничества», где говорила о необходимости связи скульптуры с архитектоническими и конструктивными основами сооружения. Скульптура «должна не только быть согласована, но и вытекать из четко разработанной архитектурной идеи. Не иллюстрировать чужую мысль призван скульптор, работающий с архитектором, а найти "ей возможно более яркую и убедительную форму выражения своими специфическими художественными средствами».
Мухина хорошо чувствовала, что работа в архитектуре требует декоративного дара, и этим даром она обладала. Еще в начале 1920-х годов она создала эскизы статуй для «Красного стадиона», барельеф для Политехнического музея (1923) и выполнила чисто архитектурную работу — проект павильона «РТзвестий» для Сельскохозяйственной выставки 1923 года. Она работала в декоративном искусстве, проектируя одежду, стеклянную посуду, выставочные интерьеры и т. д. Ее всегда привлекала декоративная скульптура, специфику которой она понимала очень хорошо, считая, что декоративная пластика должна обладать значительным содержанием, чтобы быть достаточно идейно насыщенной. В черновых заметках о специфике искусства Мухина писала в 1930-х годах, что «гибкость декоративной скульптуры позволяет аллегории выражать ею абстрактные понятия, что довольно редко может быть сделано средствами бытового образа. В этом плане аллегория является одним из сильнейших средств реалистического скульптурного искусства».
Понятно поэтому, что Мухину с ее развитым пониманием задач и особенностей декоративной пластики, превосходным чувством материала и, наконец, с ее опытом и стремлением к работе в архитектуре проблема создания статуи для Парижского павильона, выполняемой в новом невиданном материале, необычайно увлекла. Эта работа была согласована с архитектурой павильона и к тому же, несомненно, требовала поиска особой содержательной декоративности. Для нее фактически это были те образцы, тема и задачи, к решению которых она стремилась всю жизнь и, главное, была подготовлена всей творческой жизнью. В расцвете своего таланта Мухина начала работу — она приступила к созданию конкурсных эскизов. За плечами ваятеля было уже почти полвека жизни.
По сути дела, Иофан в своем эскизе дал лишь самый общий эскиз предполагаемой статуи, определив ее тему и основное направление композиционных поисков. Для участников конкурса открывались широкие разнообразные возможности пластической интерпретации выдвинутых архитектором художественных идей. Кроме общей композиции задавались также размеры и примерные пропорции скульптурной группы и ее материал.
Разрабатывая собственный ордер, архитектор в данном случае не воспользовался классическими соотношениями фигуры и пьедестала — «золотым сечением». Он принял «ранее не применявшиеся соотношения между скульптурой и зданием: скульптура занимает около трети всей высоты сооружения». Иофан, по-видимому опираясь на опыт создания американской статуи Свободы, предполагал сделать скульптуру из металла, но первоначально он думал о дюралюминии, ибо статуя ему мыслилась в легком и светлом металле, но не в блестящем. Профессор П. Н. Львов — видный специалист по металлу и способам его конструктивного использования — убедил архитектора применить нержавеющую хромоникелевую сталь, причем соединяемую не с помощью заклепок, как это было сделано в Америке, а путем сварки. Эта сталь обладает превосходной ковкостью и хорошим светоотраже-нием. В виде пробы из стали была «выбита» голова известной скульптуры «Давид» Микеланджело, и этот эксперимент оказался очень удачным, хотя, как замечает Иофан, все скульпторы поначалу отнеслись к стали скептически. Это замечание верно, пожалуй, по отношению ко всем участникам конкурса, кроме В. И. Мухиной, сразу же после пробной работы поверившей в новый материал.
Летом 1936 года был объявлен закрытый конкурс. Для участия в нем были привлечены В. А. Андреев, М. Г. Ма-низер, В. И. Мухина, И. Д. Шадр. Для непосредственной .же помощи в лепке статуи Вера Игнатьевна пригласила двух своих бывших учениц по Вхутемасу 3. Г. Иванову и Н. Г. Зеленскую. Срок для подготовки конкурсных проектов был дан небольшой — около трех месяцев.
В октябре 1936 года состоялся просмотр проектов. Один и тот же замысел получил у четырех ваятелей различное образное толкование в соответствии с характером и мироощущением каждого из них. Что же было предложено скульпторами?
Скупой на передачу движения, нередко статично-замкнутый в своих работах, В. А. Андреев был верен себе и здесь. Его композиция спокойна, статуарна, имеет подчеркнуто выраженную вертикаль, в ней гораздо слабее намечены диагонали, которые, по замыслу Иофана, должны были продолжить образную идею архитектурной части — стремление вперед и вверх. Между тем эти диагонали и даже горизонтали были весьма важны для того, чтобы резче противопоставить скульптурную группу уходящей ввысь вертикали Эйфелевой башни, господствовавшей над выставкой.
У андреевских «Рабочего и колхозницы» удлиненные формы, впечатление их стройности подчеркивается нерасчлененной нижней частью статуи. Будущий материал произведения — нержавеющая сталь — здесь не выявлен, скульптор работал в более привычных для него формах ваяния из камня.
Вместе с тем образы Андреева полны большого внутреннего содержания, хотя оно, пожалуй, глубже и серьезней, чем требовалось для скульптуры выставочного павильона. Почти прижатые плечами друг к другу, высоко подняв серп и молот, герои Андреева словно говорили о том, что они пришли сюда через кровь, горе и лишения, что они готовы и дальше стоять под пулями и брошенными в них камнями, не опуская знамени, не теряя духа и веры в правду. В скульптуре был какой-то внутренний надрыв: большая правда и глубина, которая была бы скорее уместна в памятнике погибшим героям продразверстки 1920-х годов, тем, в кого стреляли из обрезов, и тем, кто голодный, разутый и раздетый в 1930-х годах создавал гиганты первой пятилетки.
Эскиз В. Андреева был наиболее близок рисунку Иофана, но архитектор подчеркнул еще горизонтали в обвевающих ноги юноши и девушки драпировках. Андреев же отказался от них, и поэтому его статуя, так же, впрочем, как и проект М. Манизера, по верному замечанию Д. Аркина, «рассчитана на самодовлеющее существование, совершенно независимое от архитектуры. Это как бы памятник, который может быть поставлен на некий пьедестал и в таком виде составить законченное скульптурное целое».
Совершенно иначе ту же задачу решил М. Манизер. В его композиции — тесно сплетенные, обнаженные, тщательно вылепленные тела, богатырская грудь рабочего со всеми мышцами и ребрами и улыбающееся лицо женщины. Фигуры будто говорят: смотрите, как все хорошо, какое кругом благополучие. Все прекрасно, все достигнуто, осталось только поднять вверх серп и молот, возликовать и возрадоваться.
Добросовестно вылепленная скульптурная группа тем не менее пластически аморфна, не имеет ведущей линии, яркого доминирующего движения. Несмотря на широкий и как будто бы сильный жест, она олицетворяет союз рабочих и крестьян в духе академической аллегории XIX века. Нельзя не согласиться с Д. Аркиным, который, говоря о проекте Манизера, отмечал, что в нем «в угоду холодной классике форм принесена живая классика нашего времени, требующая простоты, внутренней силы, идейной ясности образа. Движение спрятано под условной гладкостью формы, жест кажется застывшим, поза — натянутой». Привычно утяжелена нижняя часть фигур, что еще более сковывает и так едва намеченное движение и не выявляет возможностей материала. Наиболее же неприемлемой являлась та холодная бездушность, чисто внешняя, «образцово-показательная» парадная демонстрация наших достижений, которая была в этом проекте.
Н. Воркунова отмечает, что свойственное М. Манпзеру образное мышление и манера лепки сообщают группе какую-то застылость, отвлеченность вневременного бытия, программную аллегоричность. Подобные образы могли быть созданы и художниками прошлого столетия. Только серп и молот в руках мужчины и женщины выдают их связь с современностью. Но в руках «аллегорических» персопажей они оказываются всего лишь опознавательными атрибутами, которые легко заменить другими в том случае, если бы группа получила иное назначение. Так, «если бы ей надлежало, например, не увенчивать выставочный павильон, а стоять перед воротами ботанического сада, в руках мужчины и женщины могли бы оказаться букеты роз или пальмовые ветви, и это не оказало бы решительно никакого влияния на содержание скульптуры, на ее художественное решение».
Вообще, Н. Воркунова наиболее резко и часто справедливо критикует проект М. Манизера. Например, она пишет, что «однообразие линейного ритма вносит в статую элемент сухого геометризма и подчеркнутой логичности построения». Но «геометризм», некоторый схематизм, всегда отличавшие его работы, были вполне уместны и оправданны именно в сочетании с подчеркнуто «чертежной», «прямолинейной», геометризованной архитектурой иофа-ыовского павильона. В какой-то степени это способствовало достижению единства стиля всего сооружения. Поэтому-то нам и не представляется ошибкой то, что скульптор перевел ломаную, «уступчатолестничную» линию развития архитектурных масс здания в диагональную линию движения скульптурных форм. Основной недостаток проекта Манизера состоит не в этом, а в статуарности, акцентирующей «пьедесталыюсть» здания и сообщающей группе некоторую независимость от архитектуры, «самодостаточность» скульптурного произведения.
Скульптурная группа И. Д. Шадра отличалась излишней экспрессией. Она рвалась со здания павильона. Фигура с серпом была почти распластана в воздухе. Это было какое-то неестественное, театрализованное движение, искусственная экзальтация. Нарочито подчеркнутые смелые диагонали скульптурной композиции не увязывались с более спокойной архитектурой павильона. В силу такого чрезвычайно сильно выраженного движения, противоречащего архитектурным объемам, спокойно и ритмично, хотя и стремительно нарастающим, фигуры пришлось снабдить подпорками, утяжелявшими нижнюю часть композиции и нарушившими зрительное равновесие, и без того труднодостижимое при очень развитом и дробном общем силуэте группы. Произведение Шадра явилось призывным символом, выполненным в духе агитационного искусства начала 1920-х годов. Образы, созданные Шадром, звали вперед, на борьбу, к будущему. Решение было смелым и чрезвычайно динамичным, однако оно выражало только идею призыва, а это противоречило общему замыслу павильона, где развитие и движение демонстрировались на фоне уже определившихся достижений Страны Советов.
В проекте Шадра рабочий в традиционной кепке, стремительно выбросив одну руку вперед, а вторую, держащую молот, согнув в локте и отведя назад, словно готовился метнуть это орудие, как спортсмен, толкающий ядро. Д. Аркин замечает, что жесты были «резко утрированы, доведены до степени какой-то истерической несдержанности. Совершенно ясно, что эта развинченная мнимо патетическая «динамика» меньше всего могла воплотить ту высокую идею, которая заложена в основе художественного замысла Советского павильона». Он говорит также об «оторванности скульптурного решения от архитектуры... Статуя резко ломает ритм архитектурного построения, выходит за габариты пилона и поэтому как бы повисает над входом в павильон».
В. Мухина, по-видимому, недолго, но весьма напряженно работала над эскизом. Сохранилось несколько предварительных рисунков, говорящих о том, что она, так же как В. Андреев и М. Манизер, но в отличие от И. Шадра, приняла общую композицию Иофана: две фигуры, делающие шаг вперед, подняв над головами руки е §ерпом и молотом. Предметами ее усиленных поисков служили драпировки и положение свободных рук рабочего и колхозницы. Следовательно, она сразу же пришла к выводу о том, что в парной группе необходимо дать подчеркнутые и выразительные горизонтали — иначе ее невозможно связать с архитектурой павильона. Она пыталась соединить свободные руки мужчины и женщины «внутри» группы, а атрибуты вложить рабочему в правую руку, а колхознице — в левую, так что между серпом и молотом получался довольно значительный пространственный разрыв. Драпировки, дающие горизонтальные складки, расположенные в эскизе Иофана на уровне ног персонажей, она пыталась перенести вверх, изобразив их в виде знамени или стяга сразу же вслед за эмблемой, то есть на уровне плеч и голов рабочего и колхозницы. Остальные ее поиски не отражены в изобразительном материале: вероятно, они шли непосредственно в процессе лепки на глиняной модели.
Мухина также не согласилась с иофановской концепцией характера общего образа статуи и даже, пожалуй, всего павильона. В. М. Иофан задумал его как своего рода торжественное, величавое сооружение. Уже приводилось его мнение о том, что советский павильон рисовался ему как «триумфальное здание». В этом отношении если проект В. Андреева был ближе всего к иофановскому композиционно, то М. Г. Манизер наиболее точно передал мысль Иофана о триумфальности, торжественности всего сооружения и венчавшей его группы. И это, безусловно, является еще одним плюсом маыизеровской работы. Но Мухина собственную концепцию воплотила в проекте с такой впечатляющей силой, что сумела переубедить Иофана, и он перед правительственной комиссией, выносившей окончательное решение, поддержал ее проект, а не проект Ма-низера.
В чем же состояло различие точек зрения? В. И. Мухина писала еще в процессе создания статуи, что, «получив от архитектора Иофана проект павильона, я сразу почувствовала, что группа должна выражать прежде всего не торжественный характер фигур, а динамику нашей эпохи, тот творческий порыв, который я вижу повсюду в пашей стране и который мне так дорог». Эту же мысль Мухина развивала и позже, специально подчеркивая различие в подходе к трактовке группы. В открытом письме редактору «Архитектурной газеты» 19 февраля 1938 года она писала, что Иофан является автором скульптурного замысла, «содержащего в себе двухфигурную композицию мужской и женской фигур, в торжественной поступи возносящих кверху серп и молот...
В порядке развития предложенной мне темы мною внесено было много изменений. Торжественную поступь я превратила во всесокрушающий порыв...».
Это было не только пластическим, но концепционным, принципиальным изменением первоначального замысла архитектора. То, что Иофан с ним согласился, говорит о многом. Мухина не только тоньше и правильнее уловила общий социально-психологический настрой тогдашнего советского общества, но и вернее, шире, чем сам зодчий, поняла характер и потенциальные образные возможности, заложенные в самой архитектуре павильона.
Исходя из этой собственной трактовки образов рабочего и колхозницы. Мухина уже решала пластические задачи, все время опираясь па свой опыт работы в архитектуре. Это касалось прежде всего основных линий статуи. Как и в проектах самого Иофана, а также Андреева и Мани-зера, она выявила основную диагональ, как бы продолжающую мысленную линию, проходящую в силуэте через вершины трех последних уступов здания и далее идущую от откинутых в широком шаге ног, через торсы и к поднятым высоко вверх с небольшим наклоном вперед рукам. Сохранена и акцентирована также основная вертикаль, продолжающая линию фасадного пилона. Но кроме этого, Мухина резко усилила горизонтальную направленность группы и движение статуи вперед. Фактически она даже не усилила, а создала это движение, лишь слабо намеченное в проекте Иофана. Перечисляя внесенные ею изменения, Вера Игнатьевна сама писала об этом в уже цитированном письме: «Для большей крепости взаимной композиции с горизонтальной динамикой здания введено горизонтальное движение всей группы и большинства скульптурных объемов; существенной частью композиции стало большое полотнище материи, летящее за группой и дающее необходимую воздушность полета...»
Создание этой «летящей материи» было наиболее существенным отступлением от первоначального эскиза Иофана и одновременно одной из самых замечательных находок Мухиной, давшей ей возможность решить целый ряд пластических задач. Вместе с тем в моделировании это оказалось нелегко исполнить. Сама Вера Игнатьевна писала: «Много толков и споров возбудил введенный мною в композицию развевающийся сзади кусок материи, символизирующий те красные полотнища, без которых мы не мыслим ни одной массовой демонстрации. Этот «шарф» был настолько необходим, что без него разваливалась вся композиция и связь статуи со зданием».
Первоначально у шарфа была и еще одна, чисто служебная роль. Поскольку в первом конкурсном эскизе Мухина и Манизер в соответствии с рисунком Иофана представили своих героев обнаженными, и в том и в другом проекте требовалась драпировка некоторых частей тела. Но Мухина сразу же пришла к мысли, что драпировку необходимо использовать и для пластической интерпретации всесокрушающего движения, которое она стремилась передать. И действительно, шарф вместе с откинутыми назад и вытянутыми руками образует в средней части статуи самую мощную горизонталь, держащую всю группу: он удлиняет линию рук и придает этой тыльной части статуи ту массивность, сомасштабность с торсами и ритмический повтор горизонтальных объемов, которых нельзя было достичь просто развевающимися деталями одежды.
Шарф также обеспечивает ту «воздушность полета» и ажурность статуи, к которым стремилась Мухина. Он выявляет новизну и специфические пластические качества необычного скульптурного материала — нержавеющей стали. Наконец, использование шарфа давало возможность Мухиной новаторски воспроизвести движение и дать необычное пространственное построение всей скульптуры. Это отмечала сама Вера Игнатьевна: «Группа должна была рисоваться четким ажуром на фоне неба, и поэтому тяжелый непроницаемый силуэт был здесь совершенно неприемлем. Пришлось строить скульптуру на комбинации объемных и пространственных отношений. Желая связать горизонтальное движение частей здания со скульптурой, я считала чрезвычайно заманчивым большую часть скульптурных объемов пустить по воздуху летящими по горизонтали. Я не запомню подобных положений: обычно основной скульптурный объем (я говорю о круглой скульптуре) идет или по вертикали, или по косой, что, конечно, диктуется общеупотребительными в скульптуре материалами, как камень, дерево, цемент и пр. Здесь же — новый материал — сталь — позволял скульптору более гибкую и рискованную композицию».
В чем же была некоторая рискованность этой композиции? Конечно, прежде всего в достаточно массивном объеме шарфа, которого, наверное, не выдержала бы даже бронза, не говоря уже о других привычных материалах. Кроме того, некоторая рискованность была и в положении рук: то обстоятельство, что откинутые назад руки — правая рука мужчины и левая женщины — расположены почти горизонтально, представляет собой в действительности не очень заметное, но существенное насилие над природой. Не тренированный специально человек не может отвести назад руку так, чтобы она была параллельна земле да еще при широко расправленных плечах и груди. Подобная поза требует значительного напряжения. Между тем в статуе этого чисто физического напряжения не чувствуется — все жесты и движения, несмотря на их порыв и мощь, воспринимаются как вполне естественные, выполненные легко и свободно. Пойдя на эту условность, чего не решились сделать ни Андреев, ни Манизер, ни Иофан в своем рисунке, Мухина не только получила нужную ей дополнительную горизонталь, но и более выразительный, содержательно оправданный жест.
Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Дело в том, что работа над костюмом (1923—1925), преподавание во Вхутемасе, общение с «производственниками», самостоятельная работа над выставочной экспозицией, клубными интерьерами и т. д. приучили Мухину к своего рода «функциональному мышлению». Ее последующие работы, выполненные в стекле, показывают, что художница отнюдь не была только функционалистом и приверженцем конструктивно-функционального стиля. В то же время внимательно изучая ее пластику, видишь, что никогда в ее скульптурных композициях не было «пустого жеста», содержательно или пластически неоправданной позы, случайного положения тела или какой-либо его части. Во время работы над статуей для Парижского павильона ее, как художника, наверное, просто раздражали своей «незанятостью», бессодержательной «пустотой» эти откинутые назад руки мужчины и женщины. Манизер в соответствии со своей концепцией вышел из этого положения, развернув ладони рук рабочего и колхозницы наружу и придав им как бы приглашающий жест: «Смотрите, как в нашем павильоне все прекрасно и радостно!» — что соответствовало улыбающимся и торжествующим лицам его героев. Но даже и у него этот жест, повторенный дважды (с правой и левой стороны статуи), становился несколько назойливым и терял свою искренность. Для Мухиной же давать такой «приглашающий» жест было невозможно — он не соответствовал общему характеру созданной ею группы. Да и любой другой одинаковый для мужчины и женщины жест был, по ее представлению, эстетически нецелесообразен — в группе и так было достаточно идентичных у обеих фигур жестов и положений. Создавать еще один повтор значило уже превращать найденный выразительный ритм в однообразный пересчет одинаковостей.
Ваятеля вновь выручает столь удачно найденный ею шарф. Откинутая назад рука женщины получает функциональную и содержательную оправданность — она сжата в кулак и держит конец развевающегося полотнища. Мужская же рука повернута вниз раскрытой ладонью с расставленными пальцами. Этот жест так же многозначителен. За распластанной ладонью рабочего в воображении зрителя встают бескрайние просторы Страны Советов. Этот жест перерастает в символ и напоминает другую символически простертую руку, под которой вставала и дыбилась разбуженная Россия — руку Петра I в памятнике Э. Фалькоые. Но, использовав традицию такого жеста, Мухина вложила в него иное содержание. За рукой стального рабочего раскинулась огромная Советская страна, за ней стояли миллионы людей труда, за этим жестом слышался гром ударных строек и шелест праздничных знамен.
Откинутые назад руки, по массе удлиненные и увеличенные объемом шарфа, сообщили проекту Мухиной необходимое победыоустремленное движение. Но не только для выражения этого движения нужны были скульптору выразительные горизонтали. На вечере, посвященном 90-летию со дня рождения Веры Игнатьевны, вице-президент Академии художеств СССР В. С. Кеменов рассказал:
«Задача создать скульптуру и поставить ее на павильон Иофана была необыкновенно трудной. Сам архитектурный облик этого павильона, сделанного уступами, подготовил то движение, которое должно было выплеснуться в скульптуре. Но павильон этот, как и другие павильоны выставки, был расположен на берегу реки, недалеко от Эйфелевой башни. И гигантская мощная вертикаль Эйфелевой башни, особенно сильная в ее нижней части, попадающая в поле зрения, ставила задачу перед художником перекрыть впечатление этой сильной вертикали.
Надо было искать выход, переводя проблему в плоскость несопоставимости. И Вера Игнатьевна приняла решение — искать такое движение скульптуры, которое строилось бы и на горизонтали. Только так можно было уберечь зрительное впечатление и добиться выразительности этой скульптуры — об этом рассказывала сама Вера Игнатьевна».
Существенным достоинством работы Мухиной, резко отличавшим ее от других проектов, было то, что ваятелю хорошо удалось выявить материал будущей скульптуры. Уже эксперимент с головой Давида заставил Мухину поверить в сталь как в материал искусства. Сначала опасались негибкости и нековкости стали, но опыты развеяли эти опасения. Мухина писала: «Сталь сказалась чудесным материалом большой ковкости. Но оставалось еще много сомнений, и главное — не будет ли скульптурный объем звучать пустой «жестянкой», потеряв главную скульптурную ценность — физическое ощущение объема. Дальнейшее показало, что и в этом отношении сталь вышла победительницей».
Но важно было не только поверить в достоинства стали — нужно было реализовать эту веру в виде пластических достоинств скульптуры. И развитие группы по горизонтали, «летящие по воздуху» основные объемы, пропорциональные соотношения объемов и пространственных прорывов, создающие общее ощущение легкости и ажурности группы, ее четкий силуэт, облегченный низ статуи — все это могло быть достигнуто только в воплощении в стали.
В проектах Андреева и Манизера низ скульптуры был привычно утяжелен, что сообщало группам устойчивость и некоторую монументальность, которой Мухина старалась избежать. Частично на это толкал и эскиз Иофана, где низ статуи также был слабо расчленен и массивен. Но вспомним, что Иофан предполагал вначале строить статую из матового алюминия, и он, по-видимому, опасался, что легкий светлый металл придаст и всей группе излишнюю зрительную легкость — на облицованной мрамором мощной центральной вертикали павильона она будет казаться пушинкой, для которой вовсе не нужна солидная опора. Из желания достичь весомости скульптуры, может быть, и выбраны архитектором не совсем удачные пропорцио-нальпые соотношения по высоте для группы и центрального пилона, которыми Мухина была несколько недовольна.
Здесь нельзя еще раз не вспомнить добрым словом П. Н. Львова, предложившего использовать для скульптуры сталь и доказавшего возможность применения этого материала. Блестящая сталь как бы сама собой решила вопрос о весомости скульптуры. Ведь серебристый, отражающий свет металл никогда не кажется тяжелым, даже расположенный на большой высоте. Вспомним, что такие огромные золотые купола, как на Успенском соборе и на Иване Великом в Москве, на Исаакиевском соборе в Ленинграде, не кажутся зрительно тяжелыми благодаря яркому блеску металла. Поэтому вовсе не нужно было заботиться об утяжелении скульптуры, что сразу же поняла Мухина, говорившая, что после того, как она познакомилась с проектом Иофана и опытами Львова, ей «захотелось создать очень динамичную группу, чрезвычайно легкую и ажурную».
Весьма существенным представляется Мухиной и вопрос построения четкого и ясного силуэта, что менее всего учел в своем проекте И. Шадр. Хотя Вера Игнатьевна нигде не пишет об этом, но ей, вероятно, была известна одна чисто пластическая закономерность, проявляющаяся в облике памятников. Обычно значительную трудность представляет точное угадывание масштаба монументального произведения — и не только по отношению к элементам окружающей среды, но, так сказать, и по отношению к «самому к себе», то есть зависимость размера статуи от ее содержания, пластических особенностей, позы и жеста персонажей и т. д. В послевоенной практике мы имеем, к сожалению, достаточно примеров неоправданного завышения размеров отдельных статуй. Надо учесть, что даже при удачно найденном размере статуи какое-либо изменение масштаба при изготовлении ее воспроизведений в виде сувениров, значков, призов, этикеток, плакатов и т. д. обычно приводит к существенным зрительным искажениям первоначального образа оригинала.
Но существует хотя и нелегкий, но достаточно надежный способ изфжания дальнейших искажений при воспроизведении оригинала. Для этого надо добиться не только выразительной пропорциональности всех частей произведения, но и его четкой силуэтности. Ясный, хорошо воспринимаемый и запоминающийся силуэт дает возможность увеличивать или уменьшать оригинал практически без пластического и образного искажения, не говоря уже о том, что он значительно повышает художественные достоинства произведения. В данном случае, поскольку размер статуи не вытекал из ее внутренних особенностей, а был заранее задан архитектурным проектом, Мухина, конечно, стремилась найти наиболее выразительный, хорошо читаемый и четко отпечатывающийся в памяти силуэт, что уже в значительной мере обеспечивало пропорциональность и сомасштабпость скульптурной группы по отношению к павильону. Это ей удалось.
Таким образом, целый ряд рассмотренных выше образных и пластических качеств выгодно отличал группу Мухиной от других проектов и сообщал ей большее художественно-образное единство с архитектурой павильона, чем это даже выражалось в эскизе Иофана. И кроме того, все сооружение получало несколько иной и более идейно верный и глубокий архитектурно-художественный образ. Благодаря стремительному движению скульптурной группы, не имеющей статуарной утверждениости, давящей на постамент, подчеркнулась горизонтальная протяженность здания и почти перестала ощущаться «пьедесталыюсть» павильона, чего, кстати, так и не удалось преодолеть в проекте Дворца Советов. Да и в эскизе Парижского павильона, нарисованном Иофаном, эта «пьедесталыюсть» была значительно сильнее. В результате в октябре 1936 года после конкурсного просмотра проект Мухиной был одобрен и принят для дальнейшей разработки.
Однако от скульптора потребовались некоторые переделки. Во-первых, было предложено «одеть» стальных героев, во-вторых, шарф, как и предполагала Мухина, вызвал недоумение. По воспоминаниям одного из авторов экспозиции советского павильона К. И. Рождественского, председатель правительственной комиссии В. М. Молотов, прибывший на просмотр конкурсных работ, задал Мухиной вопрос:
— Зачем этот шарф? Это же не танцовщица, не конькобежец!
Хотя обстановка па просмотре была очень напряженная, Мухина спокойно ответила:
— Это нужно для равновесия.
Она, конечно, имела в виду пластическое, образное равновесие и столь необходимую ей горизонталь. Но председатель, не сильно искушенный в искусстве, понял ее «равновесие» в чисто физическом смысле и сказал:
— Ну, если это технически нужно, тогда другой вопрос...
Разговор на этом закончился, через несколько педель томительных ожиданий проект был окончательно утвержден, но опять-таки «за исключением конфигурации летящей материи, которую мне пришлось менять пять раз»,— вспоминала позже Вера Игнатьевна. Одновременно с этим она работала над одеждой, выбрав для своих героев костюмы, наименее подверженные влиянию времени, то есть нестареющие, а также с первого взгляда профессионально характеризующие героев — рабочий комбинезон и сарафан па лямках, оставляющие обнаженными плечи и шеи персонажей и не скрывающие скульптурных форм торсов и ног женщины. Кроме того, складки низкой юбки, как бы развеваясь от встречного ветра, усиливали впечатление стремительного движения группы.
После этих доработок 11 ноября 1936 года проект В. Мухиной был окончательно утвержден для исполнения в материале.
ПОДГОТОВКА К ПЕРЕВОДУ В СТАЛЬ
Еще до окончательного утверждения проекта отдел металлоконструкций строительства Дворца Советов в октябре 1936 года получил задание разработать конструкцию скульптурной группы «Рабочий и колхозница». Предложено было рассчитать основной стальной каркас, а собственно скульптуру набирать из отдельных стальных листов, которые следовало соединять между собой и крепить дополнительным каркасом в крупные блоки и затем уже эти блоки навешивать на основной каркас и приваривать к нему. Этот каркас изготовлялся заводом «Стальмост», детали же статуи и ее полная сборка должны были производиться опытным заводом ЦНИИ машиностроения и металлообработки (ЦНИИМАШ) непосредственно в цехе и во дворе завода под руководством одного из «стальных людей», как называла их Мухина, профессора П. Н. Львова.
Петр Николаевич Львов, сыгравший основную роль в процессе сборки статуи в Москве и Париже, являлся автором метода и специального приспособления для контактной точечной электросварки нержавеющей стали. Его сварочные машины уже были применены в начале 1930-х годов для постройки первого опытного самолета из стали. Подобные самолеты в дальнейшем заменили аэропланы с легкой, но недостаточно прочной алюминиевой обшивкой.
Для начала работы на заводе предполагалось получить от скульпторов шестиметровую модель и по ней производить увеличение. Однако времени для подготовки такой модели не хватало, и «на одном из очень бурных заседаний», как вспоминала Мухина, П. Н. Львов предложил соорудить статую методом 15-кратного увеличения. Это было смелое и рискованное предложение, но оно давало возможность скульпторам в течение месяца подготовить окончательную модель высотой (с поднятыми руками) примерно в полтора метра. Шестиметровая же модель потребовала бы для своего создания более двух месяцев.
Сжатые сроки вынудили принять предложение П. Н. Львова. Имеющиеся в осуществленном произведении некоторые пластические недостатки (в частности, непроработанность отдельных мест) объясняются именно тем, что авторская модель была подвергнута сразу 15-кратному увеличению, но окончательная корректировка была в значительной степени затруднена, а в ряде случаев даже невозможна. Опыт с переводом в сталь «Рабочего и колхозницы» привел Львова к выводу, что «за исходную модель надо брать такую, на которой были бы проработаны все подробности. При дальнейших работах подобного рода нельзя принимать увеличение более чем в 5 раз».
Мухина вместе со своими коллегами и помощницами Н. Зеленской и 3, Ивановой готовила полутораметровую модель. Группа инженеров во главе с В. Николаевым и Н. Журавлевым проектировала стальной каркас, рассчитывала ветровые нагрузки и вес. Один из скульпторов при помощи работников Московского планетария выяснил, в каких условиях освещенности будет находиться группа на павильоне. Оказалось, что с утра свет будет падать на нее сзади, а вечером — спереди.
Для инженеров, которым была поручена постройка этой почти 24-метровой' металлической статуи с оболочкой из листовой стали, выполнение такой конструкции было делом совершенно новым, не имеющим примеров в истории техники. Консультировавший их видный специалист по металлическим конструкциям профессор Н. С. Стрелецкий назвал эту конструкцию скульптурной группы «экзотической».
Позже Мухина вспоминала о напряженных днях работы над моделью: «Полтора месяца мы, не выходя из дому, работали с девяти часов утра до часу ночи. На завтрак и обед полагалось не более десяти минут». В первых числах декабря статую отформовали.
К этому времени инженер Н. Журавлев сконструировал станок для снятия размеров, который представлял собой деревянную конструкцию с выдвижными спицами, которые фиксировали точки на горизонтальных сечениях статуи. Такие сечения предполагалось делать через каждый сантиметр. По получен-ным точкам далее вычерчивались контуры сечений в 15-кратном увеличении, причем инженеров, конечно, интересовала не пластика статуи, а самые высокие и самые низкие точки рельефа, чтобы вписать в статую каркас. Первоначальные расчеты каркаса были сделаны по эскизу. «Поэтому,— писала В. И. Мухина,— скульптору приходилось не нарушать первоначальной динамики эскиза. Местами приходилось бороться за каждый миллиметр толщины объема: инженеры для крепости каркаса требовали большей толщины, я же из соображений эстетики формы — меньшей. Но надо сказать, что, поскольку это было возможно, мы всегда шли друг другу навстречу».
Мухину более всего беспокоила точность перевода рельефа поверхности. Она убедилась, что станок Журавлева весьма «точно переводил габариты объемов и их сочленений. Но самый рельеф формы сильно страдал от малейшей неточности переводной иглы». Первые опыты перевода были сделаны еще до модели в мягком материале — завод больше не мог ждать. Поэтому, не закончив еще всей модели, скульпторам пришлось отдельно отформовать ноги и отдать их в работу на завод. В опытном порядке на заводе увеличили присланную деталь и выбили ее из стали. Прервав работу, Мухина вместе с 3. Г. Ивановой 8 декабря приехала на завод. Им с торжеством показали первые деревянные формы. Вера Игнатьевна позже рассказывала:
«Это была мужская ступня с ботинком и нога до колена. Ботинок, кроме того, был выбит из стали. Показывают нам огромный башмак. Все выворочено, все не так. Нельзя даже понять, с какой ноги башмак.
Мы обмерли, молча смотрим.
— Вот что, Петр Николаевич (Львов.— Н. В.), ни к черту не годится,— хмуро говорит Иванова.— Давайте плотников!
— Зачем? Мы все вычислили.
— Плотников!
Мы взяли гипсовую негу, деревянную форму и вместе с плотниками исправили ошибки — рант нашили, носок вырубили. Проработали часа два-три.
— Выбейте до завтра.
На другой день приезжаем. Петр Николаевич говорит:
— А ведь хорошо получилось.
Так выяснилось, что мы, скульпторы, должны работать на заводе и принимать непосредственное участие в работе по увеличению скульптуры и переводу ее в сталь. Нам дали каждой по бригаде рабочих» '.
Следовательно, всю середину декабря Мухиной и ее помощницам приходилось совмещать работу на заводе с окончанием работы над моделью в мастерской. Наконец модель была закончена, отформована и передана на завод ЦНИИМАШа. С этого времени Мухина, Иванова и Зеленская более трех месяцев ежедневно работали на заводе.
СБОРКА СТАТУИ В МОСКВЕ
Как и предсказывал Н. Журавлев, способ 15-кратпого увеличения давал лишь сравнительно точные общие размеры, по рельеф формы сильно страдал. Ошибка в 1—2 миллиметра вела к крупным искажениям, а шероховатая поверхность гипсовой модели имела множество углублений и выпуклостей более 1 миллиметра. В целом в процессе изготовления статуи в натуральную величину было замерено на поверхности модели около 200 тысяч координатных точек, и в этой работе участвовало 23 человека техников и чертежников.
И все же из-за недостатка времени сделать детальные чертежи всех блоков оболочки было невозможно. Вера Игнатьевна вместе с Журавлевым руководила созданием по данным замеров промежуточных шаблонов и по ним — деревянных форм в величину натуры. Это были как бы огромные «негативные» оттиски поверхности статуи. Такие формы для последующей выколотки стали в шутку называть «корытами». Они были очень удобны для сварки оболочки и внутреннего каркаса каждого блока. Для Мухиной же, Зеленской и Ивановой окончательная отделка и исправление этих форм с обратным рельефом были задачей весьма затруднительной — ведь надо было все время представлять себе вид сравнительно небольшого (по отношению к общему объему) участка поверхности статуи, да еще в «позитивном» виде, увеличенном по сравнению с моделью в 15 раз. Нужно было обладать необычайно развитым пространственным мышлением, чтобы работать с этими «корытами». А их было несколько сотен, поскольку вся оболочка была разделена на 60 блоков.
Деревянная форма напоминала географическую карту: ямы, рытвины, бугры. Во всем этом нужно было разобраться, сравнить с гипсовой моделью, отметить, где снять дерево, где нарастить и затем передать бригаде жестянщиков, которые выколачивали в форме топкие листы стали, отмечая границы стыков.
После этого стальные листы сваривались специальными аппаратами, сконструированными по проектам П. Н. Львова. Сварка шла непосредственно в деревянных формах. Под соединяемые пласты подкладывались медные полоски, служившие электродами. Второй электрод был у сварщика. Скрепленные точечной сваркой стальные листы выправлялись в форме, доводились и затем еще соединялись легким металлическим каркасом для оболочки. На швы, кроме того, укладывались крепления из углового железа.
Вера Игнатьевна и ее коллеги в простых ватных телогрейках все время находились среди столяров, отделывавших «корыта». Рабочие относились к нам с уважением, несмотря на то, что Мухина не шла ни на какие уступки и настаивала на тщательной отделке «корыт», иногда требуя их полной переделки, хотя сроки очень поджимали.
В каких-то редких случаях переделки происходили и по вине скульпторов. Позже Мухина неоднократно вспоминала, как сложно было работать с огромными негативными «корытами», Например, «обратный рельеф летящих складок юбки, поставленной кверху ногами (иначе нельзя было собрать деревянную форму), был так сложен, что я и мои две помощницы, скульпторы 3. Иванова и Н. Зеленская, с трудом соображали, где же, в конечном итоге, находится то или другое». Мухина пишет, что «нужно было много усилий, чтобы «переключаться» на ощущение обратного рельефа, все, что было выпукло, становилось вогнутым. Надо признать, что гибкость ощущений пластической формы у рабочих была на высоте... Многие из них получили здесь начало пластического воспитания, и если сперва нужно было руководить каждым ударом стамески, то уже через месяц многим из них свободно можно было поручать небольшие самостоятельные участки работы с полной уверенностью, что задание будет выполнено и останется только окончательное выправление».
Вера Игнатьевна самд заражалась ходом производственного процесса и нередко работала как мастер. Она вместе с рабочими соединяла отдельные выколоченные листы стали и сваривала их, нажимая ногой на педаль прерывателя сварочной машины. Ее энтузиазм заражал всех. Техники и инженеры, работавшие на монтаже каркаса, порой не вспоминали об отдыхе и оставались ночевать на месте работы. Их глаза были воспалены ослепительными вспышками дуговой сварки. Стояла ранняя весна, и в огромном цехе было холодно. Обогревались печками-времянками, иногда засыпая около них. Были случаи, когда Вера Игнатьевна оттаскивала заснувшего усталого рабочего или инженера от раскаленной печурки, спасая его от случайных ожогов.
На всю работу было определено около четырех месяцев, Мухина вспоминала, что, когда отдельные блоки скрепили, а деревянные формы разняли, вдруг «из-под неуклюжей оболочки на свет божий выходит сияющий человеческий торс, голова, рука, нога. Этого момента все ждут с нетерпением. Интересно, что получилось, ведь позитив видишь впервые.
Все стоят и смотрят. Рабочие оживленно перебрасываются замечаниями:
— Это место я делал!
— А это я!
Работа всех заражала энтузиазмом».
С инженерной точки зрения одним из самых трудных элементов композиции оказался развевающийся шарф, придерживаемый откинутой назад рукой колхозницы. Он имел размер около 30 метров, вынос 10 метров, весил пять с половиной тонн и должен был держаться по горизонтали без всякой подпорки. Мухиной многократно предлагали отказаться от шарфа, так как его назначение и смысл были многим непонятны. Но. она категорически не шла на это, поскольку шарф был одним из важнейших композиционных узлов, образно связывающих скульптурную группу с архитектурой павильона. Наконец инженеры Б. Дзержкович и А. Прихожан рассчитали специальную каркасную ферму для шарфа, достаточно надежно обеспечивающую его свободное положение в пространстве, и ее тут же начали сваривать. Еще одно трудное препятствие было преодолено.
Но был на заводе человек, который не верил в то, что статуя может быть закончена в срок. Его бесило, что Мухина иногда требовала полной замены неудачных «корыт», и рабочие слушались ее, начинали работу заново, хотя такие переделки били их по карману: дважды за одну и ту же работу не платили.
Этим человеком был директор завода некий С. Тамбов-цев. И чтобы обезопасить себя, он написал донос в правительство. Статуя, утверждал он, в срок закончена быть не может, потому что Мухина нарочно прерывает работу, требуя бесконечных исправлений, да еще придумала этот шарф, который может сломать всю группу при порыве ветра. Для большей убедительности своего «сигнала» он еще написал, что, по отзывам специалистов, в отдельных местах стальной оболочки каркаса якобы возникает профиль «врага народа» Л. Д. Троцкого.
Особых последствий в то время этот донос не вызвал. Но когда после окончания Парижской выставки и возвращения статуи в Москву был арестован комиссар советского павильона коммунист Иван Межлаук, много помогавший в работе Мухиной, а также еще несколько инженеров, работающих над статуей, им припомнили и донос Тамбовцева. Реабилитированы они были уже после кончины Сталина, Межлаук — посмертно.
* * *
Однако вернемся к установке статуи. Для скульпторов самым трудным оказались головы и руки рабочего и колхозницы. Попытка выколотить их в формах, как и все остальные части статуи, не увенчалась успехом. Тогда были набиты глиной испорченные деревянные формы голов. Когда дерево сняли, получились огромные болванки, похожие па головы египетских сфинксов. Но зато был найден правильный размер. Эти огромные головы были про-леплепы. Процесс лепки всех очень заинтересовал.
«Кто ни пройдет,— вспоминает Мухина,— остановится, посмотрит. До спх пор рабочие видели, что мы все умеем, как они: пилить, и рубить, и гвозди вбивать. За это они нас уважали. Но тут мы переходили в разряд каких-то выдающихся людей, которые умеют то, чего не умеют другие. Тут начиналось искусство.
Натурой нам Служили все. Проходит пожарный.
— Постойте немного, нос посмотрю.
Проходит инженер.
— Повернитесь, наклоните голову».
Так в небывало большом масштабе прямо в заводском цехе создавались образцы-символы рабочего и колхозницы.
Пролепленные головы были затем отлиты в гипсе. На гипс накладывался стальной лист, выбивался на металлических грибках и примерялся к гипсовой модели. Так же были выполнены и пальцы рук.
В марте 1937 года в заводском дворе началась сборка статуи. Вера Игнатьевна корректировала окончательную установку блоков оболочки на основном каркасе. По ее указаниям были слегка изменены объемы торсов фигур и отрегулировано положение рук и шарфа.
С шарфом и при сборке возникли сложности. «Несколько раз,— писала Мухина,— эта «загогулина», как ее прозвали на заводе, снималась с места, опять и опять проверялись крепления и усиливалась их мощь. Монтаж ее и одевание ее сталью были самыми тяжелыми моментами работы. Сроки кончались, работа шла днем и ночью, никто не уходил с рабочей площадки домой». Сооружением статуи было занято 160 человек, и во время сборки ее на заводском дворе с помощью 35-метрового крана с выносом стрелы в 15 метров работа шла в три смены.
Двор был окружен небольшим забором. Место было людное — недалеко помещались другие заводы. Громадная скульптурная группа была хорошо видна, и около забора разыгрывались жаркие споры о достоинствах необычного произведения.
У подножия группы соорудили небольшой сарайчик. Здесь хранили инструменты. В перевернутом старом котле горели дрова, и отдыхающая смена, расположившись около костра, забывалась коротким трехчасовым сном, чтобы затем снова взяться за монтаж.
По ночам статуя светилась изнутри сквозь еще не всюду заделанные швы и стыки — это сварщики варили каркас или резали сталь автогеном. То, что еще недавно пугало скульпторов, инженеров и рабочих, стало теперь родным: сталь, которую боялись и которой не верили вначале, подчинилась искусству, мастерству и труду. Иногда неудачную деталь целиком вырезали автогеном и тут же, без деревянных форм, на глаз, «лепили» из стали. Наконец последняя часть «села» на место, композиция замкнулась, шарф взлетел в воздух. Рабочий и колхозница в стремительном порыве будто бы двинулись вперед...
Гигантский труд сплоченного коллектива скульпторов, инженеров и рабочих увенчался успехом. Уникальная статуя из хромоникелевой стали была собрана в рекордно короткий срок.
Наверное, до Сталина все же дошли слухи, что то ли в профиле рабочего, то ли в складках юбки колхозницы вдруг возникает лицо Троцкого. И когда монтаж был закончен, Сталин ночью приехал на завод. Его шофер попробовал осветить статую фарами. Затем включили сильные прожекторы. Сталин пробыл на заводе несколько минут и уехал. Наутро Иофан передал Мухиной, что правительство очень довольно и работа принята без замечаний.
Когда все было закончено, уточнились габариты статуи. Высота ее до конца серпа — 23,5 метра, длина руки рабочего — 8,5 метра, высота его головы — более 2 метров, общий вес статуи — почти 75 тонн, в том числе вес стальной листовой оболочки — 9 тоны.
Началась срочная разборка статуи. Она была разрезана на 65 частей и упакована в ящики. Между тем в Париже уже заканчивалось строительство павильона, которое осуществляла согласно контракту фирма Горжли с декабря 1936 года, причем фирма сама разрабатывала конструкции и выдавала рабочие чертежи, увязывая их с применявшимися во Франции строительными материалами. Из нашей страны был доставлен только газганский мрамор для облицовки головной части павильона.
УСТАНОВКА СТАТУИ В ПАРИЖЕ
Размонтированные части статуи в 28 вагонах через всю Европу ехали в Париж, причем во время проезда через Польшу выяснилось, что некоторые части статуи не проходят по габаритам тоннеля, и, распаковав ящики, пришлось разрезать автогеном отдельные блоки. В Париж выехали также скульпторы Мухина, Иванова, профессор Львов, ведущие инженеры Миловидов, Морозов, Рафаэль, Прихожан, 20 монтажников, слесарей, сварщиков и жестянщиков. В помощь им было нанято 28 французских рабочих.
«В первый же день приезда,— вспоминала 3. Г. Иванова,— мы, разумеется, поехали на выставку. Вокруг здания советского павильона возвышались высокие леса. Не успела я опомниться, как Мухина оказалась наверху, на крыше павильона, к величайшему удивлению присутствовавших при этом французов».
Еще до окончания монтажа статуи произошел один немаловажный эпизод. Как уже говорилось, советский павильон и павильон Германии находились па набережной Сены друг против друга. В. И. Мухина вспоминала, что в процессе строительства выставочных сооружений «немцы долго выжидали, желая узнать высоту нашего павильона вместе со скульптурной группой. Когда они это установили, тогда над своим павильоном соорудили башню на десять метров выше нашей. Наверху посадили орла. Но для такой высоты орел был мал и выглядел довольно жалко».
Несколько иначе вспоминал этот эпизод К. И. Рождественский: «В Париже была сложная ситуация, наш павильон стоял против немецкого павильона, и был вопрос: чей павильон выше? Мы строили свой павильон, фашисты делали свой выше. Потом мы остановились. Тогда они еще немного достроили свой павильон и поставили свастику. А после этого мы привезли и установили на наш павильон мухинскую скульптуру, которая была значительно выше. Ее все приняли. Пикассо восхищался тем, как найден этот материал (нержавеющая сталь.— //. В.), как смотрится группа на фоне сиреневого парижского неба».
Сейчас уже трудно восстановить действительный ход событий, однако ряд источников указывает на то, что советский павильон был немного надстроен и что на этом настаивала еще в процессе проектирования В. И. Мухина, причем не по соображениям соперничества с павильоном Германии, а для обеспечения большей зрительной гармонии и соразмерности высоты павильона и величины скульптурной группы. Иофан отказывался это делать, соглашаясь на увеличение лишь на полметра, что при общих размерах павильона и статуи было совершенно незаметным. Возможно, что, когда павильон был вчерне закончен (Иофан выехал в Париж раньше Мухиной), архитектор сам убедился в правильности претензий скульптора и пошел на некоторое увеличение высоты сооружения. Вероятно, эти чисто художественные соображения были облечены в престижно-политическую форму, ибо надстройка, несомненно, потребовала лишних средств, времени, материалов, рабочих часов, и Б. М. Иофан должен был эти вопросы с кем-то согласовать.
Около павильона вновь был смонтирован деррик-кран, привезенный из Москвы. Особенность этого крана состоит в том, что его основная стойка удерживается не грузом у основания и не противовесом стрелы, а растяжками из стальных тросов. Однажды утром, когда монтаж группы уже был близок к концу, рабочие заметили, что один из тросов-растяжек подпилен и едва держит стойку деррик-крана, причем она грозит рухнуть именно на статую и непоправимо испортить ее. Трос был заменен, и монтаж закончился благополучно. Чьих рук была эта диверсия, установить не удалось. С этого дня и до окончания монтажных работ у павильона было организовано ночное дежурство из наших рабочих и добровольцев из тех бывших российских эмигрантов, которые относились к нам дружественно.
Случай с подпилкой троса напомнил, что отнюдь не всем по душе «Рабочий и колхозница» и со статуей могут произойти непредвиденные неприятности. Поэтому было решено как можно скорее закончить монтаж и убрать с павильона деррик. Сборка статуи была завершена в рекордные сроки — всего за одиннадцать дней, вместо предполагавшихся двадцати пяти. Прямо на павильоне был укреплен основной каркас и к нему приварены блоки статуи, причем некоторые из них пришлось еще исправлять, так как они были повреждены при транспортировке, ибо листы стали имели толщину всего 0,5 миллиметра.
Напряженная работа вызвала интерес у всех, кто находился па территории выставки. Поначалу это в основном были строительные рабочие и служащие павильонов, поскольку выставка еще не была открыта. «Некоторые,— как рассказывала В. И. Мухина,— нас спрашивали, как мы исполняли эту группу и кто ее делал. Один из наших рабочих, который понял вопрос, заданный на чужом языке, ответил с гордостью: «Кто? Да мы, Советский Союз!» И надо было видеть, как работала вся наша группа, чтобы понять, насколько этот ответ был справедлив и обоснован».
Уже за несколько дней до официального открытия выставки, состоявшегося 25 мая 1937 года, «Рабочий и колхозница» высились над Парижем.
«РАБОЧИЙ И КОЛХОЗНИЦА» В ПАРИЖЕ
Пожилая уборщица цеха, в котором изготовлялась скульп-тУРа, увидев вылепленную голову рабочего, проговорила: «Хорош сынок». В Париже во время сборки статуи французские, английские, итальянские каменщики, штукатуры, монтажники, работавшие на выставке, проходя мимо, салютовали «Рабочему и колхознице». Республиканская Испания выпустила марку с изображением скульптурной группы на советском павильоне, обладание которой до сих пор является заветной мечтой тысяч филателистов в различных странах.
Луи Арагон сказал Мухиной: «Вы нам помогли!» 1 Франс Мазарель — известный французский график — признавался: «Ваша скульптура поразила нас. Мы целыми вечерами говорим и спорим о ней». Для миллионов людей Земли «Рабочий и колхозница» стали символом Страны Советов, символом будущего.
Что же было в этом произведении такого, что покоряло всех — от простой уборщицы до всемирно известных поэтов и художников?
Над выставкой парила эмблема мирного вдохновенного труда — серп и молот. Они были видны отовсюду, с любых расстояний и ракурсов. В скульптуре — сила движения, динамичность. Но кроме того, в ней и мощь утверждения. Выдвинутые вперед огромным шагом ноги рабочего и колхозницы стоят крепко, уверенно, образуя единую вертикаль с торсами и поднятыми вверх руками. Спереди группа выглядит чрезвычайно монолитно, и зеркальная симметрия фигур ощутимо передает тему сплоченности и единства советского общества. Анфас группы образно воплощает пафос достигнутого и завоеванного.
Но как только мы начинаем переводить взгляд от этой ограничивающей мощной вертикали назад, так все более и более ощущается стремительное, вихревое движение. Тема экспрессивно повышенного движения, вихря вообще свойственна творчеству Мухиной. Примеры тому работы 1920-х годов «Пламя революции», «Ветер», более поздний «Борей» и др.
Большим достоинством скульптурной группы «Рабочий и колхозница» является то, что ее благородная образная идея выражена не литературно, иллюстративно, а исключительно пластическим языком, то есть специфическими средствами ваяния. Если из рук рабочего и колхозницы зрительно убрать серп и молот, композиция от этого почти не изменится, все равно будет видно, что группа символизирует рабоче-крестьянскую страну, ибо все, что нужно было сказать скульптору, сказано самими образами. Эмблема же лишь дополняет это идейно-образное звучание, являясь заключительным аккордом.
Однако Мухина с исключительным вниманием отпес-лась к воспроизведению эмблемы. В одном из первоначальных эскизов серп был повернут выгнутой стороной вперед — скульптору казалось, что это усилит вертикаль и даже в какой-то опосредованной форме придаст более «мирный» характер группе, если серп будет направлен вперед не острием, а тупой стороной. Но потом скульптор, вероятно, пришла к выводу, что такое решение создаст некоторый диссонанс: округленность серпа, направленная вперед, вызовет у зрителя ощущение неоправданного пресечения движения, серп будет слишком привлекать к себе внимание таким необычным положением, и это заставит сосредоточить взор на эмблеме, а не собственно на группе. В окончательной модели Мухина вновь повернула серп острием вперед и отказалась к тому же от параллельного положения серпа и молота. Этот вроде бы незначительный поворот серпа и молота под некоторым углом друг к другу был также одной из замечательных находок скульптора. Во-первых, теперь серп в руке колхозницы и боек молотка у рабочего были параллельны общему движению их фигур, положению торсов и откинутых назад рук. В связи с этим даже малоразмерные детали эмблемы не противоречили общему движению, а как бы подчеркивали своим положением эти главные направления пластики фигур. Во-вторых, благодаря такому размещению под небольшим углом друг к другу серп и молот не только с профильных, но практически со всех точек рассмотрения, в том числе п спереди, воспринимались именно как знакомая всем эмблема. Даже в тех случаях, когда серп выглядел лишь вертикальной полоской в руке у колхозницы, молот виделся несколько в профиль, и наоборот. Так что смысл изображения всегда оставался выявленным. С идейно-образной точки зрения находка скульптором такого положения составляющих эмблему элементов была чрезвычайно важной. Недаром Мухина еще на модели тщательно проверяла всевозможные ракурсы рассмотрения группы и тщательно анализировала их, соответственно изменяя некоторые места статуи с тем, чтобы даже с нежелательных точек восприятия ее пластические особенности не подвергались искажениям или же эти искажения были бы минимальными.
И все же, столь тщательно работая над расположением и детально продумывая восприятие зрителем молота и серпа, Мухина считала, что главное в скульптуре — не эмблема, а сам характер образов. Через два года после создания «Рабочего и колхозницы», говоря о предполагаемых скульптурных группах для Дворца Советов и опираясь на свой опыт, она утверждала, что мы, то есть советские скульпторы, «должны передать идеалы нашего мировоззрения, образ человека свободной мысли и свободного труда; мы должны передать весь романтизм и творческое горение наших дней. Поэтому неверно искать образ в отбойных молотках и тому подобных аксессуарах... Есть еще второй момент, диктующий необходимость образного решения: чем выше стоит скульптурная композиция, тем труднее читается ее тематический рассказ, и она начинает действовать больше своими пластическими качествами, массой, силуэтом и требует четкого образа».
Именно четкости, предельной ясности в построении образов Мухина во многом добивалась мастерским использованием принципиально нового материала — нержавеющей хромоникелевой стали. Поверив в возможности нового материала и поняв его специфические эстетические качества, Мухина сумела преодолеть впечатление тяжести и сделать статую легкой. У группы хорошо читаемый силуэт, низ ее предельно облегчен. Комбинация пространственных и объемных решений создает одновременно ощущение и радостной легкости, и грозной, непоколебимой устремленности вперед.
Скульптурная группа «Рабочий и колхозница» явилась одновременно и наиболее значительным выражением складывающегося с первых лет революции особого направления в искусстве, характерными произведениями которого были «Булыжник — оружие пролетариата» И. Шадра, «Октябрь» А. Матвеева, ранние фильмы А. Довженко (например, «Земля»), «Оборона Петрограда» А. Дейнеки, мемориальная доска на Сенатской башне Кремля С. Коненкова и другие произведения начала и рубежа 1920-х годов. В них чувствуется некоторая общность трактовки: явление, факт, событие конкретизируется в обобщенных и в известной мере схематизированных образах-символах, наделенных внешними, хорошо узнаваемыми признаками, позволяющими легко и мгновенно опознать это явление или событие. Даже в передаче конкретного художники часто старались выявить не многообразие и индивидуальную неповторимость, а общие символизированные представления и главную ведущую черту. Таков, например, образ В. И. Ленина в статуе для ЗАГЭС И. Шадра или «Ленин-вождь» Н. Андреева.
Это был закономерный этап и плодотворное для советского искусства направление. Не разбирая его истоков, можно отметить, что во многом оно определялось наличием принципиально нового зрителя, «потребителя» искусства. Советское искусство создавалось для самых широких народных масс, причем для масс, в то время еще недостаточно общекультурно развитых, часто просто неграмотных. Такой зритель нередко воспринимал лишь сюжет, разбирался в произведении лишь по знакомым деталям. В связи с этим искусство порой носило агитационный характер, разговаривало со зрителем «шершавым языком плаката». Это искусство широко использовало монументальные средства, создавало символические образы рабочего вообще, красноармейца вообще, тяготело к воплощению таких общих понятий, как «революция», «Интернационал» и т. д.
Группа Мухиной была, пожалуй, наивысшим проявлением этого направления, наиболее полно раскрывшим его возможности и в то же время благодаря этому раскрытию знаменовавшим начало новых устремлений в искусстве. Они проявились в том, что за внешними символически плакатными по трактовке обликами рабочего и колхозницы читалось очень большое содержание, далеко не чисто агитационного характера (как это было, например, в конкурсном проекте И. Шадра).
Поэтому создание «Рабочего и колхозницы» было большой и яркой победой нового искусства, проникнутого жизнеутверждающим началом, способного в конкретных образах отразить самые сложные явления.
Успех, которым пользовалась скульптурная группа в Париже, был триумфом советского искусства. «На Международной выставке,— писал Ромен Роллан,— на берегах Сены два молодых советских гиганта возносят серп и молот, и мы слышим, как из их груди льется героический гимн, который зовет народы к свободе, к единству и приведет их к победе».
Рассказывая в Белграде, уже в послевоенные годы, о своей группе, Мухина говорила:
«Как художник я знаю, что в этом произведении далеко не все еще совершенно, но я твердо уверена, что оно нужно! Почему? Потому что народные массы ответили на это произведение чувством гордости за свое советское существование. Оно нужно за порыв в будущее к свету и солнцу, за чувство человеческого могущества и своей нужности на земле!
Следует обратить внимание и еще на одну особенность, предопределенную эскизом Иофана и блестяще реализованную Мухиной. Парные скульптурные композиции даже при идейно-образной общности персонажей строятся обычно на пластическом контрасте или — такое математическое выражение — на принципе дополнительности, например: сидящая и стоящая фигуры («Минин и Пожарский» И. Мартоса), идущий и стоящий, падающий и встающий (ряд групп Е. Вучетича в волгоградском ансамбле, монумент «Первым Советам» в Иванове Д. Рябичева и многие другие).
Такие тривиальные композиционные ходы разрабатываются успешно. А Иофан и Мухина предложили принципиально иную композицию, основанную на близком совпадении, идентичности внутреннего содержания образов и их пластической интерпретации. Насколько нам известно, в советской монументальной скульптуре это был первый пример того, что позже определилось как «хоровой принцип» в скульптуре, когда изображенные персонажи почти полностью повторяют жесты и движения друг друга. Наиболее известный пример такого «хорового решения» в последние годы — группа О. С. Кирюхина и архитектора А. П. Ершова «Ополченцы Москвы», находящаяся на улице Народного Ополчения.
«Хоровой принцип» идет, по-видимому, от древнерусской живописи, где при таком имперсональном изображении, например, воинов, подчеркивалась общность цели и действий персонажей, одинаковость их устремлений и судеб. Это было выражением тесной спаянности, массовости, в конечном счете — народности воспроизведенных героев. И когда мы говорим, что произведение Мухиной глубоко народно, то это впечатление в какой-то мере создается и идентичностью образов, симметричной повторяемостью их жестов, общим для них стремлением вперед и выше, переданным композиционно-пластическим приемом «хоровой скульптуры».
Конечно, не этим лишь определяется народность группы Мухиной. Была права Н. Воркунова, когда писала, что это произведение «народно потому, что выражает идеалы освобожденного народа, его мысли и представления о красоте, силе и достоинстве человека, о содержании его жизни». Образно и пластически все это реализовано благодаря новаторскому приему построения парной скульптуры не на основе контраста, а на приеме подобия. Б. М. Иофан, создавая свой эскиз, вряд ли придавал этому принципу столь важное значение — для него движение персонажей группы было оправдано главным образом тем, что они держали в руках символы Советского государства, что хорошо поняли и воспроизвели в своих эскизах В. Андреев и М. Манизер. Мухина же значительно развила эту идею и придала ей принципиально иное, гораздо более глубокое и впечатляющее содержание.
Это произошло потому, что за творческими начинаниями Мухиной всегда стояла большая социальная идея. Если мы будем рассматривать «Рабочего и колхозницу» как выражение принципов социалистического реализма, требовавшего «правдивого, исторически конкретного» отражения действительности, то создание этой статуи в 1937 году на фоне процессов Пятакова, Сокольникова, Радека, самоубийства Орджоникидзе, ареста и последующего суда над Бухариным и Рыковым покажется нам по меньшей мере недостойным явлением.
В чем же причины такого несоответствия искусства реальной обстановке? Тем, кто может предположить, что Мухина могла не знать и не догадываться об истинном положении дел в стране, следует напомнить, что ее муж, доктор А. Замков, и она сама уже испытали арест и высылку в начале 1930-х годов и могли представить существующую реальность. Кстати, процессы 1937—1938 годов, и в частности «исчезновение» некоторых бывших работавших в Париже строителей, в том числе и последующий расстрел И. Межлаука, комиссара нашего павильона, действительно отразились на ее творчестве, в частности на конкурсной работе для Нью-Йоркской выставки.
Мухина в своей парижской статуе не «отражала» историческую конкретность конца 1930-х годов, а создавала символ страны, скульптурное олицетворение тех истинно социалистических идеалов, в которые она, человек искренний и цельный, свято верила. Вера Игнатьевна была воодушевлена строительством нового общества и создавала произведения, в свою очередь вдохновлявшие и воодушевлявшие зрителей. Это подтверждают ее многократные высказывания о новом человеке — идеальном образе гармоничных людей ближайшего будущего, во имя которого она творила и, естественно, должна была прибегать не столько к правдивому отражению натуры в «формах самой жизни», сколько к аллегории и символу. Поэтому она говорила: «Мое мнение, что аллегория и олицетворение и символ не идут вразрез с идеей социалистического реализма». Однако это мнение официальным искусством не разделялось. Она воплощала свои взгляды в собственных работах.
«Рабочий и колхозница» — это, конечно, не образец конкретно-исторической правды, а символ, идеальный образ, сконструированный великим художником. Именно так восприняли скульптуру «Рабочий и колхозница» Луи Арагон, Франс Мазерель, Ромен Роллан. И на юбилейных монетах, выпущенных к 50-летию Октября, наряду с силуэтом легендарной «Авроры» и изображением спутника как символ страны вычеканены фигуры «Рабочего и колхозницы».
Эта статуя — выдающееся произведение отечественного монументального искусства, ибо она ввела в него символ, старательно изгонявшийся ревнителями ортодоксального понимания реализма как конкретно-исторического правдоподобия.
Как и некоторые другие выдающиеся произведения 1930-х годов, «Рабочий и колхозница» не вмещались в прокрустово ложе официального художественного метода. Но если Дейнеку или Герасимова можно было просто отлучить от социалистического реализма, Мейерхольда уничтожить, Филонова сгноить в нищете, то автор «Рабочего и колхозницы» был известен всему миру, а само это произведение, несомненно, способствовало утверждению авторитета Советского Союза, а вместе с тем и прославлению его вождя.
Поэтому по отношению к Мухиной проводилась политика не кнута, а пряника — ее награждали орденами, Сталинскими премиями и почетными званиями, пускали за границу, построили ей специальную мастерскую и т. д. Но вместе с тем персональная выставка ее произведений так и не состоялась, ни одна символическая и аллегорическая ее работа, кроме «Рабочего и колхозницы», так и не была осуществлена, ни одного памятника на военную тему ей не удалось поставить, кроме двух тривиальных бюстов дважды Героям Советского Союза. В угоду официальным вкусам пришлось ей переиначивать проекты памятников Горькому и Чайковскому.
Кроме того, известно, что постоянно травили, а позже просто загубили дело ее мужа — доктора А. Замкова, изобретшего новое лекарство. Такова была плата за единственное символическое произведение, далекое от казарменной художественной доктрины, которое ей удалось осуществить. И платила она всю оставшуюся жизнь.
ВОПРОСЫ СИНТЕЗА ИСКУССТВ
Парижский павильон Б. М. Иофана со скульптурной группой В. И. Мухиной до сих пор считается у нас одним из самых выразительных и полноценных примеров синтеза искусств. Первым и, пожалуй, наиболее четко об этом сказал Д. Е. Аркин, заявивший, что «советская архитектура может по праву зачислить эту сугубо «временную» постройку в число своих бесспорных, непреходящих достижений», поскольку «архитектура и скульптура составляют здесь в полном смысле слова одно целое». Автор отмечает следующие качества, способствующие, по его мнению, осуществлению этого синтеза. «Первым и самым важным» он считает «образную насыщенность... сооружения, его идейную полноценность». Далее он отмечает «постро-енность статуи» и то, что «она ни на миг не разрывала своей изначальной связи с архитектурным целым, от которого она родилась». Затем констатируется «общность» и архитектурного и скульптурного образов, «говорящих в унисон об одном и том же — в различных материалах, разными средствами и в разных формах...». Архитектурная композиция всего этого сооружения предполагает скульптуру как нечто органически обязательное. «Эта внутренняя обязательность сотрудничества двух искусств, эта органичность их связи и являются основными условиями и первыми признаками подлинного синтеза». Анализируя образ павильона в целом, Аркин говорит о том, что общность идеи, воплощенной в архитектурной и скульптурной частях, породила общность движения: «высоко поднятые руки повторяют архитектурный «жест» головной части здания», общность ритма, общность композиции и всего стиля'. Действительно, силуэт здания, нарастающее уступами движение его объемов как бы повторены в скульптурной группе с ее основной диагональю, подчеркнутыми горизонталями рук и шарфа и, наконец, утвердительной вертикалью выставленных вперед могучим шагом ног и высоко поднятых рук. Приводя все эти высказывания, условно говоря, к единому знаменателю, можно констатировать, что в сооружении в целом достигнут синтез по принципу подобия архитектурных и скульптурных форм, масс и объемов.
Синтез по подобию являлся весьма известным и даже главенствующим методом достижения единства архитектуры и скульптуры, архитектуры и живописи, распространенным в 1930—1950-х годах. Это было одно из наследий классики, которое особенно охотно развивали в послекон-структивистской архитектуре 1930-х годов, причем во многом благодаря творчеству именно Б. М. Иофана. Наиболее ярко это сказалось в оформлении станций московского метрополитена предвоенной и военной постройки, особенно таких, как «Комсомольская», «Маяковская», «Площадь Революции» и др.
Однако синтез по подобию есть в своей основе синтез иерархический, построенный на подчинении скульптуры и живописи примату архитектуры. И если бы для сооружения на павильоне был бы принят проект В. Андреева или М. Манизера, то принцип синтеза по подобию был бы вполне определенно выдержан. Однако мухинская скульптура была слишком сильным и самостоятельным произведением. И получалась парадоксальная ситуация — фактически скульптурная группа стала главенствующей в сооружении и образно подчинила его себе, хотя с первого и несколько формального взгляда кажется, что она лишь повторила движение, ритмы и композиционные принципы павильона. По-видимому, это стало несколько обескураживающим для самого Б. Иофана. И в дальнейшем, сооружая павильон для нью-йоркской Всемирной выставки, где он повторил ту же основную схему — скульптура, увенчивающая центральный пилон,— ваятель выбрал для осуществления наименее интересный и почти полностью повторяющий его эскиз проект статуи «Рабочий» В. А. Андреева.
Вместе с тем следует отметить, что и в Парижском павильоне Иофан в каких-то пределах допускал сопоставление архитектурных и скульптурных форм, основанное не только на подобии. С этой точки зрения особый интерес представляет решение пространства перед павильоном. К главному входу вела широкая парадная лестница, фланкируемая двумя мощными статичными параллелепипедны-ми объемами четырехметровой высоты. На них были помещены рельефы, выполненные И. М. Чайковым,— на торцах были воспроизведены темы, посвященные физкультуре и народному творчеству, а на боковых сторонах — ритмично повторяющиеся группы, олицетворяющие советские республики. Каждая из них состояла из пейзажно-на-тюрмортных сюжетов с деталями, характерными для данной республики, и замыкающими их справа и слева изображениями фигур мужчин и женщин в национальных костюмах.
Эти бетонные барельефы были металлизированы уже на месте, в Париже. Оценка их художественных достоинств в советском искусствоведении достаточно противоречива. А. Членов пишет, что в этих пропилеях «Чайков впервые показывает труд как силу, преобразующую жизнь и облик самих трудящихся. Несомненно, эта удача мастера была подготовлена его настойчивой работой над овладением методом социалистического реализма и общим подъемом советского искусства» '.
И. М. Шмидт считает, что в этих барельефах в значительной мере сказались «официальные нормативы академического натурализма» и в отличие от прежних произведений Чайкова, где «отчетливо выступали обобщенно-конструктивные основы скульптурных форм и создавались острые типические образы», в конце 1930-х годов в его творчестве, в том числе и в барельефах, «созданных для Советского павильона Всемирной выставки в Париже», начинают проступать «тенденции внешней описательности и дидактичности», а также «черты иллюстративности в решении темы»
Просмотренный нами фотоматериал заставляет скорее согласиться с И. М. Шмидтом. Но сейчас важно отметить, что по своим художественным особенностям эти статичные утвердительные барельефы, несомненно, контрастировали с порывистой и динамичной скульптурой Мухиной, хотя они и были с нею связаны по цвету благодаря поверхностной металлизации. Для Иофана же особенно важно было то, что мощные объемы этих пропилеи организовывали подход к павильону и давали «своей статикой необходимый контраст общему динамичному решению сооружения».
Кроме того, все пространство перед главным входом было решено в торжественно-приподнятых тонах, что тоже вроде бы противоречило динамичности скульптурной группы, но тем самым и подчеркивало ее движение. Благодаря высокому стилобату с парадной лестницей и мощным пропилеям перед советским павильоном образовалась самостоятельная, несколько изолированная от всей выставочной территории площадь. Зритель воспринимал ее вместе с центральным пилоном павильона и красочным скульптурным гербом, выполненным В. А. Фаворским как целостный и законченный ансамбль, тем более что и скульптурная группа отсюда, с площади, смотрелась более статуарно: ее вихревое движение хорошо читалось в основном с профильных точек зрения.
Торжественному решению пространства неред павильоном способствовало и продуманное использование цвета. Цоколь павильона был облицован мрамором цвета порфира, стилобат — красным шроненским, а центральный входной пилон — газганским мрамором, причем облицовка этим мрамором начиналась со сравнительно темных, коричнево-оранжевых тонов, затем переходила в золотистые, цвета слоновой кости и заканчивалась наверху при подходе к статуе голубовато-дымчатыми тонами, хорошо корреспондирующими с серебристым цветом металла скульптуры.
Отделкой боковых фасадов подчеркивалось то движение, которое потом получало окончательное выражение в скульптурной группе. Так, например, ступенчатые карнизы двух ярусов боковых фасадов имели подчеркнутый вынос в сторону заднего фасада и вертикально срезались впереди. Это придавало им сходство с некими крыльями и подчеркивало общую динамику павильона. В обработку боковых фасадов был введен серебристый металл «в виде тяг на пилястрах, на карнизах, на оконных переплетах и т. д. Этот прием обработки фасадов металлом имел своей целью подчеркнуть архитектурные контуры, выделив их особенно при вечернем освещении, а также связать здание с венчающей его статуей единством материала».
Все эти приемы, несомненно, способствовали синтетическому решению всего сооружения, над которым кроме Б. М. Иофана работали А. И. Баранский, Д. М. Иофан, Я. Ф. Попов, Д. М. Циперович, М. В. Андрианов, С. А. Гельфальд, Ю. Н. Зенкевич, В. В. Поляцкий. Современники и многие позднейшие исследователи высоко оценивали Парижский павильон именно как пример выразительного и целостного синтеза искусств. А. А. Стригалев считает его даже синтезом «какого-то более высокого порядка», в котором есть некая «повествовательность», почти «сюжетность». Он пишет, что «протяженный, нарастающий ступенями силуэт павильона как бы изображает некий «путь» — вперед и вверх. Венчающие павильон скульптуры при всей изобразительной конкретности есть символы, и сопряженная с ними архитектура приобретает значение символического изображения. Контраст геометрии и пластики использован как смысловой, и вместе с тем он смягчен участием того и другого в едином пластическом «повествовании». Архитектура изображает разбег, своего рода взлетную площадку, скульптура — самый взлет».
И все же, несмотря на явное стремление архитектора и ваятеля работать в унисон, выразить разными художественными средствами одну и ту же мысль, полноценного синтеза искусств, с нашей точки зрения, они не достигли. И дело здесь было не в отдельных частных недостатках, о которых знали и говорили сами авторы. В. И. Мухина не была удовлетворена пропорциями скульптуры по отношению к зданию, считала не полностью удавшимися некоторые детали. Б. Иофан прямо указывал, что «не удалось достигнуть полной увязки скульптуры с архитектурой. Она выходит за габариты пьедестальной части и поэтому несколько тяжелит общую композицию».
В сооружении такого масштаба и характера, каким был Парижский павильон, главенствующей должна была быть архитектура. Между тем создавалось явное впечатление, что весь павильон воздвигнут лишь для того, чтобы быть постаментом скульптурной группы. Таким образом, то, от чего так и не смог избавиться Иофан в проекте Дворца Советов, хотя и в меньшей степени, но повторилось в Парижском павильоне: получился гигантский увеличенный памятник. Это отмечают объективные исследователи. А. А. Стригалев пишет, что «архитектурные формы подчинились скульптуре» и архитектура представляла собой, в конечном счете, «пьедестал для скульптуры». Облицевав боковые фасады не газганским мрамором, а составом симентолита — патентованной штукатурки с примесью натуральной каменной крошки — и запроектировав главный вертикальный объем без окон, расчлененный лишь вертикальными тягами, Иофан еще более подчеркнул «постаментность» этой центральной части, ее зрительную «служебность».
Однако некоторые наши возражения против признания Парижского павильона образцом синтеза искусств основаны отнюдь не на ином, нынешнем понимании синтеза. Даже для господствовавшего в те годы восприятия его как иерархической системы, основанной на главенстве одних частей и соподчиненности других, Парижский павильон являлся образцом такого синтеза, но... с одной существенной оговоркой: дело в том, что, приняв иерархичность как ведущий и обязательный принцип синтеза, освященный тысячелетиями истории искусств, мы можем, однако, констатировать, что главным, определяющим в данном конкретном случае стала скульптурная группа, а это привело в итоге к парадоксальному толкованию синтеза: функционально второстепенный элемент здания, практически его украшение, стал идейно и художественно главенствующим. Причина этого, по-видимому, лежала в различном понимании Иофаном и Мухиной синтеза искусств. Иофан привык к архитектурному толкованию синтеза, при котором кариатиды, атланты, маскароны являлись украшением здания и играли лишь декоративную роль. Он был согласен наделить их идейным содержанием, но они оставались для него тем не менее сопутствующими, второстепенными элементами сооружения.
Во всех выступлениях, посвященных синтезу искусств и роли скульптуры в архитектуре, Мухина боролась против такого понимания. Ее же собственное восприятие синтеза, может быть, интуитивно, но явно базировалось на скульптурном толковании, принятом в монументально-мемориальном искусстве: фигура, статуя, бюст являются главенствующими в синтезе, а постамент, пьедестал, база — лишь необходимым, но не определяющим элементом памятника. И фактически это понимание она и воплотила в своей группе «Рабочий и колхозница». Поэтому и получился несколько неожиданный и в какой-то степени даже обидный для Иофана «синтез наоборот» — скульптура стала главным элементом общей композиции, а павильон — поддерживающим, дополняющим, и это сделало возможным самостоятельное существование ведущего элемента — мухинской группы.
Между тем встречается другая точка зрения: «Подлинное слияние архитектуры и скульптуры в Советском павильоне так велико, что совершенно невозможно расчленить его архитектурную и скульптурную части, не нанеся непоправимого ущерба каждой из них»
Подобные замечания не кажутся убедительными. Их опровергает вся дальнейшая история «Рабочего и колхозницы». Мы имеем в виду не перенесение статуи в Москву и установку ее на неоправданно низком постаменте, а многочисленные воспроизведения этой скульптуры. Она стала символом и несчетное число раз повторяется на плакатах, книжных обложках, значках, медалях, заставках кинофильмов, снятых студией «Мосфильм», и т. д. И везде воспроизводится как самостоятельное произведение, не связанное с выставочным павильоном. Именно в таком качестве она знакома миллионам людей как в СССР, так и за рубежом, в то время как особенности архитектурного образа павильона сейчас известны лишь специалистам.
Косвенным подтверждением этих соображений в творчески психологическом плане являются некоторые эпизоды последующей биографии Б. М. Иофана. Для него в какой-то мере неожиданной были популярность мухинской статуи и многочисленные восторженные отзывы о ней вне зависимости от существования павильона. Мухиной даже пришлось обратиться с открытым письмом к ответственному редактору «Архитектурной газеты» М. О. Олыпови-чу, где она писала, что «имя Б. М. Иофана должно всегда отмечаться не только как автора архитектурного проекта павильона, но и скульптурного замысла, содержавшего в себе двухфигурную композицию мужской и женской фигур, в торжественной поступи возносящих кверху серп и молот» '.
Кроме того, проектируя почти тотчас вслед за Парижским павильон для Всемирной нью-йоркской выставки 1939 года, Иофан явно учел опыт Парижа. Павильон для Нью-Йорка имеет гораздо более спокойные формы с подчеркнутыми вертикалями. Он также увенчан статуей, но пропорциональные отношения здесь взяты совершенно иные. Пилон-постамент по вертикали почти в 4 раза больше размера статуи. Кроме того, его функциональная роль незначительна, он, собственно, является украшением и эмблемой сооружения. Экспозиционные же залы расположены в кольцеобразном помещении, охватывающем этот центральный пилон со статуей. И здесь был действительно достигнут синтез скульптурной части с архитектурой при примате последней. Но к сожалению, на более тривиальном уровне, поскольку в данном случае архитектура и скульптура с образно-художественной стороны значительно уступают тому, что было сделано в Париже. По-видимому, причины этого лежали не только в творчестве Иофана, но явились в какой-то мере опосредованным выражением тех процессов в жизни страны, которые произошли в 1937—1938 годах.
Для будущих социологов искусства представит несомненный интерес поразительный идейно-художественный контраст между Парижским и Нью-Йоркским павильонами. Если первый вошел в историю советской архитектуры и искусства как этапное произведение, то второй остался фактически незамеченным и не оказал никакого влияния на последующее развитие искусства. Конкурсный проект завершения центрального пилона, выполненный Мухиной, представлял собой обнаженную фигуру мужчины, высоко поднявшего одной рукой звезду и как бы борющегося с опутывающим его змеящимся шарфом, сковывающим все его движения, словно у нового, современного Лаокоона. К рельефу И. Чайкова, неискреннему, пустому, нарочито декоративизированному, в гораздо большей степени относится та отрицательная характеристика И. Шмидта, которая приведена выше по отношению к парижским пропилеям. Это явный творческий спад. А между созданием исполненного веры и энтузиазма Парижского павильона и официально-утвердительного казенно-пафосного Нью-Йоркского прошло всего два года.
Однако как бы там ни было, те чисто архитектурно-пластические изменения, к которым пришел Иофан в Нью-Йорке, как нам кажется, были вызваны и его неудовлетворенностью результатами, определившимися в Париже. Фактически архитектор и скульптор здесь не только стремились к работе в унисон, но и соревновались как два талантливых человека. И талант Мухиной оказался выше. Иофан стремился точно выразить время. Мухина хотела отразить эпоху.
* * *
В дальнейшем после окончания выставки статуя «Рабочий и колхозница» была разобрана (в ряде мест просто разрезана автогеном), перевезена в Москву, где вновь почти полностью восстановлена из более толстых листов стали (до 2 мм) и смонтирована на гораздо более низком постаменте перед Северным входом на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку, где и находится до сих пор. Сама Мухина неоднократно возражала против недопустимо малой высоты постамента, искажающей, по ее представлению, скульптуру и лишающей ее необходимого простора для движения.
Теперешний постамент примерно в 3 раза ниже, чем пилон Парижского павильона. Статуя поэтому сильно приближается к зрителю, на что у Мухиной не было расчета. Наоборот, она укрупняла отдельные детали и несколько утрировала движение, считаясь с архитектурой павильона, а также принимая во внимание зрительное сокращение форм и пропорций при восприятии статуи снизу. Вследствие этого, как правильно пишет Н. Ворку-нова, формы статуи «стали казаться более грубо и резко вылепленными, неуклюжими кажутся при близком рассмотрении кисти рук, слишком резкими и жесткими — складки материи, огрубленными и схематизированными — лица».
При жизни В. И. Мухиной не удалось добиться более приемлемой установки статуи. Позже, в 1962 году, ее коллеги по созданию «Рабочего и колхозницы» — профессор II. Н. Львов, скульпторы 3. Г. Иванова и Н. Г. Зеленская в связи с выходом в свет альбома, посвященного этой скульптуре h, вновь обратились в правительство с предложением о переносе статуи. Однако этот вопрос также не был решен. В 1975 году с тем же предложением обратился в правительство президиум Академии художеств. На сей раз делу был дан ход. Моссовет принял решение о переносе статуи и подготовке для нее нового, более высокого постамента. Проектирование этого постамента, где были бы выражены и столь важные для восприятия скульптуры горизонтали, было поручено Б. М. Иофану. Но в начале 1976 года, уже будучи больным и продолжая в Барвихе работать над проектом нового постамента, Иофан скончался.
Вопрос о переносе статуи вновь поднимался на юбилейном вечере, посвященном 90-летию со дня рождения В. Й. Мухиной, организованном Академией художеств и Союзом художников в 1979 году. Об этом говорили на вечере Н. А. Журавлев, В. А. Замков и другие выступавшие. В начале 1980 года была проведена реставрация статуи. Сейчас, в связи с подготовкой к празднованию 100-летия со дня рождения В. И. Мухиной, ордена Ленина Академия художеств вновь поднимает вопрос о перемещении статуи «Рабочий и колхозница» на более выгодное для ее восприятия место.
И в 1987 году был объявлен конкурс на подыскание такого места для перемещения прославленной группы. Наиболее приемлемым, по-видимому, является незастроенное пространство около нового здания Центрального выставочного зала на Крымской набережной, напротив ЦПКиО им. Горького.
Однако авторитетная экспертная комиссия высказалась против переноса статуи: если ее обшивка из листовой нержавеющей стали сохранилась в удовлетворительном состоянии, то внутренний металлический каркас нуждается в почти полной замене из-за коррозии. Создание нового каркаса в принципе возможно, тем более что нами найдены все сохранившиеся детальные чертежи и, кроме того, по сообщению покойной Н. Зеленской, у наследников работавшего с Мухиной и чудом избежавшего репрессий инженера А. Прихожана имеются его проектные записки о том, как восстанавливать статую, если это когда-либо потребуется.
Однако замена каркаса означает, что практически статую нужно будет сделать заново. Опыт восстановления отдельных произведений В. Мухиной ее учениками, не давший достаточно приемлемых эстетических результатов, поскольку, как верно заметил сын В. Мухиной В. Замков, «они не обладали ни талантом, пи моральной стойкостью Мухиной», говорит о том, что за восстановление группы «Рабочий и колхозница» должен взяться не реставратор, а скульптор, хотя бы приближающийся по нравственным критериям к масштабу таланта Веры Игнатьевны. Но кто из работающих сейчас ваятелей способен на такое самопожертвование ради восстановления «чужого» произве-депия?
И все же верим, что такой скульптор найдется.
В. И. МУХИНА (БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА)
Вера Игнатьевна Мухина родилась в Риге в 1889 году в купеческой семье. После окончания гимназии и переезда в Москву училась живописи в студиях Юона и Машкова. В 1912—1914 годах жила в Париже и занималась в скульптурной академии «Гран Шомьер», руководимой известным французским скульптором-монументалистом Бурделем. Летом 1914 года путешествовала по Италии с целью изучения скульптуры и живописи Ренессанса.
По возвращении в Москву работала до 1918 года хирургической сестрой в военном госпитале. В 1918 году вышла замуж за военного врача — выдающегося хирурга и терапевта А. Замкова. Участвовала в работах по реализации ленинского плана монументальной пропаганды (неосуществленные проекты памятников Революции и «Освобожденный труд», а также Н. И. Новикову, В. М. Загорскому, Я. М. Свердлову). Преподавала во Вхутемасе — Вхутеине, участвовала в скульптурных выставках (работы «Юлия», «Ветер» и др.). В 1927 году была премирована за статую «Крестьянка» денежным вознаграждением и поездкой в Париж.
Тяжело переживала травлю доктора А. Замкова, изобретшего новое уникальное лекарство гравидан и лечившего им К. Цеткин, В. Куйбышева, М. Горького и многих других. Из-за этих преследований решила вместе с мужем уехать из страны. Была вместе с ним арестована и затем выслана в Воронеж. Благодаря вмешательству Горького через два года смогла вернуться в Москву. Участвовала в проектировании «Фонтана национальностей», оформлении гостиницы «Москва» и др.
В 1936—1937 годах, выиграв конкурс на статую «Рабочий и колхозница», работала над ее осуществлением в Москве и Париже.
Почти все дальнейшие ее проекты остались нереализованными (памятник В. И. Ленину для Москвы, статуи для Москворецкого моста, памятник челюскинцам, памятник «Икар» для пантеона летчиков, монумент «Героической авиации», фигура Иванушки для детского парка сказок и др.). В военные годы создала ряд портретов военачальников и деятелей науки и культуры (Б. А. Юсупова, И. Л. Хижняка, Н. Н. Бурденко, А. И. Довженко, Н. Г. Столярова и др.).
Много работала в декоративном искусстве, особенно в области создания советской моды и возрождения художественного стекла; для этой цели по ее инициативе был создан в 1940-х годах Ленинградский завод художественного стекла (ЛЗХС).
Перед войной выиграла конкурс па памятник М. Горькому для Москвы, но смогла его установить в послевоенные годы не в столице, а в городе Горьком. В Москве, на площади Белорусского вокзала, был установлен исправленный и приглаженный ею по указанию правительства памятник работы И. Д. Шадра. Значительному «исправлению» подвергся и ее проект памятника П. И. Чайковскому, осуществленный уже после смерти автора.
Выступала с рядом статей и докладов, где серьезно критиковала натурализм, серость и штамп в советском искусстве, ратовала за большую условность искусства, за активное использование, особенно в монументально-декоративной скульптуре, символических и аллегорических решений.
Перед смертью написала большое письмо в правительство о недостатках советского искусства. Умерла после тяжелой болезни сердца в 1953 году.



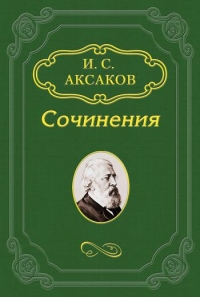
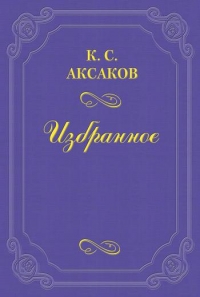
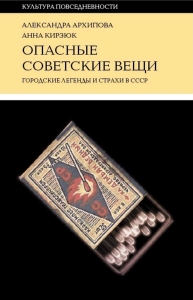
Комментарии к книге «Рабочий и колхозница», Никита Васильевич Воронов
Всего 0 комментариев