Челюскинская эпопея
Владислав Сергеевич Корякин
События, связанные с походом и гибелью парохода «Челюскин», сегодня воспринимаются, пожалуй, как одно из самых драматических событий в истории освоения Арктики. Гибель судна выявила целый ряд недостатков арктического мореплавания, но, что важнее, продемонстрировала всему миру выдающиеся качества российских (тогда советских) полярников, способных найти выход из самых невероятных ситуаций. Интерес к Челюскинской эпопее не угасает до сих пор еще и потому, что актуальным остается целый ряд вопросов: был ли поход «Челюскина» авантюрой начальника Главсевморпути О. Ю. Шмидта или закономерным событием в освоении Арктики; мог ли Советский Союз в тридцатые годы позволить себе серьезно подготовленную арктическую экспедицию; насколько важна была в то время разведка Северного морского пути? Автор книги, заслуженный полярник, доктор географических наук В. С. Корякин, отвечая на эти вопросы, поднимает проблему реальных и мнимых заслуг участников событий, а также размышляет о роли полярников в современной истории России.
И поражений, и побед хлебнули вы не раз.
Но только время да иль нет
Произнесёт в свой час.
Б. Окуджава
Трудно давалось признание,
Трудно приходит прозрение,
Я всё нежней и отчётливей
Это люблю поколение.
Ю. Левитанский
В самом начале нашего повествования, очевидно, автору предстоит ответить на вопрос: «А можно ли назвать историю похода и гибели парохода «Челюскин» по совокупности известных событий приключением?» По мнению автора, по совокупности характерных признаков — вполне. Действительно, рядовой транспортный эксперимент в реальности оказался лихо закрученным сюжетом, когда развитие событий потребовало участия огромного количества людей, не только экипажа судна и пассажиров (вплоть до детей), но и правивших верхов, не говоря уже о спасателях–лётчиках. При этом все они действовали не просто на грани возможного, а просто в условиях неизвестности. И тем не менее, удалось найти достойный выход из самой кромешной ситуации, ценой нетривиальных решений, потребовавших от всех участников максимального напряжения всех моральных, физических и интеллектуальных сил. И ведь нашли — отрицать это невозможно! Да так, что спустя восемь десятков лет люди и не разберутся — а как это получилось?..
Легче ответить на вопрос: почему — самое знаменитое? Достаточно раскрыть любую книгу по истории освоения Северного морского пути с алфавитным перечнем судов (обычно на последних страницах), чтобы убедиться в этом.
Что касается самих участников событий, на память приходят строки классика: «какая смесь одежд и лиц, племён, наречий, состояний» — от беглых каторжников и до будущих светил науки, чьи имена остались на карте Арктики… Совсем не случайно дети, наиболее ценящие приключения, потом вплоть до Великой Отечественной играли в челюскинцев, как позднее уже их чада — в Гагарина и Титова. А на улицах столицы встреча челюскинцев и космонавтов одинаково вылилась в народные торжества без указаний «сверху».
Разумеется, челюскинская эпопея (ещё одно часто используемое определение) испытала в лучших традициях советского времени настолько мощный идеологический пресс, что в наше время переоценок прошлого вызывает вопрос: а достойны ли славы и известности сами челюскинцы, ставшие символами, звездами своей эпохи? Отвечать на этот вопрос можно лишь с помощью документов, что и определило жанр настоящего повествования. Автор надеется, что многочисленные ссылки на источники не будут отвлекать внимание читателя от самой драмы обычных людей, оказавшихся в экстремальных условиях Арктики и своего времени.
Главный первоисточник по истории похода «Челюскина» включает три тома, которые старые полярники в совокупности называли «Челюскиниана». Первые два тома под общим заголовком «Поход «Челюскина» включают описание плавания по Северному морскому пути и дрейфа в Чукотском море вплоть до гибели судна (том первый), а также жизни на дрейфующем льду в «лагере Шмидта» (второй том). Написанные на основе воспоминаний 64 авторов (т. е. более чем половины от общего количества участников событий), они дают достаточно полную и всестороннюю картину происходившего увиденного глазами людей разного уровня образования и положения на борту корабля: моряков из экипажа судна, научных работников, смены зимовщиков на острове Врангеля, вплоть до неграмотных строителей, плотников и печников, вчерашних крестьян из российской глубинки, оказавшихся в Арктике в попытке убежать от перипетий коллективизации. Для историка Арктики это бесценный документ по полноте и достоверности характеристики событий, не имеющий аналогов в истории арктических экспедиций. Это не считая архивных документов и последующей мемуарной литературы, также использованной в настоящем издании.
Всё сказанное относится и к третьему тому «Челюскинианы» под названием «Как мы спасали челюскинцев», авторами которого в числе 16 человек являются не только авиаторы, но и другие люди, причастные к спасению челюскинцев (известный полярник Г. А. Ушаков, пограничник А. Небольсин, дипломат А. Трояновский). Содержание этого тома вытекает из названия, а значение для нашей истории определяется тем, что большая часть авторов являются первыми Героями Советского Союза, звание, которое в наши дни дается за личное мужество и отвагу под названием Герой России, что является подтверждением сложившейся связи поколений советских людей и современных россиян. Определённо, трёхтомник «Челюскинианы» является ярким документом эпохи, сохранившим долгое эхо тех давних событий, энергетика которых непостижимым образом заставляет чаще биться сердца не только полярников, но не оставляет равнодушным ни одного россиянина, чувствующего причастность к судьбам страны.
Масштаб событий тех лет в Арктике требует определённой исторической перспективы, хотя бы в самом беглом виде, с которой мы начинаем наше повествование.
Глава 1. Истоки
А древние пращуры зорко
Следят за работой сынов.
В. Брюсов
Идею Северного морского пути почти пять веков назад изложил московский посол при папском дворе Дмитрий Герасимов следующим образом: «Двина, увлекая бесчисленные реки, несётся в стремительном течении к северу, и море там имеет такое огромное протяжение, что, по весьма вероятному предположению, держась правого берега, оттуда можно добраться до страны Китая». Когда в эти негостеприимные арктические воды пришли английские и голландские моряки в попытках обойти базы испанцев и португальцев в южных морях на пути в Китай и Индию, они, к своему удивлению, убедились, насколько наши предки чувствовали здесь себя хозяевами. Иностранные источники запечатлели ещё одну интересную особенность контактов западноевропейцев с поморами без тени боязни или подозрительности со стороны наших предков — ведь это были свободные люди, не знавшие крепостного гнёта и чрезмерного давления центральной власти. О какой‑либо серьёзной конкуренции в арктических водах между поморами и западноевропейскими моряками говорить не приходится. Неудивительно, что иностранцы как люди практичные быстро сообразили, кто в негостеприимных арктических водах первый, а кто второй, и не пытались изменить положение в свою пользу. Действительно, суда западноевропейских компаний в течение XVI века не прошли дальше Югорского полуострова в ту пору, когда наши мореходы уже одолели северную оконечность Таймыра.
Об этом свидетельствуют находки остатков неизвестной поморской экспедиции явно торгового характера с казной из 3500 монет, из которых самая поздняя была датирована 1617 г. Это не считая остатков оружия, навигационных инструментов, предметов быта и т. д. И ни одного документа, чтобы воздать дань памяти тем, кто первым одолел труднейший участок будущего Северного морского пути по направлению к берегам Тихого океана, куда Федот Алесеев, сын Попов, по кличке Холмогорец и казачий голова Семейка Дежнев (по разным сведениям выходец то ли из Великого Устюга, то ли с берегов Пинеги), добрались спустя три десятилетия.
Недаром ещё великий Ломоносов утверждал, что «в приращениях на востоке Российской державы, приобретенных более приватными поисками, нежели государственными силами, где козаки, оставшиеся и размножившиеся после победителя Сибири (Ермака. — В. К.), а также поморские жители с Двины и из других мест Белого моря» (по Перевалову, 1949, с. 104), обозначив ещё одну проблему российской истории: где народ и где власть…
Гораздо сложнее, чем с иностранцами, оценить роль собственной власти в событиях на Севере. Уже с завершением Смутного времени, когда, казалось бы, судьба Московского государства определилась, неожиданно последовал царский указ 1619 г. о запрете поморского мореплавания из опасения, что под предлогом «мочно немцам пройти морем в Мангазею, не займуя Архангельского города», являвшегося тогда открытым для торговли с иностранцами портом. Как известно, «казаки и поляки» в то время орудовали на Руси, в основном с запада и юга, и ожидать происков внешних врагов (которым официальные историки традиционно приписывали все беды и неудачи внутренней политики) с северного направления мог какой‑то чересчур заинтересованный умник, по–видимому, из семейства Строгановых, в очевидном стремлении не выпускать из своих рук контроль на сухопутных путях в Сибирь, приносивший немало прибыли. В подобном случае историк–исследователь имеет право воспользоваться принципом следователя–криминалиста — искать, кому выгодно…
Последствия запрета последовали незамедлительно — «златокипящая Мангазея» в Тазовской губе (главный торговый и административный форпост Московского государства на арктическом побережье), лишённая подвоза всего необходимого морем, зачахла и была оставлена, а Новая Мангазея под названьем Туруханск, позднее возникшая на Енисее, никогда не сравнялась по значимости со своей предшественницей. Это был первый и не последний случай, когда судьбы будущего Северного морского пути определялись не происками иностранцев, а борьбой заинтересованных сторон, близких к государственным «верхам», с конечным результатом, который наш современник выразил в известном афоризме: хотели как лучше, а получилось, как всегда…
Историка одинаково изумляют как темпы приобретения новых территорий, так и быстрая реализация доходов от сибирского ясака в решении западных границ Московского государства и объединения с Украиной в едином православном государстве. Так что в превращении Московии в Россию присутствует несомненный вклад аборигенов Сибири, о чём не следует забывать нашему современнику, включая роль Северного морского пути, о чём пойдёт речь ниже.
Очевидно, в поисках дальнейших путей на восток надо было принимать какое‑то иное решение, вместо того чтобы ломиться через загромождённый льдами пролив Вилькицкого, пугавший моряков ещё в совсем недавнюю пору. Эту задачу блестяще осуществил ещё один помор, о котором известна только его кличка — Пенда, по названью деревни в нижнем течении притока Северной Двины реки Вага. Деревенька эта, в частности, присутствует на карте голландца Герритса, составленной до 1617 г.
Совсем не случайно следствием присоединения Сибири стало восстановление финансовой (и не только!) мощи Московского государства после кровавых безумств Ивана Грозного и бед Смутного времени. Сибирская мягкая рухлядь в виде ясака, поступавшая в казну, позволила не только экономически воспрянуть нашему государству, но и отстоять интересы страны у западных границ и на юге в столкновениях с Польшей, и крымцами в середине XVII в. О роли новых подданных — коренных обитателей Сибири — уже говорилось. Для нашей книги важно, что роль будущего Северного морского пути, даже в его неполном, частичном использовании для нашей страны, таким образом, уже определилось много веков назад.
Теперь оставалось положить на карту обретенные территории и акватории, что было сделано усилиями Великой Северной экспедиции, судьба которой также содержит немало поучительных примеров. Одновременно по итогам этой экспедиции был сделан справедливый для того времени вывод о бесперспективности Севморпути. Более того, в литературе отмечены тяжкие экономические последствия деятельности этой экспедиции, сопоставимые с разорительным вторжением вражеской армии, когда и без того немногочисленное местное населения разбегалось, чтобы избежать мобилизации для целей, которое оно не понимало или не разделяло. Вместе с тем, вплоть до советского времени карты и описания этой экспедиции оставались единственными источниками информации, пригодными для практического использования. По–своему показательны и судьбы отдельных участников, включая штурмана Семёна Челюскина, на долю которого выпали особые успехи и особые испытания, включая подозрения в заведомой лжи. Например, академик К. М. Бэр одно время утверждал, что этот моряк, чтобы «развязаться с ненавистным предприятием, решился на неосновательное донесение». Только спустя несколько лет другой будущий академик А. Ф. Миддендорф, проверив сведения Челюскина непосредственно на местности, пришёл к другому заключению: «Челюскин, бесспорно, венец наших моряков, действовавших в том крае. При большой настойчивости Челюскин из участников экспедиции всех точнее и отчётливее в своих показаниях».
Тем не менее, вывод о практической ценности Северного морского пути по результатам работ Великой северной экспедиции оказался отрицательным — ведь российским морякам той поры нередко приходилось при описи берегов и их картографировании оставлять свои корабли и вести свои работы с суши с помощью собачьих и оленьих упряжек. Уже позднее стало известно, что кратковременное потепление эпохи землепроходцев сменилось лютыми холодами Малого ледникового периода в период деятельности Великой северной.
События второй половины XIX века оказались этапными для воплощения идеи Северного морского пути в жизнь, опять‑таки в противоречивом столкновении интересов и мнений, вероятно, удививших бы самого Дмитрия Герасимова. На этот раз инициаторами возрождения идеи мореплавания по Северному морскому пути стали представители сибирского купечества, известные золотопромышленники М. К. Сидоров и Сибиряков, инициатива которых встретила настоящий отпор в официальных кругах. Один из царских чиновников аттестовал проект Сидорова так: «…Такие идеи могут производить только помешанные». По мнению адмирала Ф. П. Литке, возглавлявшего одно время Академию наук и Русское географическое общество, обладавшего собственным арктическим опытом (в основном неудачным), «морское сообщение с Сибирью принадлежит к числу вещей невозможных» и т. д. Не стоит удивляться, поскольку для подобного отношения были свои причины. Во–первых, царская администрация была занята проблемами освоения недавно вошедших в состав империи территорий Средней Азии и Дальнего Востока. Во–вторых, неменьшее значение (скорее, главное) имела позиция помещиков европейской части страны, получавших значительную прибыль от продажи своих сельхозпродуктов на запад и вполне обоснованно опасавшихся конкуренции дешевого сибирского хлеба.
Неудивительно, что Сидоров обратился к западноевропейским морякам с обещанием солидной премии за проведение успешных рейсов на Обь и Енисей, на что откликнулся английский моряк Джозеф Уиггинс, совершивший в 70–90 гг. XIX в. одиннадцать успешных рейсов по Карскому морю. Одновременно Сидоров нашёл взаимопонимание у шведского ученого А. Э. Норденшельда, получившего полярный опыт в экспедициях на Шпицберген и в Гренландии. В 1874–1875 гг. он совершил два исследовательских плавания в Карское море, получив, помимо научной информации, знание ледовых условий, а также экономических возможностей Сибири. Сотрудничество Норденшельда и сибирского купечества, выступавшего, таким образом, в качестве спонсоров его исследовательской деятельности, привело к плаванию парусно–парового судна «Вега» (с мощностью машины всего 60 л. с.) от Скандинавии в Тихий океан с зимовкой у Колючинской губы на Чукотке, всего в 200 км от Берингова пролива в 1878–1879 гг.
Уже на описанном этапе экономическая целесообразность будущей транспортной магистрали заявила о себе вполне определённо. Напомним, что рельсы для Транссиба в навигацию 1893 г. доставлялись частично по Карскому морю, а затем к Красноярску, вверх по Енисею. Часть из них при разгрузке утонула и почти полвека спустя пригодилась при строительстве железной дороги от Дудинки к Норильскому горно–металлургическому комбинату уже в эпоху ГУЛАГа. Резко возросли перевозки морем на Енисей во время Русско–японской войны 1904–1905 гг., когда 22 судна доставили на Енисей и далее, через Красноярск на Транссиб, целых 12 тыс. т грузов, опоздавших, тем не менее, на фронт. Эти события заставили руководство страны пересмотреть значение своего отношения к Севморпути уже с военной точки зрения.
Разумеется, рано или поздно должны были возникнуть технические и научные средства преодоления ледовой опасности на Северном морском пути. Наиболее простым и доступным представлялось создание мощного ледокола. Не случайно при постройке на верфях Ньюкестля (Англия) в 1898 г. по проекту адмирала С. О. Макарова он, по исторической аналогии, получил имя «Ермак». Внедрение этой несомненно передовой техники происходило с трудом. Летом 1901 г. новое судно попало в вынужденный месячный дрейф у берегов Новой Земли по единственной причине — техническим средством просто не научились пользоваться. Однако этого было достаточно, чтобы недруги адмирала отправили опытовое (как говорят моряки) судно вместо Карского моря на Балтику, где первый арктический ледокол нёс свою службу более тридцати лет, прежде чем вернулся к арктическим льдам.
После поражения в войне 1904–1905 гг. другой русский моряк, лейтенант А. В. Колчак (принимавший участие в 1900–1903 гг. в Русской полярной экспедиции под начальством Э. В. Толя, по результатам которой написал солидный научный труд, изданный Академией наук), также работал над своим проектом будущего изучения полярных морей со специальных исследовательских судов — ледокольных транспортов «Таймыр» и «Вайгач», построенных на петербургских верфях. Эти корабли под его командой в 1908 г. перешли из Петербурга во Владивосток обычным путём через Суэцкий канал. К тому времени западный участок будущей трассы был сравнительно изучен и освоен, предстояло больше уделять внимания восточному концу будущей транспортной магистрали, наиболее удалённой от европейских портов. Не случайно Главное гидрографическое управление отправило на поиски фарватера в дельте Колымы поручика по Адмиралтейству Георгия Яковлевича Седова в 1909 г., успешно справившегося со своей задачей. В 1911 г. этим фарватером воспользовалось первое судно из Владивостока. Таким образом, разобщённость Северного морского пути на западный и восточной участки, обозначившаяся ещё в XVII в., сохранялась ещё долго и в ХХ в.
Вскоре, однако, Колчак потребовался в Генеральном морском штабе в связи с программой строительства нового флота. Уже под начальством капитана 2–го ранга Б. А. Вилькицкого «Таймыр» и «Вайгач» перешли по будущей трассе в Архангельск, проведя зимовку 1914–1915 гг. у берегов Таймыра, попутно открыв годом раньше неизвестный прежде архипелаг Северная Земля, совсем поблизости от маршрутов Норденшельда, Нансена и Толля, казалось бы, в уже известных акваториях.
Что касается приключений (в первую очередь поучительных реальных событий, оставивших свой след в истории), то в Арктике их хватало во все времена, включая те, о которых известен сам факт события, — например, о погибшей поморской экспедиции после 1617 г. в районе мыса Челюскина. А разве не относится к ним зимовка на Шпицбергене, описанная академиком П. Ле Руа под характерным заголовком «Приключения четырёх российских матросов, к острову Ост–Шпицбергену бурею унесённых, где они шесть лет и четыре месяца прожили», для начала имея с собой всего 12 зарядов к ружью, несколько фунтов муки, огниво и тому подобное? Не надо относиться к приключениям свысока, ибо они содержат богатейший опыт не просто выживания, но и решения реальных жизненных проблем в условиях недостатка необходимой информации — обычная ситуация в любом малоизученном регионе. Другое дело, что подобная ситуация опасна изначально и чревата трагедией при малейшем неблагоприятном стечении обстоятельств, как это произошло с одним из самых результативных исследователей проблемы Северного морского пути Владимиром Русановым.
Ознакомившись в 1907–1911 гг. с ледовыми условиями Карского моря, он предложил систему мероприятий по транспортному освоению трассы, включая строительство полярных станций, организацию прогнозной службы, создание специализированных судов ледового плавания (что независимо от него воплотил в жизнь Колчак), а также наметил наиболее удобные новые пути плавания, в отличие от традиционных. По его предложению строительство первых четырёх полярных станций между южными Новоземельскими проливами и Таймыром сразу позволило сократить продолжительность плавания к Оби и Енисею примерно втрое, что показательно само по себе. По мнению Русанова, развитие Северного морского пути должно было проходить при активном участии государства. К сожалению, этот выдающийся исследователь пропал без вести на вершине своей полярной карьеры.
Определённо, без понимания значимости преемственности происходившего на Северном морском пути до и после 1917 г., обойтись невозможно, что подтверждается простым перечнем наиболее значительных событий. С началом Первой мировой войны царское правительство в 1916 г. выступило с нотой, объявлявшей все известные и неизвестные земли в секторе между меридианами п–ова Рыбачий на западе и Берингова пролива на востоке принадлежащими России. Именно события Первой мировой войны привели к созданию ледокольного флота, базировавшегося на Архангельск, причём иностранной постройки, поскольку собственные верфи на Балтике и Чёрном море были отрезаны вражеской блокадой.
Революция и Гражданская война лишь доказали необходимость Северного морского пути для страны, оказавшейся на грани гибели и распада. Даже в годы братоубийственной войны и разрухи продолжала свою деятельность экспедиция Северного Ледовитого океана под начальством Бориса Вилькицкого по обеспечению мореплавания между Архангельском и устьями сибирских рек, где закрепились белые. Там руководитель Белого движения Колчак создал весной 1919 г. при своём правительстве специальный комитет Северного морского пути (Комсеверпуть), который с победой красных достался им в качестве трофея вместе со всеми ведущими специалистами (Евгеновым, Зубовым, Хмызниковым, Рыбиным и другими), работавшими позднее под партийным контролем. При красных Комсеверпуть продолжил свою работу, в качестве хозрасчётной организации областного уровня, но с правом выхода в своей хозяйственной деятельности за рубеж. Тем не менее, потери среди полярников в связи с зарубежной эмиграцией оказались огромными, наравне с судами.
Колоссальный социальный эксперимент, осуществленный после 1917 гг. на одной шестой части суши, сопровождался многими другими в общественной и хозяйственной жизни страны, превращавшейся из России в СССР. Если многие новшества той поры шли вразрез с предшествующим опытом и традициями страны (в первую очередь коллективизация), то другие продолжали их в новой социально–общественной обстановке, включая Северный морской путь.
Победителям срочно пришлось заниматься проблемами доставшейся им в качестве трофея морской трассы для вывоза хлеба из Сибири для голодающего населения севера Европейской части России, с чем они более или менее справились, доставив морским путём из Сибири в навигацию 1920 г. до 10 тыс. т грузов. Зато на будущий, 1921 г. в Карском море при проведении аналогичных операций, за которыми в литературе закрепилось название Карских экспедиций, погибли два судна, не столько из‑за сложной ледовой обстановки, сколько из‑за изношенности по условиям военного времени. Необходимость Карских экспедиций была очевидной, поскольку железнодорожный транспорт на материке был изношен ещё больше, тем более что поезда в сибирской глухомани нередко становились объектом охоты самых разнообразных банд и шаек, этого своеобразного наследия Гражданской войны. Всего за 20–е г. было совершено более ста рейсов грузовых судов через Карское море с непрерывным нарастанием грузопотока, достигшего в 1930 г. 150 тыс. т на 52 судах, главным образом иностранных, причём практически (за исключением навигаций 1921 и 1922 гг.) без участия ледоколов.
Как и по стране в целом, особой проблемой было использование старых специалистов, более острое в условиях Севера, поскольку весь плавсостав и практически все капитаны служили в годы Гражданской войны и интервенции у белых, одновременно оставаясь патриотами своей страны, даже не разделяя политических взглядов ни красных, ни белых. В такой ситуации назначением комиссаров в экспедиции и помполитов на суда решалась только часть проблем. Тем самым обращение к старым специалистам (капитанам, штурманам и механикам) становилось неизбежным, тем более что эти люди были не только знатоками своего дела, но и болели за него, как и за свою страну. Не случайно Вилькицкий возглавлял две Карские экспедиции, рассчитывая на изменения в советском обществе в связи с НЭПом, но отказался от дальнейшего участия, когда его надежды не оправдались. Известный моряк Н. И. Евгенов (попавший в руки красных вместе с Колчаком) возглавлял целых пять Карских экспедиций, служил своей стране (а не её новым хозяевам) не за страх, а за совесть. На собственном опыте с обобщением всех опубликованных материалов по Карскому морю этот учёный–полярник опубликовал в 1930 г. первую «Лоцию Карского моря и Новой Земли», за что решением Высшей аттестационной комиссии ему была присуждена учёная степень доктора географических наук и звание профессора. Такие люди составляли интеллектуальный штаб Карских экспедиций, помимо специалистов–прогнозистов из учёных, обеспечивавших моряков необходимыми сведениями, как накануне навигации, так и непосредственно в плавании. Особое место среди них принадлежало Владимиру Юльевичу Визе, ставшему ведущим специалистом в своей отрасли и выдавшему свой первый прогноз ледовитости уже в 1923 г. Однако круг интересов этого ученого был ещё шире. Так, анализируя особенности дрейфа шхуны «Святая Анна» в 1912–1914 гг., он предсказал в работе 1924 г. существование неизвестной суши посреди Карского моря примерно на меридиане Ямала, что и подтвердилось спустя шесть лет. Он был одним из первых, кто связал уменьшение ледовитости с усиленным поступлением вод Гольфстрима на шельф Баренцева моря.
Определенно, по своему уровню наши ученые были под стать морякам–практикам, одолевавшим льды Карского моря где напролом, а где по разводьям, используя результаты наблюдений не только с мостиков и «вороньих гнёзд» на мачтах своих судов, но и те, что поступали с полярных станций и даже самолётов ледовой разведки, что по тем временам было новинкой.
Необходимость расширения сети полярных станций была вызвана перспективами освоения новых полярных акваторий — в 1923 г. первая из них в советское время была построена в Маточкином Шаре на Новой Земле, в 1929 г. ещё одна появилась на Земле Франца–Иосифа, на следующий год у берегов Северной Земли, в 1930 г. на севере Новой Земли. Спустя два года очередная «полярка» увенчала мыс Челюскина на Таймыре, крайнюю северную точку континента Евразии. С такой сетью наблюдательных пунктов надёжность погодных и ледовых прогнозов значительно повысилась.
Новым словом в обеспечении полярного мореплавания стала ледовая авиационная разведка, впервые осветившая ледовую обстановку на юго–западе Карского моря пилотом Б. Г. Чухновским летом 1924 г. Это был только первый шаг, получивший дальнейшее развитие с использованием новых самолётов с большим радиусом действия и специальными методами составления карт ледовой обстановки и доведения этой информации до судоводителей. Всё вместе взятое позволило искать новые пути для судов Карских экспедиций. Прав был Русанов, в своё время предупреждавший об опасности южных проливов, ведущих в Карское море, периодически закупоривавшихся льдом при северных ветрах. Наблюдения полярных станций и ледовая воздушная разведка подтвердила, что в такой ситуации доступными для судов становились северные акватории, и в 1930 г. суда из Карского моря возвращались на запад в обход Новой Земли с севера. Чтобы обезопасить этот путь своевременным предупреждением о грозящей ледовой опасности, уже на будущий год была построена новая полярная станция на мысе Желания.
В 1929–1930 гг. в Арктике появился Отто Юльевич Шмидт, проявивший себя ранее совсем в иных областях как способный математик и альпинист, а также в качестве главного редактора Большой Советской энциклопедии. Своеобразная прихоть судьбы — в Арктике он оказался, поскольку не состоялась столь ценимая альпинистами экспедиция на Памир, причём по предложению Н. П. Горбунова (управделами СНК СССР) в качестве официального представителя советской власти — и только.
На новом поприще Шмидт не преувеличивал собственной роли, одновременно понимая меру ответственности: «План экспедиции был разработан Институтом по изучению Севера под руководством Р. Л. Самойловича (директора. — В. К.) и В. Ю. Визе и утверждён созданной при Совете Народных Комиссаров Арктической комиссией… Руководителем и помощником начальника экспедиции были назначены Р. Л. Самойлович, директор Института по изучению Севера, и В. Ю. Визе. Первый большой знаток Шпицбергена и Новой Земли, заходил ненадолго на Землю Франца–Иосифа в предыдущем году. В. Ю. Визе знал Землю Франца–Иосифа ещё до экспедиции лейтенанта Г. Я. Седова 1912–1914 гг., когда «Св. Фока» зимовал в бухте Тихой на о–ве Гукера» (там же, с. 33–34). Определённо, среди научной группы Визе принадлежала особая роль. Помимо опыта, приобретенного в экспедиции Г. Я. Седова в 1912–1914 гг., этот исследователь с 1918 года служил в Главной геофизической обсерватории, перейдя в 1921 г. на должность прораба в Гидрографическое управление, приняв участие в исследованиях Карского моря. В 1923 г. в составе Северного гидрографического отряда (начальник Матусевич) он участвует в создании обсерватории в Маточкином Шаре на Новой Земле, одновременно с 1922 г. занимая должность учёного метеоролога в Центральном управлении морского транспорта и старшего гидролога в Гидрологическом институте. Сам Шмидт и другие участники плавания 1930 г. особо оценили подтверждение прогноза учёного на существование неизвестной суши посреди Карского моря, заслуженно названного в честь Визе.
На одних полярников Шмидт произвёл «огромное впечатление своей романтической внешностью. У него были тонкие черты лица, высокий лоб, длинные зачёсанные назад волосы и пышная чёрная борода…» (Муров, 1971, с. 22–25). Другие (например, Э. Т. Кренкель с его опытом двух зимовок на Новой Земле), обнаружили, «что этот человек всё знает, всё понимает, всё умеет. Шмидт разговаривал с нами на равных. Мы тоже держались вполне независимо, но думаю, не ошибусь, если скажу, что внутренне из нас каждый трепетал и робел» (1973, с. 149). Судя по этим свидетельствам, чисто деловые качества в Шмидте хорошо сочетались с особой харизмой, что само по себе для руководителя такого ранга немало — оставалось проверить, как это сочетание покажет себя в условиях Арктики.
Проверку Арктикой новобранец прошёл вполне удовлетворительно. Как оказалось, в экспедициях 1929–1930 гг. на Землю Франца–Иосифа и Северную Землю Шмидт лишь примеривался к высоким широтам с одной стороны, а с другой — оценивал собственные возможности в новой для себя области во взаимодействии опытных специалистов–полярников, пользовавшихся широкой известностью, таких как Р. Л. Самойлович, В. И. Воронин, В. Ю. Визе, Н. Н. Урванцев, Г. А. Ушаков и целый ряд других. При всём при том всем чего‑то не хватало: специалистам — новых горизонтов на будущее, а Шмидту пока — полярного опыта. Однако в любом случае они выполнили порученное дело (построили новые зимовочные базы на Земле Франца–Иосифа и Северной Земле, получили ценный научный материал) и даже открыли посреди Карского моря предсказанную Визе землю. Последнее событие стоило многого: неизвестно, сколько Визе пришлось бы дожидаться своего звёздного часа, а Шмидт с его восприятием нового задействовал интеллект своего помощника по науке уже в ближайшем будущем на пользу дела. Неудивительно, что союз полярников с новым лидером не просто состоялся, а вскоре получил реальное воплощение.
Между тем, с государственной точки зрения на арктическом фронте (советские вожди долго не могли освободиться от военной терминологии Гражданской войны и Революции) обозначались всё новые и новые проблемы. Открытые за Полярным кругом месторождения углей Воркуты, меди и никеля Норильска, золота Колымы для связей с потребителями в промышленном центре остро нуждались в морских перевозках, где возможности авиации были ограничены почтовой связью и, в лучшем случае, перевозкой пушнины. В свою очередь, возрастание грузоперевозок и увеличение количества судов в ледовитых морях потребовало ледокольной проводки также по настоянию иностранных компаний, предоставлявших суда. Соответственно, в 1929 г. вернулся для ледовой проводки судов Карских экспедиций «Красин», чтобы обеспечить перевозки на Енисей.
Между тем на противоположном конце будущего Северного морского пути (одновременно с возрастанием военной угрозы после захвата в 1931 г. японцами Манчжурии) назревали свои события. Когда учёные (С. В. Обручев, К. А. Салищев, Ю. А. Билибин ряд других) подтвердили необычно богатые золотые россыпи в бассейне Колымы, обнаруженные вольными старателями ещё накануне Первой мировой войны, 11 ноября 1931 г. было принято совершенно секретное постановление ЦК ВКП(б) «О Колыме», положившее начало Дальстрою в системе ОГПУ, с подчинением этой организации непосредственно ЦК ВКПб. Тем самым эта территория превращалась в резервацию ГУЛАГа со всеми вытекающими последствиями. Её освоение можно было проводить или с суши от будущего порта Магадан, или с моря от устья Колымы: очевидно, без морских арктических коммуникаций также было не обойтись. Соответственно, 23 января 1932 г. Совет Народных Комиссаров принял ещё одно постановление «Об освоении северо–восточных водных путей СССР», с базой во Владивостоке, где единственным ледовым судном был «Литке», перегнанный туда в 1929 г. по традиционному пути через Индийский океан.
В любом настоящем приключении по законам жанра важна кульминация событий, которая в нашем случае пришлась на Чукотское море, поскольку «сходство будущего с прошлым
С успехом позволяет говорить
О вероятье будущих событий.
Их и в помине нет ещё пока,
Но семена и корни их в наличье.
(В. Шекспир)
Такие «семена и корни», определившие во многом драму «Челюскина», отчётливо обозначились в двух морских экспедициях в арктическую навигацию 1932 г. Они настолько отличались по целям, задачам и организации, и в первую очередь по персоналу, что требуют отдельного описания.
В последних числах июня из Владивостока отправилась под командой опытнейшего ледового моряка Евгенова (которого с учётом его белогвардейского прошлого курировал представитель Дальстроя чекист Ю. С. Шифрин) «великая армада» ОГПУ под скромным названьем Особая Северо–Восточная экспедиция. Пять больших пароходов с грузом 12 тыс. т в трюмах волокли на буксире металлические баржи и паровые катера. На этом фоне как‑то затерялась парусно–паровая шхуна «Темп». Возглавлял «армаду» выделявшийся на этом фоне чересчур изящными очертаниями ледорез «Литке» (капитан Николаев, отличавшийся волевыми качествами), где находился штаб экспедиции. В трюмах «Сучана» мучились взаперти 200 заключенных, пионеров арктического ГУЛАГа, а всего в трюмах, на палубах и в твиндеках разношерстных судов находилось 867 пассажиров разного общественного положения (помимо зека и их охраны, разного рода «лишенцев» и просто завербованных), в советской прессе именовавшихся «работниками Дальстроя». Многие ехали семьями, так что среди будущих полярников оказались 130 женщин и 80 детей, не считая двух родившихся в море. Часть этого контингента, не отвечавшую условиям плавания, Евгенов, на свой страх и риск, распорядился вернуть на «материк» на первом встречном судне. В середине августа был пройден Берингов пролив, а ещё через несколько дней при встрече с кромкой льда понадобилась воздушная ледовая разведка, которую на поплавке Р-5 выполнил лётчик А. Ф. Бердник. Только 4 сентября была достигнута цель плавания — бухта Амбарчик, где состоялась историческая встреча, с другим судном, пришедшим с запада, решавшим совершенно иную задачу — одолеть с запада на восток весь Северный морской путь без зимовки.
Гораздо скромнее выглядело начало похода ледокольного парохода «Сибиряков», оставившего Архангельск 28 июля с экспедицией на борту во главе со Шмидтом. Цель экспедиции сугубо экспериментальная — пройти по Северному морскому пути за одну навигацию без зимовки. Помимо экипажа из опытных полярных моряков во главе с капитаном В. И. Ворониным, о котором Шмидт был самого высокого мнения («лучший ледокольный капитан. Он обладает исключительным самообладанием, не только великолепно ведёт судно, но интуитивно чувствует, как его надо вести… И, что очень важно, В. И. Воронин отличается редким для капитана пониманием целей и значения наших научных исследований. Он сам помогал нам в научной работе, своими руками вычертил карту с указанием ледовых условий района… Он готов идти на многое, даже на риск ради успеха научных исследований. И в этом смысле это исключительный капитан исследовательского судна» (1960, с. 83). В этом плавании участвовало всего 64 человека. Так что по количеству судов и участников, а также задействованных сил и средств, экспедиции Шмидта и Евгенова были просто несопоставимы.
Особую роль в этом плавании играла научная группа, возглавляемая В. Ю. Визе, опыт и знания которого Шмидт оценил по предшествующим плаваниям. «После моих первых ледокольных экспедиций в 1929–1930 гг. я, совместно с проф. Визе, поставил перед правительством вопрос о северо–восточном проходе без зимовки» (там же, с. 136). Сам Визе о своей роли в подготовке плавания 1932 г. сообщил следующее: «Уже с осени 1931 г. я тщательно собирал все сведения о погоде… За каждый истекший месяц вычерчивались карты давления, ветров и температуры. Эти карты сулили нам очень радужные перспективы, и к началу лета уже можно было с уверенностью утверждать, что мы попадём в «малоледовитый» год. К сожалению, прогноз состояния льда можно было дать только для района к западу от Новосибирских островов, так как восточнее этих островов метеорологических станций в то время было очень мало» (1946, с. 65). Запомним последнее обстоятельство.
Встреча обеих экспедиций произошла вблизи устья Колымы. Интерес сибиряковцев к ледовой обстановке на пути к Берингову проливу, причём из первых рук, понятен. «Вас, конечно, интересует состояние льдов, — начал Н. И. Евгенов, когда после первых приветствий сел за стол в кают–компании. — Порадовать не могу — плохо. Год здесь выдался на редкость тяжелым. Один колонист, живущий недалеко от мыса Сердце–Камень уже почти 30 лет, утверждает, что столь неблагоприятного состояния льдов, как в этом году, ему не приходилось наблюдать. Конечно, «Сибиряков» активнее и крепче наших лесовозов, и вам, пожалуй, удастся пройти» (Визе, 1946, с. 126). Очевидно, экипажу «Сибирякова» следовало готовиться к самому худшему.
Одновременно на основе полученной информации Визе сделал свои выводы на будущее: «Навигация 1932 г. являет пример, когда доступ к устью Колымы со стороны Архангельска не представляет существенных затруднений, между тем как путь со стороны Владивостока был исключительно тяжелым. Этот пример со всей очевидностью подчёркивает важность долгосрочных прогнозов состояния льда, ибо если бы ледовая обстановка по всему протяжению Северного морского пути была известна заранее, то все грузы в 1932 г. на Колыму были бы отправлены не из Владивостока, а из Архангельска или Мурманска. Этим были бы сбережены громадные средства, так как все суда Северо–Восточной экспедиции, вследствие тяжелого состояния льда поздно прибывшие на Колыму, были вынуждены зазимовать и, кроме того, в борьбе со льдами получили серьёзные повреждения.
Н. И. Евгенов советовал нашему капитану держаться по возможности ближе к берегу, ибо мощный полярный лёд к самому берегу не подходит, за исключением выдающихся приглубых мысов, которые и являются самыми опасными в ледовом отношении местами» (1946, с. 126–127). Таким советом новичкам в восточных морях Советской Арктики нельзя было пренебрегать, хотя и с учетом многих других обстоятельств. Тем более, что у Шмидта не было самолёта ледовой разведки, без которого Евгенов вряд ли довёл бы свои суда до цели. 4 сентября «Сибиряков» продолжил плавание на восток, где вскоре в Чукотском море последовала череда событий, доказавших одновременно коварство Арктики и способности людей к их преодолению.
C приближением к Чукотскому морю отчётливо давало о себе знать приближение зимы, хотя до Берингова пролива оставалось примерно 600 миль — всего трое суток хода по чистой воде… «В ночь с 5 на 6 сентября мы находились против мыса Шелагского, где сплоченность льда достигала 8 баллов. Лёд здесь был необычайно свирепый, очень торосистый и безусловно многолетнего происхождения. Он сидел в воде на 4–5 метров, и многие льдины имели чудовищные подводные тараны. Многолетний лёд, вследствие ничтожного содержания в нём солей, гораздо крепче годовалого льда, а поэтому опасность повредить лопасти в многолетних льдах особенно велика» (1946, с. 128), — писал позднее Визе. Его опасения понятны, поскольку возможности его прогноза в этих местах себя исчерпали, а информация по радио не вызывала тревоги. 8 сентября тяжелый лёд у мыса Северный прижал здесь «Сибирякова» к скалистому берегу на расстояние в кабельтов. Вот тебе и потепление Арктики, наблюдавшееся на западе уже с десяток лет!!! Правда, на севере отчётливо прослеживались признаки «водяного неба», когда поверхность открытой воды создавала тёмный фон на нижней кромке облаков. Как здесь не хватало ледового разведчика!..
10 сентября фактория на мысе Ванкарем приветствовала проходившее поблизости судно поднятием флага, что внесло какое‑то разнообразие в суровую повседневность. Однако вскоре обозначились другие проблемы, отмеченные в судовом журнале: «Одна лопасть отсутствует, а три остальных обломаны, более чем наполовину каждая» (Визе, 1946, с. 133). С такими повреждениями судно могло «ковылять по чистой воде со скоростью до двух узлов, но как раз её‑то и не было… Где‑то поблизости осенью 1878 г. всего в 120 милях от цели зазимовала «Вега». По этому поводу судовой радист Э. Т. Кренкель, не терявший способности острить в самых критических ситуациях, выдал свой комментарий:
— Это нас не пускает дух Норденшельда…
Пришлось бороться с дурным влиянием духов. Шмидт провёл нужные расчёты, моряки и научный состав перетащили несколько сот грузов из трюмов на бак. В результате корма судна поднялась так, что винт оказался у поверхности воды — остальное было сделано руками судовых механиков. И снова началось осторожное плавание к Берингову проливу, продолжавшееся до 18 сентября, когда всего‑то в 100 милях от Берингова пролива раздался треск, после которого машина внезапно остановилась. Позднее Визе написал: «Я смотрю на Владимира Ивановича, и по его фигуре, ставшей сразу какой‑то странно неподвижной, понимаю, что моя догадка верна: это обломился конец гребного вала, и мы потеряли винт, который лежит на дне морском… Мы ничего не можем сделать, и никакой аврал нам не поможет» (Визе, 1946, с. 138–140). Таким образом, будущий вариант с «Челюскиным», причём с непонятным исходом, мог повториться двумя годами раньше.
Пока люди на борту «Сибирякова» мрачно острили, именуя своё судно «баржой ледокольного типа», Визе пытался представить возможности дрейфа, и даже что‑то надумал… Правда, ветер в нужном направлении продолжался только трое суток, а затем сменился на противоположный. «Он дул с больших пространств открытой воды к северу от Берингова пролива и нагнал тёплого воздуха, под влиянием которого молодой лёд стал быстро раскисать. Начавшийся дождь также способствовал таянию льда… 27 сентября ветер достиг силы в 4 балла, и вокруг ледокола стали образовываться большие разводья. За всё время дрейфа таких больших пространств открытой воды мы ещё не видели. «Черт побери, хоть паруса ставь!» — подумал я и пошёл поделиться своей мыслью со старшим штурманом» (1946, с. 147–146).
Остряки из кают–компании тут же переименовали «баржу ледокольного типа» в «летучего голландца». Важнее было другое — неуправляемое судно с парусами из черных от угля трюмных брезентов и белых шлюпочных «ветрил» спустя трое суток встретилось с дальневосточным траулером «Уссуриец» (капитан С. И. Кострубов), который взял «Сибирякова» на буксир и 1 октября вывел в воды Тихого океана. Удача на всех широтах, вопреки всем разумным доводам и объективным оценкам, благоволит к неподдающимся и несдающимся — это также из области приключений, которых в рейсе «Сибирякова» было достаточно.
Реализация упомянутых приключений произошла спустя два с половиной месяца и описана одним из участников:
«После окончания экспедиции в правительство был приглашён О. Ю. Шмидт для сообщения о походе. Ему и В. В. Куйбышеву было поручено подготовить доклад с предложениями о возможностях плавания по Северному морскому пути и о том, что необходимо сделать, чтобы суда могли плавать регулярно. Была собрана группа людей, уже работавших в Арктике…
Мы готовили этот доклад почти до самого заседания, вносили поправки прямо в кабинете Куйбышева… Нас было много, стоял сизый дым, хоть топор вешай. Рядом в комнате стучали машинистки. Куйбышев и Шмидт часто заходили и торопили нас. В конце концов взяли папку и… пешком пошли в Кремль. А мы остались ждать, чем всё это кончится, и опять курили.
Часа через два они возвратились. Куйбышев всю папку шлёпнул на стол и сказал: «Никуда не годится! Всё надо переделывать!». Но мы увидали лукавое выражение его глаз, не такое, когда приходят с неудачей… Услышали мы примерно следующее. По нашему проекту мы всем надавали десятки распоряжений. Разные объекты должны были строить различные организации, в чьём ведении находились те или иные функции. Скажем, Наркомпочтель должен был отвечать за строительство радиостанций, Внешторг должен был закупать ледокольные пароходы и т. д.
Когда всё это доложили на Политбюро, Сталин, который, покуривая трубку, ходил вдоль стола, спросил: «Вы думаете, всё это можно осуществить?» Ответили: «Если будет решение». Сталин: «Покажите, где это ваше Тикси?» Шмидт подошёл к карте и показал. Сталин хмыкнул: «Ну да! Мы этот Наркомвод каждую неделю ругаем за то, что он нефть из Баку по Волге не может как следует перевезти, а вы хотите, чтобы он думал о вашем Тикси, порт там строил? Он же думает, что завтра получит выговор за перевозку нефти, а за ваши дела, за Тикси, выговор ему грозит года через два–три. Не сделает он ничего в Тикси!»
Примерно такой же разговор был и по Наркомпочтелю, который газеты вовремя доставить не может. Куда ему радиоцентр строить на Диксоне! Шмидт показал на карте Диксон. «Нет, не будет он Диксоном заниматься, кому‑нибудь поручит. Так дело не пойдёт. Арктика — вещь сложная. Надо создавать организацию, которая отвечала бы за всё. И знала бы — отвечает за Арктику и больше ни за что. А мы с неё спросим — и строго! Тогда дело у вас пойдёт. Давайте сделаем по–другому. Бумаги переделайте, а мы напишем постановление: создать при СНК Главное управление Северного морского пути, поручить ему проложить этот путь и содержать в исправном состоянии. Пока хватит».
Так состоялось рождение Северного морского пути. Мы начали работать. Приказ № 1, который отдал Шмидт, датирован 1 января 1933 года, так как с этого дня началось финансирование, открылись счета» (Шевелёв, 1999). Теперь у Шмидта собралось воедино то, что уже существовало и широко использовалось в Арктике, чем он отличался от своих предшественников в наших полярных морях.
Тем не менее, не всё в Арктике подчинялось Шмидту, включая бухту Амбарчик, где события развивались своим путём. Это — не самое удачное место для погрузочно–разгрузочных работ, тем более в условиях арктического сентября. Однако здесь уже действовали законы Дальстроя, где люди были только расходным материалом. Из‑за наступления холодов и непрерывных штормов с 16 по 23 сентября суда были вынуждены (очевидно, после рискованных препирательств капитанов с представителем Дальстроя) срочно покинуть негостеприимную бухту, выгрузив (по разным сведениям) лишь от 2500 до 1200 т необходимого для остававшихся на зимовку 200 зека и их охраны. В отчётах прессы и воспоминаниях участников упоминается, что в море было унесено несколько барж, но оставались ли на них люди — ни слова, как и об их спасении. Теперь остаётся только гадать — что же произошло в реальности, потому что верить на слово оснований нет никому. Оказавшись невольным свидетелем и участником подобной практики освоения Арктики, Евгенов от бессилия изменить ситуацию свалился в нервном истощении и был позднее вывезен в Якутск на собачьих упряжках в сопровождении врача и корреспондента «Известий» М. Зингера, оставившего об этом путешествии обширный очерк «Тагам» и книжку «112 дней на оленях и собаках». На место Евгенова заступил Бочек, на долю которого и выпало принимать трудное решение уводить корабли на восток, которое было принято слишком поздно. В результате в районе Чаунской губы суда встали на зимовку, после которой им снова пришлось возвращаться в Амбарчик для доставки невыгруженных грузов. Из‑за этого пароходы «Север» и «Анадырь» остались на вторую зимовку…
А тем временем грузовой пароход «Лена», вскоре переименованный в «Челюскин», спокойно достраивался на верфях Копенгагена, и никто не догадывался о его будущей судьбе в истории освоения Арктики…
Глава 2. Продолжение следует, или куй железо, пока горячо
И слова равняются в полный рост:
«С якоря в восемь, курс — ост»…
Н. Тихонов
Дорогу делает не первый,
А тот, кто вслед пуститься смог,
Второй.
Не будь его, наверно,
На свете б не было б дорог.
С. Орлов
Повторять или не повторять плавание «Сибирякова» после создания новой организация — вопрос не стоял, тем более что на Дальнем Востоке Главсевморпути своих судов не имел. Отправлять же пополнение традиционным путём времён Добровольного флота через Суэцкий канал означало поставить под сомнение дееспособность новой организации. Ещё проблема — суда, которых стране не хватало, тем более, что Наркомвод (министерство морского флота) не стремился поделиться своим изношенным флотом с новой амбициозной организацией. С трудом Шмидту удалось «выцарапать» только что построенный на датских верфях сухогруз «Лена», срочно переименовав его в «Челюскин». В пригодности нового приобретения для условий Северного морского пути возникали самые серьёзные сомнения, но плавали же самые обычные суда, совсем не предназначенные для Арктики, на Енисей и Колыму уже десятки лет? Всё перечисленное и предопределило появление на Северном морском пути нового судна и одновременно его судьбу.
По Шмидту, «в 1933 г. было решено повторить проход «Сибирякова»… Совокупность нескольких причин привела к этому решению. Надо было сменить зимовщиков острова Врангеля и расширить станцию (за последние годы попытки достигнуть острова с востока успеха не давали). Надо было укрепить и продолжить опыт плавания «Сибирякова», изучив ряд недостаточно известных участков моря. Надо было, наконец, проверить, в каких пределах возможно плавание на Севере грузовых пароходов — не ледоколов — и каким‑то образом организовать совместную работу этих пароходов и ледоколов на всём пути. Для этих целей и была снаряжена экспедиция на пароходе «Челюскин» (1960, с. 20).
В интервью «Правде» ещё до выхода в море Шмидт особо отметил, что «Челюскин» не является ледоколом и лишь частично приспособлен для условий Арктики (изменения в корпусе, сделаны добавочные крепления, наличие специальных помещений на случай вынужденной зимовки и т. д.). Двигатель на «Челюскине» (2500 л. с. при грузоподъёмности около 4000 т) позволял новому судну справляться со льдами, но не в тяжёлой ледовой обстановке, для чего предполагалось привлечь ледокол «Красин», который должен был обеспечивать проводку первого каравана грузовых судов к устью Лены… Помимо собственных экспедиционных грузов и угля «Челюскин» имел груз стройматериалов, включая два разобранных дома для острова Врангеля, а также другое имущество для этого острова, персонал которого оставался без смены с 1929 г. и мог рассчитывать лишь на местные ресурсы. С учетом опыта рейса «Сибирякова» в плавание был взят самолёт–амфибия Ш-2 с опытным полярным летчиком М. С. Бабушкиным и механиком Г. С. Валавиным.
Особое внимание Шмидт уделил участникам плавания: «Основное ядро команды составляла группа сибиряковцев… во главе с капитаном В. И. Ворониным и вторым штурманом М. Г. Марковым… Труднее было с подбором машинной команды… При помощи ленинградских организаций пригласил группу коммунистов — студентов кораблестроительных и механических втузов, которые проходили на «Челюскине» своё последнее практическое плавание перед окончанием институтов… Подобрать научный состав было значительно легче. Арктический институт обладает уже значительными кадрами опытных полярников, работников в различных областях… Из опыта предыдущих экспедиций у меня выработался взгляд на представителей прессы и искусства как на очень важную часть экспедиции… Своеобразную группу представляли строительные рабочие, которые должны были строить дома на острове Врангеля… Мой ближайший штаб составлялся из моих заместителей — И. А. Копусова, И. Л. Баевского и помощника по политической части, старого большевика А. Н. Боброва, с которым я был связан совместной работой ещё в героические времена 1918–1919 гг. в народном комиссариате продовольствия» (с. 23–26).
Судя по последним публикациям (Ларьков, 2007), Бобров пережил в 1931 г. арест органами ОГПУ и почти годичное тюремное заключение «по обвинению в совершении преступления, предусмотренного пунктом 13 статьи 58 УК» («активные действия или активная борьба против рабочего класса и революционного движения, проявленные на ответственной или секретной (агентура) должности при царском строе или у контрреволюционных правительств в период гражданской войны»). Сам по себе факт примечательный. В отличие от рейса «Сибирякова» в предшествующем году, на «Челюскине» не оказалось сильного прогнозиста, равноценного В. Ю. Визе — в навигацию 1933 г. он возглавил экспедицию в Карское море.
Из общего состава в 104 человека (включая детей) 38 человек имели арктический опыт (в том числе 19 моряков и других специалистов, принимавших участие в походе «Сибирякова»), почти столько же были членами ВКП (б) и ВЛКСМ, высшее образование имели 15 человек. Научный персонал состоял из физика И. Г. Факидова, изучавшего поведение корпуса судна, двух геодезистов–гидрографов — П. К. Хмызникова и Я. Я. Гаккеля, аэролога Н. Н. Шпаковского, зоологов В. С. Стаханова, А. П. Сушкиной и Л. О. Белопольского, гидробиолога П. П. Ширшова и гидрохимика П. Г. Лобзы. 30 человек шли пассажирами на остров Врангеля (включая 18 зимовщиков и 12 строителей), позднее частично пополнивших научный состав экспедиции, включая научных работников. В Карском море на «Челюскин» перешёл с «Красина» инженер–кораблестроитель П. Г. Расс. Оформление «челюскинцев» проводилось настолько поспешно, что среди строителей, направлявшихся на остров Врангеля, оказался разыскиваемый «органами» за сопротивление колхозному строительству печник Д. И. Березин (Ларьков, 2007).
Наиболее опытным полярником на борту «Челюскина» был радист Э. Т. Кренкель, с его опытом трёх зимовок на Новой Земле и Земле Франца–Иосифа и участием в воздушной экспедиции на дирижабле «Граф Цеппелин» и в походе «Сибирякова». Наиболее пожилыми, перешагнувшими полувековой рубеж, на борту Челюскина оказались уроженец Одессы механик А. И. Пионтковский, судовой плотник А. Д. Шуша — выходец из Прибалтики, избороздивший за тридцать пять лет все моря и океаны, и кок полярной станции на острове Врангеля, уроженец «сухопутной» Ярославской губернии А. И. Зверев. На три года моложе их был судовой врач К. А. Никитин, выпускник 1912 года из Военно–медицинской академии. Самыми молодыми среди челюскинцев (не считая детей) оказались уроженцы 1913–1914 гг. матрос Г. С. Баранов, строитель и печник М. И. Березин и кочегар Г. П. Ермилов. Поскольку некоторые зимовщики на остров Врангеля ехали семьями (Буйко, Комовы, Рыцк, Васильевы), вместе с ними оказалась годовалая Аллочка Буйко, а у Васильевых уже в плавании родилась в Карском море дочь Карина. В плавании «Челюскина» и последующих событиях, связанных с ним, принимали участие десять женщин, из которых четыре были пассажирами на остров Врангеля, две — относились к научному персоналу судна, а четыре — входили в его экипаж.
Представителями средств массовой информации оказались поэт И. Сельвинский, корреспондент Л. Муханов (он же секретарь Шмидта), кинооператор М. Трояновский, писатель С. А. Семёнов, художник Ф. П. Решетников, кинооператор А. М. Шафран, фотограф П. К. Новицкий, спецкор «Известий» Б. В. Громов, помимо ряда совместителей из команды судна и участников экспедиции. С точки зрения представительства советского общества здесь, как и в Ноевом ковчеге, было представлено «каждой твари по паре»… Отметим, что Шмидт имел дело только с добровольцами, за исключением ряда коммунистов, оказавших на судне по партийной мобилизации — это относилось в основном к машинной команде.
Для подготовки очередного сквозного рейса оставалось предельно мало времени. И. А. Копусов отметил, что «в плане 1933 года эта экспедиция не числилась, всё снаряжение и продовольствие приходилось получать внеплановым порядком» (т. 1, 1934, с. 54). Похоже, у Шмидта просто не было альтернативы ни в выборе судна, ни в выборе времени для повторного похода по трассе Северного морского пути, ни даже свободы в наборе необходимого персонала. Советское общество того времени, руководствовавшееся девизом «Догнать и перегнать!», просто не поняло бы руководства ГУ СМП в случае задержек в освоении Арктики. Доказать дееспособность созданной полгода назад организации в глазах партийного руководства и самого Сталина можно было только очередным рекордным плаванием. С созданием ГУ СМП Шмидту приходилось действовать по принципу «куй железо, пока горячо».
С окончанием строительства в Копенгагене «Челюскина» перегнали в Ленинград с опозданием на месяц против договорных сроков и без какого‑либо внутреннего оборудования, инвентаря, запасных частей и многого другого. В акте приёмки парохода от 17 июля 1933 г. отмечены 66 замечаний по корпусу и такелажу, помимо 70 по машине, с чем в значительной мере и связан повторный заход в Копенгаген. Комплектование также проходило трудно, и не случайно Копусов особо отметил, что «капитан мог прибыть в Ленинград только 9 июля, а 12 июля мы должны были уходить в море. Пришлось самим заняться комплектованием морских кадров в ленинградском порту… Подбор команды производился нами весьма тщательно. Человек пятнадцать было забраковано… Дни, когда мы шли до Мурманска, были днями испытаний и проверки набранной команды. Эта проверка помогла нам избавиться от пьяниц, лодырей, самозванцев, и заменить их такими людьми, на которых можно было положиться… Моряков мы добирали в Архангельске, тщательно отсеивая их, чтобы сколотить крепкий и дружный костяк. Тут опять‑таки были свои трудности… нам сплавляли таких, которых не хотели держать у себя» (т. 1, 1934, с. 61). Очевидно, морские традиции, отработанные веками (жалобы подобного рода документально подтверждаются со времен Колумба и Магеллана!), было невозможно переломить и в советских условиях…
Проблема капитана решалась уже в процессе плавания. «До норвежских шхер пароход вёл капитан Безайс, который по поручению Наркомвода принимал «Челюскина» в Копенгагене и должен был по пути закончить пробные испытания. Капитан Воронин вышел вместе со всей экспедицией из Ленинграда, а командование «Челюскиным» принял в норвежских шхерах» (т. 1, 1934, с. 25), очевидно, до Норвегии выступая лишь в качестве арктического эксперта в части ледовых качеств будущего пополнения арктического флота. В отношении «Челюскина» он с самого начала не питал иллюзий. Несомненно, Шмидт обладал даром не только приказывать, но и уговаривать…
Заход в Копенгаген был связан с ликвидацией обнаруженных недоделок, на что ушла неделя. В эти дни ученые обеих стран обменялись визитами. «Челюскин» посетили мировая величина в своей области океанограф Мартин Кнудсен и составитель ежегодного атласа состояния арктических льдов Шпеершнейдер. Нежелательная задержка произошла между 2 и 10 августа в Мурманске, где окончательно было закончено комплектование экипажа, получены свежие овощи и другие продукты на весь рейс, включая четырёх свиней и целых 26 коров, мяса которых хватило до декабря. Здесь же на борт поднялись пассажиры на остров Врангеля, включая совершенно непривычных к морю вчерашних крестьян в роли строителей и печников из российской глубинки, а вместе с ними и смена зимовщиков во главе с начальником (из чекистов) Бойко. На палубе был установлен самолёт–амфибия Ш-2 (пилот Бабушкин, механик Валавин), при погрузке потерявшего пропеллер, для замены которого также потребовалось время. По совокупности указанных причин судно оставило Мурманский порт тремя днями позднее ледокола «Красин», который одновременно с проводкой каравана Первой Ленской экспедиции из трёх сухогрузов должен был помогать «Челюскину» в тяжелых льдах, что требовало особого взаимодействия разных подразделений в системе Главсевморпути, в котором пока не было опыта. После всех перемен на борту судна оказалось 112 человек, включая 53 моряка.
Баренцево море было пройдено к 12 августа, когда прямо по курсу обозначились силуэты гор Новой Земли. В тот год южные Новоземельские проливы были блокированы тяжёлыми льдами, и поэтому было решено идти к востоку через пролив Маточкин Шар, уже освоенный судами Карских экспедиций. «Маточкин Шар представляет узкий пролив–ущелье, разрезающий Новую Землю на два острова. Скалистые берега пролива заполнены глетчерами. Причудливые изгибы, открывающие всё новые и новые виды долин и величественных гор, делают этот пролив одним из красивейших мест Арктики» (Хмызников, 1936, с. 21), — отметил один из участников похода. Теперь многое зависело от ледовой обстановки в Карском море, заслужившем у моряков недобрую славу ледяного погреба. Около полуночи с 12 на 13 августа «Челюскин» прошёл траверз Белушьей губы на востоке пролива, отметив одинокий силуэт «Красина», ожидавшего суда из ленского каравана.
Карское море своим льдом оставило у участников плавания двойственное впечатление. Сначала Гаккель решил, что судно совсем неплохо ломает лёд, правда, испытывая сильную вибрацию при работе во льдах. Однако вскоре стала поступать тревожная информация: «15 августа. Вчера обнаружена была течь в трюме № 1 по обоим бортам, — записал в дневнике штурман Михаил Гаврилович Марков. — По правому борту разошёлся шов и ослабли заклёпки, а по левому погнуло стрингер и срезало несколько заклёпок. На место течи в корпусе поставили цементные ящики. Потом мы обнаружили большую вмятину. Льда, настоящего льда мы, собственно, ещё не видели. «Челюскин» его ещё не попробовал, а дел уже уйма. Неприятности доставил нам дряблый лёд. Избегая дальнейших неприятностей, пошли малым ходом» (т. 1, 1934, с. 96–97).
Вызвали «Красин», тем более что на него требовалось передать до тысячи тонн угля, что потребовало привлечения к авралу всех участников плавания, исключая женщин. «В аврале должны были участвовать три бригады: две, составленные из экспедиционного состава пополам с судовой командой, и третья — из артели строителей и персонала колонии на острове Врангеля. Первой на работу вышла экспедиционно–судовая бригада во главе с сибиряковцем Борисом Громовым (корреспондентом «Известий». — В. К.). Загрохотали паровые лебедки; по спардеку с мешками на спине в туче угольной пыли пробегали люди… Высыпав мешок в бункер, возвращаемся к трюму, стараясь отдышаться. Вот снова трёх с половиной пудовая тяжесть неудобно легла на спину. Сгибаешься, хватаешь угол мешка и бегом несёшься к бункеру, чтобы скорей донести и сбросить тяжесть… «Перекурка!» Что может быть прекраснее этого слова! Целых десять минут можно, вытянувшись, лежать, курить, напиться воды… Какими короткими кажутся эти десять минут в сравнении с пятьюдесятью минутами напряжённейшей погрузочной работы» (Хмызников, 1936, с. 26).
С окончанием аврала ледокол отправился на Диксон к Ленскому каравану, чем решили воспользоваться на «Челюскине», следуя по каналу, пробитому ледоколом, что было непростым делом. По Хмызникову, «канал… извилист, а длинный «Челюскин» на малых и даже средних ходах не отличается большой поворотливостью. Полный же ход нам давать опасно — можно при ударе о лёд повредить корпус. Несколько раз мы отставали от ледокола, но потом приноровились друг к другу. Он следил за нашим ходом, то прибавляя, то убавляя скорость. К восьми часам утра другого дня «Красин» вывел нас из льдов». (т. 1, с. 87–88). На этом ледокольная проводка для «Челюскина» закончилась, поскольку в дальнейшем «Красин» потребовался для каравана Ленской экспедиции.
Свободные от вахт пассажиры «Челюскина» и значительная часть экспедиции использовались для повышения образования своих соплавателей, тем более что большую часть строителей, следовавших на остров Врангеля, нельзя было считать даже малограмотными. С ними занимался «комиссар» экспедиции Бобров (по географии и политграмоте), а Зинаида Рыцк вела у них группу русского языка и арифметики. Более продвинутые участники плавания предпочитали изучать иностранные языки: группу немецкого языка вёл сам Шмидт, английского — стармех Матусевич. С чтением своих произведений выступал поэт Илья Сельвинский, а реакцию присутствующих на это мероприятие художник Решетников запечатлел в серии карикатур, украсивших переборки судна и пользовавшихся завидным вниманием участников плавания.
После расставания с «Красиным» возникла необходимость в ледовой разведке в направлении Северной Земли, в которой 22 августа принял участие капитан Воронин, изложивший результаты разведки по–своему:
— Состояние льдов в общем неважное. Придётся очень медленно и осторожно пробираться вперёд… А с самолёта хорошо лёд виден! Я ведь первый раз в жизни полетел. Понравилось. Теперь вернусь в Архангельск, заведу себе такую же «стрекозу», поставлю на дворе и буду на ней в гости летать…
Само по себе приобщение бывалого полярного волка к новым методам навигации в арктических условиях заслуживает отдельного описания по Бабушкину, с которым он сотрудничал ещё несколько лет назад на промыслах морского зверя в Белом море: «Мы ежегодно встречались с ним на зверобойке, где мне приходилось летать, помогая ледоколам находить зверя и подходить к нему. В разговорах с Ворониным я всегда чувствовал какое‑то его неверие в силу и необходимость работы самолёта, нежелание признать ту решающую роль, какую сыграл самолёт в увеличении добычи зверя и улучшении техники промысла… И этого‑то человека мне предстояло посадить в самолёт и, грубо выражаясь, обработать. О необходимости привлечения Воронина к полётам я думал и раньше. Зная, что никто лучше капитана не увидит и не учтёт положение льда, мне важно было изменить его отношение к авиации, показать ему всю силу, всю ценность самолёта, заставить его признать, что самолёт действительно «глаза парохода»…
…Механик перебирается на нос лодки самолёта, Владимир Иванович садится на его место. Я незаметно наблюдаю за ним. Он очень сосредоточенно всё осматривает, меня как будто не видит. На лице недоверие к этой маленькой, на глаз хрупкой машинке. Заработал мотор. Даю сигнал убрать лодку, поворачиваю самолёт на старт и даю полный газ. В течение минуты перед нами завеса из мелких брызг, потом всё спокойно — мы в воздухе.
Воронин, не отрываясь, смотрит на развернувшуюся внизу ледяную панораму. Я делаю круг и беру заранее намеченное направление. Под нами причудливо расположенные колоссальные площади льда, среди них вьются змейками чёрные полосы чистой воды. Капитан пристально вглядывается во льды. Мы уже летим против ветра сорок минут. Капитан делает знак повернуть обратно. Я поворачиваю, и через 35 минут мы садимся около парохода. Выйдя на палубу «Челюскина», капитан протягивает мне руку, и по тому, как он жмёт её, я понимаю, что победа за мной.
И я не ошибся. Через несколько минут он с горящими глазами рассказывал, как великолепно, что на «Челюскине» имеется самолёт. И как страстный охотник–промысловик сейчас же добавил:
— Вот бы мне так пролететь над залежкой. Я бы знал тогда, как лучше к ней подступиться.
Да, я не ошибся, когда думал, что победил. С этого дня все разведывательные полёты я делал, имея на борту самолёта наблюдателем капитана Воронина. Владимир Иванович стал одним из самых горячих поклонников авиации» (т. 1, 1934, с. 126).
По результатам воздушной разведки, сплочённость льда оставалась в пределах от трёх до восьми баллов (что позволяло двигаться вперёд), но вскоре другое событие привлекло внимание обитателей «Челюскина».
23 августа измерение глубин указало на мелководье, а вскоре с борта судна увидали неизвестную землю, что вызвало дискуссию в экипаже и среди учёных. Шмидт не смог устоять против искушения посетить неведомую сушу в надежде найти признаки пребывания предшествующих исследователей. Посетить — посетили, каких‑либо признаков пребывания предшественников не встретили, провели наблюдения на астропункте, собрали коллекцию пород и растительности. На всякий случай запросили мнение В. Ю. Визе по поводу неизвестной суши, учитывая его колоссальный полярный опыт. Авторитетное мнение маститого полярника гласило: остров Уединения, открытый ещё в 1878 г. норвежским промысловиком Юханессеном, с ошибочно определёнными координатами… В противовес этому на «Челюскине» была выдвинута идея в пользу острова Исаченко, обнаруженного поблизости год назад экспедициями на «Сибирякове» и «Русанове». Так или иначе, решили, что остров вполне подходит для постройки здесь полярной станции для освещения обстановки в средней части Карского моря.
Когда, по словам Бабушкина, «через двое суток разводья начали отклоняться на север, решено было сделать разведку. Спустили самолёт, и в 12 часов с капитаном Ворониным я поднялся в воздух. Полетели по направлению к Северной Земле. Перед нами потянулись колоссальные поля многолетнего льда. Пройти было невозможно. Разводья шли на север. Но это нас не устраивало. Были опасения, что если сменится ветер, нас может захватить льдами. Установили, что с северной стороны Северной Земли не пройти и решили пробиваться с юга. Не будь самолёта, пришлось бы потерять несколько дней в бесполезных поисках прохода, а за это время переменившимся ветром нагнало бы льды и путь к отступлению был бы отрезан» (т. 1, 1934, с. 127).
В результате пришлось спускаться южнее в направлении пролива Вилькицкого, где на мысе Челюскина год назад была построена новая полярная станция, куда судно вышло 1 сентября. Этому событию предшествовал своеобразный «рекорд»: впервые безмолвие полярной акватории Карского моря было нарушено плачем новорожденного — у супругов Васильевых родилась девочка, названная по месту рождения Кариной.
Пребывание судна у самого северного пункта континента Евразии в дневнике Маркова описано следующим образом: «1 сентября. В три часа дня мы шли по чистой воде в густом тумане к мысу Челюскина. Тут мы увидали стоявшие на якорях суда — «Русанов», «Красин», «Сибиряков» и «Сталин». Мы подошли ближе и тоже стали на якорь. Немного позже подошёл и «Седов». Таким образом, у неприступного мыса Челюскина собралась целая эскадра судов! (т. 1, 1934, с. 110).
Море Лаптевых встретило «Челюскин», судя по темпам плавания, занявшим всего четверо суток, достаточно гостеприимно, несмотря на некоторый туман. «Стоянка у мыса Челюскина, — записал в своём дневнике Гаккель, — длилась около 16 часов. Мы расстались со встречной флотилией ледоколов, и утром 2 сентября «Челюскин» направился в дальнейший путь… «Челюскин» свободно выбирал себе путь, огибая отдельные скопления льдов, и несмотря на неважную из‑за тумана видимость, полным ходом продвигался на восток» (т. 1, 1934, с. 115). Пока ничто не говорило об испытаниях, ожидавших судно и его обитателей спустя всего два месяца. На пути встречались лишь незначительные скопления льда, которые судно легко обходило, так что даже туман не вызывал у вахтенных особых трудностей при плавании к востоку. Интерес у представителей науки вызвали неожиданно большие глубины, превышавшие 330 м (на которые был рассчитан судовой эхолот) на меридиане 115˚30΄ в. д. 3 сентября впервые повстречались с айсбергами, приплывшими с Северной Земли, что свидетельствовало о преобладании течений на юг по направлению к материку. Каждую вахту следовала короткая остановка на 15–20 минут для гидрологических глубинных измерений, на ходу брались пробы воды для химического анализа. Торосистые сплоченные ледяные поля протяжённостью до мили не мешали плаванию на восток. Однако вечером 3 сентября судно оказалось в сплочённых до 8 баллов льдах, форсирование которых заняло до полусуток, и к вечеру 4 сентября «Челюскин» оказался на чистой воде. Волнение до 6 баллов сильно раскачивало судно, так что временами крен приближался к 40˚, что отправило многих в койки раньше обычного. В отличие от ледовитого Карского моря, оставшегося за кормой, большие пространства открытой воды давали простор волне, и утром 5 сентября старпом Гудин живописал ночные события в следующих выражениях: «Да вы посмотрели бы, что на палубе делалось! …На носу накатившаяся волна сдвинула груз строительных материалов и рабочий баркас. Вот, посмотрите, помяло поручни и раструб вентилятора. На корме сорвало с найтовов бочки с бензином и керосином. Поломаны стойла коровников, часть коров изранена. Народу на палубе почти никого не было, так как все спали. Туго пришлось! Сейчас качка много слабее, да и то, того гляди, опять пойдёт ходить груз.
— А мы спокойно спали и не подозревали, что наверху такая полундра творится, — заметил Гаккель.
Горячего обеда по случаю качки не было. Подали только чай с холодными консервами, сыром и маслом» (Хмызников, 1936, с. 42–43). Особенности волнения на востоке моря Лаптевых помимо отсутствия льда определялись малыми глубинами, на которых образуются одновременно короткие и высокие волны.
Когда 6 сентября во второй половине дня волнение заметно уменьшилось, поначалу это вызвало недоумение — судно оказалось у острова Бельковский в архипелаге Ново–Сибирских островов, до которого по счислению оставалось ещё 30 миль. Подобному несоответствию не приходилось удивляться, поскольку на протяжении нескольких дней штурмана из‑за сильной облачности не имели возможности определить местоположения судна солнечными обсервациями. Так или иначе, акваторию моря Лаптевых судно миновало практически без приключений, и теперь экспедиции предстояло одолеть плохо изученный пролив Санникова с его малыми глубинами.
Восточно–Сибирское море по маршруту плавания также отличалось малыми глубинами, когда под днищем судна порой оставалось лишь до полуметра воды и любая ошибка штурмана или рулевого могла привести к самым тяжёлым последствиям. Порой о малых глубинах предупреждали неподвижные крупные льдины, оказавшиеся на мели, зато карты оставляли желать лучшего, потому что не давали всей необходимой информации, и оставалось надеяться на интуицию вахтенных и элементарное везенье — обычная ситуация при плавании на «белых пятнах», изучение которых сопровождается неизбежным риском. Ледовая обстановка некоторое время позволяла выдерживать генеральный курс на восток, так что вахтенный штурман Марков обещал представителям науки обход острова Врангеля с севера.
А пока воображение учёных дразнила проблематическая «Земля Андреева», якобы увиденная ещё в 1764 г. неким «геодезии сержантом», проводившим съёмки берегов этой полярной акватории. Однако её поиски экспедициями Ф. П. Врангеля в 1822 г., плаваниями «Таймыра» и «Вайгача» в 1911–1914 гг. и «Мод» Р. Амундсена в 1922 г. так и не дали окончательного ответа на возможность существования здесь неизвестной суши, и теперь научные работники и вахтенные штурмана чаще обшаривали горизонт в поле зрения своих биноклей, но, увы, безрезультатно. Гаккель так объясняет неудавшуюся попытку решить проблему «Земли Андреева» западнее меридиана 165˚ в. д.: «С шести часов утра 10 сентября лёд стал реже. Снова идём на восток, но разреженных льдов и на этот раз оказалось ненадолго. В девять часов опять подошли к восьмибалльному льду. Какой лёд впереди — неизвестно. Густой туман не редеет. Снегопад продолжается. Видимость очень плохая. Воздушной разведки в такую погоду не сделаешь, несмотря на всю её важность в таком районе. Помимо разведки льдов для проводки судна наиболее лёгким путём полёты урезали бы здесь добрую половину «белого пятна». Но ничего не сделаешь! «Челюскин» вынужден свернуть вправо.
Мы вышли из пределов «белого пятна», двое суток проблуждав в его льдах при сплошном тумане. Из‑за отчаянно плохой видимости мы не могли не только совершать разведочные полёты в столь интересном загадочном пятне, но даже рассмотреть с мачты в бинокль окружающие нас просторы. Всё же наш рейд, в течение которого «Челюскин» углубился в «белое пятно» на 80 миль, имел большое значение, внеся некоторое представление о юго–западном районе таинственной Земли Андреева.
11 сентября, не доходя Медвежьих островов, капитан изменил курс, и мы пошли на мыс Шелагский. При хорошей видимости участники экспедиции наблюдали этот исключительный по красоте высокий мыс» (т. 1, с. 120).
Пролив Лонга открывал дорогу в Чукотское море, последнее на Северном морском пути, заслужившее на протяжении веков немало проклятий от полярных моряков. Разумеется, всё руководство запомнило всё происходившее здесь год назад с «Сибиряковым» и иллюзий не питало. Отметим здесь только два события, во многом определившие судьбу «Челюскина».
Во–первых, днём 13 сентября «Челюскин» прошёл мимо судов очередной экспедиции Дальстроя, оказавшихся в тяжёлом льду. Не лучше приходилось и «Челюскину». «Короткое расстояние и тяжёлый многолетний лёд. Приходится пробираться, — отметил Хмызников. — Вырвались дальше от берега и тут же под горами увидали корабли.
— Ты знаешь, я сейчас разобрался в дислокации судов, — посвящал меня в добытые сведения Гаккель. — Далеко впереди, за Сердце–Камнем, «Литке» проводит два парохода. У мыса Онман где‑то пробираются самостоятельно два парохода — «Лейтенант Шмидт» и «Свердловск». Наконец, то, что мы сейчас видели, — это последняя группа Колымской экспедиции, идущая под начальством Сергиевского «Анадырь», «Север» и ещё один пароход. Колымская в этом году немного подрассыпалась. Евгенов‑то ведь уехал зимой!» (1936, с. 49).
Действительно, в навигацию 1933 г. из Владивостока на Амбарчик под названьем Колымская особая экспедиция вышел очередной караван Дальстроя в составе четырёх пароходов во главе с капитаном дальнего плавания Д. Н. Сергиевским, ранее получившим опыт в колымских рейсах, включая зимовочный. Свободного ледокола для Колымской особой не было — тем самым «Литке» после зимовки обрекался в предстоящую навигацию 1933 г. работать на износ. На смену перезимовавшим в Амбарчике зека на «Хабаровске» направлялась очередная смена из 205 «работников Дальстроя». Выполнив это задание, флагман Колымской особой экспедиции «Хабаровск» (капитан Н. Финякин) уже 6 сентября присоединился к пароходам «Анадырь» и «Север» (последним остаткам Особой северо–восточной полярной экспедиции) в районе Чаунской губы, дожидавшимся «Литке» для форсирования прибрежной полосы льдов. Между тем, на судах Дальстроя работники, возвращавшиеся на материк после зимовки в Амбарчике, в эти дни умирали один за другим — только в конце августа были преданы морю три бездыханных тела. В сентябре из 74 «пассажиров Дальстроя» болели цингой 27 человек — больше трети. Не случайно капитан Н. Финякин на флагмане Колымской особой экспедиции — пароходе «Хабаровск» — 6 сентября особо отметил: «В Чаунской губе встретили «Анадырь», на котором были пассажиры Дальстроя, оставление которых на зимовку допустить было нельзя по особым соображениям». Действительно, «пассажиры Дальстроя», пережившие зимовку, болели и не были обеспечены одеждой, и даже запас продовольствия не был рассчитан на всех: моряков, возвращавшихся заключённых и просто пассажиров, которых становилось всё больше — случаи родов у пассажирок на «Анадыре» отмечены в августе и апреле. Наконец, наличие на судах незанятых людей одновременно с экипажами, изнемогавшими в тяжелой работе, создавало условия для непредсказуемых последствий. Поэтому вопрос об эвакуации избыточного персонала становился необходимостью, для чего поздней осенью 1933 г. был использован самолёт Ф. К. Куканова, освободившийся после завершения экспедиции В. А. Обручева на Чукотке. Экипажу Куканова довелось повторить спасательные работы другого пилота — Галышева, который вывез с зазимовавшего парохода «Ставрополь» весной 1930 г. 15 человек, но уже в гораздо большем масштабе. Действительно, «Куканов вывез девяносто трёх человек и тем самым значительно уменьшил лишения оставшихся на судах от недостатка продовольствия и тёплой одежды. Плохие метеоусловия, ненадёжные приборы, а главное, усталость, вызванная многомесячным напряжением, привели Куканова к аварии у мыса Северного. Если бы не она, то, несомненно, лётчик Куканов был бы одним из главных героев челюскинской эпопеи, разыгравшейся у Ванкарема пять месяцев спустя. А так героическая работа Куканова оказалась в тени. Но история справедлива, и в главе, рассказывающей об освоении Арктики, имя Ф. К. Куканова будет стоять в славном ряду пионеров, пробивших нам дорогу в неведомое» (Каминский, 1973, с. 161). Разумеется, Каминский по цензурным соображениям не мог сказать всего — что его пассажирами были «работники Дальстроя», которых в советских изданиях старались не вспоминать даже после ХХ съезда, но историк руководствуется поговоркой «из песни слова не выкинешь». Так что читатель в связи с дальнейшими событиями вокруг «Челюскина» должен иметь в виду, что у первых Героев Советского Союза был не менее отважный предшественник, не вкусивший всесоюзной славы и известности.
Через радистов до моряков и «пассажиров Дальстроя» доходили слухи о плавании на восток парохода «Челюскин», силуэт которого с палуб и надстроек наблюдался 13 сентября мористей за полосой непроходимого льда. Очередной контакт «Челюскина» с «Лейтенантом Шмидтом» из Колымской особой экспедиции имел место 6 октября всего в 60 милях от Берингова пролива. Капитан «Челюскина» Воронин со своей стороны также отметил встречу с «Анадырем» и радиопереговоры с «Литке», из которых уяснил, что в сложившейся обстановке рассчитывать на помощь ледореза не приходится, прежде всего из‑за его состояния.
Тем временем «Челюскину» у мыса Биллингса сплотившийся на глазах лёд преградил дальнейший путь… Тем не менее, за сутки было пройдено около сорока миль, — при таких темпах можно было оказаться в Беринговом проливе примерно в тех же числах на рубеже сентября–октября, что и год назад «Сибиряков», если бы не задание доставить смену зимовщиков и строителей на остров Врангеля. Для решения этой задачи наступили решающие дни.
Во–вторых, уже вскоре эта часть задания отпала по результатам воздушной ледовой разведки, в которой приняли участие Шмидт и начальник запланированной смены зимовщиков Пётр Семёнович Буйко. Ледовая обстановка оказалась чрезвычайно сложной, да и зимовщики острова Врангеля могли выдержать ещё одну (пятую!) по счёту зимовку. На обратном пути самолёт приводнился у новой полярной станции на мысе Северный, посещением которой Шмидт остался очень доволен — станция была только–только построена, чтобы освещать погодную и ледовую обстановку именно в Чукотском море, и именно её так не хватало год назад на завершающей стадии похода «Сибирякова». Воронин на самолёте Бабушкина сам оценил состояние льдов в проливе Лонга. Главный вывод, с точки зрения пилота и капитана, — сплочённый лёд не позволяет подойти к острову Врангеля с юга. Дальнейшие планы по результатам ледовой разведки были скорректированы следующим образом: «Пролив Лонга забит сплошным, непроходимым льдом. К острову Врангеля ни с востока, ни с юга подходов нет. Мы должны изменить план похода «Челюскина»… В первую очередь достигнем Берингова пролива, а потом попытаемся подойти к острову Врангеля с востока» (т. 1, 1934, с. 149).
Пока беспомощному судну угрожала очередная ловушка — Колючинская губа с одноименным островом, куда дрейф в сплочённых льдах мог буквально его затолкать, что становилось предметом обсуждения всех участников экспедиции и экипажа — подобная перспектива не устраивала ни одного человека на борту «Челюскина», что подтверждает продолжение записок Баевского: «18 сентября шли своим ходом. Приближаясь к мысу Ванкарем, потерпели небольшую аварию. По левому борту сломан третий шпангоут. Это весьма неприятно. Нам предстоит преодолеть очень тяжёлые ледовые препятствия на пути к Берингову проливу, а корпус корабля становится слабее.
Мы попали в такой сплочённый лёд, что, кажется, надо оставить и самую мысль о том, чтобы идти собственным ходом. Хорошо, что нас несёт под действием ветров в нужном нам направлении. Правда, мы дрейфуем очень медленно, со скоростью от одного до полутора километров в час. В дрейфе мы проходим мыс Ванкарем. Сейчас для нас этот мыс только малоизвестная географическая точка…» (т. 1, 1934, с. 148–149) — во многом опорная для понимания дальнейшего развития событий, откуда каждый шаг экспедиции к её финалу отчётливо прослеживается по свидетельствам многочисленных участников, из которых мы можем использовать только самые важные.
По Гаккелю, события последующих дней выглядят так: «Два дня — 17–18 сентября — «Челюскин» добирался до мыса Ванкарем. Он шёл к нему от мыса Северного среди тяжелых торосистых полей. Небольшие разводья уже покрывались коркой льда; снежура, плававшая в воде, превращалась в слой льда, сковывая старые льдины в один сплошной массив. Всё чаще и чаще при заднем ходе судна, который производится, чтобы взять разбег и кинуться на перемычку, винт ударялся о лёд. Сколько тревоги у нас вызывал в душе каждый удар винта!
18 сентября борт получил вмятину. В кочегарке появилась течь. В ночь на 19 сентября мы дрейфовали. В восемь часов утра, встретив среди восьмибалльного льда подходящее для авиаразведки разводье, остановились. Через час самолёт с Бабушкиным и Ворониным поднялся на седьмую (по общему счёту) разведку. Пользуясь стоянкой, старший помощник капитана на шлюпке обошёл вокруг судна. Оказалось, кроме известных повреждений корабля, имеется вмятина под подзором с правой стороны. Некоторые заклепки задраны, некоторые сорваны и потеряны. С возвращением самолёта из разведки пошли на северо–восток среди ледяных полей в восемь баллов. Но прошли всего 180 метров…» (т. 1, 1934, с. 122).
В условиях надвигающейся зимы Бабушкин особо отметил, что «это был последний полёт с воды. Поднявшись в воздух, мы увидали две полосы разведённого льда, идущего на север, а через десять — пятнадцать миль стала видна чистая вода. Но эти две полоски имели очень небольшие щели, и кроме этого, все эти щели были покрыты молодым льдом. Дальше лежал кругом плотный, сильно торошенный лёд. Капитан наметил одну из полос разреженного льда для прохода, и мы вернулись назад. Но продвинуться нам суждено было немного (видимо, тот самый кабельтов, о которым выше сообщил Гаккель. — В. К.). К 12 часам дня подул сильный северо–западный ветер, погнал льды на берег и началось сжатие» (т. 1, с. 128), лишившее судно хода вблизи берега, очутившегося в полосе неподвижного льда. Несомненно, его положение было опасным, но в сплошном потоке немного мористее дрейфующего, битого–перебитого многочисленными подвижками льда оно было бы немногим лучше, не считая дрейфа по направлению к Берингову проливу.
Впечатляющая картина этого непростого, а главное — малоизученного в то время природного явления также нашла отражение в воспоминаниях участников событий, например, гидробиолога Ширшова: «Это было 23 сентября. Ничего, это только временная задержка. Вот поднажмёт ветер с запада, и мы снова пойдём! — не сдавались оптимисты. Но время шло, а мы всё стояли на том же месте. В трёх милях от нас за кормой чернела угрюмая скала Колючина. Понемногу выяснилось, что «Челюскин» очутился в неподвижном льду, забившем весь Колючинский залив. В одной миле мористее от судна лёд продолжал дрейфовать. С мостика было хорошо видно, как двигались торосы, уходя на восток. На другой день в каюту зашёл Марк Трояновский:
— Пойдём на кромку!..
Добрались до кромки и застыли от удивления.
— Марк! Ты видел что‑нибудь подобное?.. — Мы стояли на валу в метр высоты, плотно сбитом из снега и льда. Мимо нас шёл сплошной стеной лёд, вздыбившись вверх и застыв в виде огромных глыб, острых рёбер, ледяных башен и скал. В торжественном молчании, нарушаемом только шорохом льда, каким‑то невиданным войском проходили торосы. Жутко становилось перед этим грозным шествием, таким нереальным, с трудом понимаемым…
…Долго рассказывали своим товарищам о своей прогулке.
— Товарищи, — прервал наш рассказ Баевский, входя в кают–компанию. — Завтра с восьми утра выходим на аврал.
— Какой аврал, Илья Леонидович?
— Лёд взрывать! Капитан хочет попытаться взрывами расшевелить лёд между судном и кромкой! Быть может, удастся попасть в дрейф. Кромка совсем недалеко» (1936, с. 52).
По описанию Хмызникова, картина взрывных работ выглядела одинаково впечатляющей и безнадёжной: «Взрыв. Глухой удар передается толчком под ногами. Лёд и вода широкой, грязно–серой стеной высоко взлетают верх. Бежим туда, где медленно расходится желтоватым облаком лёгкий дымок. На месте взрыва широким кругом колышется раздробленный лёд. Кисловато пахнет аммоналом. Желанных трещин, которые разорвали бы поля на многие десятки метров и раздвинули бы их стены, нет! Лёд по–прежнему остался сжатым и неподвижным. Ещё взрывы и ещё воронки, забитые кашей из льда и снега, а длинных трещин всё не получилось. «Челюскину» вырваться изо льда на этот раз не удалось» (1936, с. 53). Шмидт подвёл итоги неудачного эксперимента: «Владимир Иванович был, конечно, прав, когда предложил взрывами расшевелить лёд, но сейчас нам ни к чему изводить запасы аммонала. Пригодятся ещё для работ во льду, когда пойдём дальше» (там же, с. 54).
29 сентября начали околку судна вручную с помощью ломов и багров, временами прибегая снова к помощи аммонала. Эта шумная работа привлекла внимание обитавших на острове Колючина чукчей, на двух упряжках добравшихся до судна, что оказалось весьма кстати. Шмидт воспользовался их помощью и 3 октября отправил на Большую землю восемь человек, отправку которых он объяснил следующим образом: «Я решил отправить больного кочегара Данилкина, а с ним врача (Мироненко. — В. К.) и ещё шесть человек (секретарь экспедиции Л. Муханов, корреспондент И. Сельвинский, кинооператор М. Трояновский, синоптик Простяков, радист Стромилов, инженер–электрик Кольнер. — В. К.). Последних приходилось выбирать не из больных, а наоборот — из наиболее выносливых людей, так как им предстояло идти пешком. Я выбрал тех из наших работников, которые были связаны службой с Москвой или Ленинградом. Отплывая в поход, я обязался перед их учреждениями вернуть этих людей в первую очередь в случае задержки «Челюскина»… Преодолев трудный путь, они благополучно достигли Уэллена» (т. 1, 1934, с. 37).
Эти люди спустя двое суток добрались до зимующих судов Северо–Восточной экспедиции, когда неожиданно «Челюскин» освободился из ледяных оков. Теперь с палубы «Свердловска» они наблюдали знакомый силуэт, спешивший на восток, чтобы спустя сутки «застопориться» у мыса Сердце–Камень до 12 октября и, снова оказавшись в дрейфе, 16 октября оказаться у мыса Икигур, от которого до цели — Берингова пролива — оставалось всего 40 миль. Однако полярное счастье переменчиво — потому что вскоре льды потащили «Челюскина» вглубь Чукотского моря на северо–восток. Спустя две недели пока «Челюскина», вмерзшего в ледяное поле, волокло по воле дрейфа к Берингову проливу, на меридиане Уэлена «Сверловск» и «Лейтенант Шмидт» вышли на чистую воду и вскоре оказались в водах Тихого океана, а вместе с ними и восемь бывших челюскинцев, избежавших, таким образом, участия в последующих событиях.
Дрейф проходил в условиях антициклональной погоды, когда было видно побережье вплоть до мыса Принца Уэллского на Аляске и долгожданного мыса Дежнева. Хуже было другое: «Нас тревожит температура воздуха: в последние дни она доходит до 16 ˚С холода. Это значит, что льдина всё больше и больше сплачивается, смерзаются отдельные её куски. Нам всё труднее и труднее будет вырваться из её объятий, даже если и будут сильные штормовые ветры, которые в иной обстановке могли бы эту льдину разломать. 19 октября приближаемся к мысу Инцова. Нас отделяет 35–40 километров от Берингова пролива. Только 40 километров! Но в этот день начинается сильный обратный дрейф, дрейф на северо–запад, и мы снова идём мимо мыса Сердце–Камень… Семь дней нас тянет на северо–запад. Некоторые уже с горечью говорят, что мы снова подходим к острову Колючину, от которого с такой радостью ушли двадцать дней назад. К вечеру 25 октября дрейф меняется. Очевидно, снова делаем петлю. Очевидно, нас снова поворачивает к Берингову проливу. Снова мы должны пройти мимо мыса Сердце–Камень? Кто‑то уже подсчитал, что мимо мыса Сердце–Камень нас уже тащит в девятый раз!» (т. 1, 1934, с. 158). Так проходили дни за днями, испытывая человеческое терпение, к которому обстановка время от времени добавляла нечто новенькое, самовозгорание угля в трюме № 2. «Чтобы ликвидировать пожар, нужно было разрыть очаги горения и залить их водой; перебросить залитый и потушенный уголь на более свободное место в трюме и дать ему проветриться… Как только лопата или лом обнажали коксующийся, накалённый докрасна уголь, сейчас же поднимался столб пламени с едким удушающим дымом. Заливать пламя водой было невозможно: выделяющиеся пары и газы заполняли всё свободное пространство трюма, обрекая работающих на удушье или, во всяком случае, делая их неработоспособными…
Для выполнения этой операции потребовалось 48 часов тяжелой бесперебойной работы… Товарищи, вылезая из трюма, были неузнаваемы. Осипшие голоса, чёрные лица со сверкающими белками глаз. Сколько им потом пришлось дать воды, чтобы они, наконец, приняли человеческий облик! А пресной воды было так мало!» (т. 1, с. 164). Однако именно в эти дни начался интенсивный дрейф по направлению к Берингову проливу по сути беспомощного судна, винт которого, вмёрзший в лёд, не проворачивался. Очередные взрывные работы ничего не изменили, и это означало, что в Тихий океан судно могло войти не самостоятельно, и лишь вместе с ледяным полем диаметром в 25 км, которое могло, приткнувшись к берегу, оставаться в таком положении вплоть до интенсивного зимнего ледообразования. А могло, подчиняясь прихотям дрейфа, двинуться в самом неожиданном направлении…
Прихотливый ледовый режим Чукотского моря, испытывая на износ человеческое терпение и надежды, продолжал преподносить измученным людям сюрприз за сюрпризом далеко не случайно. Набитая льдом акватория подчинялась взаимодействию двух различных систем потоков льда, характерных для Северного Ледовитого океана, — истоков дрейфа в направлении Атлантики, известного со времён Нансена, и — независимого от него — самостоятельной системы кругового дрейфа по часовой стрелке вдоль берегов Аляски и Канадского арктического архипелага, впервые предсказанного Колчаком, ещё в те времена, когда он в чине лейтенанта участвовал в экспедиции Толя, искавшего Землю Санникова. В полной мере эффект этого взаимодействия не изучен до настоящего времени, и уже поэтому здесь и в наше время моряк может столкнуться с самой неожиданной ситуацией. Но во времена «Челюскина» эта особенность здешних вод была неизвестна и людям, населявшим беспомощное судно, оставалось только ждать и надеяться.
Если говорить о загадках похода «Челюскина», то больше всего это относится к обстановке в Беринговом проливе в первых числах ноября 1933 г. По И. Баевскому, «1 ноября проходим меридиан мыса Дежнёва. Вот он — Берингов пролив — прямо к югу от нас. Хотим форсировать это небольшое расстояние… Снова и снова ведём подрывные работы. Попутный дрейф всё продолжается. 3 ноября находимся в Беринговом проливе. Четвёртого нашу льдину впирает между мысом Дежнева и островом Диомида. В проливе льдина, к большому удивлению, не ломается и не уменьшается в размерах. К вечеру попутный дрейф, достигавший полутора километров в час, начинает слабеть. Потом дрейф приостанавливается. Дрейфа нет. Стоим неподвижно. К ночи, несмотря на то что продолжает дуть попутный ветер, начинается обратный дрейф.
Мощные массы воды, до этого нагнетавшиеся в Тихий океан, хлынули обратно, и нашу льдину вместе с «Челюскиным», как пробку, выбрасывает из Берингова пролива обратно в Ледовитый океан» (т. 1, 1934, с. 159).
В рейсовом донесении капитан Воронин ситуацию на 4–5 ноября 1933 г. изложил так: ««Челюскин» по–прежнему скован льдами. В полумиле от нас свободная вода. 5 ноября дрейф стал увеличиваться, и судно вместе со льдом понесло на север. Люди, не понимающие всей серьёзности положения, ещё вчера глядя на чистую воду, на острова Диомида, на Берингов пролив, считали, что рейс уже близок к завершению… Пурга мешала определить местоположение судна, нет то звёзд, то горизонта» (Магадан, 1986, с. 19). Дневник Воронина, частично опубликованный Е. С. Юнгой, дополняет описанное другими важными деталями: «4 ноября льдину принесло к этим островам (Диомида). Преодолеть эти три четверти мили — и мы свободны! Забравшись в марсовую бочку, я видел, как гуляет зыбь, ходят морские звери, пускают фонтаны киты. Попробовали вывести «Челюскин», однако лёд был крепок, не помогли даже три тонны аммонала… В тот же день, 4 ноября, получили радиограмму от командования Северо–Восточной полярной экспедиции на ледоколе «Литке», предлагавшего нам помощь. «Литке» находился недалеко, в двенадцати — восемнадцати часах хода, на рейде бухты Провидения. Если бы он имел свои обычные качества, возможно, и сумел бы освободить нас, хотя определённо это сказать нельзя… Зная крепость окружающих нас льдов, тогдашнее состояние «Литке» (он ежечасно принимал внутрь корпуса до двухсот тонн воды, с откачкой которой едва справлялись его водоотливные средства) и вообще его ограниченную способность к форсированию тяжелых льдов… я отказался от его помощи. А к вечеру того дня дрейф стал менять направление, увеличил скорость и погнал «Челюскина» на север… 5 ноября ветер ещё более усилился и развёл крупную зыбь. Ледяное поле вокруг нас заколыхалось. Вал под ним доходил до «Челюскина». Хотя расстояние до кромки было три четверти мили (около 1,3 км. — В. К.) особенно сильно колебались льды около борта. Я пошёл на лыжах, чтобы осмотреть ледяное поле. Дошёл до кромки и увидел там щели в двадцать — тридцать сантиметров. Щели заканчивались всего в четырехстах метрах от судна. Можно было надеяться, что ветер и море доведут до конца свою разрушительную работу, на этот раз так нужную нам, и помогут «Челюскину» высвободиться. Надежды не оправдались» (Бочек, 1969, с. 229–230).
Бочек не просто подтверждает радиообмен, но приводит мотивировку Шмидта на повторное предложение помощи с «Литке»: «Помощь «Литке» при известных обстоятельствах может оказаться необходимой, мы тогда обратимся с просьбой и примем её с благодарностью. Сейчас положение ещё неопределённое. Со вчерашнего вечера «Челюскин» быстро дрейфует на север, что даёт нам надежду на разлом поля… Получив дважды отказ, мы считали, что командование «Челюскина» уверено в благополучном исходе, поэтому начали устранять течи в корпусе с помощью цементных ящиков и ремонтировать рулевое управление» (там же, с. 232).
Для историка–аналитика, как и для читателя, непонятно — а способен ли «Литке» с текущим корпусом и повреждённым рулём на работу во льду? Очевидно, сложное сочетание просчёта в развитии ледовой обстановки с сомнениями в способности «Литке» оказать реальную помощь (к чему были веские основания) и привели на «Челюскине» к отказу от помощи. Те же самые неясности в оценке своих и чужих возможностей у руководства на «Литке» позволили ему заняться собственными проблемами, отказавшись от похода к «Челюскину». Тем не менее, опасение возможного обвинения в неоказании помощи собрату в экстремальной ситуации, видимо, оставалось на обоих кораблях, и требовалось найти какой‑то, пусть формальный, выход из этой щекотливой ситуации…
В истории существует немало примеров, когда профессиональное решение подменялось ведомственным (в описанном случае Главсевморпути и Дальстроя), в котором не могло быть ни правых, ни виноватых. Результат известен… Однако ни сами челюскинцы, ни спасавшие их лётчики к этим ведомственным играм непричастны. Несомненно, сказалось и многократно описанное в полярной литературе отсутствие четкой границы в правах и обязанностях капитана судна и начальника экспедиции, чего, например, в своей деятельности старался избежать Амундсен. А в результате время было безнадёжно упущено и дальнейшее развитие событий определялось не возможностями обоих судов и их экипажей, а ветрами и дрейфом льда. Для преодоления этих могущественных обстоятельств у челюскинцев не было ни сил, ни возможностей, и предотвратить развитие событий в самом неблагоприятном направлении ни Шмидт, ни его люди уже не могли…
Не случайно секретарь экспедиции С. Семёнов связал воедино события этих решающих дней: «10 ноября «Челюскин» впервые за весь поход попросил помощи другого судна — ледореза «Литке». 17 ноября обстоятельства сложились так, что «Челюскин» был вынужден добровольно отказаться от помощи израненного «Литке». С этой минуты судьба его была решена. Последовавшее 13 февраля в сущности является концовкой событий, происходивших на «Челюскине» 17 ноября» (т. 1, 1934, с. 168).
Очевидно, неделя с 10 по 17 ноября определила судьбу всего предприятия и поэтому нуждается в более детальном описании. 12 ноября «Литке», кое‑как подлечив собственные раны, вышел из бухты Провидения на помощь «Челюскину», уносимому дрейфом в Чукотское море. С каждым днём тональность непрерывного радиообмена между судами существенно менялась. Уже 14 ноября с «Литке» сообщалось о чрезвычайном риске плавания, а на следующий день отмечалось, что «дальнейшее продвижение «Литке» командование считает недопустимым». 16 ноября машины «Литке» получили команду «стоп!», когда расстояние между судами составляло всего 20 миль.
Свидетельства Семенова, в силу его положения в экспедиции, особенно ценны: «Наступило 17 ноября. Этот день в истории «Челюскина» — вообще какое‑то «сжатие судьбы». Утром этого дня при попытке взлететь для ледовой разведки задел за торос и надолго выбыл из строя самолёт Бабушкина — потеря для нас в тот момент незаменимая. Буквально через несколько часов с мыса Северного было получено другое сообщение: «Самолет Н-4 при попытке взлёта снёс шасси». Надо сказать, что оба эти самолёта были в то время единственными во всей Арктике, которые могли бы помочь челюскинцам осуществить частичную эвакуацию на «Литке»… Того же 17 ноября было получено ещё одно известие, казалось бы, более радостное, но по сути усиливавшее драматизм положения. Заместитель председателя Совнаркома т. Куйбышев прислал телеграмму, согласно которой «Литке» в своих спасательных операциях передавался в полное распоряжение О. Ю. Шмидта» (т. 1, 1934, с. 170).
Начало ответа Бочека: «Приветствую распоряжение заместителя председателя Совнаркома Куйбышева, для себя считаю честью быть в вашем распоряжении» — по смыслу напоминал молебен «во здравие». Зато его концовка явно носила заупокойный характер: «Прошу вашего срочного распоряжения на немедленный выход изо льдов». На «Челюскине» сомнений в причинах последней информации не возникало, но больно уж не вовремя она поступила! Буквально сжав зубы, руководство «Челюскина» вечером 17 ноября собралось, по Семёнову, на знаменитое полумолчаливое совещание: «Происходило оно в каюте Отто Юльевича. Не делая никакого вступления, он своим обычным спокойным голосом прочёл текст обеих телеграмм — сначала Куйбышева, потом Бочека. Все молчали. Это, по–видимому, несколько удивило Отто Юльевича: он, кажется, ждал немедленной реакции на оглашённые телеграммы. Каждая из них по–своему решала судьбу «Челюскина».
— Ну, у нас не военный совет в старину, где всегда начинал младший, — шутливо заговорил Отто Юльевич и, обратившись к Воронину, предложил: — Что нам скажет Владимир Иванович?
Воронин пожал плечами.
— Что сказать? «Литке» не сообщает даже, сколько у него осталось угля…
Воронин не хотел высказываться первым. Молчали и остальные.
Не выдержал, как всегда, Ваня Копусов. Со свойственной ему горячностью он он вдруг резко бросил:
— Отпустить!
— Отпустить! — тотчас подтвердил Баевский, заместитель Отто Юльевича.
— Отпустить! — немного подумав, сказал лётчик Бабушкин.
Снова все молчат.
Слово берёт Отто Юльевич. Он говорит, что настроение на «Литке» неважное, — текст телеграммы Бочека вполне выдаёт это, — и челюскинцы должны принять при данных условиях наилучшие и разумнейшие решения.
Выступает Воронин.
— Вредно в такой момент митинги да судовые советы создавать. Это ширма, которой хотят себя загородить, — хмуро говорит Воронин.
Отто Юльевич вмешивается:
— Ну, правда, это немножечко старомодно, и сейчас руководителей не жалуют за такие приёмы руководства. Но мы не можем их винить: человеческий материал на «Литке» просто устал, износился за зимовку.
Отто Юльевич говорит мягко, но в его мягком разъяснении звучит твёрдая политическая линия руководителя экспедиции.
Снова наступило молчание.
— Отпустить! — с облегчением высказался штурман Марков.
— Отпустить! — подтверждает штурман Гудин.
— Отпустить! — подтверждаю я. — Я думаю, товарищи, что при таком состоянии экипажа «Литке» не сможет нас выколоть из льдины…
Я высказываюсь последним. Шмидт некоторое время молчит, поднимает глаза и по очереди оглядывает лица присутствующих.
— Товарищи, по–видимому, единодушное мнение всех присутствующих — отпустить «Литке». Отпустим его, товарищи!
Так был отпущен «Литке»» (т. 1, 1934, с. 173–174).
Глава 3. Дрейф и первые дни после катастрофы
О, если б можно было заглянуть
В страницы рока и увидеть ясно,
Какие превращенья впереди.
В. Шекспир
Бороться, бороться,
Пока не покинет надежда.
Что может быть в жизни
Прекрасней подобной игры.
Роберт Сервис
Гидробиолог П. П. Ширшов начало зимовки описал так: «Зима торопилась вступать в свои права. С каждым днём всё ниже поднималось солнце. Багровым шаром оно катилось над зубчатой чертой горизонта и через час–другой уходило за гребни торосов. Скоро оно совсем не взойдёт. Всё чаще опускался за тридцать синий столбик в термометре. Звонкими взвизгами отдавались шаги людей на заснеженной палубе. Морозы крепчали. Зимовка постепенно вошла в быт людей. Прежде всего нужно было беречь топливо, беречь уголь. В каютах давно закрыли воду и забили войлоком лишние двери на палубу. Вопрос об экономии топлива особенно остро встал в начале декабря, после последней попытки вырваться из льдов. В трюмах «Челюскина» осталось всего 400 тонн угля. С этим количеством нужно было перезимовать и весной выйти на чистую воду» (1936, с. 98).
Между тем ежедневный расход угля превосходил полторы тонны в сутки, и теперь приходилось брать на учёт каждый килограмм топлива. Умельцы из машинной команды по–своему отреагировали на топливный дефицит, приспособив форсунки для сжигания всех видов машинного масла, отходов жидкого топлива, жир морского зверя и т. д. В некоторых каютах подобные устройства заменяли привычное паровое отопление, и вскоре расход угля на судне снизился вдвое, причём он выдавался килограммами в таких количествах, чтобы поддерживать температуру в жилых помещениях в пределах десяти градусов. В таких условиях неизбежным становилось уплотнение кают экипажа, что, разумеется, было встречено моряками без энтузиазма. Правда, экономия топлива и другие меры позволили избежать столь радикальных шагов, но, тем не менее, такая перспектива определённым образом отразилась на настроениях зимовщиков. Ещё одним вынужденным зимовочным мероприятием явилось сооружение печи на палубе для таяния льда для повседневных нужд и, соответственно, заготовка льда вблизи судна, на что приходилось выделять людей в рабочие бригады.
Обычная проблема вынужденной зимовки — невозможность занять людей повседневными заботами, равномерно распределяя рабочие нагрузки на каждую пару рабочих рук. Как ни изощрялось руководство в своих попытках занять людей лыжными прогулками, охотой на песца и нерпу и поисками аэродрома, образовательными мероприятиями и т. д., — нет–нет да находились недовольные, готовые сорвать плохое настроение на других. Шмидт впервые в истории полярных экспедиций ввёл практику товарищеских судов, по воспоминаниям участников событий, оказавшихся вполне действенным средством.
Наиболее оправдали себя в условиях начавшейся зимовки общеобразовательные мероприятия, проводившиеся с учётом возраста и уровня образования участников. В своих воспоминаниях молодой матрос А. Миронов (по совместительству начинающий журналист–любитель) так оценил их роль: «Работал у нас политкружок комсомольцев. Его посещали не только комсомольцы: лекции Баевского, очень интересные и занимательные, привлекали на занятия кружка и беспартийных — пожилых плотников, матросов, кочегаров и даже нашего почтенного Адама Доминиковича Шушу (наиболее старого по возрасту в экипаже с тридцатипятилетним морским стажем. — В. К.). Старик принимал горячее участие в спорах о съездах партии, в обсуждении разногласий между большевиками, меньшевиками и эсерами.
Кроме политкружков у нас был общеобразовательный кружок плотников. В Мурманске на «Челюскина» пришли восемь плотников и три печника. (Строители–сезонники, направлявшиеся на остров Врангеля. — В. К.). Многие из них едва–едва по складам могли прочесть небольшие заметки в газетах и знали только два правила арифметики. Шестимесячная учёба на «Челюскине» дала плотникам много: они прошли курс арифметики, ознакомились с элементарной алгеброй и геометрией. Они узнали правила грамматики, ознакомились с историей, географией.
Вечерами при свете керосиновых ламп в салоне комсостава собирались члены экспедиции, штурманы, матросы и кочегары. Отто Юльевич рассказывал жадным слушателям о теории Фрейда, о работах языковеда академика Марра, о Памире. Запас знаний и глубина их казались неисчерпаемыми в этом человеке. Он мог ответить на любой вопрос, и напрасными были попытки поставить его в тупик. Мы всегда получали тёплую, очень дружественную улыбку и точный исчерпывающий ответ.
Бывали и такие вечера, когда дрожали стёкла иллюминаторов в салоне от громкой музыки, от хоровых песен, от звучного перебора струн мандолин, балалаек и гитар. Это был очередной концерт ансамбля под управлением Фёдора Решетникова» (т. 1, 1934, с. 196).
Разумеется, надо было быть готовым к самому неблагоприятному развитию событий, включая гибель судна. На льду была организована продовольственная база с запасом продуктов, а также выгружены стройматериалы. Однако часть продовольствия и запас тёплой одежды оставались на палубе в расчёте сбросить их на лёд при гибели судна. Однако когда в первых числах декабря вблизи судна образовались разводья и была предпринята последняя попытка избежать ледового плена, аварийный запас со льда был возвращен на судно. Удовлетворительным оставалось здоровье зимовщиков, за зиму значительно прибавивших в весе — не исключено, что эти «запасы» (в других условиях избыточные) помогли пережить наиболее сложные дни после катастрофы.
Несмотря на все отмеченные трудности, на взгляд профессионала–полярника, со своими специфичными мерками комфорта, пока развитие событий оставалось в допустимых пределах, судя по позднейшим воспоминаниям П. П. Ширшова: «Любопытная у нас зимовка! Живём в тёплых каютах, спим в уютных койках, работаем, читаем, болтаем о чём придётся, и понемножку ждём, когда опять завизжит и заскрипит кругом и со страшной силой навалится на борта корабля. В пургу, в мороз, в полярную ночь придётся уходить на лёд. До берега сто пятьдесят километров… Сто пятьдесят километров по торосам!.. Женщины… Дети… Больные… Будь здесь только здоровые, выносливые люди, я жалел бы только о судне, да о своих научных сборах, которые пришлось бы бросить. В себе я уверен. Я дойду до берега… Но когда вспомнишь, что у нас столько людей, неспособных пройти даже двух миль — как‑то не по себе становится, особенно когда лёд начинает визжать у борта». (1936, с. 105). Так что даже с учётом способностей полярника приспособиться к самым немыслимым экстремальным условиям (отнюдь не все на борту «Челюскина» соответствовали им), жизнь участников вынужденного дрейфа напоминала ту, которую ведут обитатели окрестностей дымящегося вулкана, при одном виде которого невольно возникает вопрос — когда же?.. Уже одно это заставляло моряков и участников экспедиции жить в режиме напряжённого изматывающего ожидания.
Между тем наступил новый 1934 год, мало что изменивший в жизни тех, кого позднее на Большой Земле стали называть челюскинцами. «По небу бегают сполохи, разливаясь зеленовато–жёлто–малиновыми радугами по небосклону. Мороз. Нависают яркие большие звёзды, будто разглядывая вмерзшее в лёд судно с гирляндами инея на вантах и мачтами, забелёнными снегом. Судно застыло. Палуба его заледенела… На спардеке и на ботдеке — там, где все так любили прогуливаться, — остались только узкие тропинки среди сугробов снега и шлака, насыпанного на палубу для отепления жилых помещений.
День короток, солнце, невысоко поднимаясь над горизонтом, заставляет судно и торосы отбрасывать длинные пологие тени. В эти часы с зимним, ещё не греющим солнцем верхняя палуба судна оживает. С весёлым бодрым гулом работают очередные бригады по заготовке льда для вытаивания воды. Выходят прогуляться матери с детьми, больные, те, кто не занят в этот день работой в бригаде.
Одна из наиболее обычных тем для разговоров — когда «Челюскин» освободится ото льдов.
— Капитан Воронин определил срок выхода двадцать пятым июля, — говорит одна из женщин. — Вы, Павел Константинович, в стенгазете писали о возможном выходе «Челюскина» в июне, и даже в мае, — добавляет она, обращаясь ко мне.
— Да, исходя из гидрологических данных, если напор тихоокеанских вод… — и я пространно рассказываю свои предположения.
— А смотрите, сколько новых торосов наворотило за эту ночь. Вчера там дымились туманом трещины, а сегодня такие валы льда. Ночью всю вахту был слышен шум торошения, — рассказывал подошедший штурман Марков.
Солнце недолго находится над горизонтом. Описав по небу пологую дугу, оно скрывается, оставив на некоторое время нежно–розовую зарю. Быстро надвигаются сумерки, зажигаются звёзды, наступает ночь. Палуба опустела. На ней маячит вахтенный матрос, да в конце каждого часа из штурманской рубки вместе с облаком пара выплывает закутанная в тулуп фигура вахтенного штурмана, идущего определить дрейф.
Вечером несколько часов в окнах кают–компании и кают виден скупой свет — на судне работает динамо и горят немногие оставленные невыключенными лампочки. Кают–компания полна народом. Столы заняты «козлятниками», «покеристами» и прочими игроками. У пианино группируются музыканты челюскинского джаз–оркестра. Струнные инструменты, свистульки, шумовые приспособления исполняют популярные на судне мелодии… Под музыку фокстрота пары в неуклюжих валенках начинают плавно двигаться по кают–компании. Но вот динамо выключается, и взамен электрического света зажигаются тусклые судовые керосиновые лампы. Составляется хор. Раздаются то бурные революционные напевы, то протяжные старинные народные песни.
— Товарищи, идите смотреть на замечательное полярное сияние, — поёживаясь от холода, кричит Саша Погосов.
На мостике и ботдеке уже стоят группами челюскинцы и смотрят на игру красок на небосводе.
— Да–а… Замечательное зрелище. Однако опять поблизости от нас торосит, — добавляет Баевский, всматриваясь в темноту.
— Ну, торошение льда — дело обычное, — бросает кто‑то.
Налюбовавшись игрой сполохов, все постепенно спускаются вниз. На кормовой палубе проходит к сходне группа людей, закутанных в тулупы, шубы и полушубки. В идущей впереди высокой фигуре в длинном, до пят, тулупе легко узнать капитана Воронина. Группа спускается по трапу, медленно обходит судно и всматривается внимательно в лёд, разыскивая новые трещины около судна. Издали продолжает доноситься шум торошения». (Хмызников, 1936, с. 107–108).
Ещё сутками ближе к роковой дате…
В отличие от большинства моряков и участников экспедиции, ощущавших приближение катастрофы на основе былого опыта и чисто внешних впечатлений от окружающего ледяного ландшафта, инженеры Ибрагим Факидов и П. Г. Расс системой приборов фиксировали изменения ледяного поля, в которое вмерзло беспомощное судно. Ещё 1 февраля Факидов, закончив установку палатки с приборами, поинтересовался у своего коллеги Расса:
— Может быть, я зря устраиваюсь в палатке? Не разломает ли её? Нет ли вдали подвижек льда?
Ответ гласил: — Ставьте, быть может, в этой палатке ещё придётся жить. Всё происходит здесь страшно быстро…
Уже на следующий день Факидов обнаружил активизацию льда в отдалении, не представлявшей пока непосредственной угрозы судну. Зато уже 6 февраля разводья у кормы «Челюскина» стали расходиться — это было важное указание на приближение угрозы: «Как бы не унесло мою палатку! — отметил в дневнике инженер. — Кругом лёд трещит. Если ветер усилится — «Челюскин» будет сжат… 12 февраля. Весь день работал в палатке. Лёд сегодня ведёт себя беспокойно. Дрейф дошёл до семи метров в минуту. Не знаю, что ожидает нас в эту ночь. Жизнь как на вулкане или открытых позициях…» (т. 1, 1934, с. 285). В своих ожиданиях он ошибся всего на полсуток, ибо днем позже катастрофа разразилась во всей неотвратимости, не оставив людям на иной исход ни одного шанса.
Слова «последний аврал» из русской морской песни для каждого россиянина имеют вполне конкретный смысл, отражая душевный настрой участников, сделавших решительный выбор и не склонных уступать обстоятельствам, одновременно с привкусом трагизма и героики, вне зависимости от места события. Вспоминая события 13 февраля 1943 г. в зимнем Чукотском море, Шмидт особо отметил, как «в полдень ледяной вал слева перед пароходом двинулся и покатился на нас. Льды перекатывались друг через друга, как гребешки морских волн. Высота вала дошла до восьми метров над морем. Слева от нас, перпендикулярно к борту, образовалась небольшая с виду трещина.
Был отдан приказ о всеобщем аврале и немедленной выгрузке аварийного запаса. С привычной организованностью и дисциплиной люди встали на места. Не успела ещё работа начаться, как трещина слева расширилась. Вдоль её, нажимая на бок парохода, задвигалась половина ледяного поля, сзади подгоняемая упомянутым выше валом. Крепкий металл корпуса сдал не сразу. Видно было, как льдина вдавливалась в борт, а над нею листы обшивки пучатся, выгибаясь наружу. Лёд продолжал медленное, но неотразимое наступление. Вспученные железные листы обшивки корпуса разорвались по шву. С треском летели заклёпки. В одно мгновение левый борт парохода был разорван у носового трюма. Этот пролом, несомненно, выводил пароход из строя, но ещё не означал потопления, так как находился выше ватерлинии.
Однако напирающее ледяное поле затем прорвало и подводную часть корабля. Вода хлынула в машинное и котельное отделения. Экономя топливо, мы ещё раньше держали только один из трёх котлов под паром, изредка меняя их для чистки. Пар был как раз в левом котле, то есть со стороны сжатия. Продрав борт, напор льда сдвинул котёл с места, сорвал трубопровод, идущий к спасательной насосной системе, перекосил и зажал клапаны. К счастью, не произошло взрыва, так как пар сам вышел через многочисленные разрывы. Пароход был обречен. Его жизнь измерялась часами. Выгрузка шла быстро, без перебоев. Она показала прекрасные качества коллектива. Катастрофа не застала нас врасплох. Весь аварийный запас лежал на палубе. Все силы были распределены по отдельным бригадам: бригада радио, тёплой одежды и т. д. Всё шло совершенно тихо. На корме стоял Бобров. Капитан Воронин следил за состоянием льда. За техникой спуска на лёд наблюдали штурмана» (т. 1, 1934, с. 288).
Так выглядело начало катастрофы глазами начальника экспедиции, даже под жестоким моральным прессом от происходящего отметившего со скрытой гордостью действия своих подчинённых. Они не только до конца исполнили свой служебный долг, но позднее своими опубликованными свидетельствами наполнили нарисованную Шмидтом картину бедствия живыми деталями достойного поведения рядовых участников события, без тени казённой партийной героизации. Результат своего участия в последнем аврале выразил скромный судовой буфетчик Лепихин: «Утром раздали посуду обитателям лагеря Шмидта. Хватило почти на всех. Я выполнил свой долг» (т. 1, 1934, с. 318), — увязав его, как настоящий моряк и мужчина с высоким понятием взятого на себя выбора, даже если сама обстановка не оставила иного. Предоставим же теперь этим обычным людям со своими слабостями и недостатками слово, поскольку они своими действиями совершили то, что партийное руководство позднее определило понятием «подвиг», присвоив себе его осуществление.
Как только ледяной вал обрушился на беспомощное судно, опытным взглядом ледового моряка Воронин определил финал столкновения со всей неотвратимостью. «Конец! — сказал я себе. — Теперь все силы на выгрузку» (с. 282). В дело вступал комплекс мероприятий, уже отработанных ранее, в сочетании с человеческим фактором, — готовности людей к событию, которое ни один из них не мог представить в реальности.
Для штурмана Маркова (в котором молодость удачно сочеталась с десятилетним морским опытом, помимо присущей ему острой наблюдательности), в полдень заступившего на свою последнюю вахту (о чём он, естественно, не догадывался), все действия определялись требованиями морского устава. Его предшественник, третий штурман Виноградов доложил обстановку:
— Состояние льда спокойное. Дрейф ост–зюйд–ост 0,3 мили в час. Глубина 50 метров. Ветер 6 баллов. Температура 36 градусов. Пурга.
Дальнейшие события, по описанию последнего вахтенного начальника «Челюскина», развивались следующим образом.
«В час дня, при очередном измерении дрейфа, ощущалось несколько слабых толчков по корпусу. Глубина была старая. Дрейф (прежнего направления) уменьшился до 0,1 мили в час. Толчкам по корпусу сопутствовало плавное колебание уровня воды в море. Это подсказывало нам, что где‑то напирает лёд. Предзнаменование рокового сжатия «Челюскина»…
Через 20 минут ветер донёс глухой шум торосившегося льда. Дрейф прекратился. Поднявшись в штурманскую рубку, я сделал запись (как потом оказалось — последнюю) в черновом журнале: «В тринадцать двадцать дрейфа нет».
Резкий двойной толчок встряхнул судно. Керосиновая лампа на подвесе мягко качнулась. Путаясь в тулупе, я быстро спустился на спардечную палубу к лоту. Дрейфа не было. Вода в майне словно пыталась выйти на поверхность льда: она опускалась и поднималась. На палубе стало оживлённо. Напряжённо, с затаённым страхом, закрыв лица от леденящего ветра, люди смотрели на высокий, надвигающийся с севера торос (точнее, вал торошения. — В. К.) Торос ревел, как сотня обезумевших быков. Вздыбленный, недавно, казалось, несокрушимый лёд крошился и большими валунами скатывался с вершины тороса. Певуче трескался лёд у судна. Несколько любителей острых ощущений, согнувшись, преодолевая сильные порывы ветра, бежали по льду к торосам. Позёмка порой закрывала бегущих. Ледяной вал на глазах рос и быстро приближался к судну.
На север от форштевня ожила образовавшаяся вчера трещина. Что‑то заскрежетало в подводной части корпуса. Владимир Иванович Воронин, наблюдавший за льдом, отдал распоряжение:
— Передать старшему помощнику, чтобы немедленно приступали к выгрузке продовольствия и снабжения на лёд.
В машину:
— Поднять пар и быть в готовности на случай откачки воды из трюмов…
…На кормовой палубе у трюма № 3 большая группа людей дружно приступила к выгрузке продовольствия на лёд. По доскам спускали ящики, мешки. Внизу у борта их моментально подхватывали и оттаскивали в сторону на нетронутый сжатием лёд. Работа шла быстро. Люди спокойны, деловиты. Испуг отдельных товарищей растворялся в дружной, красивой работе.
Капитан Воронин и Отто Юльевич Шмидт, как полководцы, избрали удобное место на кормовой части спардека по правому борту. Оттуда им прекрасно была видна картина выгрузки. А «грузчики» при виде спокойных лиц командиров бодрились, ещё сильнее напрягая мускулы. Картина труда! И, казалось, всё происходит в привычной «мирной» обстановке.
Внезапно «Челюскин» вздрогнул и быстро пошёл назад, сопровождаемый скрипом и шорохом льда. Наблюдая движения судна, ощущал за него боль. Я знал: что‑то большое, страшное, хотя ещё не осознанное полностью, должно сейчас произойти. Грохот гигантского тороса нарастал. Ледяная гряда, меняя профиль, обняла нас полукольцом. Она безжалостно смыкала эти объятья. Также внезапно «Челюскин» остановился. Град металлических ударов пробежал по корпусу. Где‑то ломался металл. Вахтенный, подбежав ко мне, быстро взволнованно проговорил:
— Михаил Гаврилович, левый борт продавило!»
(т. 1, с. 296–298).
По рассказу опытного и наблюдательного моряка читателю уже понятна картина происходящего, тем более что в деталях ниже она будет дополнена свидетельствами других участников событий. Отметим, что штурман покинул свой пост лишь по команде, запечатлев в памяти поведение людей при агонии судна: «Сходня свернулась. Потеряв равновесие, я сел на лёд. Быстро вскочив, увидел лежащего близко у борта капитана и навалившееся на него бревно. А Могилевич, только что стоявший спокойно с трубкой в зубах, видимо, поскользнувшись, прыгнул не на лёд, а на палубу. Со льда, тревожно надрываясь, кричали:
— Борис, Борис, прыгай скорее!
Могилевич рванулся к корме. Бочка сшибла его с ног. Больше Могилевича не видели. Он остался на судне…
…До каждого дошла предупредительная команда:
— Прочь от судна!
Все ринулись в сторону, но, словно влекомые к сегодня днём ещё уютному, родному «Челюскину», бежали обратно. В лица безжалостно хлестала позёмка. Хотелось смотреть на корабль до последней секунды… Сто четыре человека остались на льду. Среди них десять женщин и четыре ребёнка. Это произошло в Чукотском море в счислимой северной широте 68 градусов 16 минут и западной долготе 172 градуса 51 минута, 13 февраля в 3 часа 50 минут дня» (т. 1, с. 300–301).
Как обычно при морских катастрофах, наибольшие психологические нагрузки испытали «духи», как традиционно именуют моряки машинную команду, которой приходится «вкалывать», в отличие, от палубной, не видя обстановки в целом и покидать свои рабочие места лишь по команде с мостика, в обстановке, близкой к преисподней.
Переход от привычной жизни зимующего судна к последнему авралу в скупых и сдержанных выражениях, практически лишенных эмоций, описал старший механик Николай Карлович Матусевич, выпускник английского морского колледжа, отдавший к тому времени морской службе почти четверть века. В первой половине рокового дня «на судне всё было тихо и спокойно: одни отдыхали в каютах, другие гуляли на палубе, некоторые даже спустились на лёд и любовались нарастающим ледяным валом. Минут через двадцать уже было видно, что подвижка льда произойдёт вблизи судна, а, следовательно, неминуемо и сжатие. Тогда мною было отдано распоряжение всем механикам и ранее прикреплённым к ним машинистам занять свои места по аварийному плану. Вахтенный механик, студент кораблестроительного института Михаил Филиппов уже давно был в машинном отделении. Он следил за состоянием механизмов. Одновременно были отданы приказания поднять давление пара в котле, приготовить и пустить в ход пародинамо и спасательные помпы. Всё должно быть приготовлено, все меры должны быть приняты для борьбы со стихией!..
…Внизу, на днище судна, в машине и кочегарке, у механизмов работают прикреплённые механики и машинисты. Они помогут если не спасти судно от гибели, то хотя бы оттянуть время, чтобы работающие на выгрузке продовольствия, одежды, снаряжения и научных материалов успели снести всё на лёд. Остальная машинная команда отправлена на палубу для участия в общей работе…
…Включили свет. Машинное отделение, до сих пор освещённое только немногими керосиновыми фонарями, залилось светом, но ненадолго. Оглушающий треск разрушающегося левого борта заполнил помещение. Заклёпки, срезанные с листов обшивки корпуса, со свистом пролетали над головами, падали на металлические площадки. Шум их падения напоминал речитатив пулемёта.
Натиском льда, продавившего борт, был сдвинут рабочий паровой котёл и сорвана дымовая труба. Вырвавшийся на волю из стальных и медных труб пар с шипеньем и свистом заполнял помещение. Механизмы, стоявшие по левому борту… частью упали, частью сдвинулись с места. Электрические провода сорваны; они дали короткое замыкание, и предохранители перегорели.
Вследствие перекоса фундамента пародинамо–машина остановилась. Свет везде погас. Пар с шумом выходил из котла. Быстро понижалось его давление. Выгрести жар из топок котла нельзя было, так как вода в кочегарке поднялась на полметра выше площадок.
Уже когда были порваны паровые трубы и сдвинут с места котёл, а машинное отделение заполнилось горячим, удушливым, влажным паром, товарищи пытались сделать хоть что‑нибудь, лишь бы предотвратить утечку пара. Но это было безрассудно и невыполнимо… Надо было покидать помещение и отступать по трапам, ведущим наверх… На льдине быстро обошёл машинную команду. Налицо все: механики, машинисты и кочегары. Погибших нет. Доложил О. Ю. Шмидту». (т. 1, 1934, с. 303–305).
У научного персонала в общем смятении были заранее определены свои задачи, в первую очередь спасение научных материалов, тем более что наблюдения продолжались до последнего момента. На пути к штурманской рубке гидрограф П. К. Хмызников от промчавшегося бегом корреспондента Бориса Громова услышал, что лёд «рвёт борта».
«Возвращаюсь в каюту, чтобы собрать научные документы и карты наших работ и наблюдений. Быстро беру записные книжки и журналы. В голове только одна мысль: только бы не забыть чего‑либо важного!.. Просматриваю все ящики и шкафы — свои и геодезиста Гаккеля. Пачки журналов наблюдений и записных книжек складываю в маленький чемодан. Туда же бросаю несколько книг с таблицами для текущих астрономических обсерваций. Теперь карты. Развёртываю рулоны. Вот планшеты наблюдений за дрейфом. Карты нашего пути от Ленинграда. Кажется — всё!..
…В рубке и на мостике также идут сборы инструментов и штурманского имущества. Их завязывают в разноцветные сигнальные флаги. Я завязал наши карты в запасной кормовой флаг.
— Как с судном? — спрашиваю штурмана Бориса Виноградова.
— Безнадёжно. Разорван левый борт.
Вынесенные инструменты и научные материалы я спускаю вниз и передаю на лёд Гаккелю. Включаюсь в общую работу. Из рубки по ботдеку таскаем ящики с радиоимуществом и спускаем по трапу вниз. На палубе их принимают и передают на лёд. С судна на лёд положены доски, по которым грузы подступают на ледяное поле…
…Принимаю на палубе подаваемые из трюма Федей Решетниковым листы фанеры. Отбрасываю их к борту. С борта листы бросают на лёд. Редкими толчками «Челюскин» садится носом. При каждом его оседании хрустят и перемещаются льдины. В трюмах журчит вода. Вот она показалась в твиндеке второго трюма, откуда Федя Решетников и ещё трое ребят подают фанеру. Приходится прекратить выгрузку. Ребята вылезают наверх, и мы отправляемся на корму… Двери всех кают открыты. Комова и Шпаковский по распоряжению Боброва выбрасывают из кают на лёд через открытые окна матрацы и одеяла. В каютах беспорядок, открыты ящики и шкафы, разбросано платье. Вдруг, к своему удивлению, в одной из кают вижу Дору Васильеву с маленькой Кариной. Я кричу:
— Почему вы здесь?
— А что, разве пора высаживаться?
— Конечно, вам уже давно нужно быть на льду, в палатке!
На корме аврал. Вспомнили о наших трёх свиньях. Их пытаются пинками выгнать на трап и дальше на лёд. Животные упираются, визжат, убегают в сторону. Раздаются возгласы:
— Нет времени возиться, надо зарезать!..
…Свиньи заколоты, их туши отправляются на лёд.
Подбегает Кренкель:
— Товарищи! Помогите выгрузить запасные аккумуляторы.
Идём в пассажирское помещение и забираем аккумуляторы… Открыли дверь правого борта, и выгрузка на лёд пошла быстрее. Перед глазами картина разворачивающегося на льду лагеря. Так представляются мне первые бивуаки каких‑нибудь новостроек в снежных степях Сибири. Оживлённые люди, груды материалов и ящиков. Аккумуляторы выгружены. Иду к корме.
Судно сильно дёрнулось носом вниз. На палубу спардека из открытой двери пассажирского помещения хлынула вода. Кто‑то, как будто Саша Лесков, с тремя медными чайниками в руках выскочил из этой двери на палубу и перевалился через борт на лёд. Корма идёт вверх. Раздалась команда:
— Всем оставить судно!..
…Быстро вздымается над водой корма, по её палубе катятся бочки, оставшийся груз… Оголяется руль, винт. Грохот, треск, гул ломающегося дерева и металла… Корма обволакивается дымом. Два столба буровато–белого цвета… Кто‑то кричит:
— Дальше от судна! Сейчас будет водоворот!
Людская толпа, хлынувшая было вперёд, подалась назад. Белая ледяная шапка выплывающих льдин. Они кружатся, перевёртываются. Волна спадает… Груда льда. Опрокинутые шлюпки. Хаос обломков. «Челюскина» нет…» (т. 1, 1934, с. 291–295).
Впечатления судового плотника Д. И. Кудрявцева также отражают резкий переход от повседневной обычной работы к последнему авралу: «Приходит в мастерскую боцман Загорский:
— Ребята, — говорит боцман, — посмотрите, что творится на льду.
После приказа о выгрузке мы стали всё сбрасывать на лёд. Наша бригада была физически сильная, и всех нас поставили на наиболее тяжелый груз. Я хотел было (по старой морской традиции. — В. К.) пойти одеться в чистое бельё, но потом решил, что не стоит этого делать. Надо помогать выгрузке. Так я из своих вещей ничего и не взял… В трюме мы работали не покладая рук. Надо было как можно больше взять фанеры. Мы очень хорошо понимали, как это нам пригодится на льдине. Внизу, в трюме, я слышал большой шум. Это заливало водой соседнее помещение.
— Заливает, — говорю я Голубеву.
— Нет, — отвечает Голубев, — это её откачивают.
Но потом мы увидали, что вода уже под нашими ногами. Мы сразу же бросились на палубу и стали выгружать продукты… Я думал всё‑таки сходить за своими тёплыми вещами в твиндек. Там вода уже поднялась до уровня стола. Электричество ещё горело, так как работала аварийка. Посмотрел я, покачал головой и вернулся обратно, чтобы успеть выскочить на лёд… Когда судно погибало, не было никакой паники, криков, ругани. Помню, когда я жил ещё в деревне и там случился пожар, то было больше паники и рёва, чем в такой большой опасности, в которую мы попали» (т. 1, 1934, с. 319–320).
Поскольку незадолго до гибели судна помощник завхоза А. А. Канцын лично доложил Шмидту о готовности своего хозяйства к выгрузке на лёд по аварийной тревоге, то в первой половине дня 13 февраля он решил обойти вместе со своим начальником Борисом Григорьевичем Могилевичем песцовые ловушки, не подозревая о приближающихся событиях. При возвращении услышали звуки подвижки льда.
«— Эх, и до нас дойдёт, — сказал Борис.
У борта судна нас встретил т. Воронин и сказал:
— Давайте, товарищи, на пароход. Лёд сегодня неспокоен.
Переодевшись, мы едва успели сесть за стол обедать, как услышали первый толчок в левый борт судна… Люди бежали по местам. Я с заранее прикомандированной ко мне бригадой стал выгружать тёплые меховые вещи с мостика на лёд. Люди с поразительной лёгкостью и быстротой подхватывали мешки, тащили и бросали их за борт… Через 15–20 минут выгрузка меховых вещей была закончена и я со своей бригадой пошёл на помощь Могилевичу для выгрузки продуктов.
Затем часть людей была направлена на лёд на оттаскиванье от борта судна выгруженного имущества. Мы же с Борисом Могилевичем и восемью людьми открыли трюм и спустились в провизионную. Там была уже вода. Мы начали выбрасывать оттуда мешки с тёплым бельём и продуктами. Работали по колено в воде… Я вышел из трюма и пошёл на лёд помогать оттаскивать вещи. Люди спрыгивали с палубы на лёд. Я видел, как Могилевич шёл на корму и вскочил на фальшборт (т. 1, 1934, с. 315–316) — и оказался единственным погибшим в катастрофе».
Не менее деятельное участие в последнем аврале принимал и обслуживающий персонал судна, причем рядовые моряки, судя по их воспоминаниям, лишь на заключительной стадии аврала занимались собственными вещами, как это было и у буфетчика Владимира Савельевича Лепихина, обладавшего всего трехлетним морским стажем: «Когда схлынула горячка и продукты были оттащены от гибнущего судна, я решил идти в твиндек, чтобы взять свой чемодан. В твиндеке было темно. Точно акробат, пробираясь по столу, скамейкам, койкам, чиркая спички, я добрался до своего места и вынес чемодан.
В коридоре, как и на дворе, было холодно. В беспорядке валялись чемоданы, обувь, одежда. Раскрыты покинутые каюты. Растопырены двери камбуза. В кухне валяется забытая посуда. «Посуда, — подумал я, — посуда! Ведь на льду посуды не будет, из чего есть станем? Что ребята скажут? Ведь я буфетчик команды и должен обеспечить их посудой!»
Я отбросил чемодан и побежал в буфет. И тут было темно. Быстро зажёг керосиновую лампу. Начал хватать с полок миски, тарелки, чашки, ложки, вилки. Всю посуду складывал в ведро и кастрюли. Эх, всего не забрать, чёрт!.. Несколько раз выбирался на лёд, пока всё вынес. А когда я в последний раз бросился к буфету, ноги зашлёпали по воде…» (т. 1, 1934, с. 317–318).
Особое место в действиях челюскинцев во время гибели своего судна принадлежало кинооператору Аркадию Шафрану, запечатлевшему последние минуты гибели судна и тем самым также выполнившего свой профессиональный долг наравне с другими. Начавшееся торошение привлекло его внимание лишь как некое экзотическое явление, последствия которого в тот момент он едва ли мог предвидеть. Полюбоваться эффектным зрелищем он вызвал на палубу своих друзей:
— Ребята, скорее на палубу, там замечательные вещи: на нас идёт ледяной вал! Однако приказ капитана: «Зовите всех выгружать продовольствие!» вернул его к текущей прозе. «Таскаю ящики от трюма к борту. Скатываюсь по трапу на лёд и начинаю оттаскивать продовольствие. Неожиданно замечаю, что нос судна стал погружаться. В голове мелькнула мысль об аппаратуре, о съёмках. Бегу обратно на судно по нижней палубе. Каюта с открытой дверью, в каюте — лёд!
Скорей по трапу вверх в свою каюту. В одной или двух каютах заметил людей, собирающих вещи, инструменты. Прибежал к себе, помню только об аппаратуре и плёнке. Бросаю в железный ящик снятый материал, вытаскиваю аппарат, кассетницу с последними четырьмя заряженными кассетами и штатив. Но как унести всё это одному? Опять на палубу. О съёмке здесь нельзя и мечтать: где поставить тяжелый аппарат на неуклюжей треноге, чтобы не помешать работающим?
Перетаскиваю аппарат на лёд. Работать очень трудно. Ветер сильно бьёт, засыпает объектив снегом. Линзы объектива с приближением глаза потеют и покрываются тонкой корочкой льда. Навести на фокус почти невозможно. Сильно болит примороженная лупой щека. Всё‑таки начинаю работать… аппарат стынет, ручка еле вращается. Приходится крутить, прилагая всю свою силу. Камера дёргается на штативе. «Челюскин» погружается всё больше и больше. Кончилась плёнка. Делаю попытку перезарядить. Сам удивляюсь, что на таком морозе и ветре удаётся это сделать. Пришлось бросить рукавицы и голыми руками держать металл. Продолжаю снимать, а в перерывах между планами подтаскиваю ящики. Руки и лицо окоченели. Нет больше сил дальше снимать. Ставлю камеру на общий план, а сам залезаю в палатку Факидова. Пытаюсь хоть немного отогреться. В палатке пробыл недолго. Слышу крики:
— Аркадий! Скорей! Судно погружается.
Опять к аппарату. Снимаю последний момент. Корма приподнимается, показывает руль и винт, из трюмов вырывается столб чёрной угольной пыли. Через несколько секунд судна уже нет» (т. 1, 1934, с. 238–239).
«Ломая лёд и разрушаясь сам, «Челюскин» стремительно ушёл на дно, точно нырнул. Возникло короткое хаотическое кипение воды, пены обломков корабля, бревен, досок, льдов. И когда кипение прекратилось, на месте «Челюскина» — майна, окружённая грязными, чёрными льдами. Едва «Челюскин» скрылся под водой, большинство из нас, движимые чем‑то общим, бегом бросились к майне. Я побежал в числе других. Помню, с каким чувством я уставился на зловещую майну. Это было чувство недоверия. Где «Челюскин»? Он должен быть. Почему его нет?..
…Надо было начинать новую жизнь. Я оглянулся. Сотни и тысячи вещей в беспорядке разбросаны на снегу и льду. Пурга засыпает их. Ага! Вещи следует собрать в одно место… Я вижу: уже не один десяток товарищей таскает и собирает. Они опередили меня. Пока я созерцал и «признавал», товарищи начали работать. Я присоединяюсь к ним. Через несколько минут работу приходится прекратить.
— Товарищи! Сюда! Людей сосчитать! — кричал Бобров, помощник Шмидта по политической части… Работа длилась до позднего вечера. Никто в этот вечер не намечал плана работ, никто не управлял самой работой, не регулировал её, не отдавал никаких распоряжений… Всё делалось как будто само собой, причём люди разбились по участкам работ удивительно равномерно и целесообразно… Мы так назяблись за день, что и выданные тёплые вещи не могли нас согреть. Я мучился всю ночь, проведя её в полудремоте. Это была самая длинная, холодная, голодная и вместе с тем одна из самых замечательных ночей в моей жизни» (Семёнов, т. 2, 1934, с. 118–123). Суть приведённого текста — «никто не управлял самой работой, не регулировал её, не отдавал никаких распоряжений…», но вместе с тем исходно разношёрстный состав участников плавания оказался подготовленным к самому непредвиденному развитию событий.
Копусов позднее вспоминал о первых часах после гибели судна, когда после изматывающего аврала во мраке наступившей ночи «мучительно хотелось повалиться куда‑нибудь, уснуть, забыть всё. Но ещё продолжалась работа, раздавали тёплые меховые вещи, малицы. Я не знал, где мне придётся жить. Заглянул в низенькую, наскоро поставленную палатку. Там в одиночестве сидел Факидов.
— Больше никого с тобой нет, Ибрагим?
— Один. Заходили Бабушкин и Валавин — ушли.
Я вполз в палатку, залез в спальный мешок и моментально уснул» (т. 1, с. 325).
Поставив палатки, устраивались по возможности кто как, что отметила в своих воспоминаниях гидрохимик Лобза: «Около восьми часов работали челюскинцы на 32–градусном морозе. Все мечтали о том, чтобы укрыться от ветра, отдохнуть.
— Место в палатке есть?
— Есть, залезай.
Так подбираются группы. Я заглядываю в одну из палаток, там человек десять — втиснуться невозможно. Иду к другой палатке:
— Сколько здесь человек?
— Пока я один, — слышится из темноты.
Узнаю по голосу одного из научных сотрудников. Подходят ещё трое. Образуется группа из пяти человек: Баевский и Копусов — заместители Шмидта, инженер–физик Факидов, или — по–челюскински — Фарадей… моторист Иванов, он же дядя Саша… пятая я. Надо устраиваться на ночлег. Получили по спальному мешку из собачьих шкур, зажгли фонарь «летучая мышь». Залезли в мешки, повалились на бугристый ледяной пол, местами покрытый фанерой и через мгновение заснули». (т. 2, 1934, с. 15–16).
Большинство женщин устроились на ночь в той самой палатке, которую Факидов устанавливал для своих инструментов, причём Васильева и Буйко согревали своих малышей собственным теплом. Не все смогли позволить себе забыться после напряженного аврала в спальных мешках и малицах, пережив моральное и физическое потрясение от катастрофы, участниками которой они оказались и жертвами которой отказывались себя признать. У радиста Кренкеля не было времени ни на переживания, ни даже на поиски жилья, потому что от него зависела связь с внешним миром и тем самым фактически жизнь и судьба ста трёх его товарищей по несчастью, которые старались помочь ему всем, чем могли.
«Бригада Кренкеля устанавливала алюминиевую радиоантенну, которая от ветра гнулась. Натянутые верёвки, которые держали помощники Кренкеля, чтобы сохранить устойчивое положение антенны, вырывались из рук и хлестали, — описал страдания радистов художник Решетников. — Палатки были поставлены на скорую руку, лишь бы только иметь убежище на первую ночь. Челюскинцы расположились на ледяном «паркете», подобрав под себя полы палатки. Прикрыв друг друга, мы начали постепенно согреваться.
— Подвиньтесь, братцы, от задней стенки. Радиоаппаратуру надо установить, — послышался голос Кренкеля. Он говорил невнятно, потому, что у него замёрзли губы. Бригада Кренкеля не успела установить палатку для радио, поэтому нам пришлось уплотниться и дать ему место. Постепенно все сплелись так, что трудно было узнать, где чьи руки и ноги» (т. 2, 1934, с. 12).
Сам снайпер эфира свои мучения, как физические, так и душевные, описал значительно сдержанней: «В углу на коленях приступаю к сборке радио. Освещение небогатое — фонарь с разбитым стеклом. Наш общий любимец — художник Федя Решетников следит за моими руками и светит мне фонарём. Приходится работать без рукавиц. Плоскогубцы, нож, провода обжигают руки. Изредка грею одеревеневшие пальцы в рукавах, но к сожалению, тепла там мало. Начинает не то подсыхать, не то подмерзать мокрое от пота белье, затекают колени. Нельзя даже протянуть ноги, так как палатка набита людьми. Приёмник, наконец, включён. Снимаю шапку, надеваю наушники — жжёт морозом уши. Но наушники быстро нагреваются… Ирония судьбы: 104 человека находятся на льдине в мороз, в пургу, ночью, никто во всём мире ещё не знает об их судьбе, а первое, что слышит лагерь Шмидта, — это весёлый американский фокстрот! Продолжаю вертеть ручку приёмника. Слышу, как Уэлен спрашивает у мыса Северного:
Не обнаружил ли ты сигналов «Челюскина»?
…Я включаю передатчик, зову обоих… Ответа нет. Опять слушаю… Иду к Шмидту» (т. 2, 1934, с. 4–5). Сквозь тьму ночи и завесу метели на истоптанном снегу с разбросанными тут и там бочками и ящиками проступали очертания вкривь и вкось поставленных наспех палаток со скатами, провисшими от накопившегося снега. И ни огонька на ледяном пространстве в сотни и тысячи километров, ничего, что напоминало бы о большом мире людей с его напряжённым ритмом жизни ХХ века… Сквозь завывания ветра иногда из палаток доносился сдержанный говор и временами даже смех.
По воспоминаниям одного из участников описываемых событий, их обитатели в ту самую первую ночь «лежали довольно спокойно и изредка даже шутили и смеялись. Но смех был, конечно, нервный. О чём говорили в ту первую ночь? Говорили о тесноте палаток. Говорили о гибели «Челюскина». Говорили, что «полундра» мировая, что картина гибели корабля жуткая. Каждый вспоминал, где он находился в тот момент, когда раздался треск. Рассуждали о том, как мы отсюда выберемся. Предположения были самые туманные, много об этом не говорили. Все сильно устали» (т. 2, 1934, с. 14). Тем не менее отдельные свидетельства весьма показательны с точки зрения настроения людей. Так, гидрограф Хмызников в своих воспоминаниях отмечает, что Кренкель интересовался у товарищей по палатке, кто именно из них намерен в будущую навигацию принять участие в плавании по Северному морскому пути. Другой обитатель палатки, гидробиолог Ширшов предлагал начать запись желающих работать на дрейфующей станции к Северному полюсу и т. д.
Первое утро на льдине — 14 февраля — было особым в жизни каждого челюскинца. Хотя в соответствии со своим характером и чертами личности каждый пережил его по–своему в общей предстоявшей судьбе, как это происходит в каждом здоровом коллективе в момент жестоких испытаний. Тем не менее, разница в восприятии каждым участником событий, в зависимости от его «статуса» в экспедиции и личного кругозора, прослеживается вполне отчётливо. По воспоминаниям плотника Воронина (однофамильца капитана, недавнего крестьянина из костромской глубинки), «мы увидали, что наших ребят, лежавших у края палатки, занесло снегом. Пришлось им из— под него выбираться. Есть нечего, кроме галет и мороженых консервов. Горячего, конечно не было. Нашли чайник, стали искать пресную воду. В чайник наложили льду, растопили его, вскипятили чай, не хватило посуды — пришлось использовать консервные банки. Как только попили чаю, наше руководство объявило, что надо построить барак» (т. 2, 1934, с. 40).
«Наше руководство» — это инженер Ремов, направлявшийся на остров Врангеля на строительство полярной станции, которому теперь предстояло вести строительство на дрейфующей льдине. Он‑то не мог себе позволить отвлекаться на мелочи, вроде снега в палатке или утреннего завтрака… «Утром следующего дня до чая я пришёл на место гибели «Челюскина» и ориентировочно подсчитал наличие стройматериалов… После короткого доклада начальнику экспедиции был утверждён план строительства. В первую очередь было решено построить барак на 50 человек и камбуз. Участок для постройки был выбран по совету капитана в ста метрах от места аварии, чтобы сократить расстояние по доставке стройматериалов» (т. 2, 1934, с. 32).
Воспоминания других участников больше уделяют внимания быту в первое время пребывания на льдине. Поскольку гидрохимику Параскеве Лобзе в ближайшие дни не предвиделось работы по специальности, мужчины — обитатели её палатки — единодушно избрали её старостой палатки и одновременно «назначают постоянным дневальным. С этого дня я веду наше маленькое своеобразное палаточное хозяйство.
В то же утро я разыскала необходимые для обихода предметы: пять кружек, три вилки, две ложки, ведро, примус и пять примусных иголок. В два часа с ведром иду за супом. С подветренной стороны камбуза–костра стоит уже очередь человек в восемь в ожидании раздачи обеда — кто с кастрюлей, кто с ведром, чайником или тазом. Начинается раздача. Без очереди подходят товарищи из палатки, где не хватает общей посуды. Они едят тут же, у костра, помешивая суп вилкой или щепкой, чтобы ещё раз наполнить свои кружки.
После обеда получаем на складе малицы. Нашли среди ропаков свои вещевые мешки, добываем пять подушек, матрац. Беремся за усовершенствование палаток. В нескольких местах порванный брезент заткнули простынями, скалываем ледяные бугры пола, покрываем его сплошь фанерой, на которую стелем войлок. Палатка приведена в порядок. Нагреваем ведро снеговой воды и под открытым небом при свете луны устраиваем первое умыванье» (т. 2, 1934, с. 17–18).
Проснувшись в первое утро на льдине, Семёнов (воспоминания которого частично приведены выше), почувствовав себя больным после пережитого, оказался свидетелем преобразования палатки в «узел связи», в которой он провёл первую ночь на льду: «Вошёл Кренкель, объявил новость: выматывайтесь, мол, палатка отдана под радиостанцию. Я слышал, как с Кренкелем поспорили, но скоро согласились… Палатку стали очищать, и на «улицу» полетели войлок, фанера, спальные мешки… Через час я вышел. У костра на треноге из палаточных кольев подвешен котёл. Дядя Саша помешивал в котле закоптелым черпаком. Вокруг на корточках люди в малицах отогревают в огне замерзшие мясные консервы. Я вошёл в круг, взял из раскрытого ящика банку консервов… Дядя Саша не протестовал против индивидуальных насыщений. Он сегодня ещё не мог накормить всех. Через 20 минут я ел горячие, сочные, жирные консервы… А потом почувствовал, что я совершенно здоров… На льдине я с научился с большим вниманием относиться к таким простым вещам, как пища, сон, отдых, работа» (т. 2, 1934, с. 124), обретая, таким образом, способность ценить радости бытия в самой неподходящей для жизни обстановке.
Главным достижением первых суток пребывания на льду стало установление радиосвязи с материком. В качестве ближайших мер Шмидт предложил начальнику полярной станции Уэлен Хворостанскому «мобилизовать возможно больше нарт… Лучше выступить позже, но с 60 нартами, чтобы закончить дело разом. Наши люди пойдут, конечно, пешком, а на нартах будет продовольствие, палатки (одна на десять) и спальные мешки (один на двух человек). Также будут на нартах женщины, больные. Вы правы, предложив мысу Северному также включиться в операцию помощи. Мы живём хорошо и будем терпеливо ждать, но ледяная стихия остаётся стихией»…
Только после установления связи с Большой Землёй Шмидт посчитал возможным провести короткую встречу со своим коллективом, потому что мог рассказать людям об их ближайших перспективах и собственных намерениях. О содержании его выступления в кратком виде известно по публикациям Семёнова и Хмызникова. Судя по этим источникам, Шмидт сообщил, что высадившиеся на лёд обеспечены тёплой одеждой и продовольствием по крайней мере на два месяца. Связь работает достаточно надёжно, и страна не оставит в беде своих граждан, оказавшихся на льду Северного Ледовитого океана. Кроме собачьих упряжек в эвакуации полярников будет участвовать авиация. Всё, что требуется от самих челюскинцев — продержаться до подхода спасателей, не уподобившись участникам некоторых иностранных экспедиций, допустивших разброд и шатание в своих рядах в попытках добраться до людей самостоятельно, отдельными группами. Большинству присутствующих была известна история экспедиции на дирижабле «Италия», как и детали спасательной операции, в которой нашим лётчикам и морякам принадлежала решающая роль. Однако уже события ближайших дней показали, что события по спасению людей, оказавшихся на льду после гибели «Челюскина», будут развиваться по совсем иному варианту.
Реакция Москвы на гибель «Челюскина» была практически мгновенной — решением правительства уже 14 февраля была организована специальная комиссия по оказанию помощи челюскинцам во главе с заместителем председателя Совнаркома В. В. Куйбышевым, одновременно партийного куратора Главсевморпути. Его заместителями стали Иоффе (от ГУ СМП, оставленный Шмидтом на время похода «Челюскина» в Москве на «хозяйстве»), моряк Янсон (от Наркомвода), С. С. Каменев (представлявший в Арктике интересы военных) и Уншлихт, стоявший в 1928 г. во главе комитета, отвечавшего в Москве за организацию спасения участников экспедиции У. Нобиле. Это всё были весьма компетентные и опытные администраторы и специалисты. Практически одновременно на Чукотке приступила к мобилизации местных возможностей с той же целью «руководящая тройка» во главе с начальником полярной станции на мысе Северный Петровым. Реакция «верхов» на гибель «Челюскина» во многом определила дальнейшее развитие событий. Однако люди на льду Чукотского моря в полной мере в те дни ещё не могли оценить значение этих мер. Вторая половина февраля 1934 г. во многом определила судьбу челюскинцев по двум причинам: во–первых, они сами продемонстрировали свои реальные возможности выдержать выпавшие на их долю испытания, и, во–вторых, к тому времени на Большой земле (в самой столице!) были приняты соответствующие решения.
Однако первые шаги к будущей славе и всемирной известности отдавали низменной прозой. Большая часть челюскинцев участвовала в спасении всего того, что могло послужить людям в их дальнейшем пребывании на льдине. «На майне у места гибели судна, в хаосе льдин, брёвен и различных обломков копошатся бригады. Вот несколько человек возятся у обледенелого бревна, торчащего из льда. Его раскачивают, пробуют выдернуть, но бревно не идёт. Бегут за ломом — ломов имеется только два, и потому они всё время нарасхват. Бревно окалывают и затем с дружным «взяли!» дергают. Бревно немного подаётся вперёд, но льдина под ногами тянущих тоже передвигается, и два человека проваливаются по колено в воду. Ещё несколько усилий, и бревно освобождено. На него набрасывается верёвка, и с теми же криками «взяли, взяли!», спотыкаясь, падая и снова вскакивая, люди тащат бревно в сторону, туда, где уже лежат спасённые запасы строительного леса. Около них ходит старшина плотников Воронин, размечая врубки для сборки барака… Ближе к майне — месту гибели судна — строился барак. Плотники уже уложили первые два венца его стен. Посередине между бараком и палатками, которые были поставлены у южной окраины поля, строился камбуз… К западу от будущего камбуза составлялись ящики продовольственного склада» (Хмызников, 1936, с. 127–128).
Ремов запечатлел дальнейшие изменения на льдине: «Камбуз начал работать 16 февраля в 12 часов. Это сильно сократило расход топлива — до одной трети кубометра в день — и облегчило труд поваров. На следующий день стены камбуза были утеплены снегом… Была поставлена перед строителями другая задача — построить к 22 февраля вышку на одном из ропаков со световым сигналом и площадкой для астрономических наблюдений» (т. 2, 1934, с. 37). Бригадир плотников Воронин по–своему отразил перипетии строительства, дополняющие информацию шефа: «Плохо было то, что гвоздей не хватало. Мы их всячески экономили и поэтому сделали только три пробоя на высокой стенке. Точила у нас не было, мы нашли лишь один напильник у радистов, им и пользовались. Барак построили в течение трёх суток. Одновременно пришлось строить и камбуз (кухню)… Вышка стояла на шестиметровом торосе. На ней поставили бочки с горючим, чтобы при приближении собак (точнее, собачьих упряжек с Большой земли, по первоначальному плану. — В. К.) в ночное время сигнализировать им о нашем местонахождении. Но собаки не пришли, и эта вышка служила для сигнализации, для связи с аэродромом, а также для научной работы и наблюдений. Затем мы, строительная бригада, стали работать по благоустройству палаток, чтобы сделать жизнь культурной» (т. 2, 1934, с. 40–41), поставив палатки на прочный деревянный каркас, отчего условия жизни в них значительно улучшились.
В улучшение условий жизни в палатках большой вклад внесли механики разных специальностей, обеспечившие своими талантами отопление этих жилищ. «Мы устроили фанерный пол, чтобы не спать на снегу, обили стены одеялами, раздобыли примус. Но ни примус, ни керосинка нас не удовлетворяли. Мы раздобыли камелёк, правда, он был без дверцы и поддувала, — описал деятельность в жизнеобеспечении участников дрейфа судовой механик Филиппов. — Топить камелёк мы решили нефтью… Самое сложное — как соединить нефтепровод с камельком… Словом, на работу, которая в условиях завода требует 15–20 минут, у нас ушло около двух рабочих дней… Вскоре наша палатка приняла хороший вид и мы прозвали её дворцом. Палатку мы перенесли в другое место, потому что на прежнем треснул лёд. Затем мы обшили палатку тёсом… Из трюмных покрышек мы устроили хороший пол и возвышение для ночлега. В палатке, благодаря нашему камельку, было очень тепло. Мы тщательно следили за чистотой. У нас возникла мысль об устройстве стола. Обедать, сидя на полу, держа в руках одновременно кружку, ложку и галеты, было не совсем удобно.
Но как сделать стол? Собственно, не сделать, а куда его поместить? Жилплощадь наша была весьма ограниченной. Сделать стол, чтобы вносить его во время обеда и снова выносить — не выход из положения. Тогда мы решили подвесить стол… К столу были привязаны верёвки, и по миновании надобности стол можно было притянуть к стене, чтобы он не мешал двигаться в палатке. Стол! Мы получили возможность читать, писать, играть в домино и шашки. Удачно мы разрешили и проблему освещения. Сначала были свечи. Потом мы перешли к светильникам, которые наловчились делать из консервных банок. Венцом изобретательства была бензиновая лампа, которая давала свет примерно в 25 ватт… Над усовершенствованием палатки работали не только мы… Когда обитатели какой‑либо палатки вводили у себя новое усовершенствование, они торжественно рассылали приглашение по всем палаткам с просьбой выслать своих представителей…» (т. 2, 1934, с. 97–98).
Налаживалось и питание с камбуза у челюскинцев именовавшегося «фабрикой–кухней», основу которой составляло некое устройство из двух бочек. «Одна бочка представляла собой печь, другая котёл, в котором варилась еда. Обед состоял из одного блюда — либо супа, либо каши, гречневой или рисовой. Иногда было картофельное пюре. Раза три за всё время раздавалось свежее мясо, которое жарилось на палаточной печи. «Фабрика–кухня» не была приспособлена для этого. Запас свежего мяса был невелик: три свиньи, забитые за час до гибели корабля. Позднее запасы эти пополнились — удалось убить огромную медведицу с медвежонком» (Копусов, т. 2, 1934, с. 52).
Помимо горячей пищи с камбуза представители палаток получали со склада под шикарным названьем «Кооператив Красный Ропак» суточные рационы на своих едоков: «Здесь выдаются на сутки галеты по половине пачки на человека (это около 200 граммов), сахар или конфеты и затем либо консервы (две банки на семь человек), либо сыр, мука и масло. Эти продукты предназначаются для утреннего или вечернего чая, а галеты для обеда и ужина. Обед состоит из супа, сваренного из 40 банок мясных консервов на сто человек с сухими овощами и рисом. На ужин даётся такой же суп, но из 20 банок консервов, или каша. Порция супа одинакова как за обедом, так и за ужином и равняется примерно полулитра на человека. Двести граммов галет на сутки маловато, так что на обед приходится по две–три небольшие галеты, а на утренний чай — только одна–две. Масла выдают много, так как сверх аварийного запаса его всплыло несколько бочонков и ящиков. По утрам толща масла, намазанного на галету, обычно превышает толщину самой галеты. Женщинам с детьми, больным и слабосильным выдается сгущенное молоко, какао и шоколад. Изредка молоко выдаётся к чаю и по всем палаткам. В общем, пока мы не голодаем», — с удовлетворением констатировал в своих воспоминаниях гидрограф Хмызников (1936, с. 134).
В первые же дни Шмидт принял суровые меры по отношению к тем, кто пытался создать собственные запасы продуктов или одежды, жестко выдерживая это направление и в будущем. В частности, «по палаткам было объявлено, что всё продовольствие должно быть сдано завхозу. Это означало, что если кто у себя в палатке в первые дни сделал «запасец», то его нужно передать в общее хозяйство… В отношении тёплой одежды и белья было также объявлено, что если кто‑либо, хотя бы и в собственных вещах, имел что‑либо сверх запасной пары, то он должен сдать в общее пользование. Первым показал пример О. Ю. Шмидт, передавший завхозу ряд своих тёплых вещей, выброшенных с «Челюскина» в походном мешке со своей маленькой палаткой» (Хмызников, 1936, с. 129). В духе «социализм — это учёт» завхозу Канцыну было поручено проконтролировать выполнение этого распоряжения, что также нашло отражение на страницах «Челюскинианы»: «Мы обходим, — проговорил Канцын, — палатки и проверяем, все ли сдали излишние продукты… Вот в одной палатке… нашли пол–ящика сгущенного молока, а у одной из живущих там женщин десятка полтора плиток шоколада и несколько коробок засахаренных фруктов» (Хмызников, с. 138). Интересно, что в оценке этих «деяний» мнения Шмидта и остальных коммунистов разошлись. Даже его предложение передать дела провинившихся на «суд палаток» было отвергнуто. В обоснование своей позиции Шмидт утверждал:
«— А выгодно ли политически так ставить вопрос, как ставят здесь? Нужно ли выпячивать нескольких плохих людей в большом великолепном коллективе и выпячивать с протоколами, общими собраниями и т. д.?
Оппоненты Отто Юльевича, однако, настаивали, проявляя упорство:
— Чем резче мы будем проводить процесс самоочищения нашего коллектива, тем лучше будет для самого коллектива и значит, тем лучше для страны» (т. 2, 1934, с. 136). Показательно, что в отношении одного из провинившихся было принято решение: «При первой возможности выслать самолётом на землю в числе первых».
По идеологическим причинам эти действия в изданиях 30—40–х гг. прошлого века трактовались как пример создания идеального советского коллектива и новой советской личности грядущего социалистического общества. Однако из нашего времени действия Шмидта выглядят скорее как продолжение отработанных веками морских традиций, когда экипаж целиком (или с минимальными потерями) побеждал сложившиеся обстоятельства или целиком погибал, если не мог их преодолеть, сознательно принимая целый ряд ограничений в создавшихся чрезвычайных условиях. При этом Шмидт, с учётом существовавшей в стране коньюктуры, то и дело ссылался на решения партийной и других общественных организаций на льдине!
Если в первые дни на льду питание и материальное обеспечение людей, как и жилые условия, по арктическим меркам оставались в пределах удовлетворительного, то этого нельзя было утверждать об уверенности челюскинцев в своём обозримом будущем, как для рядовых участников дрейфа, так и для руководства, поскольку разразившееся бедствие по своим масштабам не имело прецедента в истории Арктики ни у нас, ни за рубежом. Зимовки судов в предшествующие годы проходили в неподвижном припае вблизи побережья, откуда к ним легко могли добраться собачьи упряжки, а самолёты садились на гладкий прибрежный лед. У челюскинцев же вся арктическая природа словно ополчилась в стремлении довести ситуацию до опасного предела: с каждым днём их дрейфующий лагерь удалялся в открытое море, и полоса подвижного всторошёного льда шириной до сотни миль, недоступная для посадки самолётов и практически непреодолимая для собачьих упряжек, становилась всё шире и шире. Как выходить из этого положения — никто не мог подсказать, и это понимал каждый из участников дрейфа, включая научных сотрудников, обеспечивавших Шмидта необходимой информацией. У рядовых участников дрейфа, не слишком разбиравшихся в премудростях арктической стихии, между тем формировалась своя точка зрения на выход из создавшегося положения, причём, как оказалось, не отвечавшая конкретным условиям зимнего Чукотского моря.
Сомнения руководства челюскинцев во главе со Шмидтом по поводу возможностей авиации, базировавшейся на Чукотку, вполне понятны. У трёхмоторного Н-4 (командир Куканов), способного поднять восемь человек, был исчерпан моторесурс. Правда, оставались два двухмоторных АНТ-4, но поскольку они впервые использовались в Арктике, их возможности, только предстояло определить в условиях низких температур, да и техническое состояние этих машин оставляло желать лучшего. Действительно, полёты А. В. Ляпидевского 21 декабря 1933 г., 18 января и 6 февраля 1934 г. (ещё до гибели «Челюскина») дали повод для опасений о пригодности этих машин в условиях Арктики. Свой неудачный опыт сам Ляпидевский объяснил так: «Возвращались из‑за неисправности моторов. Наши механики не знали условий работы на Севере. История авиации насчитывает ничтожное число полётов в условиях полярной зимы. Здесь и механику, и лётчику приходится быть пионерами. Иногда не успевали прогреть моторы. Подчас удавалось запустить один мотор, но не хватало времени, чтобы наладить второй. День был с мизинец: солнце только вспыхнет над сопкой и тут же спрячется за горизонт» (т. 3, 1934, с. 79–80). Попросту — у авиаторов не было опыта эксплуатации сложных машин в экстремальных условиях Арктики, его только предстояло приобрести на ходу, непосредственно в процессе спасательных операций.
Кроме того, таким самолётам требовались длинные взлётно–посадочные полосы, подготовка которых требовала многих усилий людей на всторошённом льду. Правда, подходящее место для будущего аэродрома было выбрано ещё до гибели судна. К счастью, подвижка льда, утопившая «Челюскина», «прошла 13 февраля в стороне от этого поля, не повредив его, и уже в ближайшие дни мы начали подготовку аэродрома, — описал события того времени принимавший в них самое активное участие Ширшов. — Работа затруднялась отсутствием инструментов — большая часть ломов и пешней, выгруженных на лёд, погибла с судном, опрокинувшим льдину, на которой они лежали. Уцелевшими двумя ломами, двумя пешнями и несколькими лопатами пришлось сбивать с поля ледяные ропаки и твёрдые, как лёд, ледяные бугры. В течение нескольких дней удалось расчистить площадку в 600 метров длиной и 150 шириной. Площадка находилась в четырёх–пяти километрах от лагеря. С краю площадки приютилась палатка наших аэродромщиков — Валавина, Погосова и Гуревича. Несколько дней спустя была расчищена дорога от аэродрома до лагеря, пробиты ворота в высоких грядах льда, расставлены вехи. Аэродром стал «пригородом» лагеря. Этот аэродром продержался до 21 февраля, как раз до того дня, когда мы долго ждали прилёта Ляпидевского, так и не пробившегося через пургу. Около аэродрома началась подвижка льдов» (т. 2, 1934, с. 214), уничтожившая его. Не считая самолета Ляпидевского, остальные стали прибывать на Чукотку значительно позже, только на рубеже март — апрель.
Спустя несколько дней на аэродром переселился Валавин, который в качестве авиационного специалиста вводил в курс дела Погосова и Гуревича, которым предстояло, проживая непосредственно на аэродроме, вдали от лагеря, вести непрерывное наблюдения за состоянием льда и в случае необходимости вызывать бригады «ремонтников» для ликвидации последствий подвижек. «Эта наша тройка, — писал по возвращении А. Э. Погосов, — до конца следила за аэродромом. Пошли будни, нисколько не похожие на лагерную жизнь. Главной нашей заботой был аэродром. Он отличался необычайным коварством и ставил нас в тупик неожиданными сюрпризами.
Во–первых, от перемены ветров и дрейфа, их силы и направления он то и дело менял очертания и уменьшался в площади. Раза три–четыре он приходил в совершенную негодность, и надо было всё расчищать. Бесчисленное количество раз мы его чинили, удлиняли, расширяли, выравнивали.
Мы следили за ледяным полем недоверчиво и зорко и сигнальным порядком вызывали из лагеря нужный народ, инструмент и всё необходимое для срочной ликвидации очередных трещин, следов пурги и сжатия ледяных валов» (т. 2, 1934, с. 221).
Помимо дел на аэродроме, в ожидании помощи с Большой Земли у людей на льдине были свои проблемы, требовавшие решений на повседневном уровне. Совокупность психологических нагрузок от напряжённого ожидания решения своей судьбы на фоне общей неопределённости, разная реакция людей на совокупность физических и моральных перегрузок, неприспособленность многих к условиям жизни на льдине, разное отношение к происходящему в подразделениях, первоначально формировавшихся по профессиональному признаку (моряки, научные работники, строители, зимовщики острова Врангеля и другие) приходилось учитывать руководству по принципу «здесь и сейчас». При этом решения, подходящие для моряков, не мог разрешить хозяйственник Копусов, а для учёных — капитан Воронин. Едва ли способы и методы работы с людьми, которыми ранее пользовались Бобров и Баевский, в полной мере можно было использовать в создавшейся ситуации. Так или иначе, решение многочисленных нестыковок и противоречий, несомненно, выпадали на долю Шмидта. Сама обстановка требовала сплошь и рядом нетривиальных решений на уровне импровизации, и в подобной экспедиции, где присутствовало немало творческих и поисковых натур (порой на гране авантюрности), Шмидту было на кого опереться, и поэтому не приходится удивляться тем необычным решениям, которые принимались порой на льдине.
Например, выпуску стенной газеты, идея которой возникла, по воспоминаниям её главного редактора Баевского, на четвёртый день после высадки на лёд, появление которой решало несколько задач. Хотя по меркам советского времени такая газета являлась обязательной нормой общественной работы в каждом трудовом коллективе, Баевский особо отметил, что на льдине такое мероприятие «оказалось каналом для психологической разрядки. Уж если выходит газета, значит, ничего страшного в нашем положении нет — так думали многие. И то, что руководство экспедицией и партийная организация нашли возможность заняться газетой, лучше всяких успокоительных слов действовало на коллектив» (т. 2, 1934, с. 163–164). Добавим — и для отчёта в политорганах о работе с личным составом в части поддержания должного политико–морального состояния. Разумеется, политизированость газеты под характерным заголовком «Не сдадимся!» не оставляла сомнений, но одновременно она ориентировала челюскинцев не только на исключительность своего положения, но и на реальную возможность его преодоления. Не случайно статья одного из самых активных партийцев–челюскинцев Семёнова утверждала, что сам факт выпуска газеты «является ярким свидетельством бодрости нашего духа. В истории полярных катастроф мы знаем мало примеров, чтобы большой и разнохарактерный коллектив, как челюскинцы, встретил момент смертельной опасности с такой величайшей организованностью, а его вожди проявили в этот момент такую мужественную и твёрдую распорядительность. Миллионы трудящихся всех стран следят за нами с тревогой, надеждами, с восхищением» (там же). Наряду с пропагандистскими материалами много места в газете занимали статьи на чисто местные темы. Так, Гаккель советовал маркировать все находящиеся в лагере предметы, чтобы при их обнаружении позднее они могли бы определить пути дрейфа льда в Северном Ледовитом океане; Хмызников в своих статьях информировал читателей о дрейфе льдины и особенностях её поведения; корреспондент «Известий» Борис Громов опубликовал перечень спасенного продовольствия и снаряжения, достаточного, чтобы продержаться на льдине не менее трёх месяцев и т. д. Особый интерес при знакомстве с газетой вызывали карикатуры художника Решетникова, не оставлявшие большинство равнодушными. Так, «в дружеском шарже «Отто Юльевич Шмидт в своей палатке» нарисован Отто Юльевич, голова которого выглядывает из‑под полотнища палатки, а борода примерзла к льдине. Другие рисунки Феди «В палатке за трапезой», «На камбузе», «Радиостанция» передают весело и живо особенности нашего быта и нашей работы… Все свои рисунки Решетников выполнял в поистине нечеловеческих условиях. Ему приходилось рисовать или сидя на корточках, сгорбившись, или лёжа на животе. Несмотря на это, они были хорошо исполнены» (т. 2, 1934, с. 166). Верность теме и профессии всегда ценится, и рисунки художника, сохранившего эти качества в экстремальных условиях, с одной стороны, челюскинцы вполне оценили, а с другой — шаржи и карикатуры в той ситуации никак не подрывали авторитета руководства. От того, что борода Шмидта, ценившего юмор и иронию, иной раз примерзала к спальному мешку или брезенту палатки, в глазах своих подчинённых он не проигрывал — скорее наоборот — тяготы жизни в условиях ледового лагеря распространялись и на него. Качество руководителя, которое присутствует далеко не всегда, — одновременно быть во главе и вместе с тем наравне со всеми — даётся не каждому.
Особое место в жизни ледового лагеря занимали лекции, которые различные специалисты читали для челюскинцев, чтение художественной литературы и учеба. «Через день происходили занятия кружка диамата, которым руководил Шмидт… Желающих слушать Отто Юльевича нашлось много — значительно больше, чем вмещало помещение. В течение двух — двух с половиной часов шли занятия, велась оживлённая беседа. Особый интерес проявляли к диалектическому материализму научные работники.
По окончании занятий расходились по палаткам, где устраивались вечера самодеятельности. В одной палатке играл патефон, в другой играли в «козла», в третьей устраивали литературный вечер, читали Пушкина. У нас в лагере сохранилось всего четыре книги — Пушкин, «Гайавата» Лонгфелло, «Пан» Гамсуна и третий том «Тихого Дона» Шолохова. Этим наши запасы художественной литературы исчерпывались… В палатке плотников наши культработники вели беседы о литературе, о Пушкине — единственном поэте, которого мы имели возможность проиллюстрировать. Работу эту, в частности, вёл И. Л. Баевский. Был ещё один любопытный способ времяпровождения: обмен воспоминаниями о различных жизненных приключениях» (т. 2, с. 53–54). Хотя приведённые строки близки отчёту о политико–массовой работе с личным составом, но ведь не случайно в воспоминаниях челюскинцев часто звучат сожаления о том, как мало удалось спасти при гибели судна художественной литературы, причем разрозненной и случайной, зато какой. И не случайна та ревность, с какой следили за путешествием истрёпанных томиков мировой классики (а не бульварных романов или детективов) из одной палатки в другую…
На фоне скрытой напряжённости повседневной жизни в ледовом лагере второй половины февраля 1934 г. Ляпидевский, оказавшийся стечением обстоятельств наиболее близко к потерпевшим крушение, не оставался без дела. Сообщение о гибели «Челюскина» и своём участии в спасательной операции он получил 15 февраля в условиях явно нелётной погоды, продолжавшейся вплоть до 18 февраля, когда установилась ясная, тихая и даже не слишком холодная погода (всего 19 градусов). Свои дальнейшие усилия пилот описал в таких выражениях: «Запускаем моторы, берем старт и через сорок минут опускаемся в Уэлене. Здесь нас ждёт наш первый АНТ-4. Пересаживаемся, взлетаем. Внезапно замечаю, что снова не работают приборы. Не работает… масляный манометр, водяной термометр. Вдобавок перебои левого мотора. Снова посадка. Локти готов грызть от досады. Теперь жди погоды, которую здесь нужно, как говорят, ловить за хвост. Больно, обидно, тяжело. Ведь там ждут, надеются, верят. Только 21–го смогли снова вылететь. Этот полёт запомнился на всю жизнь» (т. 3, 1934, с. 82), скорее всего в силу испытанной неудачи, когда экипаж в условиях благоприятной погоды и приличной видимости не обнаружил лагеря челюскинцев, причем практически в тех же условиях, что и в успешном полёте двумя неделями позже. Много лет спустя есть основания думать, что полёт 21 февраля потерпел неудачу из‑за штурманской ошибки — похоже, не были учтены интенсивный дрейф лагеря к северо–западу, к острову Врангеля на 12 миль (22 км) только за 14–18 февраля, при продолжающейся непогоде и в последующие дни. Действительно, Хмызников в своих воспоминаниях указывает, что слышал отдалённый гул моторов, принятый им за звуки происходящей подвижки. Однако совпадение по времени делает такое предположение вероятным, тем более что оно совпадает со многими описаниями самого Ляпидевского.
Неудивительно, что на льдине начали задумываться о каких‑то других способах эвакуации челюскинцев. Например, на собачьих упряжках с материка — даже если вскоре от этой идеи вскоре пришлось отказаться просто из‑за ограниченных местных возможностей. Первоначально мобилизация собачьих упряжек была поручена пограничнику А. Небольсину, превосходно знавшему местные условия и которого подобное задание поначалу поставило в тупик: «Набрать 60 нарт — означало оголить весь район. Кроме того, экспедиция должна была бы занять месяца два, успех её сомнителен, а в это время здесь, на месте, без собак никакие другие меры помощи были бы невозможны. Мы должны были также помнить и о нуждах населения. Мобилизовать на два месяца всех собак — значило оставить чукчей без охоты, т. е. обречь их на голод» (т. 3, 1934, с. 39). Последствия подобной мобилизации для этого представителя ОГПУ были ясны: бегство чукчей на недоступные «белые пятна» полуострова, а то и за пролив на Аляску, если не вооруженный отпор. Тем не менее, частичная мобилизация упряжек всё же проводилась для заброски необходимого в Ванкарем, а позднее вывоза людей из Ванкарема в Уэлен и бухту Провидения.
Следует отметить, что далеко не все обитатели ледового лагеря рвались на Большую землю, особенно научные работники, поскольку для них открывалось широкое, а главное, перспективное поле деятельности. И не только. Даже среди женщин, которым предстояло покинуть лагерь при первой возможности, порой проявлялись иные настроения. Не раскрывая причин, тем не менее, гидробиолог Сушкина особо отметила: «Надо сказать, что некоторые женщины были недовольны, что их вывозят первыми только потому, что они женщины. Но Отто Юльевич был непоколебим» (т. 2, 1934, с. 244).
Однако присутствовали и другие проблемы, которыми Шмидт не рисковал делиться с рядовыми участниками дрейфа, обсуждая их лишь в самом узком кругу, о чём много лет спустя капитан Воронин поведал известному полярнику довоенной поры Михаилу Михайловичу Ермолаеву, который описал происходившее так: «Шмидт с Ворониным закрылись у себя в палатке. Они не представляли, что за этим последует. Они буквально дрожали. Что их ждёт? В лучшем случае — отставка, в худшем — «высшая мера». Воронин ещё на что‑то надеялся, а Шмидт прямо говорил — расстреляют… Да и чего ждать иного?.. Провал. Поражение. Катастрофа. Виновные должны быть наказаны. А кто виновные? В первую очередь — они, Шмидт и Воронин…» (Ермолаев, 2001, с. 210).
Для людей на льду важнее была полученная 27–го февраля радиограмма следующего содержания: «Лагерь челюскинцев. Полярное море. Начальнику экспедиции Шмидту. Шлём героям–челюскинцам горячий большевистский привет. С восхищением следим за вашей героической борьбой со стихией и принимаем все меры к оказанию вам помощи. Уверены в благополучном исходе вашей славной экспедиции и в том, что в историю борьбы за Арктику вы впишете новые славные страницы». Под текстом стояла подпись Сталина и членов Политбюро.
Это означало, что после двухнедельных колебаний и раздумий с учётом многочисленных pro и contra было принято решение на дальнейшие действия в отношении экспедиции на «Челюскине». Очевидно, сам факт двухнедельной задержки в его принятии свидетельствует об отсутствии в правительстве и Политбюро поначалу единства мнений в связи с гибелью «Челюскина». Тем самым из чисто ведомственного мероприятия всё, что было связано с походом и гибелью «Челюскина», приобретало политическое значение на государственном уровне. Определённо, партия и лично товарищ Сталин (после XIV съезда ВКП(б) эти понятия практически совпадали) рассчитывала получить свой «навар» вокруг событий в Чукотском море. Теперь обитатели дрейфующего ледового лагеря, не подозревавшие о своей роли в высоких политических играх, могли вздохнуть с облегчением, что и подтвердилось уже неделю спустя.
Постепенно в Москве пришли к выводу, что вывоз челюскинцев наиболее целесообразно проводить самолётами, наиболее подходящими для условий Арктики, уже испытанных в зимних условиях Сибири. Было учтено также значение арктического опыта — к звену военных лётчиков под командой Каманина в качестве инструктора придали экипаж Молокова, получившего ранее опыт лётной работы на трассе Северного морского пути и зимой в Сибири. Приказ о назначении поступил только 21 февраля, когда терпенье челюскинцев стало истощаться, как и надежды на помощь авиации, поскольку кроме самолёта Ляпидевского прочие авиационные средства только–только начинали разворачиваться и оказались на Чукотке на рубеже март — апрель, причем с потерями. Так или иначе, надежды на авиацию у челюскинцев в те дни вызывали существенные сомнения.
Одновременно и расчеты на пеший поход к материку из лагеря Шмидта силами самих челюскинцев оказались разочаровывающими. Действительно, при расстоянии по кратчайшему направлению до берега 140 км для его преодоления потребовалось бы не менее месяца, причём с учётом продолжительности похода вес необходимого груза (продовольствия и снаряжения) достиг бы четырёх тонн! Всё вместе взятое было за пределами возможностей лагеря Шмидта… Правда, в случае задержки с эвакуацией лагеря лёгкими самолётами Шмидт имел в виду также возможность похода к берегу группой наиболее крепких и приспособленных челюскинцев в количестве 30–40 человек при непременном соблюдении следующих, весьма проблематичных условий: 1) вывоз большинства (менее сильных, больных и ослабевших, а также — само собой — женщин и детей) самолётами; 2) доставку в лагерь упряжек для обеспечения движения пешей партии; и 3) её обеспечение всем необходимым с воздуха, включая лёгкие компактные плавсредства для форсирования разводий.
Сомнения и поначалу определённая нерешительность руководства в определении судьбы челюскинцев не могли не отразиться на настроениях значительной части населения лагеря, наиболее активной и нетерпеливой, и вместе с тем — наименее знакомой с условиями Арктики. В первую очередь это относилось к строителям, среди которых однажды состоялся примечательный разговор: «Печник Дмитрий Ильич вечерами после работы иногда начинает:
— И чего, ребята, сидим? Пожалуй, если бы пошли, так все уже были бы на берегу…
— Мы с тобой, здоровые, уйдём, а вот женщины, дети как?
— Их можно на самолёте, а мы, здоровые, добрались бы пешком.
— Далеко не пройдёшь, — обрывает бригадир Воронин. — Разве трещины, снег глубокий пустят?
— Да и продуктов на себе не унесёшь, — вступает в разговор Миша Березин, брат Дмитрия Ильича. — Я моложе тебя, а скажу, что не пойду, пока начальник не прикажет» (т. 2, 1934, с. 101)
Подобные разговоры можно было услышать и в палатках экипажа, где активными сторонниками пешего похода к берегам Чукотки выступали боцман Загорский и матрос Ломоносов. Когда разговоры подобного рода после многократного переноса сроков вылета самолёта Ляпидевского усилились, Шмидт на общем собранье 22 февраля назвал их «опасным вздором» и при поддержке Ширшова, Хмызникова и некоторых других заявил: «Закончим говорить о «пешеходах» на материк. Вопрос, кажется, для всех ясен… Теперь скажу, что если кто‑то всё же вздумает пойти, то я буду такого рассматривать как дезертира». (Хмызников, 1936, с. 151). Участник событий Кренкель в своих мемуарах по указанному поводу высказался более определённо: «Отто Юльевич произнёс внезапно фразу, совершенно на него не похожую. Заканчивая свои размышления о железной дисциплине, он вдруг неожиданно жёстко сказал:
— Если кто‑либо самовольно покинет лагерь, учтите, я лично буду стрелять!
Мы прекрасно знали Отто Юльевича как человека, который не то чтобы стрелять, но и приказания свои отдавал как просьбы. И всё же, наверное, эти слова были точны и своевременны».(1973, с. 309). Реакцию начальника экспедиции подтверждает также ближайший сотрудник Шмидта Марк Иванович Шевелёв: «Шмидт отреагировал жёстко. Категорически запретил даже разговоры о выходе на берег, потому что шансов на его достижение было ничтожно мало, обстановка была тяжёлая и непривычная для новичков… Вообще человек мягкий, интеллигентный, Шмидт проявил на этот раз непривычную для него твёрдость и вынужден был даже заявить в этом случае, что если кто‑нибудь посмеет уходить самовольно, придётся применить оружие» (1999, с. 76). Для такого необычного заявления у Шмидта были самые веские основания, ибо история Арктики изобиловала примерами самого трагического характера, лишь частично приведёнными ниже.
Глава 4. Немного страшного полярного опыта, или почему Шмидт оказался прав
Когда тебе случится коротать
Со стариками долгий зимний вечер
И слушать их рассказы о бедствиях
Времён давно минувших…
В. Шекспир
Классическим примером масштабной катастрофы почти за девяносто лет до плавания «Челюскина», оказалась гибель экипажей английских кораблей «Террор» и «Эребус» в составе 129 отборных моряков, отправленных на поиски Северо–Западного прохода под начальством опытного полярного морехода Джона Франклина летом 1845 г. Для разгадки тайны этой катастрофы понадобилось почти полвека, хотя ряд обстоятельств и конкретных событий так и остались в неизвестности за семью печатями.
Отсутствие вестей на протяжении последующих пяти лет стало причиной отправки целого ряда поисковых экспедиций, постепенно раскрывших обстоятельства этой величайшей трагедии в истории изучения Арктики. Только в 1850 г. объединёнными усилиями нескольких экспедиций были обнаружены несомненные признаки зимовки кораблей Франклина на острове Бичи в проливе Ланкастер, включая могилы с датами зимы 1845–1846 гг., однако без каких‑либо документальных свидетельств.
В 1853–1854 гг. сотрудник компании Гудзонова залива Джон Рэ, исследуя западное побережье полуострова Бутия, встретил эскимосов, рассказавших ему о гибели нескольких десятков белых людей на западном берегу острова Кинг–Вильям примерно четыре года назад. Рэ подтвердил это сообщение целым рядом предметов, собранных эскимосами на месте гибели англичан, принадлежавших, судя по инициалам, командному составу указанных судов. Эскимосы сообщили ему также о многочисленных признаках каннибализма в этой группе, правда, со слов других своих сородичей. Судя по всему, англичане направлялись к устью Большой Рыбной реки примерно в 150 км южнее острова Кинг–Вильям. Пребывание людей из экипажей «Террора» и «Эребуса» в этом районе было подтверждено другими сотрудниками Гудзоновой компании Дж. Андерсоном и Дж. Стюартом летом 1855 г. Таким образом, дальнейшие поиски можно было проводить более целенаправленно.
Действительно, посетив указанные выше места в 1858–1859 гг., капитан судна «Фокс» Леопольд Мак–Клинток не только получил подтверждение всей предшествующей информации от аборигенов, но сначала наткнулся на непогребённые останки английских моряков, а затем один из его сотрудников обнаружил в гурии письменные документы, из которых стало ясно, что до конца мая 1847 г. на кораблях Франклина всё обстояло благополучно. Однако приписка, сделанная на том же документе почти год спустя, показала, что дальнейшее развитие событий приобрело роковой характер: «Мы покинули корабли её величества «Террор» и «Эребус», затёртые льдами с 12 сентября 1846 г. Офицеры и матросы, всего 105 душ под командованием капитана Ф. Р. М. Крозье высадились в этой точке. Сэр Джон Франклин умер 11 июня 1847 г. и на сегодняшний день общие людские потери… исчисляются в 9 офицеров и 15 матросов». Эта приписка позволила определить начало последнего смертного пути английских моряков датой 26 апреля 1848 г. Дальнейшие поиски с очередным достижением вскрывали ужасающие подробности гибели участников экспедиции Франклина, до финала которой сам он не дожил.
Действительно, люди Мак–Клинтока весной обнаружили девятиметровую шлюпку с двумя скелетами, а также много предметов, принадлежащих разным участникам экспедиции, включая оружие, немного чая и сорок фунтов шоколада, и даже книги. На основании находок Мак–Клинток пришёл к выводу, что лодка возвращалась с Большой Рыбной реки к зазимовавшим судам и была брошена с наиболее ослабевшими моряками, которым оставили часть продовольствия, из расчёта вернуться за ними в будущем.
Для выяснения судьбы участников экспедиции Франклина много сделали также экспедиции Ч. Холла в 1864–1869 гг. и Ф. Шватки в 1878–1880 гг. По совокупности выяснившихся обстоятельств финал экспедиции Франклина выглядел следующим образом. После зимовки 1845–1846 гг. у острова Бичи, где умерли три моряка, корабли экспедиции перешли на юг к полуострову Бутия, где вторично зазимовали, причем начальник экспедиции скончался на исходе этой второй зимовки. На его место заступил капитан «Террора» Крозье, под руководством которого развивались последующие события.
Видимо, по ледовым условиям, летом 1847 г. «Террор» и «Эребус» достигли лишь острова Кинг–Вильям, где началась их третья зимовка, оказавшаяся роковой для выживших участников, где «Террор» был оставлен у входа в пролив Симпсона. Видимо, вскоре была предпринята неудачная попытка выйти на Большую Рыбную реку, завершившаяся возвращением уцелевших к «Эребусу». Не вдаваясь в детали, отметим, что последующие события состояли в попытках отдельных групп, путь которых отмечен многочисленными находками скелетов (до двух третей от общей численности обоих экипажей), выйти в жилые места. Живуч человек — судя по позднейшим сведениям (пребывание белого человека, несомненно, целое событие для аборигенов, сохранившееся в их памяти), моряки могли оставаться в живых с помощью местных обитателей или приспособившись к местным условиям вплоть до 60–х гг. XIX века. Несомненно одно — утрата общего руководства и попытки спасения разобщённых групп стали одной из главных причин гибели экспедиции в целом, что подтверждается позднейшими примерами.
Сходным образом развивались события после гибели экспедиционного судна в американской экспедиции Де–Лонга, севернее Новосибирских островов в 1881 г. К дельте Лены американцы добирались по морю в трёх вельботах, из которых один с восемью моряками пропал на переходе. Показательна судьба людей с двух остальных, достигших дельты Лены независимо друг от друга и без какой‑либо связи между собой. Одна группа во главе со старшим механиком Мелвиллом встретила промысловиков–якутов уже на третий день после высадки в районе Быковской протоки. Судьба этой группы из десяти человек сложилась вполне благополучно. Сам Мелвилл предпринял поиски своих товарищей, обнаружив место высадки людей Де–Лонга с остатками экспедиционного имущества — но не более. Последний лагерь начальника экспедиции с трупами погибших он нашел только весной будущего года, когда дневник самого Де–Лонга, который он вёл до последнего жизненного мгновенья, в деталях раскрыл ужасный финал десяти человек, погибших от холода и голода буквально на пороге спасения. Из этой группы уцелели лишь два человека, отправленных Де–Лонгом на поиски аборигенов. Они нашли их, но не зная языка, не смогли объясниться, что и стало причиной гибели остальных… Печальный итог: из тридцати участников — двенадцать выживших в ситуации, которая могла бы быть иной.
Финал ещё одной экспедиции, даже в условиях относительно освоенного Шпицбергена, лишь подтвердил несчастный опыт предшественников. Немецкий офицер Шредер–Шранц, предполагая пройти Северо–Восточным проходом, решил получить необходимый полярный опыт на указанном архипелаге, куда и отправился летом 1912 г. на судне «Герцог Эрнст» (капитан Ритчер). В соответствии с намеченным планом группа во главе с самим Шредер–Шранцем была высажена на Северо–Восточной Земле, откуда должна была выходить в Трейренберг–Бей (полуостров Ню–Фрисланн) к ожидавшему судну, которое было затерто льдами здесь уже 25 августа. Когда миновали все сроки появления маршрутной группы, восемь человек из состава экспедиции и экипажа во главе с капитаном Ритчером покинули судно в конце сентября в попытке выйти к шахтёрскому поселку в Адвент–бэй, до которого было немногим более 150 км. На судне осталось трое норвежских моряков. На этом пути двое бесследно исчезли в Вийде–фиорде, ещё двое решили остаться в одной из попутных охотничьих хижин, а остальные продолжили путь на юг с надеждой вызвать помощь своим товарищам. Эта четвёрка задержалась на два месяца в хижине у западного ответвления Вийде–фиорда, воспользовавшись продовольствием, хранившимся в ней, одновременно успешно занимаясь охотой, добыв с десяток оленей. В этой группе произошёл раскол — трое решили возвращаться на зазимовавший «Герцог Эрнст», так что к шахтерскому посёлку в Адвент–Бэй 27 декабря добрался только сам капитан Ритчер. Когда в апреле 1913 г. с метеостанции в Грин–Харборе к зимующему судну на собачьей упряжке наконец добралась помощь, они застали там лишь двоих моряков.
Описывая злоключения этой несчастной экспедиции, Ф. Нансен, в тот год также посетивший Шпицберген, сделал свой вывод: «Из всех десяти молодых германцев, отправившихся в эту тренировочную экспедицию, обратно на родину вернулись только эти двое да капитан Ритчер. Бесконечно грустно видеть столько юной отваги, столько мучительных жертв, брошенных на ветер без малейшей пользы» (1938, с. 316).
Печальный опыт попыток спасения разобщёнными группами пополнил экипаж шхуны «Карлук» (капитан Р. Бартлетт), одного из судов экспедиции В. Стефанссона в 1913–1914 гг. Это тем более показательно, что сам Бартлетт обладал колоссальным ледовым опытом, полученным в водах Лабрадора и Гренландии, которым почему‑то не смог в полной мере воспользоваться в море Бофорта.
События на «Карлуке» развивались следующим образом. Это судно Канадской правительственной экспедиции под начальством В. Стефанссона летом 1913 г. направлялось к берегам Канадского Арктического архипелага, но в море Бофорта попало в вынужденный ледовый дрейф, что грозило нарушить намеченные планы. В этой обстановке начальник экспедиции с частью сотрудников покинул судно, оставив соответствующие инструкции капитану. На борту небольшого парусно–моторного корабля, обреченного на зимовку и ледовый дрейф, осталось 26 человек экипажа и участников экспедиции, включая семейство эскимосов с двумя детьми.
К новому 1914 г. судно оказалось примерно в 200 км от острова Врангеля. 11 января под звуки траурного марша Шопена, который капитан успел завести на патефоне, оно в результате ледового сжатия погрузилось в воды Северного Ледовитого океана. Предварительно Бартлетт принял все необходимые меры (во многом напоминающие те, что спустя тридцать лет были выполнены на «Челюскине»), так что непосредственно в ближайшие дни людям гибель не грозила, что и отметил Бартлетт: «У нас было удобное крепкое жилище на льдине, достаточно пищи и топлива, была настойчивость и мужество… и мы могли когда‑нибудь добраться домой» (1936, с. 59). Однако непредсказуемый дрейф мог унести их в неизвестность. В любом случае следовало добраться до ближайшей суши, которой оставался необитаемый остров Врангеля.
21 января Бартлетт отправил на разведку к острову отряд из четырёх человек под начальством своего старпома Андерсона, в сопровождении вспомогательного отряда, который должен был возвратиться в дрейфующий лагерь. 3 февраля вспомогательный отряд возвратился, однако, судя по рассказам его участников, Андерсон вышел не к острову Врангеля, а к соседнему острову Геральд, от которого его отделяла полынья, сыгравшая, по–видимому, роковую роль, поскольку отряд Андерсона в полном смысле пропал без вести.
Сутки спустя ещё трое участников экспедиции во главе с судовым врачом Маккеем с присоединившимся к ним матросом также решились на самостоятельный поход, оговорив своё решение: «Мы принимаем путешествие на свой собственный риск и освобождаем Вас от ответственности, что бы с нами ни случилось» (1936, с. 78). Бартлетт приводит этот документ не случайно, поскольку отряд Маккея разделил судьбу Андерсона и его людей. В результате до острова Врангеля 12 марта добрались лишь 18 человек, включая двух малолетних детей. «Легче представить, чем описать чувство испытанного нами облегчения, когда нам снова удалось попасть на твёрдую землю», — отметил в своей книге Бартлетт (1936, с. 98). Но это было только началом пути возвращения в цивилизованный мир.
Уже 18 марта в сопровождении одного из эскимосов на оставшихся собаках Бартлетт отправился на материк, чтобы сделать всё необходимое для спасения оставшихся на острове, рассчитывая вернуться за ними в середине июля. Спустя семнадцать дней эти двое достигли Чукотки и вскоре встретились с её обитателями. Всё последующее, как говорится, было уже делом техники, но тем не менее потребовало много времени. Бартлетт встретился с обитателями острова Врангеля только 8 сентября, чтобы узнать о гибели ещё трех человек — таким образом, общее количество жертв среди экспедиции и экипажа «Карлука» составило 11 человек, в значительной мере (как и в описанных выше случаях) из‑за утраты единого руководства.
Несомненно, Шмидт учитывал такую возможность для челюскинцев и сделал всё, чтобы она не повторилась. При всей жёсткости и неинтеллигентности высказываний Шмидта осудить его может лишь человек, далёкий от реалий происходившего во льдах Чукотского моря. Прав был Остап Бендер, утверждавший, что жизнь диктует свои суровые законы — тем более что в Арктике они особенно суровы.
Глава 5. Спасение с неба. Первый тайм
…Отчего же,
Покинувши край плодородный,
Они улетают весною на север,
На север холодный?
П. Драверт
Авиаторы в начале ХХ в. оказались на острие технического прогресса и уже поэтому занимали в обществе особое положение, тем более в нашей стране с её огромными пространствами, лишенными нормальных коммуникаций. Отсюда их роль в спасении челюскинцев, когда достоинства (и недостатки) каждого лётчика проявились в полной мере.
Первым непосредственно в роли спасателя челюскинцев оказался Анатолий Васильевич Ляпидевский (1908–1983 гг.), выпускник Ленинградской военно–теоретической школы, отобранный при поступлении в числе пяти из ста семидесяти претендентов. Свой душевный настрой начинающего курсанта–авиатора вместе со своими товарищами он позднее описал так: «Все хотели учиться, стать замечательными лётчиками, совершать удивительные полёты. Хотелось и мне стать великим человеком. Изобрести сногсшибательную машину. Открыть что‑нибудь вроде Америки. Произвести переворот в технике, в пении, в полётах, в плавании, в игре на гитаре. Быть всюду первым. Нельзя сказать, что мои мечты были скромными, учился я хорошо» (т. 3, 1934, с. 69). Всё описанное типично не столько для советского времени, сколько для юности вообще, и невольно напоминает героя С. Ликока, которому в том же возрасте хотелось стать чем‑то средним между принцем Уэльским и Робинзоном Крузо. В «Челюскиниане» Ляпидевский выступает как герой своего советского времени: «Я, как всякий парень, мечтал, что буду великим лётчиком, знаменитым волейболистом, замечательным изобретателем, я никогда не отделял себя от моей страны. Я мечтал прославить свою страну: быть великим советским лётчиком, стать удивительным советским человеком» (т. 3, 1934, с. 73). Выпуск школы в июле 1929 г. для будущего полярного пилота состоялся на Чёрном море, где не только мечты о славе и подвигах занимали курсанта: «Нам разрешали чаще уходить в город. Ухаживали за девушками. Обстановка была располагающей: юг, луна, бульвар, памятник Тотлебену… Много занимался спортом. Я играл в волейбол, на велосипеде катался. Особенно увлекался партерной акробатикой. Выжимал я в то время два с половиной пуда левой рукой» (там же, с. 73) — в общем, всё, как во все времена у его сверстников во всём мире. Самостоятельную службу продолжил на Балтике и, очевидно, успешно, поскольку спустя два года был направлен инструктором в Ейскую школу морской авиации. Спустя два года демобилизован и в Гражданском воздушном флоте стал рейсовым пилотом на линии Хабаровск — Сахалин, причём безаварийным. Однако как он сам пишет, «скажу откровенно, линейная служба не очень‑то мне нравилась… Первое время привлекали новые места, новые люди, потом всё приелось, стало скучно. Не люблю я сидеть на одном месте… Хочется видеть новое, слышать новое, понимать новое… Очень тянуло меня на Север. О Севере я понятия не имел, но рассказы полярных лётчиков меня увлекали. Один из моих товарищей — Куканов — шёл на зимовку на мыс Северный… От Куканова я узнал, что начальник лётного сектора Северного морского пути Шевелёв ищет людей: особенно нужны морские лётчики.
— Если ты хочешь работать на Севере, — сказал мне Куканов, — напиши Шевелёву.
Я подумал и написал. Через некоторое время Шевелёв ответил радиограммой: «…Своё согласие даю». В октябре 1933 г. получаю от Шевелёва другую радиограмму: «…приказ выехать во Владивосток… для выполнения правительственного задания». Речь шла о вывозе людей с трёх пароходов, зазимовавших во льдах» (там же, с. 77–78), уже известных читателю по описанию экспедиции Евгенова… Так в 26 лет молодой пилот–безаварийщик оказался в нужный момент на нужном месте: свойство, которым наделены, вопреки распространённому мнению, не везучие, а целеустремлённые. Дальше его путь лежал морем на пароходе «Смоленск», приспособленном в плавучий госпиталь для вывоза «пассажиров Дальстроя», в бухту Провидения на Чукотке. Главный груз этого судна, однако, заключался в двух самолётах АНТ-4, которым предстояло сыграть важнейшую роль в спасении челюскинцев.
В последних числах ноября 1933 г. звуки авиационных моторов потрясли склоны гор в окрестностях бухты Провидения. К тому времени руководство спасательными операциями по вывозу людей с зазимовавших судов принял Г. Д. Красинский. Но если три судна у Чаунской губы — «Анадырь», «Хабаровск» и «Север» — в припае оставались неподвижными, то «Челюскин» к тому времени с каждым днём удалялся всё дальше от берега, и Красинский, оценивая обстановку, первым высказал мысль, что «Челюскину», видимо, уже не суждено выбраться из льдов. Таким образом, задача Ляпидевского по ходу дела была изменена. В двух неудачных попытках (в основном из‑за непогоды) был израсходован запас сжатого воздуха, за которым на собачьих упряжках пришлось возвращаться в бухту Провидения. Только 6 февраля удалось перегнать вторую машину в бухту Лаврентия, где, задержавшись из‑за пурги, пилот узнал о гибели «Челюскина» и вскоре получил радиограмму за подписью Куйбышева: «Принять все меры к спасению экспедиции и экипажа «Челюскина»». К тому времени с «Челюскина» сообщили о готовности в лагере Шмидта взлётно–посадочной полосы для приёма самолёта, длиной 600 м и шириной 50 м — тогда как для полной уверенности в успехе требовалось 150 м. Получив согласие Шмидта, Ляпидевский вылетел в свой первый арктический маршрут, направляясь в Уэлен, небольшое чукотское селение вблизи мыса Дежнева.
Хотя пилот предпочёл бы лететь в лагерь по более короткому маршруту, стало ясно, что вылетать придётся из Уэлена, откуда полёт туда — обратно требовал не менее четырёх часов. «Незадолго до моего полёта в лагерь, — вспоминал он позднее, — начались разговоры о переброске главной спасательной базы из Уэлена в Ванкарем. От Ванкарема до лагеря 50–60 минут полёта. В Ванкареме десять яранг, есть европейская постройка — фактория. Аэродрома там не было. Санкцию на переброски базы получили от т. Куйбышева. Прежде всего надо было перебросить бензин. Требовалось переправить минимум пять тонн бензину, собачья же нарта могла взять не более 150 кг» (т. 3, 1934, с. 90).
Скверная погода и технические неисправности не позволяли экипажу Ляпидевского добраться до лагеря Шмидта вплоть до 5 марта 1934 г. Даже в наше время использование авиации в экстремальных условиях характерно частой сменой обстоятельств и, соответственно, зависимостью от них руководящих решений. Челюскинцы испытали это на себе в полной мере, особенно женщины, эвакуация которых вместе с детьми предусматривалась в первую очередь. В действительности, 18 и 21 февраля вместе с остальными обитателями ледового лагеря они испытали не только жестокое разочарование в связи с неприбытием самолёта, но и просто физические перегрузки при марш–бросках из лагеря к аэродрому с последующим возвращением. Знаменательное событие 5 марта заслуживает того, чтобы описать его глазами всех участников события.
Штурман Л. Петров перед вылетом в 9 час. 15 мин. отметил низкую температуру: –36 °C в Уэлене и –38 °C у челюскинцев. Несмотря на занятость в полёте, похоже, он не терял чувства юмора: пилоты в пыжиковых масках на лицах напоминали ему чертей — кели из чукотских сказок. По его команде от мыса Сердце–Камень был взят курс на лагерь Шмидта, и в 10 час. 30 мин. очертания берега растворились в морозной дымке, и теперь всё внимание авиаторов занимала только ситуация по курсу и под брюхом машины, выглядевшая по описанию штурмана безотрадной: «Внизу обычные крупные обломки ледяных полей, окаймлённые грядами торосов и покрытые мелкими ропаками. Разводий и трещин нет; лёд сплочённый, нажатый к берегу. В 10 час. 40 мин. на горизонте показались несколько столбов тумана. Там, значит, есть трещины и вода. Минут через пятнадцать замечаю на фоне тумана чёрное пятно, резко отличающееся по окраске от ледяных торосов. Мелькает мысль — не дым ли это?.. Указываю на пятно Ляпидевскому… Продолжаю вглядываться — пятно явно колеблется. Всё ясно! Это сигнальный дым в лагере!.. Отлично, будем искать аэродром» (т. 3, 1934, с. 102).
Открывшаяся картина не позволяла пилоту расслабиться: «Отчётливо увидали теперь стоянку Шмидта: вышку, палатки, барак. Потом увидали на льду трещину, которая отделяла лагерь от аэродрома, около трещины — народ, скопище народа, пытавшегося перебраться через трещину. Кричали что‑то, бросали шапки вверх. Радость была невообразимая. Я сделал два круга над аэродромом. Впервые я видел такую маленькую площадку: она была 450 на 150 метров. Все подходы к ней были заставлены высокими ропаками метра в два–три… Пошёл на посадку с колоссальным вниманием и напряжением. В пыжиковой маске плохо видно, чувствуется какая‑то неповоротливость. Сел всё‑таки очень удачно. Если бы чуть промазал — влез бы на ропаки. Зарулил в самый конец аэродрома и вышел из самолёта…» (там же).
Люди в лагере Шмидта давно ожидали этого события и ещё до подлёта самолёта начали действовать по отработанной схеме. «Обжигаясь горячим чаем, все торопливо заканчивали завтрак… Через полчаса двинулись вереницы людей.
— До вечера! До вечера! — шутливо прощались мы с назначенными к отлёту женщинами. — Ужинать‑то ведь будете с нами.
Невольно напрашивалось сомнение, что и на этот раз самолёт не долетит до лагеря. Ещё через полчаса, когда я в палатке занимался мытьём посуды, в лагере раздался какой‑то шум и крики.
— Самолёт! Самолёт! Какой большой! А наши‑то ещё не дошли до аэродрома…
Со стороны аэродрома показалась группа бегущих к нам людей. Размахивая руками, впереди мчался молодой кочегар Валя Паршинский и ещё издали кричал:
— Ледянку давайте скорее! По дороге к аэродрому широкая трещина, через которую нельзя перейти. Все ждут!
Самолёт сделал круг в воздухе и медленно шёл на посадку. Два десятка здоровенных ребят бегом, чуть ли не на руках тащили ледянку… Ледянка, подпрыгивая на неровностях льда, удалялась. Самолёт, снизившись, скрылся за ропаками» (Хмызников, 1936, с. 158–159).
Гидробиолог А. Сушкина обкладывала стены барака снежными блоками, когда радостные вопли возвестили о приближении самолёта. «Мигом побросали работу. Сборов немного, все вещи уже на аэродроме. Сбросила спецовку, переобулась. Идём налегке, чтобы не вспотеть и не простудиться во время полёта. Прощание с остающимися, взаимные пожелания.
— Ну, в третий раз уже наверное улетите! Смотрите, обратно вас в лагерь уже не пустят!..
И потянулась чёрной змейкой, извивающейся между льдинами, вереница уезжающих и провожающих. В этот солнечный день особенно ярко выглядит вся дикая красота окружающего нас первобытного хаоса… Хочется впитать, унести с собой частичку этой непередаваемой красоты… Дорожка твёрдая, утоптанная. Настроение бодрое, слегка возбуждённое. Идти легко. Впереди, облепленные людьми, мохнатой гусеницей ползут нарты с разряженными аккумуляторами, которые надо обменять на новые, доставленные самолётом. Немного позади них — маленькие саночки, в которых сидит Аллочка Буйко. Она о чём‑то оживлённо болтает сама с собой, и из меха выглядывает её розовая улыбающаяся мордочка. Каринку, как маленький меховой комочек, по очереди несут на руках…
Чуть не бежим, но вдруг передние резко останавливаются, бегут в сторону, растерянно глядя кругом. Подбегаем — и что же? Дорогу нам преградило широкое разводье метров 20–25 в ширину и несколько километров в длину! Ни перейти, ни объехать — а самолёт уже над нашими головами, вот он пошёл на посадку и скрылся за торосами… Чтобы сделать переправу, надо много времени. Но в этот момент подбегает один из наших с вестью, что за нами тащат шлюпку–ледянку для перехода через разводья. По распоряжению капитана все мужчины бросились за шлюпкой, а мы, чтобы не терять времени, стали переодеваться в более тёплую одежду, захваченную с собой. Не успели все переодеться, как показались наши товарищи с ледянкой. С дружным криком они подкатили её к разводью и столкнули в воду…
Самолёт стоял и дрожал моторами. Горячая встреча с экипажем АНТ-4… Передали на самолёт детишек, матери начали беспомощно карабкаться за ними. Подбежали несколько человек. Одни подталкивают снизу, другие тащат сверху и только велят не шевелиться. Беспомощные фигуры безжизненно висят в воздухе, их тащат, как какие‑то мешки с мукой; когда тянут слишком усердно, раздаётся жалобный писк. Я подвергаюсь общей участи… Когда я опомнилась, самолёт уже летел; всё дальше уходила белая равнина, и я долго не могла найти аэродрома… Сделав круг над аэродромом, мы понеслись на юг, к Большой земле» (т. 2, 1934, с. 244–249).
Воспоминания другой пассажирки, метеоролога О. Комовой существенно дополняют картину последних минут пребывания на льдине: «Нас, женщин, закутывали в малицы, подпоясывали, заматывали нам шарфами шеи, лица. А мы, неповоротливые меховые куклы, торопливо прощались, наспех засовывали в карманы телеграммы домой от тех, кто ещё оставался на льду. На самолёт нас втаскивали по очереди. Именно втаскивали, так как малицы страшно стесняли наши движения… «Погрузка» окончена. Мы на борту самолёта. Десять женщин и два маленьких, но драгоценных два «места» — наши две девочки–полярницы. Самолёт бешено мчится по аэродрому. Мы машем в последний раз меховыми рукавицами. Самолёт отрывается от ледяной площадки. Ещё минута–две, и мы теряем из вида небольшую горсточку людей среди торосистых ледяных пространств. Через час мы увидали землю!» (т. 2, 1934, с. 243).
Для взлёта самолёта Ляпидевского было не меньше проблем, чем для посадки: «…Выгрузили аккумуляторы, тушу оленя, кирки, лопаты, ломы… Все радовались, целовались, одному мне было не до радости. Я пошёл осматривать аэродром, думая о взлёте. Сесть‑то мы сели, а может быть, взлететь не придётся. Состояние было возбуждённое: цель, к которой так долго стремился, была достигнута, вопрос заключался теперь в том, как взлететь… Подоспели челюскинцы. Вижу, подходит Шмидт. Сначала шёл тихо, потом побежал, затем опять пошёл степенными шагами. Челюскинцы все обросшие, бородатые, одетые в меха… Потом вижу: стоит Петров, а вокруг него группа женщин. Расспрашивают. Таким образом, первый натиск пришлось вынести Петрову. Окружили потом меня, обнимают, а у меня одна мысль: как бы отсюда вылететь! Женщины интересовали меня в данный момент только с точки зрения их веса. Гляжу: все женщины толстые, жутко толстые. Меха на них наворочены, малицы.
Я спрашиваю:
— Все у вас такие толстые?
— Какие же мы толстые, — говорят они, — мы самые худенькие.
Шмидт начал со мной обсуждать, сколько человек мне взять. Я решил взять сразу всех женщин и детей. В общем, мы шли с небольшой перегрузкой…
…Погрузили разряженные аккумуляторы. Принялись за женщин. Посадка женщин больше напоминала погрузку. Их брали за ноги и за руки и складывали в самолёт… В самолёте женщины сидели стеснённо, но сидели… Самолёт пошёл, побежал, метров сто осталось до конца площадки. По ходу самолёта чувствую — начинает взлетать. Подорвал, взлетел — как раз прошёл над ропаками. Великая радость охватила меня. Помахал я челюскинцам рукой, они в ответ машут шапками. Взял курс на мыс Сердце–Камень, а оттуда на Уэлен. Полёт прошёл благополучно. В лагере я пробыл 1 час 50 минут. В лагерь летел 2 часа 15 минут, а оттуда 2 часа 20 минут» (т. 3, 1934, с. 87–88).
Лиха беда начало, и казалось, успешная эвакуация челюскинцев будет развиваться и в обозримом будущем. Однако произошло иначе, и надеждам обитателям лагеря Шмидта на быстрое возвращение на Большую землю не суждено было сбыться. В самом же лагере на освободившиеся места в бараке, где в основном и проживали улетевшие женщины, быстро вселились новые обитатели. Тем временем в Москву через эфир ушло следующее послание:
«…Самолёт АНТ-4 под управлением летчика Ляпидевского при лётчике наблюдателе Петрове прилетел из Уэлена к нашему лагерю, спустился на подготовленный нами аэродром и благополучно доставил в Уэлен всех бывших на «Челюскине» женщин и обоих детей… Посадка и подъём были проведены удивительно чётко и с пробегом всего на расстоянии в 200 метров. Успех полёта т. Ляпидевского тем значительнее, что стоит почти 40–градусный мороз… Удачное начало спасательной операции ещё более подняло дух челюскинцев, уверенных во внимании и заботе правительства и всей страны. Глубоко благодарны. Шмидт».
Отмеченный в радиограмме подъём духа понадобился челюскинцам уже в самом ближайшем будущем, события которого в воспоминаниях Хмызникова изложены следующим образом:
«— Вставайте! Во–первых, уже пора, а, во–вторых, масса новостей, — будил нас на следующий день ПэПэ Ширшов.
Мы быстро высунули головы из‑под вороха меховых одежд, которыми прикрывались на ночь. Ночью поперёк барака прошла трещина, сразу начавшая расходиться в стороны. Все, кто в чём лежал, выскочили наружу. В дверях даже произошла небольшая давка. Некоторые выскочили без сапог. Так как трещина расходилась всё же медленно, то строители схватили пилы и перепилили стены. Теперь обе половинки барака разъехались на порядочное расстояние.
— Вот так так! Но как хорошо, что вчера женщины и дети улетели. Выбегать ночью на мороз с Кариной и Аллой из ломающегося барака — жуткая вещь.
— Но как же это могло получиться так внезапно, у них ведь ночью имеется дежурный? — задал кто‑то вопрос.
— Тут дело получилось путаное, — продолжал рассказывать ПэПэ, — предыдущей ночью тоже шло торошение, и бывший дежурным Киселёв всех разбудил. Ну, над ним все днём потешались, обвиняя в излишней осторожности, а то даже в трусости. Этой ночью дежурил Комов. Он то ли не учёл обстановки, то ли боялся насмешек, если тревога окажется напрасной. Ну, и прохлопал момент.
— Вот к чему ведут разыгрывания и насмешки, — наставительно проговорил Семёнов.
После завтрака все были вызваны на работу к бараку. Две половинки его разошлись вдоль трещины метров на двадцать. Разрезанные стены и открытая его внутренность с нарами и столом, на котором были разбросаны вещи, производили впечатление театральной обстановки. Вокруг валялись груды вытащенных вещей, ложки, чайники, поварёшки и прочая хозяйственная утварь. Прежде всего оттащили в сторону один из спасательных вельботов, нависший кормой над трещиной. Потерпевшим «крушение» помогли перенести вещи в лагерь» (Хмызников, 1936, с. 160–161).
Помимо жизнеобеспечения лагеря, с его тяжёлой повседневностью продолжалась работа на аэродроме, которая, по П. П. Ширшову, проходила следующим образом: «У нас всего три бригады. В каждой бригаде две–три палатки. По палаткам удобнее выходить на работу и удобнее в отношении еды. Моя бригада вторая — состоит из моей палатки, барака, палатки Тойкина и Мартисова и, наконец, двух «кустарей–одиночек»… В первой бригаде числятся палатки машинной команды и строителей. Бригадир — Толя Колесниченко… В третьей бригаде боцмана Загорского — палатки матросов и кочегаров…
Четыре километра бугристых ледяных полей, торосов и опять полей. За много дней существования лагеря дорога крепко утоптана, в грядах торосов пробиты широкие ворота, на поворотах поставлены флаги. В кожаных куртках, стёганых ватниках и ушастых шапках быстро идут девятнадцать человек. Звонко скрипит под ногами снег и визжат полозья. Пять человек, очередная «упряжка», тащат тяжёлые нарты. У следующего флага их сменит другая «упряжка». Солнце поднялось уже высоко. Весёлыми, ослепительно белыми кажутся торосы. Крепкий мороз пощипывает щёки, упругой бодростью наполняет тело… Идущие впереди остановились. Подошли остальные. Поперёк дороги чернела полоса воды. В морозном воздухе над ней клубился лёгким воздухом пар. Пришлось свернуть с дороги в поисках переправы. Нарты потащили по торосам вдоль трещины, проваливаясь по колено в снегу. Наконец трещина сузилась до метра с небольшим. Кое‑как переправились.
За грядой торосов началась ровная площадка аэродрома; в углу аэродрома стоял домик–палатка с деревянной дверью, пролезть в которую можно только согнувшись пополам. Над дверью дощечка с выжженной надписью «Аэропорт 68˚с. ш. 172˚з. д.». Здесь живут наши аэродромщики Погосов, Валавин и Гуревич. По бокам аэродрома тянутся две линии пёстрых сигнальных флагов с «Челюскина». Они ограничивают прямоугольник в четыре метра длины и сто — ширины. За флагами со всех сторон видны гребни торосов и торчки ропаков. По белой скатерти аэродрома рассыпаны бесчисленные следы ног. Двумя широкими полосами протянулись во всю длину площадки следы лыж самолёта Ляпидевского…
Под звонкими ударами ломов брызжут осколки и откалываются большие куски прозрачного льда. Разбитые глыбы льда увозят далеко за сигнальные флаги, за пределы аэродрома. Отдельные куски разбиваем деревянными колотушками на месте, так как весь лёд всё равно не вывезти. Лопатами счищаем бугры снега и разрыхляем твёрдые заструги, оставшиеся от недавней пурги… Четыре часа работы и там, где торчали льдины, теперь лежит ровным слоем раздробленный лёд. За палатками среди ропаков уже мелькают чёрные фигуры людей. Это бригада Колесниченко… Сегодня они работают во вторую смену. Им предстоит расчищать ропаки в другом конце аэродрома, где тоже было торошение. С пустыми санями быстро возвращаемся домой, в лагерь. Вот последний поворот дороги, вдали за ропаками виднеются крыши домиков–палаток. Над ними вьются дымки, обещая заслуженный отдых в тёплой палатке, ставшей теперь такой уютной» (1936, с. 168–169).
Грубой физической работой в арктической экспедиции не удивишь ни будущего академика, ни матроса с погибшего судна, перед Арктикой все равны. Но порой Арктика, испытывая человеческое терпение, не только обрекает полярника на долгое ожидание, но и лишает его возможности активной деятельности, заставляя в разгар полярной ночи или буйством метелей отсиживаться в тесном жилье. Известно, что безделье почти всегда опасно для зимовщиков, порождая духовную апатию и равнодушие к происходящему, чего не было в лагере Шмидта, в значительной мере благодаря его руководителю, которого хватало не только на руководство разношерстной «командой», но и на проведение философских семинаров и обучение желающих иностранным языкам. Но об этом подробнее в следующем разделе.
Вероятно, Ляпидевский сделал бы больше, однако авария с его самолётом 14 марта у острова Колючин исключила его из дальнейших спасательных работ. Но своё дело он сделал. К тому времени было принято решение о переносе авиабазы спасателей на мыс Ванкарем, и заведующий скромной факторией Г. Т. Кривдун, к своему удивлению, неожиданно оказался в центре событий. Едва ли такая перемена для сына репрессированного терского казака, забравшегося в силу сложившихся обстоятельств в места, о которых в народе говорят «куда Макар телят не гонял», пришлась ему по душе. Теперь вместо привычных торговых операций с местными, нечасто появлявшимися охотниками–чукчами, ему предстояло для начала обеспечить сохранность многочисленных металлических бочек с бензином и маслом, которые доставлялись на мобилизованных чукотских собачьих упряжках аж из бухты Провидения. А в последующем ему предстояло принимать и отправлять самих челюскинцев, предоставляя им хотя бы минимум жизнеобеспечения на период пребывания на фактории. Как показали дальнейшие события, к известности этот скромный хозяйственник совсем не стремился.
Пока Ляпидевский восстанавливал свою машину после аварии, происходило наращивание воздушных сил на подходах к Чукотке. 13 марта с судов было выгружено пять самолётов Р-5 звена Каманина у Олюторского рыбного завода (район мыса Наварин), откуда им предстояло добираться до Чукотки. Наши машины решено было подстраховать американскими, но дела на Аляске разворачивались не лучшим образом, что наш посол в Соединённых Штатах позднее объяснил следующим образом: «Пока Ушаков, Слепнёв и Леваневский добрались до Аляски, мы получили предложение помочь нам в спасении челюскинцев от той же Панамериканской компании, от Аляскинской торговой палаты, помнившей услуги, оказанные нашими лётчиками и, наконец, от американского правительства. Все они в той или иной форме оказали эту помощь техническим содействием, перевозкой наших лётчиков, а затем Шмидта, предоставлением всяких льгот, например выдачей разрешения в упрощенном порядке на вылет самолётов, снабжением, необходимой информацией и прочим. Я скажу больше: все, кто сталкивались с нашими лётчиками и впоследствии со Шмидтом, помогали, чем могли.
Посылка авиаторов для непосредственного участия в спасении челюскинцев оказалась невозможной, так как раз в это время американский военно–воздушный флот переживал тяжелый кризис с последовательной гибелью десяти лётчиков, направленных в числе других на перевозку гражданской почты. Аляскинская торговая палата намеревалась послать лётчиков, но в этом уже не было надобности — челюскинцы уже были спасены… По прибытии в Фербенкс Слепнев и Леваневский занялись приёмкой купленных аэропланов и подготовкой их полёта на Чукотку» (т. 3, 1934, с. 400–401). Поскольку полярный опыт полётов и посадок на лёд был у американских пилотов минимальным, советскую сторону интересовали не американские пилоты, а самолёты, имевшие свои преимущества.
Глава 6. Спасение с неба. Второй тайм
— На славу всемирную
Из льдин челюстей
Товарищей вырвали!..
…На льдов произвол
Ни пса не оставили.
М. Цветаева
Действительно, 14 марта Слепнев и Леваневский с Ушаковым прибыли в Фербенкс на Аляске, откуда на двух американских «Флистерах» готовились к перелёту через Берингов пролив с представителем правительственной комиссии Ушаковым.
С учётом всех обстоятельств, в Москве было решено усилить спасателей отрядом Галышева (два «Юнкерса» ПС-3 и один Р-5), вылетевшего из Хабаровска 17 марта вдоль Охотского побережья. 23 марта ледокол «Красин» с двумя разобранными дирижаблями в трюмах вышел из Кронштадта, направляясь на Чукотку через Панамский канал. Эту спасательную экспедицию возглавлял Евгенов, которому советская власть не поставила в вину практически срыв похода к Амбарчику в навигацию 1932 г. Не касаясь деталей (подробно описанных в следующем разделе) отметим лишь, что сосредоточение этих сил, (используя современную терминологию) закончилось на базе подскока в Ванкареме в первых числах апреля.
Тем временем в лагере Шмидта происходила борьба за выживание, в которой постоянно участвовало не менее половины оставшихся на льду челюскинцев, частично описанная выше в воспоминаниях Ширшова. Подвижки льда несколько раз уничтожали работу людей, так что её приходилось начинать заново. Но после ликвидации последствий очередного буйства стихий на взлётно–посадочной полосе у людей не оставалось ни малейшей уверенности в том, что им не придётся возвращаться к ней снова и снова. Такого рода деятельность превращалась в сизифов труд, что не могло не отразиться на моральном состоянии людей, причём эта опасность держала людей практически всё время в напряжении даже в лагере, где они стали свидетелями разрушения барака и бегства из него людей, которое однажды могло завершиться не столь благополучно. Восприятие угрозы подвижек в самом лагере также нашло отражение в воспоминаниях челюскинцев:
«После работы я сидел с книжкой Киплинга в руках, перечитывая её с увлечением, кажется, уже в десятый раз. Вдруг что‑то ударило по льду и резко толкнуло палатку и сидящих в ней. Все на несколько мгновений застыли в тревожном ожидании. Снаружи донёсся шум торошения.
— Началось, — сказал Гаккель, с костяшкой домино в поднятой руке. Вчетвером мои товарищи по палатке забивали «козла».
— Ты слыхал? — почему‑то спросил у меня Шафран.
— Ещё бы! — усмехнулся я, пряча книжку и словарь в чемоданчик. Факидов торопливо искал шапку, затерявшуюся в куче малиц и спальных мешков. Вышли.
В глубоком тёмном небе ярко горели звёзды. Возле палатки над треногой на льду тускло мигал фонарь, оставленный определявшимся сегодня по звёздам Хмызниковым. Из всех палаток выходили люди и прислушивались. В морозной ночи гудело сжатие льдов. Казалось, весь воздух наполнился грозным шумом, треском и визгом. То там, то здесь в темноте трещали как будто одиночные винтовочные выстрелы, рассыпаясь частой стрельбой, покрываясь через минуту отдалённым гулом орудий.
— Как на фронте, — вполголоса сказал кто‑то рядом со мной.
— Противник пошёл в наступление, — отозвался другой.
Помолчали.
— Как бы до лагеря не докатилось, — встревоженно сказал тот же голос.
Опять стояли молча, подавленные грозной симфонией сжатия, происходившего по всей линии майны у камбуза.
— Вот где жмёт!
Огромные льдины со скрежетом, треском вылезали наверх из трещины и громоздились одна на другую. С другой стороны трещины показались тёмные фигуры. Это были жители барака, находящегося за майной.
— Как у вас в бараке? — крикнул я, стараясь перекричать грохот льда.
— Пока ничего, всё в порядке, — донеслось оттуда.
Решил пройти вдоль майны. Вот и камбуз. К счастью, сжатие шло стороной от него» (Ширшов, 1936, с. 174–177).
Достаточно будничное описание вместе с тем вполне информативно — нетрудно представить состояние людей живущих сутки за сутками в напряжённом ожидании и готовности к самым напряжённым действиям. Просто бытовая деталь — раздеваться на ночь для необходимого отдыха в спальных мешках, или нет? Забегая вперёд, лишь отмечу, что эта не самая важная бытовая проблема осталась проблемой для живущих на дрейфующем льду в последующие десятилетия.
Пусть читатель представит состояние людей после подобной ночи (или нескольких), когда с рассветом было нужно устранять последствия подвижек на аэродроме, день за днем на протяжении нескольких месяцев. Отказаться от подобного рода изматывающей работы было невозможно, поскольку самолёт мог прибыть в самое неожиданное время, что было ясно любому челюскинцу, и подгонять его в тяжелой работе ради собственного возвращения на Большую землю необходимости просто не возникало, потому что он действовал в ситуации «сделай или умри». Какой нервотрёпкой это обходилось — можно только представить и посочувствовать… Не случайно раздел в воспоминаниях Ширшова о событиях на льду в ожидании самолётов назван «Борьба за аэродромы». Всего на протяжении двух месяцев было построено четыре аэродрома — именно с последнего последние самолёты вывезли последних челюскинцев, и, таким образом, три вышли из строя за время существования лагеря Шмидта: практически по одному каждые две недели.
Руководство лагеря Шмидта понимало состояние людей и учитывало предел их возможностей, что также отражено на страницах «Челюскинианы». В последних числах марта «мы решили дать отдых (аэродромным. — В. К.) бригадам.
— Эти дни хорошо поработали, пусть отдохнут денёк, сказал Бобров…
Час назад бригада Загорского закончила ремонт поломанного аэродрома, потребовавшего три дня работы.
— Есть, Алексей Николаевич, отдохнуть не вредно будет, — согласился я без особых колебаний…
…Впервые за две недели на аэродром не пошли. Занялись кто чем. Одни, вооружившись шилом и нитками, чинили валенки, порядком износившиеся в ежедневной ходьбе. Другие возились с благоустройством палаток, требовавшим постоянного ухода за собой… Но большинство просто ничего не делало. Сидели в палатках, болтали о чём придётся, бродили по лагерю в одних свитерах, многие были без шапок» (Ширшов, 1936, с. 204–207). Видимо, накануне решающих событий руководство челюскинцев сочло необходимым сберечь силы людей перед прибытием самолётов из отрядов Каманина и Галышева в Ванкарем.
Рубеж март — апрель ознаменовался двумя событиями. 30 марта из Нома в Ванкарем на новеньком американском «Флистере» вылетел Леваневский. Сама машина могла поднять восемь пассажиров, была достаточно комфортной, в отличие от советских машин, и выглядела подходящей для эвакуации челюскинцев. На всякий случай в экипажи обоих «Флистеров» были включены американские механики — ожидать, что советские специалисты в короткие сроки в экстремальных условиях смогут ремонтировать американские машины, было бы наивностью. (Это опровергает мнение некоторых историков об отказе от американской помощи опасениями, что американцы ознакомятся с методами освоения Чукотки ГУЛАГом.) У американских механиков оставалась в Ванкареме возможность контактов с «пассажирами Дальстроя», хотя неизвестно, насколько они ею воспользовались. Важнее было присутствие пассажира на этом самолёте — им был Ушаков, выбор которого определялся его качествами, как профессиональными (пять арктических зимовок), так и дипломатическими (политическое освоение новых для страны арктических островов). Ему предстояло от имени комиссии Куйбышева (т. е. партии и правительства) ввести в курс дела Шмидта, ориентируя его на последующее развитие событий, включая возвращение.
Полёт Леваневского завершился аварией машины в районе Колючинской губы, где шесть лет назад в аналогичном положении оказался самолёт «Советский Север» Красинского, а двумя неделями раньше — АНТ-4 Ляпидевского. (Если вспомнить, что ранее в этих же местах самые жестокие испытания ожидали не только «Челюскина», но и «Сибирякова» с «Вегой», то неудивительно, что у моряков и лётчиков это место пользовалось самой дурной славой.) С помощью чукчей потерпевшие аварию спустя сутки всё же добрались до Ванкарема, откуда Ушаков сообщил по радио Шмидту нерадостные известия.
Тем не менее по результатам переговоров Ушаков пришел к выводу о благополучном положении челюскинцев. «В лагере у аппарата сидел Кренкель, один из моих друзей. Передав ему приветы, я попросил пригласить к аппарату Шмидта. Кренкель мне ответил:
— Я сейчас же передам вашу просьбу товарищу Шмидту, но не знаю, сможет ли он подойти к аппарату.
На моё естественное удивление Кренкель ответил:
— Шмидт читает лекцию по диамату…
…В первом же разговоре по радио я информировал т. Шмидта о мероприятиях, развёрнутых правительственной комиссией. В это время уже приближался к Панамскому каналу ледокол «Красин». Водопьянов, Доронин, Галышев достигли Анадыря и ожидали окончания свирепствующей метели, чтобы сделать последний перелёт до Ванкарема. Каманин, Молоков и Пивештейн теми же метелями задержались ещё ближе к Ванкарему, в районе залива Креста. Слепневу я дал распоряжение при первой лётной погоде вылететь из Нома в Уэлен, а затем в Ванкарем. Из Петропавловска— на–Камчатке выходил пароход «Сталинград» с дирижаблями, аэросанями, вездеходами, походными лодками и понтонами, перегруженными на него с парохода «Совет»» (т. 3, 1934, с. 19–20).
1 апреля в лагере Шмидта прошло первое испытание отремонтированного (скорее, восстановленного) Ш-2. Чтобы продемонстрировать результаты ремонта, Бабушкин устроил Шмидту воздушную экскурсию, сделав три круга над лагерем. На следующий день Бабушкин улетел в Ванкарем вместе с механиком Валавиным. «В звонком треске мотора прошла прощальным кругом над лагерем наша «стрекоза», с обломанными поплавками, с залатанными фанерой пробоинами на крыльях и на лодке — следами всех перенесённых ею аварий и путешествия по торосам из лагеря на аэродром.
— Ура! Ура! — кричали внизу, размахивая шапками.
Высунувшись из кабины, Бабушкин помахал рукой и повернул самолёт на юг. Долго над горизонтом маленькой точкой блестела на солнце машина, унося на берег двух наших товарищей» (Ширшов, 1936, с. 209–210).
На рубеже март — апрель авиаотряды Каманина и Галышева лишь приближались к исходной позиции для последнего броска в лагерь Шмидта с наспех созданного аэродрома на мысе Ванкарем. Из пяти машин Каманина до Анадыря 22 марта добрались только три. Как выяснилось позже, самолёты Бастанжиева и Демирова из этого отряда потерпели аварию, к счастью — без человеческих жертв, и их экипажи самостоятельно выбрались в жилые места. 1 апреля отряд Каманина предпринял попытку пересечь Чукотский полуостров напрямую к Ванкарему, но был вынужден вернуться из‑за сильной облачности, посадив свои машины на побережье залива Креста. Лишь 3 апреля добрались вдоль побережья до Уэлена, где обнаружили самолёт Слепнева, прилетевший с Аляски. (Ещё один самолёт из отряда Каманина по пути был оставлен для ремонта.) Тем временем отряд Галышева из трёх самолётов достиг селения Каменского в Гижигинской губе и 4 апреля был в Анадыре, где пурга задержала его почти на неделю, и у этого пилота оказалось время для воспоминаний об эвакуации пассажиров «Ставрополя» весной 1930 г.: «Сделал три рейса на мыс Северный и вывез 15 человек. Среди них были больные и ребята. Был даже один крошечный, писклявый новорожденный… Трудно рассказывать, какие странные чувства связывают лётчика с людьми, которым он помог уцелеть. Однажды я был в отпуску за городом, шёл в обычной домашней рубахе… Навстречу мне попалась пожилая женщина. Помнится, она несла корзиночку с грибами. Мы встретились с ней, взглянули друг на друга и долго мигали глазами. Я не мог определить, кем она мне доводится. Да и она тоже. Ощущение такое, что не то я с ней прожил полжизни, не то она моя родственница, откуда‑то приехала. Вдруг она бросила корзиночку, заплакала и кинулась гладить и целовать меня… И тут сквозь слёзы напомнила она мне, как в страшный мороз поднял я её с замерзшего во льдах «Ставрополя». Вспоминаю я и детей. Особенно милая была одна девочка, тоже со «Ставрополя», лет пяти–шести. С самого начала она нисколько не боялась машины и гладила её ручонками. А потом, когда мы вместе долетели до Лаврентия, где мне некоторое время пришлось жить вместе со спасёнными, я очень сдружился с ней… Ни с чем не сравнимо отношение людей, которым ты спас жизнь». (т. 3, 1934, с. 393).
Не повезло, однако, этому замечательному пилоту и человеку. Перед самым вылетом на север выявились неполадки в моторе его самолёта. В результате в Ванкарем Водопьянов и Доронин добирались самостоятельно напрямую над горами Чукотского полуострова, чтобы не опоздать к завершению спасательных работ.
Тем временем на льдине, по выражению одного из челюскинцев, напряженно следили, как «стягивалось кольцо стальных птиц. Всё меньшее и меньшее расстояние отделяло их от лагеря. Не сегодня завтра все они нагрянут сюда, к нам. В лагере челюскинцы шутили: «Я полечу на «Юнкерсе», — говорил один; другой хотел лететь на Р-5, третий — на «американке», четвёртый — только на дирижабле, а некоторые всё‑таки упрямо хотели оставаться на льдине до прибытия «Красина»» (Васильев, т. 2, 1934, с. 300).
7 апреля в лагере один за другим сели три самолёта: Слепнёва (доставившая Ушакова), Каманина и Молокова. С этого дня обозначился успех эвакуации, хотя никто не мог назвать конкретной даты её завершения. Предполагалось провести эвакуацию по строгой очередности, намеченной первоначально ещё вскоре после вывоза детей и женщин — 5 марта, хотя список отправляемых на Большую землю впоследствии неоднократно уточнялся, в основном с учётом мнения врача Никитина. Однако приходилось учитывать и многое другое. «На льдине первое время нервничали строители. Но им было, по мнению «комиссара» Боброва, нетрудно внушить, что спасение их в одинаковой степени важно правительству, как и спасение любого научного работника. Вскоре они убедились, что очередность эвакуации со льдины после отправки женщин и детей проводится только по одному признаку — по состоянию здоровья, и они с этим согласились» (т. 2, с. 113). Ушаков подтверждает: «Положение, профессия или учёная степень не имели в этом списке никакого значения. Рядом стояли плотник, учёный, штурман или кочегар. Последними в списке были радист Кренкель, начальник аэродрома Погосов, капитан Воронин и начальник экспедиции Шмидт. Этот список выполнялся в точности. Исключением был тяжело заболевший Шмидт…» (т. 3, 1934, с. 25–26).
Составленный список был вынесен на «всенародное» обсуждение, результаты которого Бобров описал следующим образом: «По списку не было никаких замечаний. Не было ни с чьей стороны протеста относительно того, что вот такой‑то, мол, не попал в список. Не было ни одной просьбы об отправке сейчас… Если и послышались возражения, то только о том, что кой–кому хотелось не лететь в первую очередь, а передвинуться в какой‑нибудь дальний список… Когда 7 апреля Молокову и Каманину удалось перевезти на берег пятерых наших больных товарищей… снова начались требования об отправке в последнюю очередь… Человек 30 категорически заявили, что они улетят в последнем десятке… Создавалось некоторое затруднение… Шутя, я предложил:
— Объявите, Отто Юльевич, что последние 50 челюскинцев все вместе будут считаться последним десятком, тогда не будет споров.
Отто Юльевич улыбнулся:
— Пожалуй, придётся пойти на такое мероприятие» (т. 2, 1934, с. 348–349). Повторялась та же ситуация, отмеченная выше, которая возникла при эвакуации женщин…
Острота впечатлений, связанная с прилётом первых самолётов после Ляпидевского, несомненно, была усилена долгим месячным ожиданием. «Так мы дожили до 7 апреля, — отметил в своих воспоминаниях радист Кренкель, — когда Ванкарем сообщил, что в лагерь вылетают сразу три самолёта: Слепнёва, Молокова и Каманина. Слепнёв указал: «Буду в лагере через 36 минут». Я удивился такой точности и посмотрел на часы. Через 37 минут на горизонте показался самолёт Слепнёва. С большой скоростью он приближался к лагерю, сделал крутой вираж и потом почему‑то долго кружился над аэродромом. В лагере недоумевали.
При посадке самолётов на сигнальной вышке обыкновенно находился штурман Марков. Так как мне нужно было знать о посадке, чтобы сообщить на берег, мы условились: троекратный взмах шапкой над головой означает благополучную посадку. Но сколько я ни глядел, Марков неподвижно стоял на вышке… Вскоре пришли с аэродрома: самолёт Слепнёва, имевший чересчур большую посадочную скорость, проскочил весь аэродром и повредился в торосах.
Минут через двадцать после прибытия Слепнёва на горизонте показались ещё два самолёта: Молокова и Каманина. В обоих случаях Марков три раза радостно махнул шапкой. Я немедленно передал в Ванкарем сообщение об успешных посадках» (т. 2, 1934, с. 376).
Воспоминания Ушакова интересны тем, что он мог сравнить посадку самолёта Слепнева и Р-5 из отряда Каманина: «В тот момент, когда я ожидал первого толчка, обычного при прикосновении самолёта к аэродрому, машина взмыла вверх. То же самое повторилось при второй и третьей попытках идти на посадку… Опасаясь, что ветер выбросит машину с аэродрома, Слепнёв повёл самолёт, срезая линию направления ветра. Машина быстро проскочила расчищенный участок, вылетела в ропаки и, уже теряя скорость, начала совершать прыжки… Наконец, машина сделала большой прыжок вверх и неподвижно замерла вблизи большого ропака, словно раненая птица, высоко подняв правое крыло, а левое положив на лёд…
Первой нашей мыслью был осмотр повреждённой машины. Несколько мешали в этом наши пассажиры — собаки. Поэтому мы немедленно выбросили их из самолёта. Это… ввело в заблуждение группу челюскинцев, которая наблюдала с сигнальной вышки лагеря за нашей посадкой… Не зная о нашей судьбе, они старались рассмотреть в бинокль появление живых существ из самолёта, но когда эти живые существа появились, челюскинцы невольно стали протирать стекла бинокля: живые существа, вылезшие из самолёта, убегали от него на четвереньках. Только потом, когда мы появились в лагере, недоразумение разъяснилось…
…В то время мы услышали шум моторов и скоро заметили идущие с юга две машины. Это были Каманин и Молоков… Посадка советских машин, обладавших сравнительно небольшой скоростью, сразу создала уверенность в том, что даже при таких неблагоприятных условиях посадки на этих машинах можно будет работать». (т. 3, с. 24–25). Ещё об одной особенности американской машины, отнюдь не свойственной нашим самолётам, сообщает метеоролог Комов, когда «из изящной кабины, обитой бархатом и дорогими коврами, вдруг с радостным лаем выскакивают одна за другой восемь обычных лохматых чукотских собачонок». Очевидно, для челюскинцев, в сравнении с убранством салона, всё же важнее оказалась приспособленность самолёта для посадок на арктический лёд. В тот день на Большую землю улетели очередные пятеро челюскинцев, состояние которых внушало опасение…
Однако одновременно произошло ещё одно событие, нашедшее отражение в анналах челюскинской эпопеи. Несмотря на то что в воспоминаниях челюскинцев 7 апреля «был праздник ослепительный! И вот этот праздник дорого обошёлся челюскинцам… Весь день 7 апреля Отто Юльевич провёл на аэродроме. Мороз стоял небольшой — градусов 16, но с леденящим норд–остом, силою четыре–пять баллов. Отто Юльевич, одетый в лёгкую куртку и горные ботинки, сильно продрог. Вечером он ещё присутствовал на докладе Ушакова в бараке. Затем слёг. К утру температура у него прыгнула к 39˚, и больше он уже не вставал» (т. 2, 1934, с. 356).
Казалось, столь успешное освоение авиаторами из Ванкарема льдов Арктики сулит быстрое завершение челюскинской эпопеи, но последующие двое суток ознаменовались такими подвижками, что приходилось уже думать не о Большой земле, а о перспективах выживания на арктическом льду: «Словно набравшись свежих сил, лёд мощно пошёл опять, с визгом и скрежетом сокрушая целое ледяное поле. Бежали огненные змейки — ширились трещины. На льду выступала вода. Приподнимались громадные массивы. Они, как великаны, напирали друг на друга и здесь же находили себе конец. Торошение подступало к бараку и палаткам, одновременно кусками отсекая громадные глыбы от обоих ледяных полей…
…И вдруг тёмные силуэты людей показываются на вершине гряды. Они ловко, как акробаты, прыгают со льдины на льдину в этой кромешной тьме, рискуя не ногой или рукой, а жизнью. Под ними дышит лёд, сталкиваются громады, но они спешат. Спешат к нам на помощь. Вот вспыхнули в ящиках спички, перетёртые нажимом льдов. Голубой свет на мгновение озаряет упрямые лица борющихся за жизнь людей» (т. 2, 1934, с. 292–293).
Авиаторы снова вступили в работу лишь 10 апреля — Молоков с Каманиным и отремонтировавший свою машину Слепнёв. За двое суток усиленной работы 12 рейсами было доставлено в Ванкарем 57 человек — больше половины остававшихся в лагере, включая больных, специалистов, чьи знания не находили применения в лагере и, наконец, почти всех «врангелевцев» — строителей — печников и плотников. Наибольший успех выпал на долю Молокова, который 10 апреля сделал три рейса, а на следующий день — ещё четыре, ухитряясь вывозить до шести человек за рейс, засовывая своих пассажиров в специальные парашютные ёмкости под плоскостями своей машины. Осмелев, тот же метод применил Каманин, усваивая на ходу опыт своего инструктора. Эти новшества позволили, например, доставить в Ванкарем 11 апреля 34 человека — наибольшее количество за всё время полётов в лагерь Шмидта. В тот день последним рейсом Молоковым был доставлен на материк больной Отто Юльевич, драматическая эвакуация которого требует отдельного описания по Ушакову, который в этой операции сыграл особую роль:
«Положение Отто Юльевича с каждым часом ухудшается. Он часто впадает в бредовое состояние. Температура выше 39˚. Вечером я советуюсь с его помощниками и секретарём партийного коллектива. На моё категорическое требование вывезти Шмидта вне всякой очереди они отвечают сомнением. Один из них говорит:
— Придётся подождать, пока Шмидт совершенно потеряет сознание. Тогда его можно будет погрузить в самолёт и вывезти. До этого момента надеяться на то, что Шмидт согласится оставить лагерь, нет никаких оснований.
Давно зная Шмидта, я не мог оспаривать слова товарища, но в то же время я не мог ждать момента, когда Шмидт потеряет сознание… Поэтому на следующий день, когда вновь устанавливается лётная погода и в лагерь прилетают Молоков и Каманин, я с первой машиной возвращаюсь в Ванкарем и немедленно даю телеграмму т. Куйбышеву о состоянии здоровья Шмидта. Я прошу дать категорическое распоряжение Шмидту сдать экспедицию его заместителю Боброву, а мне — немедленно вывезти Шмидта вне всякой очереди и перевезти его на Аляску в госпиталь. Утром 11–го я получаю соответствующее распоряжение и даю поручение т. Молокову вывезти Шмидта из лагеря. Вечером Шмидт вместе с врачом Никитиным уже в Ванкареме» (т. 3, 1934, с. 30).
«Смена власти» на льдине, однако, проходила более драматично, что запечатлел в своих воспоминаниях секретарь Шмидта Семёнов: «В палатке произошёл примерно такой разговор:
— Как вы, ничего? — сурово спросил Бобров. От волнения он набрал воздуха в полную грудь и выпрямился во весь свой немалый рост над лежащим у его ног Шмидтом.
— Благодарю. Ничего.
— Знаете, самолёты работают хорошо. Вывозка идёт успешно. Вчера вывезли 22, сегодня 32.
Шмидт слабо кивнул головой.
— Остаются на льдине 31.
Шмидт опять кивнул.
— Самолёты работают хорошо. Сегодня я отправил литерных.
— Что значит «литерных»? — поинтересовался Шмидт.
— Литерные — это больные. Сегодня отправил литерного Белопольского… Самолёты работают хорошо — отправил литерного вне очереди.
Шмидт опять слабо кивнул.
— На льдине остались одни здоровые и только один литерный. Это вы. Теперь очередь за вами, как за литерным.
— За мной? — Шмидт даже приподнял голову с мехов.
— Ну да, за вами, — неверным, но строгим голосом подтвердил Бобров.
Он во все глаза смотрел в зрачки Отто Юльевича. Момент, по мнению Боброва, был решающий.
Отто Юльевич опустил голову на меха.
— Нет уж, извините. Забыли условие: я — последний, вы — предпоследний.
— Обстоятельства меняются. Мы же диалектики. Я здоров, а вы больны. Очередь может быть переставлена.
— Нет, Алексей Николаевич, этого нельзя. Я — последний со льдины.
Алексей Николаевич начал сердиться… Затем употребил всё своё красноречие:
— Отто Юльевич! Поймите! Ведь в случае сжатия мы, здоровые, будем стеснены вашим присутствием. Поймите, палатки могут быть разрушены! Вас же придётся держать на морозе! А вы на морозе загнётесь! А если вы загнётесь — это мировой скандал! Нам скажут: вы не могли сохранить начальника экспедиции, когда это можно было сделать! Поймите, Отто Юльевич!
Отто Юльевич задумался.
— Нет, нельзя. Всё же я начальник.
Он сказал это нарочито твёрдо, как всегда говорит больной, изъявляя свою волю. Бобров замолчал. Но через полминуты он повёл атаку с другого фланга.
— Какой же вы начальник, если лежите больной? Вы не начальник — вы бесполезный человек в лагере!
Никогда в течение всей своей жизни Отто Юльевич не считал себя бесполезным человеком.
— Что? В чём дело?
— Хватит! — сказал Бобров. — Поначальствовали! Объявляю себя начальником экспедиции.
Шмидт изумился.
— Ну–ну–ну! — сказал он.
— Чего ну–ну–ну? — сердито спросил Бобров. — Вы пойдёте у меня литером № 2. Самолёты работают хорошо…
— Позвольте–позвольте, меня же никто не сменял!
— Не сменял? — выкрикнул Бобров. — Ну что с вами говорить? Нате, читайте!
И он, схватив со стола радиожурнал, подал его Шмидту.
Шмидт внимательно, одну за другою, прочёл радиограммы. Их было пять. Шмидт закрыл глаза, прилёг на подушку, через полминуты открыл глаза, устремив их на Боброва:
— Что прикажете, товарищ начальник?» (т. 2, 1934, с. 363–365).
В описанной ситуации характерны два момента. Первый — никто в ближайшем окружении Шмидта поначалу не пытался принять ответственность на себя. В такой обстановке действия Ушакова с его полномочиями оказались выходом из положения. Второй — сам Шмидт, понимая свою зависимость в создавшейся обстановке от высших инстанций, также не решался определить свою судьбу, помня участь Умберто Нобиле после катастрофы «Италии» в 1928 г., с одной стороны, а с другой — даже несмотря на приведённую выше телеграмму от 28 февраля, он не был уверен в окончательной оценке его деятельности ЦК и лично Сталиным. Отметим, что вывозил Шмидта самый опытный из пилотов, Молоков, на надёжном Р-5, тогда как 12 апреля в Ном больного начальника экспедиции доставляли на более комфортабельном «Флистере» Слепнёва, предварительно спасшего со льдины шестерых челюскинцев.
В отсутствии Шмидта эвакуация челюскинцев продолжалась ещё двое напряженных суток, к счастью, в приличных погодных условиях, когда спасательная авиация получила подкрепление экипажами Водопьянова и Доронина — вместо Молокова, у которого возникли неприятности с радиатором (на устранение повреждений ушел целый день). 12 апреля три рейса сделал Каманин, два — новичок Водопьянов. У другого новичка — Доронина на зарубежном «Юнкерсе» оказалась повреждённой стойка шасси, на ремонт которой в ледовом лагере ушло несколько часов, и на второй рейс просто не хватило светлого времени. Возможности его машины позволяли взять четырёх пассажиров, но он решил не рисковать и ограничился двумя, и правильно сделал — уже в воздухе он увидел, что левая лыжа беспомощно повисла на амортизаторе. В своих воспоминаниях он не стал распространяться о том, каким напряжением воли досталась ему посадка в Ванкареме, завершившаяся благополучно. Хотя этим полётом участие Доронина в спасении челюскинцев ограничилось, впереди пилота ожидала работа по переброске людей из Ванкарема в Уэлен.
Водопьянов действовал более успешно, приспосабливаясь к новой обстановке буквально «на лету». Он принял решение лететь, не дожидаясь напарника и, получив компасный курс, направился в ледовый лагерь. Спустя немногим более получаса он увидал по курсу тонкую струйку дыма, сгущавшегося с каждой минутой, — теперь в лагере не экономили топлива. Пилот с облегчением подумал: «Всё‑таки долетел…» Зрелище лагеря Шмидта он оценил по–своему: — Это же областной город… Всего в тот день в Ванкарем был доставлен по воздуху 21 человек, в основном людей из экипажа «Челюскина» и научного персонала, помимо двух последних несостоявшихся зимовщиков с острова Врангеля. На исходе суток 12 апреля в лагере оставалось лишь шестеро его обитателей, эвакуации которых могла помешать только погода.
Настал долгожданный последний день существования лагеря Шмидта, описание которого приводится ниже по воспоминаниям его последних обитателей, характеризующих не только сами события, но и настроение людей, восприятие которых за время пребывания на льду претерпело значительные изменения. Если раньше их общим желанием было поскорее оставить опостылевший лёд, теперь у некоторых появилось отчётливое ощущение сожаления от прощания с ним. Все они понимали, что в их жизни заканчивается нечто такое, чему не будет повторения и что, возможно, составит наиболее значительный эпизод в жизни каждого. Последними обитателями лагеря Шмидта стали заместитель Шмидта Бобров, теперь уже в роли начальника, капитан Воронин, два радиста — Кренкель и Иванов, комендант аэродрома Погосов и боцман «Челюскина» Загорский, один из самых активных сторонников похода пешком к материку. Морская дисциплина, однако, победила в нем былые настроения…
Кренкель отчётливо ощутил красоту окружающего полярного пейзажа, в котором он почувствовал не только приближение завершения одной из труднейших в его жизни экспедиций и зимовок, но и самое первое дыхание наступающей весны. «Вечер незабываемо прекрасный. Полнейший штиль. С вышки отличная видимость на много десятков миль. Изредка чуть–чуть похрустывает лёд. Но по радио нам сообщили, что барометр начинает падать. Думаю, что никто никогда не будет так интересоваться погодой, как мы в этот вечер» (т. 2, 1934, с. 378).
Вскоре после полуночи Ванкарем сообщил: «Отправляем три самолёта. Осмотрите лично лагерь, чтобы в лагере не осталось ни одного человека. Свободное место догрузите собаками, обувью, остальное по вашему усмотрению. До свидания. Петров». Указания на собак и обувь было не случайным, ибо предстояла переброска эвакуированных в Уэлен и бухту Провидения частично пешком, когда собаки и обувь были просто необходимы.
«Всю эту ночь, — вспоминал позднее капитан Воронин, — я провёл без сна. В палатке горел фонарь. Я зажег примус, вскипятил чаю, вымыл посуду и всё аккуратно прибрал, оставив в палатке по поморскому обычаю запас продовольствия и вещей, необходимых человеку, который бы вдруг оказался заброшенным на эту льдину. Мне хотелось, чтобы лагерь Шмидта, даже покинутый его обитателями, не был похож на хаотические лагери иностранных экспедиций, какие мне приходилось видеть хотя бы на острове Рудольфа в 1929 г.
С рассветом вышел на воздух. Было ясно. Кругом царило безмолвие. Немного позже радисты сообщили, что за нами летят три самолёта… Я стал заделывать вход в палатку, чтобы туда не залез медведь и не разгромил оставленные мной запасы… В это время загудели моторы самолётов: их шум привёл меня в себя. Я вытащил нож, взял спасательный круг, стоявший у входа в палатку, и отрезал от него кусок полотна, на котором чёрной краской было выведено слово «Челюскин»… В лагере я также взял на память флажок — букву «Ч» из свода морских сигналов». (т. 2, 1934, с. 381–382).
Последнему коменданту аэродрома, Погосову, захотелось попрощаться с лагерем, с которым предстояло скорое расставание. «Хотелось посмотреть на него в последний раз. Дорогу я не узнал. Новые ропаки, торосы, трещины и нагромождения льда. В лагере тоже изменения. От барака не осталось и следа. На груде его обломков — брошенный ледяным валом перевернутый вельбот. Камбуз тоже разбит. Через весь лагерь проходит гряда свежих торосов. Палатки пустые, между ними разбросанные чемоданы, вещи, одежда. Кое–где в палатках догорали примуса. В одной из палаток на ещё горящем камельке — сковорода с обуглившейся свининой. Всегда оживлённый лагерь пуст и заброшен. В радиопалатке Кренкель только что закончил переговоры с Ванкаремом о присылке назавтра трёх машин одновременно. Рассказав Воронину и Боброву о работе на аэродроме, я, попив чаю, пошёл обратно» (т. 2, 1934, с. 383–384).
Наиболее интересное описание последнего дня в лагере Шмидта принадлежит Боброву: «Вечером (12 апреля. — В. К.) оставшиеся в лагере поужинали, составили план действий на следующий день и отобрали имущество, которое считали необходимым взять с собой. С Погосовым я договорился, что он даст к четырём часам утра условный сигнал о состоянии аэродрома и возможности приёма самолёта, и он отправился к себе на аэродром. В лагере нас осталось пятеро. Загорский погрузил нарты, приготовил их к отправке утром и улёгся спать во «дворце матросов». Я и Владимир Иванович поднялись на вышку. Долго, задрав голову, мы наблюдали за облаками и силились определить, какая будет завтра погода…
…Я обратился к Воронину с вопросом:
— Как, Владимир Иванович, какую погоду можно ожидать на завтра?
И получил исчерпывающий ответ:
— А вот завтра увидим.
Из этого ответа и хмурого вида капитана я сделал вывод, что хорошего ожидать не приходится…
Когда пришли в лагерь, какая‑то необъяснимая радость и веселье напали на нас, и мы в пустом лагере пустились в пляс. Картина, очевидно, со стороны была жуткая; два уже не совсем молодых человека (в общей сложности нам около сотни лет) пустились откалывать «трепака», потом обнялись и расцеловались. И только тут я увидал удивлённую физиономию Кренкеля, который оказался свидетелем этой непонятной для него сцены. Я убедил Кренкеля, что мы нормальны и просто дали отдушину нашим чувствам. Тут же Владимир Иванович взял с меня слово не разглашать эту неожиданную и непонятную сцену…
Когда все улеглись спать, мне вздумалось пройтись. Мрачную картину представлял наш лагерь. Он замер. Нет света ни в одной из палаток. Не дымятся камельки. Двери большинства палаток открыты. Над всем царит тишина…
С нетерпением мы ждали условленного часа и вылета Водопьянова… Прошли установленные 45–50 минут, а его нет… На пути к нам, между Ванкаремом и лагерем, образовалась масса разводий и майн, которые сбили Водопьянова с пути. Он принял испарения за наш дымовой сигнал, отклонился в сторону, поискал нас, не нашёл и решил вернуться. Мы очень обрадовались, когда узнали, что он очень благополучно сел. Товарищ Петров, председатель чрезвычайной тройки, сообщил о подготовке вылета к нам целой эскадрильи из трёх самолётов. Как выяснилось потом, эта тройка была снабжена остатками бензина, и если бы они и на этот раз не нашли бы нас, то лётные операции пришлось бы отложить на очень долгое время… К счастью нашему, на этот раз в точно установленное время появился сначала Водопьянов, а затем Молоков с Каманиным… Убедившись, что все самолёты сели благополучно, мы, как было условлено с Ванкаремом, сообщили им об этом. Затем я послал телеграмму правительству о том, что мы, последние, покидаем лагерь…
Мне пришлось делать много концов от лагеря к аэродрому, но я никогда с таким чувством не покидал нашей «шмидтовки». Непонятное чувство охватило меня тогда: с одной стороны, было чувство гордости и радости, что техника и большевистское упорство победили и мы спасены; с другой стороны, как‑то жалко было бросать приютившую нас льдину. Из памяти выпали все те беспокойства и неприятности, которые она причиняла нам своими разводьями и торошением. Как‑то выпало из памяти и основное — гибель «Челюскина». Со смутным чувством я покидал лагерь. Очевидно, аналогичные чувства испытывали и мои спутники, потому что, не сговариваясь, мы чуть ли не каждые пять минут под тем или иным предлогом останавливались и невольно оборачивались назад — в сторону лагеря… Когда мы прилетели на берег, нас встретили все бывшие в Ванкареме. Объятия, поцелуи… В Ванкареме от Петрова и Бабушкина я узнал, что они пережили тревожную ночь с 12 на 13 апреля, так как барометр быстро падал и предвещал изменение погоды. И действительно, через три часа после того как нас доставили на материк, поднялась пурга, и она продолжалась несколько дней». (т. 2, 1934, с. 386–394).
У каждого из пилотов были свои причины для участия в спасательных операциях, на которых необходимо остановиться особо.
Для Молокова (1895–1982) это был его предшествующий полярный опыт, дававший ему преимущества перед остальными, поскольку два предыдущих года он работал на Севере, и для многих новичков (например, Каманина с его ярко выраженными командирскими чертами характера) он был образцом полярного лётчика. Не случайно именно на долю Молокова пришлось наибольшее количество спасённых. Наиболее благополучная, по советским меркам, биография. Уроженец Подмосковья, крестьянский сын, в ранней молодости оказавшийся на заработках в Москве, участник Первой мировой и Гражданской войн с 1915 г., рано определившийся в классовых столкновениях («Жалости, пощады к врагам у меня не было. Слишком много натерпелись мы от них, чтобы жалеть» (т. 3, 1934, с. 196). Уже в Гражданскую войну обучался в Школе высшего пилотажа в Царском Селе, затем в Школе морской авиации в Севастополе, проявив стремление к учёбе, причём по широкому профилю (занимался с учителем по русскому языку, физике, алгебре, постоянно таскал с собой учебники, используя для чтения каждую свободную минуту). Позднее одним из его инструкторов был Линдель, также составивший себе имя в авиационном освоении Арктики. Сам Молоков в качестве пилота–инструктора дал путёвку в небо известным полярным лётчикам Куканову, Конкину, Леваневскому, Доронину, Ляпидевскому и другим. Своё кредо в работе полярного авиатора сформулировал так: «Главное — летать нужно трезво. Я против бесшабашных полётов. Конечно, бывают исключительные случаи, когда лететь надо во что бы то ни стало. Обстановка на Севере такая, что нужно работать трезво. Вот этот курс на выдержку, уменье выжидать, терпение и упорство дали мне очень много. Это было так важно в спасении челюскинцев. Может быть, мы несколько опоздали в сроках, но мы спасли наверняка. Если бы, независимо от погоды, слепо рвались вперёд, то многие из нас, может быть, и не дошли бы… За всю мою лётную жизнь я имел одну катастрофу» (т. 3, 1934, с. 202).
Среди прочих своих качеств сохранил стремление к самостоятельному профессиональному и жизненному выбору, в частности желание работать на дальних трассах. («Мне хотелось пойти на работу с большими перелётами. Я был согласен пойти на тяжелую машину вторым пилотом, лишь бы много и далеко летать» (там же, с. 202). Ко времени участия в спасении челюскинцев он считал себя сложившимся полярным пилотом: «Я не новичок на Севере — свыше тридцати регулярных рейсов налетал между Игаркой и Красноярском, летал между Вайгачом, Диксоном, Новой Землёй, мысом Челюскина» (там же, с. 213). Поэтому его назначение в отряд спасателей челюскинцев было не только удачным, но и оправданным. Характерна его оценка основного типа самолёта, использовавшегося в указанной операции: «Честь и хвала самолёту Р-5. Он оказался очень прочным и допускал возможности работать при наличии неблагоустроенных аэродромов. В пилотажном отношении машина также обладает прекрасными качествами» (там же, с. 214). Только опытный знаток своего дела мог отметить правильный выбор машины под стать условиям, что во многом и решило успех операции.
Не случайно он был включён в отряд Каманина в качестве шефа–инструктора при командире, впервые оказавшегося в полярных условиях. Весьма самолюбивый командир при этом испытывал неподдельное уважение к своему шефу–инструктору, оказавшемуся в его подчинении, отдавая должное его деловым и человеческим качествам, что стало основой взаимопонимания обоих, оставивших заметный след в развитии советской авиации. Отметим, что из бывших в звене Каманина пяти машин до Ванкарема благополучно добрались только сам командир и его гражданский шеф–инструктор, к авторитету которого Каманин обращается неоднократно. Получив приказ о включении в звено трёх гражданских пилотов, он особо выделил одного: «Когда мне было семь лет, Молоков уже летал. Инструктор, обучавший меня летать, сам учился у Молокова. Признаюсь, мне не очень‑то удобно быть над ним начальником» (т. 3, 1934, с. 248). Через неделю в дневнике он особо отмечает, что «с Молоковым — тёплые отношения. Я подошёл к нему не как начальник к подчинённому, а просто как к партийному товарищу и опытному полярному лётчику, и он подошёл к нам без амбиции. Другой бы, вероятно, кичился: «Я, дескать, старый полярный лётчик, а вы молокососы!» У Молокова даже намёка нет на такое отношение» (там же, с. 249). Ссылки на мнение Молокова присутствуют у Каманина всегда, когда ему приходилось принимать рискованные решение. 21 марта при посадке в Майя–Пыльгина («сегодня началась моя лётная практика в Арктике» — отметил командир) в подтверждение испытанных трудностей он приводит оценку Молокова, который «не видел ни одного клочка земли, где можно сесть так, чтобы поломать только машину и не разбиться самому» (там же, с. 252). 2 апреля при неудачной попытке из‑за непогоды пересечь Чукотский п–ов по кратчайшему маршруту от залива Креста на Ванкарем, когда пришлось возвращаться всего в 60 км от побережья Чукотского моря, своё дальнейшее решение пробиваться к цели в обход по морскому побережью через бухту Провидения мимо мыса Дежнева он опять‑таки подкрепляет ссылкой на мнение Молокова:
«— Как ты думаешь, Василий Сергеевич? — спросил я Молокова.
— Пожалуй, единственное, что можно сделать, это идти на Провидение!
Так и сделали» (с. 258).
Думается, такая ссылка появилась не случайно, поскольку возможность другого варианта доказал Водопьянов спустя девять дней, но при другой погоде. Не случайно штурман Каманина Шелыганов также ссылается на мнение Молокова: «На Севере надо уметь выжидать непогоду. Знаю, что трудно удержаться, если задание срочное, но выдержка необходима. Лететь в пургу непростительно. Зато, если выдался хороший день — летай до обалдения» (т. 3, 1934, с. 273).
Несомненно, проблема погоды оставалась весьма актуальной на пути к Ванкарему при отсутствии метеостанций. Поэтому неудивительно, что «прогноз» погоды приходилось составлять путём опроса местного населения, тем более что, по мнению самого Молокова, «чукчи мастера узнавать заранее погоду. Но когда у них спросишь, какая будет погода, они отвечают неопределённо. Спросишь у них:
— Будет завтра хорошая погода?
Они улыбаются, отвечают:
— Наверно, будет хорошая, наверно, будет плохая.
Как‑то меня угораздило спросить:
— Ну а завтра на охоту поедешь?
— Ой, нет, на охоту нельзя.
С тех пор мы знали, как у них спрашивать про погоду. Раз на охоту не едет — значит, погода будет плохая» (т. 3, 1934, с. 218).
Молоков умел учитывать психологию собеседника, как это было на примере конкретного мышления своих собеседников — чукчей. Точно так же было и в случае с неудачной попыткой пересечения Чукотки от залива Креста на Ванкарем, когда он оправдал решение Каманина на основе оценок штурмана Шалыганова: «Тяжелые облака навалились на хребет. Нет, пройдя такое расстояние и находясь близко у цели, мы не имеем права рисковать машинами. Вернулись злые, сели около яранги, ругаем небо. Бензина в обрез. Каманин спрашивает:
— Ну, как теперь — лететь в Анадырь (т. е. возвращаться. — В. К.) или на бухту Провидения?
Я сказал, что нам отступления нет. Нужно идти только вперёд» (с. 218), что в создавшейся ситуации оказалось наиболее верным. Молоков оказался неплохим психологом, когда вступил в противоречия со своим командиром, полагая, что тот, несмотря на своё воинское понимание дисциплины, вынужден будет простить его. Молоков был свидетелем, когда Каманин, машина которого получила повреждение, продолжил полёт на машине Пивештейна, оставив того ремонтировать командирскую. Едва ли комментарий Молокова понравился его командиру: «Дело прошлое, но если бы у меня вздумали забрать машину, я бы её не отдал. Условия Севера диктуют свои законы. Я считал — раз я уже пролетел опасные места и летел неплохо, это даёт мне право на машину» (с. 219). Удивительно, но Мехлис пропустил в редактируемой им книге подобный пассаж, похвалив одновременно Каманина за то, что тот «поистине образцовый воспитанник славной Красной армии!».
Подобных противоречий во всех трёх томах немало! Похоже, что Молоков своим характером отвоевал своё место не только в отряде Каманина, но и у самого партийного цензора–надсмотрщика Мехлиса — а это говорит о многом.
После испытаний на пути от Хабаровска до Ванкарема полёты в лагерь Шмидта не стали для Молокова чем‑то чрезвычайным, хотя оставались проблемы местного значения. Экстремальные условия Арктики для этого пилота уже давно стали обыденностью, что отразилось и на его восприятии окружающего, включая сам лагерь Шмидта — своим прежним опытом он уже был подготовлен к чему‑то подобному, выделив для себя главное: «Увидел вышку, очень высокую, увидел несколько палаток. Впечатление было такое, что люди живут на материке и занимаются своими делами. Ничуть это не походило на ледяной лагерь. Площадка для посадки — метров 400 на 200, но хуже всего ропаки. Они заняли все подходы. Лёд ужасно слепит глаза, и очень трудно было рассчитать посадку. Я три раза кружился над этими ропаками и всё никак не решался влететь в них. Но на четвёртый раз твёрдо решил, что на этот раз сяду» (с. 220). И никакого опасения, что иные коллеги или читатель обвинит его в нерешительности или даже в трусости. Уж он‑то знал, какой страшной может оказаться Арктика, и не боятся её только ненормальные люди, которым лучше не появляться за полярным кругом. Это и позволило ему уверенно заниматься своим прямым делом, принимая порой нетривиальные решения, которые спустя почти столетия привычному пассажиру Америкен Эйрланс или даже Аэрофлота могут показаться варварскими, — например, вывоз челюскинцев в парашютных ящиках. Но прежде об одной встрече «на высшем уровне»: «К нам подошёл Шмидт, приглядывается ко мне и говорит:
— Где‑то я вас видел?
Я ему напоминаю:
— На мысе Челюскина, ночью, когда вы приходили. Только я там был с бородой, а теперь я бритый.
Шмидт приглашает:
— Идёмте в лагерь, посмотрите, как мы живём.
— С удовольствием я бы посмотрел, но я сейчас работаю, не могу. Нам нужно заправить машины и обязательно улететь обратно» (т. 3, 1934, с. 221). Какой иной человек избежал бы соблазна познакомиться с подобной экзотикой, тем более по приглашению самого Шмидта? Но дело прежде всего — это тоже Молоков. Что касается предшествующей встречи со Шмидтом, то она действительно произошла в рейсе парохода «Челюскин», когда вблизи построенной год назад полярной станции Мыс Челюскина собралась целая армада из трёх судов Ленской экспедиции во главе с ледоколом «Красин», помимо ледокольных пароходов «Сибиряков», «Русанов» и «Седов». Для них самолёт Алексеева вместе с Молоковым проводил ледовую разведку, ненадолго «приводнившись» у мыса Челюскина, где и произошла встреча, запомнившаяся обоим. В ту самую первую посадку он вывез только троих, полагая, что с освоением аэродрома можно попытаться взять и больше и уже взлетая, пожалел, что не настоял на своем. Тогда и пришла ему в голову мысль использовать парашютные ящики под плоскостями, но желающих воспользоваться ими не нашлось.
Нетривиальные решения позволили Василию Сергеевичу больше остальных пилотов вывезти своих отнюдь не слабонервных пассажиров. Знаменательным днём для пилота и его пассажиров оказалось 10 апреля 1933 г. «В день я слетал три раза и вывез в первый раз — четверых, а потом два раза по пяти человек. Первым сел в парашютный ящик один сухопарый матрос. Засаживали туда его головой вперёд, складывали человеку руки и, как мину Уайтхеда, вталкивали в узкий ящик. Он лежал там. Лежать ему было не особенно просторно, но, пожалуй, лучше, чем сидеть четвёртым в кабине. Пробовал я устроить одного у себя в кабине управления: выбрал самого маленького и худого, пристроил его у себя в ногах, голову положил себе на колени. Всё хорошо, но когда он надел свою медвежью робу, то никак в кабину не влезал. Так и пришлось оставить эту затею. Но зато в парашютные ящики люди шли с охотой. Даже очередь потом образовалась… Конечно, неудобств для пассажиров много, но кто считается в таких случаях с отсутствием комфорта? И я со спокойной совестью сажал людей в грузовые мешки. Эти ящики привязывались под плоскостью крыла очень крепко и оторваться в воздухе не могли. В этом у нас не было сомнения. Трудно сказать, как люди себя там чувствовали, я там не сидел. Но думаю, что неплохо» (т. 3, 1934, с. 222).
Процедура посадки людей проходила по спискам и занимала много времени. Вылет на материк несостоявшийся начальник полярной станции на острове Врангеля П. Буйко описал так: «Покачиваясь из стороны в сторону, Р-5 подходит к нашей группе, точно трамвай к остановке. Из кабины смотрит лётчик Молоков, уголки его губ улыбаются.
— Быстренько, быстренько садитесь, товарищи. Беру шесть человек. Двоих придётся посадить в бочки под крылья…
Мотор продолжает работать, создавая вокруг себя метель. Не хватает одного пассажира, но он быстро находится. Это Леша Апокин. Он и Геша Баранов маленького роста. Энергичные аэродромщики запихивают их в тонкие фанерные бочки, подвязанные по одной у каждого крыла» (т. 2, с. 404).
Впечатления пассажиров в таких «бочках» (чаще всего они фигурируют в воспоминаниях челюскинцев как парашютные ящики или мешки, и даже футляр) описал машинист Мартисов. «Как я себя чувствовал во время своего довольно необычайного путешествия? Чувствовал себя очень хорошо… Сложил руки по швам, двое товарищей взяли меня, подняли и втолкнули в футляр головой вперёд. Отверстие закрыли, и машина пошла… При подъёме с аэродрома жутко трясло: било то затылком вверх, то носом вниз. Потрясло, потом чувствую, стало спокойно — значит, машина в воздухе. Я сам механик, поэтому меня интересовала работа мотора. Слышу — работает замечательно. Во время полёта я только боялся — а вдруг крышка неплотно закрыта… Но все мои страхи оказались напрасными. Прилетел вполне благополучно. Вытащили меня за ноги — и всё в порядке. А матрос Миронов говорил мне, что он даже пел в ящике» (т. 3, 1934, с. 223–224).
Не случайно Молокову поручались самые ответственные задания. Например, он вывозил из лагеря заболевшего Шмидта, а также принимал участие в последнем полёте в лагерь, когда его пассажирами оказались капитан Воронин и комендант аэродрома А. Э. Погосов. Хотя Молоков заслуженно гордился тем, что вывез больше всех челюскинцев, неменьшее удовлетворение он получил от работы мотора своего самолёта, отработавшего сверх нормы 47 часов, в чём немалая заслуга его механика.
Похоже, что он искренен в оценке не только своих заслуг, но и всей работы по спасению челюскинцев: «Мы сами не поняли, что мы сделали в Арктике. На всём пути от Владивостока до Москвы страна давала нам знать о себе, о том, с каким живым, напряжённым интересом весь мир — и в первую очередь весь Союз — следил за полётом наших машин, за всеми мельчайшими эпизодами борьбы под Ванкаремом, окончившейся полной нашей победой» (т. 3, с. 226).
Вторым по количеству спасенных людей из лагеря Шмидта (34 человека) стал военный лётчик Николай Петрович Каманин (1908–1982), не только сотрудничавший с Молоковым, но и учившийся у него — только он один последовал примеру своего шеф–инструктора и вывозил людей в парашютных ящиках. Правда, остальные машины стали прибывать на заключительном этапе эвакуации, когда необходимости в столь чрезвычайных мерах уже не было.
Уроженец городка Меленки вблизи Мурома Владимирской губернии, из семьи сапожных дел мастера, Н. П. Каменский окончил Ленинградсую военно–теоретическую школу ВВС (пройдя только при поступлении через четыре медицинские комиссии) и получил назначение на Дальний Восток во время конфликта на КВЖД. Впервые поднялся в воздух в 1928 г. К моменту назначения на спасение челюскинцев имел 1200 часов налёта, из них 300 в ночное время, как над морем, так и над сушей, в основном групповых, причём без аварий.
Многие особенности характера, как и чисто профессиональные достоинства Каманина проявились уже при полёте от Хабаровска до Ванкарема и описаны выше в рамках его сотрудничества с Молоковым. Для этого пилота всё наиболее сложное и интересное началось с Олюторского консервного завода в одноимённом заливе, куда пять самолётов его звена были доставлены на пароходе «Смоленск». 21 марта в его дневнике появилась запись: «Сегодня утром началась моя лётная практика в Арктике. Это было в Олюторке, на берегу бесконечного моря. Сначала мы опробовали самолёты. Я поднялся и набрал небольшую высоту. Впервые в жизни видел под собой такое белое мёртвое поле, замкнутое снежными горами на горизонте. Обычно вижу железные и просёлочные дороги, города и деревни, леса и реки. Здесь ничего! Только снег сверкает на солнце и утомляет глаз. Если бы кто‑нибудь посмотрел меня со стороны, показалось бы странным: взлетел человек и сел, опять взлетел, снова сел, будто балуется. Это я проверял машину и тренировался в выборе площадки с воздуха.
Опробовали машины все, доложили:
— Исправна!
Молоков сказал:
— Машина хорошая!
И вот летим по–военному, клином. Мой самолёт впереди, два самолёта у меня вправо, два влево… Пять машин, пятнадцать человек! Вот весь отряд» (т. 3, 1934, с. 250–251).
Пока добирались до Анадыря, отстали машины Бастанжиева и Демирова. Только в Уэлене, спустя неделю после вылета из Анадыря, 5 апреля командир узнал судьбу отставших пилотов, потерпевших катастрофу вблизи этого посёлка на краю то ли света, то ли страны: «Анадырь был закрыт туманом, они путались, как слепые, и оба в разных местах наскочили на сопки. Самолёт Демирова сгорел, сам он еле успел выбраться. Самолёт Бастанжиева врезался в землю, и Бастанжиев вылетел из самолёта на 30 метров с сектором в руках. Хорошо, что оба они не были пристёгнуты, а то оба погибли бы наверняка. Аварии произошли у одного в 15 километрах, у другого в 50 километрах от Анадыря. Они пробивались туда голодные и полузамёрзшие. Шли трое суток в тундре, не встречая ни одной живой души. Все пришли благополучно, только технику Романовскому пришлось отрезать на ноге два пальца — он отморозил ноги. Рад, что ребята спаслись» (там же, с. 262).
Поскольку Каманин особо выделяет достоинства своего штурмана Шелыганова («Десятки и сотни раз он доказал мне своё штурманское искусство. Шелыганов умел видеть через густую пелену облаков. Самые тёмные ночи не притупляют его зрения. В любых условиях, в любое время Шелыганов знает, над какой точкой земной поверхности находится его самолёт. Расчёты Шелыганова идеально точны» (там же, с. 262). Остаётся предоставить слово самому специалисту высокого класса, чтобы в полной мере оценить трудности, с которыми он встретился: «Я набрал десятки карт, но среди них не было ни одной, вполне годной для самолётовождения. Многие противоречили друг другу. Самые подробные имели только очертания береговых линий и приблизительную намётку прилегающих к берегу хребтов, нанесённых по видимости с моря. Но даже береговые линии были намечены во многих местах пунктиром. Населенные пункты не были обозначены» (там же, с. 272–273). Неменьшие трудности создавали ему особенности местной погоды: «Такой «болтанки» я ещё не испытывал Самолёт попадал в провалы и завихрения. Он то вздымался кверху, то камнем падал вниз. Альтиметр показывал невиданные вещи: в течение двух–трёх секунд мы проваливались на триста метров. Вершины хребтов неслись нам навстречу. Временами мы вплотную прижимались к ним, и самолётам угрожало врезаться в землю» (там же, с. 275). Как видим, Шелыганов в своей работе, удостоившейся высокой оценки командира, испытывал сложности не только из‑за недостатка необходимой исходной информации, в частности, связанной с картами. Ему приходилось заниматься своей интеллектуальной деятельностью, выдавая командиру необходимую информацию не просто в экстремальных условиях, а таких, с которыми авиация не сталкивалась ранее, одновременно горных и арктических. Но и это было ещё не всё, ибо попытка пересечения Чукотского полуострова от залива Креста к Ванкарему сорвалась из‑за плотной облачности, о которой пилоты не могли знать просто из‑за отсутствия метеостанций. Всё вместе взятое произвело сильное впечатление на Каманина, заставив его отказаться от первоначального намерения: «Мы не имели представления о рельефе местности, не знали, что встретим под облаками, пробивая их, — горы или тундру. Как толст слой облачности? Продолжаются ли облака до земли или между облаками и землёй есть свободная от облачности прослойка? Чем заполнена эта прослойка — пургой, туманом, или там окажется хорошая погода? Не имея всех этих данных, мы не имели права рисковать последними самолётами» (там же, с. 257–258). Это не считая встречного ветра, когда путевая скорость падала до 80 км в час. Если в целом Каманин как нормальный войсковой командир стремился выполнить приказ, несмотря на очевидные потери, то наступил момент, когда эти потери могли привести к срыву полученного им задания, и, таким образом, его решение вернуться (к облегчению подчинённых) выглядит правильным.
Особый момент в этом перелёте — «травма» шасси в командирском самолёте и дальнейшие действия командира (реакцию Молокова на них смотри выше), в результате которых Пивенштейна не оказалось среди первых Героев Советского Союза. Разумеется, решение Каманина не было продиктовано стремлением к геройской Золотой Звезде, — скромный командир звена не был посвящён в будущие правительственные и партийные решения. Чтобы не ошибиться в оценке мотивов его действий, остаётся лишь цитировать будущего героя: «Так как горючего едва хватало на два самолёта, я распорядился, чтобы Пивенштейн остался для ремонта моего самолёта» (с. 260) — всё! Никаких сомнений — настоящий командир! Пивенштейн отреагировал тоже по–военному и тоже без сомнений: «Я сам понимал, что как командир звена Каманин не может поступить иначе», хотя и с «гражданскими» переживаниями: «Вряд ли когда‑нибудь я получал более тяжелое приказание (там же, с. 292)». Кто их разберёт, этих военных… Или опять работа Мехлиса?.. Нет ответа.
Однако вернёмся к заключительной части миссии Каманина, которая досталась двадцатипятилетнему пилоту непросто. «Впереди появляется чёрная точка, она растёт, расширяется. Ещё минута — ясно вижу дым, ещё минута — выступает деревянный барак, вышка с красным флагом на мачте, буграми раскинулись палатки… Как только я увидел аэродром, расцвеченный флагами с погибшего «Челюскина», — этот ледяной ящик с торосистыми стенками, эту ледяную площадку, покрытую застругами, мной овладела одна мысль: как я сяду?
На какой‑то момент я всё забыл — и лагерь, и торжествующих челюскинцев. Я весь погрузился в расчёты. Точность нужна, величайшая точность, чтобы самолёт опускался почти вертикально, не ударившись о лёд. Захожу на посадку раз, другой, прицеливаюсь, чтобы в 10 сантиметрах над торосами прошёл самолёт, не задевая их лыжами.
Делаю третий заход. Самолёт скользит над вершинами торосов, счастливо проскальзывает над ними, парашютируя, идёт на землю. Усиленно работаю ногами, чтобы зигзагообразным движением машины заставить её остановиться вовремя. Встал хорошо, почти у стенки торосов. Развернулся, а отрулить не могу, сижу и жду, чтобы эти, восторженно приветствующие меня люди скорее подошли и, взяв машину за хвост, оттащили её несколько назад (там же, с. 263). Скорее всего, у всех челюскинских авторов были надёжные литературные редакторы, и тем не менее, образ полярного аэродрома в виде ледяного ящика с торосистыми стенками точен и великолепен.
Понять переживания молодого пилота несложно — ведь до него здесь садились только опытные полярные авиаторы Ляпидевский Молоков и Слепнёв, причём последний неудачно, а это была первая посадка Каманина на дрейфующий лёд, с которой он успешно справился. Что касается психологических нагрузок, то это непременная часть профессии пилота, тем более полярного. Характерно, что лёд под брюхом своего самолёта он смог оценить только при возвращении к материку: «Не знаю даже, с чем сравнить. Море замерзает. Где‑то открытая вода. Ветер поднимает на ней мощные волны. Крошит льдины. Садиться здесь, конечно, негде. Я прислушиваюсь к своему мотору и полон благодарности к тем, кто его делал…» (т. 3, 1934, с. 264).
Следует отметить, что к своему успеху на льдине этот пилот отнёсся достаточно критически, поскольку: «рядом с большой победой я увидал поражение. Ведь мне дали звено из пяти машин, а в лагерь пришли две… Своим ребятам я вполне серьёзно сказал: ну, влетит мне за этот полёт!» (там же, с. 246), хотя и ошибся. Тем не менее, сделав карьеру в авиации, он не остался в Арктике, но это было его право.
Вторая посадка в «ледяной ящик с торосистыми стенками» была выполнена Маврикием Трофимовичем Слепнёвым, но с поломкой машины, помешавшей ему вывезти побольше обитателей дрейфующего лагеря: на его счету только 6 человек. По–своему авария была показательной, как пример использования неплохой в целом техники, не удовлетворяющей конкретным арктическим условиям из‑за высокой посадочной скорости, что отмечено многими участниками событий. Неудача Слепнёва тем более досадна, что именно он обладал необходимым полярным опытом ещё с 1930 г.
Маврикий Трофимович Слепнёв (1896–1965), прапорщик старой армии, уроженец запада Петербургской губернии (бывшая Ингерманландия), естественно, пережил непростые ситуации во время революции. К тому времени он из пешей разведки в пехоте перевёлся в Гатчинскую лётную школу. Прибытие новичка инструктор прокомментировал так:
— Авиация — дело серьёзное. Это вам не в кустах сидеть с командой разведчиков…
Жизнь постоянно преподносила свои сюрпризы, и смену власти в октябре 1917 г., применительно к судьбе сына, отец–крестьянин оценил по–своему:
— Эх, ты, офицер, пошёл бы ты по счетоводческой части.
Почти годичное пребывание в Высшей военной школе завершилось отправкой на фронт Гражданской войны к Чапаеву, где вместо авиации Слепнёву пришлось больше заниматься окопными делами и примитивной фортификацией, поскольку Чапаев считал:
— Раз ты инженер, значит, интеллигент, а раз интеллигент — то должон всё знать.
С окончанием военных действий переведен в Москву в качестве инструктора школы военной авиации. Состояние технической базы школы («настоящая кунсткамера», по определению будущего Героя Советского Союза») заставило его перейти в гражданскую авиацию. «Было много шума, ругани и недовольства, но мне удалось настоять на своём. Я уехал в Среднюю Азию в качестве лётчика «Добролёта» на пассажирских линиях Бухара — Хива, Бухара — Дюшамбе» (т. 3, 1934, с. 158). За четыре с лишним года в условиях активного басмаческого движения он налетал несколько тысяч часов. Когда пилота потянуло в иные места, начальство нашло ему место на трассе Иркутск — Якутск в качестве бортмеханика у известного пилота Фариха. Сибирь приучила его к расстояниям и жизни в экстремальных условиях, чреватых самыми непредсказуемыми ситуациями. В 1930 г. он вместе с другим пилотом, Виктором Львовичем Галышевым, был направлен на эвакуацию пассажиров с зазимовавшего в Чукотском море парохода «Ставрополь». Сотрудничество двух бывших офицеров по–своему было показательным, поскольку один служил в годы Гражданской войны у красных, другой у белых. Нуждаясь в специалистах, поначалу советская власть была вынуждена мириться с присутствием своих былых противников, отчего в «первом составе лётчиков «Добролёта» почти наполовину были бывшие белогвардейцы» (Шевелёв, 1999, с. 90). Обоим было что вспомнить, поскольку оба сражались на колчаковском фронте друг против друга. Правда, в дальнейшем их пути несколько разошлись: Галышев вывез 30 пассажиров «Ставрополя», оказавшегося вблизи мыса Северный (теперь Шмидта). Наш пароход оказался во льдах по соседству с американской шхуной «Нанук» с грузом пушнины, которую их соотечественники пытались вывезти самолётами «Аляска Эйруэйс». Когда в одном из рейсов исчез самолёт президента этой компании Бэна Эйлсона (спутника известного первопроходца неба Арктики и Антарктики Уилкинса), Слепнёв обнаружил погибший экипаж в устье реки Амгуэма, получив, таким образом, свой первый полярный опыт, позднее доставив тела погибших на Аляску. Появление Слепнёва и Леваневского среди участников операции по спасению челюскинцев, М. И. Шевелёв (будущий начальник Полярной авиации ГУ СМП) объясняет так: «Слепнёв и Леваневский обратились тогда в правительство, чтобы их направили в Америку, на Аляске приобрели бы у американцев самолёты местных воздушных линий, которые могли бы помочь вызволить челюскинцев. Правительство пошло навстречу» (1999, с. 48). В сопровождении Г. А. Ушакова они отправились в Америку, остановив свой выбор на самолётах типа «Флистер», имевших закрытую кабину, рассчитанную на восемь пассажиров. Возвращение к местам былых событий вызвало у Слепнёва не самые лучшие воспоминания: «Вот знакомая скала Сердце–Камень, вот Идлидль, а вот и Колючинская губа. Район этот затаил в себе ненависть к авиации. Здесь разбито много интересных авиационных планов. Где‑то в глубине залива занесён снегом разбитый самолёт Красинского «Советский Север». На льду острова лежит тяжелая машина Ляпидевского. Немного в стороне от «Советского Севера» лежит исковерканный «Флейстер» (Леваневского. — В. К.), такой изящный в полёте и мощный по скорости» (т. 3, с. 178). Определённо, со своим опытом Слепнев отдавал отчёт в предстоящих трудностях и не рассчитывал на лёгкий успех. В полёте 7 апреля 1934 г. единственный пассажир «Флистера» Ушаков захватил с собой также собачью упряжку с фактории мыса Ванкарем, которая пригодилась в лагере Шмидта. Как известно, посадка «Флистера» на аэродром лагеря Шмидта (по образному определению Каманина — в «ледяной ящик с торосистыми стенками») закончилась поломкой шасси. О причинах аварии сам Слепнёв не стал распространяться, но слишком высокую посадочную скорость однозначно отметили свидетели посадки «Флистера»: Ушаков («Машина быстро проскочила расчищенный участок» (т. 3, 1934, с. 24), находившиеся на аэродроме геодезист Васильев («Площадка оказалась недостаточной для такой быстрой машины» (т. 2, 1934, с. 308), не считая коменданта аэродрома Погосова («Слепнёвская быстроходная «американка»…три раза пыталась идти на посадку и, наконец, при попытке сесть наискось против ветра заковыляла по ропакам» (т. 2, 1934, с. 229) и некоторые другие. Тем самым возможности слепнёвской машины оказались ограниченными: она вывезла на Большую землю лишь шестерых. На том её участие в эвакуации лагеря Шмидта и закончилось, в значительной мере из‑за невозможности построить для неё взлётно–посадочные полосы подходящей длины — американцы с этой проблемой столкнулись только с организацией своей дрейфующей станции Т-3 в 1952 г., почти тридцать лет спустя.
Михаил Васильевич Водопьянов (1899–1980) также по своему происхождению был крестьянским сыном, уроженцем Липецкого уезда тогдашней Тамбовской губернии. С девятнадцати лет в Красной армии. После демобилизации в 1924 г., уже в «Добролёте» приобщился к авиации спецприменения в качестве бортмеханика. В 1928 г. как успешному наземному специалисту ему предложили учиться летать и после трёхмесячного обучения направили в Академию воздушного флота. В 1929 г. направлен «Добролётом» в Хабаровск для освоения воздушной линии на Сахалин. В мае 1930 г. участвовал в дальнем перелёте из Москвы в Хабаровск, который удался за 41 час. В Хабаровске его самолёт был поставлен на поплавковое шасси и помимо полётов на линии использовался также для разведки морского зверя. Водопьянов всё больше и больше становился морским лётчиком, причём в условиях малоосвоенного и малонаселённого побережья, нередко в экстремальных условиях. С учётом этого опыта состоялось его назначение в звено из трёх машин под командованием Галышева, направлявшегося из Хабаровска на Чукотку. Вылет состоялся 17 марта, причём Водопьянов летел на Р-5, а два других экипажа, включая командирский Галышева, — на немецкой машине «Юнкерс» ПС-3.
Поскольку в перелёте участвовал ещё один будущий Герой Советского Союза Иван Васильевич Доронин (1903–1951), остановимся на его биографии наравне с остальными будущими героями. Из крестьян, уроженец села Каменка Балаковского уезда Самарской губернии. Попытка получить образование в Ленинграде для молодого парня закончилась неудачей, которая привела его на Балтийский флот, где он оказался в дружественной среде. «Моряки очень меня полюбили и, когда мы, бывало, высаживались в Ораниенбауме, одевали меня. Кто давал ботинки, кто форменку. Я полюбил флот, полюбил окружавших меня товарищей. Я очень стремился в то время к общему развитию. Занимался химией, математикой, географией. Читал запоем. Прочёл всего Майна Рида и Купера. В общем, вспоминаю об этом лете с большим удовольствием. Осенью мы возвратились из плавания… Нам предложили держать экзамены в военно–морское училище, а тех, кто окончил школу второй ступени (вроде меня), приняли без экзамена… Была телеграмма из Ленинграда, в которой некоторых курсантов военно–морского училища предписывалось перевести в морскую авиацию… Через некоторое время приходит распоряжение о том, чтобы меня и нескольких других товарищей списать в Ленинград для дальнейшей посылки в теоретическую школу авиации в Егорьевске» (т. 3, 1934, с. 347–350). Затем последовал перевод в Севастополь, где получили свою «путёвку в небо» многие известные лётчики. Инструктором у него оказался Линдель, который оказался «крестным отцом» многих полярных лётчиков. Сам Доронин не пишет, каким образом после окончания военного авиационного училища он стал гражданским пилотом в сибирской глубинке. Однако он оказался неплохим специалистом, судя по его замечанию: «За девять лет работы лётчиком у меня не было ни одной аварии. Зиму 1933–1934 гг. я работал на линии Иркутск — Якутск — Бодайбо» (с. 353), откуда и попал в звено Галышева, отправлявшееся на Чукотку. Судя по приведённым выше сведениям, для спасения челюскинцев отбирались весьма квалифицированные авиаторы, включая их помощников — механиков.
Дальнейший перелёт звена Галышева проходил через Николаевск, Шантарские острова, Охотск и бухту Нагаева, Гижигу. 4 апреля звено благополучно добралось до Анадыря на Чукотке. Однако здесь «сдал» мотор на самолёте командира звена, но, в отличие от Каманина, он отправил на Ванкарем своих подчинённых, оставшись ремонтировать самолёт. Тем временем с 7 апреля эвакуация лагеря Шмидта проходила своим путём, и чтобы не попасть к шапочному разбору, Водопьянов и Доронин должны были торопиться. Создавшуюся ситуацию Водопьянов описал так: «До Ванкарема оставалось 1200 километров, а если по прямой через Анадырский хребет — на 600 километров ближе. Меня в Анадыре предупреждали:
— Ты, Водопьянов, знаешь, Каманин два раза пытался перелететь хребет, не перелетел. Учти это…
…Погода была ясная. Хребет я представлял себе таким, как мне о нём говорили. На высоте 1800 метров свободно его перелетел. В центре самого хребта есть долины, где можно сесть. Единственная опасность в том, что на расстоянии 100–200 километров не встретишь человеческого жилья. Во время перелёта небо было совершенно ясное, местами были незначительные облака» (т. 3, с. 337–338).
Разумеется, на внутренние районы Чукотки каких‑либо карт не существовало, и все сомнения штурмана Шалыганова, описанные выше, оставались в силе для экипажей Водопьянова и Доронина, которые в иных условиях (прежде всего по условиям погоды) решили их по–своему и при этом успешно.
12 апреля в лагере Шмидта самолёты садились один за другим, и с каждой улетевшей машиной на льдине оставалось всё меньше и меньше людей. В тот день больше всех полётов совершил Каманин — за три рейса он вывез в Ванкарем 13 человек. Новичок Доронин за единственный вылет на своём «Юнкерсе» вывез двоих. Зато Водопьянов в двух рейсах доставил на Большую землю семерых.
13 апреля стал последним днём существования лагеря Шмидта, когда рейсами трёх машин Каманина, Молокова и Водопьянова были вывезены последние шесть человек, и даже собаки из фактории в Ванкареме были возвращены своему хозяину Кривдуну.
Заключительные события в лагере глазами лётчиков и последних его обитателей существенно различались. В воспоминаниях Молокова отчётливо прослеживается напряжённость ожидания предстоящего завершения сложнейшей операции, потребовавшей полной отдачи всех сил от каждого участника. «Самым тяжелым временем для всех лётчиков была ночь с 12 на 13 апреля. Все молчали, но было видно, что все переживают — ведь на льдине оставалось шесть человек! Каждый выходил на улицу и высматривал погоду. Разговоров никаких, но видно, что все напряжены. А вдруг погода испортится, тогда ведь ничем помочь мы не смогли бы. А что могут на льдине шестеро? А когда утром встали и оказалось, что погода прекрасная, у всех отлегло от сердца.
Со льдины я вылетел последним. Забрал Воронина и начальника аэродрома Погосова. Когда мы стояли на льдине втроём, показалось, что здесь пусто и скучно» (т. 3, 1934, с. 225).
В воспоминаниях Каманина и Водопьянова присутствует скорее обыденность — настолько оба вошли в свою роль полярных пилотов–спасателей. Каманин обратил внимание, что «никто не машет нам руками, на льдине валяются полуразбитые ящики, всякий скарб, какой остаётся в доме, покинутом хозяевами. Да, опустел этот нашумевший исторический «ледяной дом»… Остались какие‑то черепки, папиросные спичечные коробки и красный флаг на мачте… Спокойно забираю в самолёт Загорского, восемь собак и, как полагается в таких торжественных случаях, делаю над аэродромом три прощальных круга. Потом ложусь курсом на Ванкарем» (т. 3, 1934, с. 268).
Водопьянова, похоже, удивила уверенность последних оставшихся в благополучном завершении эвакуации: «Мы ещё не сели, а они уже передавали последние слова по радио: «Прилетели три самолёта, сели благополучно». Так они в нас верили. Дальше пишут: «Сейчас покидаем лагерь Шмидта, снимаем радио».
Я сел, а через минуту пришли Бобров, Кренкель и Воронин… Нужно вылетать… Моторы работали. Иду, вижу — что‑то чернеет, смотрю — два чемодана. Решил взять: найдутся хозяева, будут благодарить… Вижу, что‑то ещё белеет, оказывается, бельё… Тут же лежал матрац… Погрузил, кажется, всё… Поднялись, я сделал прощальный круг» (т. 3, 1934, с. 340).
Оценивая в целом работу наших пилотов, следует признать, что ценой жестокого напряжения они справились с порученным им делом, в котором наибольший успех выпал не только на долю экипажей с полярным опытом (Ляпидевский, Молоков), но и начинающих авиаторов (Каманин). Несомненно, в другой ситуации больше могли сделать Слепнёв и Леваневский, не подведи их американские машины, что бросалось в глаза не только лётчикам. Так, пограничник Небольсин, сыгравший важную роль в проведении спасательной операции, особенно на заключительном этапе, особо выделил лучшую приспособленность нашей авиации к местным условиям по сравнению с американскими машинами, несомненно, обладавшими своими достоинствами, а главное, содержавшимися на Аляске в лучших условиях: «Внешне наши самолёты действительно выглядели довольно грубыми рядом с американскими. Но когда появилась возможность сопоставить их в работе, результаты получились совершенно иные.
Вот прилетает Леваневский на прекрасном, как картинка, самолёте и чуть не вдребезги расшибается. А тут же Ляпидевский садится на русском самолёте и без особого труда восстанавливает повреждение.
Прилетают Слепнёв, Каманин и Молоков. Машины их отличаются друг от друга, как небо от земли. Американский самолёт Слепнёва прилетел с Аляски, где есть аэродром и ангары. Он весь блестел. И тут же рядом стояли машины Молокова и Каманина, которые два месяца провели под открытым небом. Самолёты были грязные, залитые маслом, облупленные, с краской, потрескавшейся от 50–градусных морозов.
При посадке машины продемонстрировали свои качества. Самолёт Слепнёва приземлился с громаднейшим разбегом. Он полез прямо на торос и не сумел свернуть, так как машина туго поддавалась повороту во время рулёжки… В то же время Каманин спустился и сел благополучно. Молоков покружился и сел так, как будто бы всю жизнь прожил на этой площадке. Остановился — как подъехал на собаках, именно там, где нужно. Чукчи видели, как Слепнёв слетал в лагерь и три дня не возвращался. А Молоков и Каманин всё везут и везут» (т. 3, 1934, с. 54–55).
Глава 7. Дорога домой
Когда я вернусь… Ты не смейся, когда я вернусь,
Когда пробегу, не касаясь земли
по февральскому снегу,
По еле заметному следу к теплу и ночлегу,
И вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь —
Когда я вернусь.
А. Галич
В отличие от последующих эвакуантов, десять женщин и двое детей были доставлены по воздуху напрямую в Уэлен. Дальнейшие события, по воспоминаниям научного работника Параскевы Лобзы, партийного активиста, развивались сугубо по советским традициям того времени: «В тот же день через час после нашего приезда было созвано колхозное собрание. На этом собрании мне пришлось делать доклад о походе «Челюскина» и его гибели. С этого времени началась моя регулярная работа в Уэлене. На следующий день с утра началась подготовка к празднованию 8 марта. Велись беседы о значении праздника, шли приготовления к торжеству. Большинство челюскинских женщин приняло горячее участие в подготовке. Уборщица «Челюскина» Лена Буркова стала печь пироги, ватрушки. Ей помогали несколько женщин. Столы были накрыты в нашей комнате. Вечер с чукчанками прошёл оживлённо. После празднования 8 марта почти все женщины выехали в бухту Лаврентия. Тов. Комова была направлена на метеорологическую станцию, где она работала более полутора месяцев. Мы с Леной остались в Уэлене и тоже занялись работой… Затем местная партийная организация предложила мне поехать в район для проведения отчётной и перевыборной компании в национальные советы… За время моей поездки был полностью ликвидирован лагерь Шмидта, и в дороге мы встречали направлявшиеся в Уэлен пешие партии челюскинцев. По этому же пути летали и самолёты, перевозившие челюскинцев из Ванкарема в Уэлен… 27 апреля наша бригада вернулась в Уэлен, где отчиталась в своей работе. В Уэлене оставались в это время последние челюскинцы (около 40 человек), остальные были уже отправлены в бухты Лаврентия и Провидения… 2 мая мы покинули Уэлен» (т. 2, 1934, с. 419–422).
Эвакуация из лагеря Шмидта в Ванкарем мужского персонала экспедиции на «Челюскине» и его экипажа заняла больше времени, тем более что это чукотское селение не могло одновременно вместить такое количество людей… «Нас расселили по ярангам, — вспоминал позднее один из недавних обитателей лагеря Шмидта, оказавшись на Большой земле. — В Ванкареме их свыше десятка разных размеров. Я пошёл искать назначенную мне. Она стояла поодаль от фактории в виде большой, утопленной в снег полусферы из моржовых шкур. Небольшое отверстие служило входом. Внутри полусферы выделялось четырёхугольником, сделанным тоже из шкур, собственно жилое помещение — так называемый полог (Хмызников, 1936, с. 230).
Обитель руководства также трудно назвать удовлетворительной по современным меркам. «Ванкаремская фактория представляет собой крошечный домик из двух маленьких комнат, одна из которых служит кухней. Домик построен из разнокалиберного дерева, видимо, остатков какого‑то судна. Пол сделан из судовой палубы. Сейчас здесь помещаются лётчики, Петров, Небольсин и радист, всего около двадцати человек. Спят на полу, тесно прижавшись друг к другу — иначе места на всех не хватит. Обедают за маленьким столом в четыре очереди. Сегодня здесь немного свободнее, так как часть самолётов вчера отправилась в Уэлен и там осталась из‑за непогоды. На этих самолётах улетели Бобров, Воронин, Баевский и ещё несколько челюскинцев» (там же, с. 233).
Последствия первого контакта с Большой землёй челюскинцы ощутили ещё на льдине, когда от занесённой инфекции сначала заболел в силу предрасположенности Шмидт, а потом метеоролог Комов. Врач Никитин по прибытии в Ванкарем отметил, что к этому времени «часть ранее прилетевших была отправлена в Уэлен на собаках. Первая партия была обеспечена нартами в достаточной степени; в дальнейшем из‑за недостатка собак на одну нарту приходилось несколько человек» (т. 2, с. 353–354). Быстрая разгрузка Ванкарема была необходима из‑за ограниченности всего необходимого в этом медвежьем углу Чукотки, начиная с авиационного бензина и кончая продовольствием. Кроме того, приходилось считаться с возможностью развития эпидемий гриппозного характера, обычных для контакта полярников из арктической глубинки с обитателями Большой земли.
Переброска челюскинцев после прибытия на Ванкарем на восток к Уэлену и далее — на Лаврентия и в Провидения — заставляет вспомнить слова популярной песни «Самолёт — хорошо, пароход — хорошо, а олени — лучше!», правда, с заменой оленей на собак, более отвечавшим местным условиям. Действительно, половина челюскинцев из Ванкарема шла пешком вдоль морского побережья, а собачьи упряжки с нартами при каюрах–чукчах использовались для перевозки необходимого продовольствия и снаряжения и для подстраховки больных и ослабевших. Такая организация оказалась довольно эффективной и позволила провести эвакуацию людей в предельно сжатые сроки, в основном в течение апреля. Одни срочно направлялись на восток в Уэлен, а с севера вывозили самых последних, до конца остававшихся на льду, буквально на последних каплях горючего.
Хмызников прилетел в Ванкарем 12 апреля и картину происходившего сутки спустя описал так: «Селение оживлено. Носят вещи и продукты. Меня нагоняют несколько собачьих упряжек. На нартах лежат вещи, спальные мешки. За нартами гуськом бодрым шагом по дороге идёт человек пятнадцать челюскинцев. Пропускаю их, перебрасываюсь словами, желаю счастливого пути. Это одна из партий, уходящая пешком на Уэлен…
…Мы стоим на аэродроме и смотрим на горизонт в море. Но вот в небе появляется чёрная точка. Приближается. А там вдали и две другие. Самолёты приближаются, один за другим садятся. Окружаем их. Жмём руки последним шести. У Воронина, пытавшегося при полёте осматривать лёд, немного поморожено лицо, оно покрыто как бы белой маской. Из парашютных ящиков самолёта Каманина с радостным визгом выскакивают снятые со льда собаки, привезённые в лагерь Ушаковым. Их хозяин, заведующий ванкаремской факторией Кривдун треплет и гладит своих любимцев. Ведь он, отдавая их на лёд, совсем не надеялся на их возвращение. А для профессионального полярника, как Кривдун, собаки — близкие и независимые существа…
…Лётчиков по очереди начинают качать. В синих комбинезонах они взлетают над головами под громкие радостные крики «ура!». Кричат и чукчи, разделяющие общую радость. Они ведь тоже эти месяцы немало потрудились в деле нашего спасения. Вместе переживали неудачи, а теперь празднуют победу…
…По дороге в факторию встречаю ещё одну уходящую пешком партию. Среди идущих вижу Пе Пе Ширшова.
— Пе Пе! Ты как попал в эту компанию? Ты ведь был предназначен лететь на самолёте в Уэлен.
— Видишь ли, Хмызя, ребята меня подговорили, ну я и попросил Баевского меня перевести из «лётчиков» в «пешеходы». Хочется посмотреть как следует Чукотку.
— Это, конечно, интересно. Но и путь долог. Хоть ты ещё совсем молодой, и я уверен, что пеший путь в полтысячи километров ты выдержишь» (1936, с. 232–233).
В воспоминаниях челюскинцев о пребывании в Ванкареме и на мысе Сердце–Камень отсутствует (и не случайно!) одно важное обстоятельство, восполненное пограничником Небольсиным, в компетентности которого не приходится сомневаться: «Вместе с челюскинцами в Ванкареме появились люди с парохода «Север», зазимовавшими у наших берегов. Часть из них в своё время была переброшена Кукановым в Уэлен, часть — на мыс Северный. На мысе Северном были рабочие Дальстроя — народ такой, что без дела сидеть не привык. Они слышали, что подходят пароходы забрать челюскинцев, и сейчас же двинулись в путь. Собралось их человек двадцать пять. Они пришли в Ванкарем, отдохнули и с челюскинцами пошли дальше» (т. 3, 1934, с. 50). Вот такая советская реальность — когда терпенье и выносливость челюскинцев в соединении с героизмом лётчиков оказались запятнаны позором практики освоения Колымы.
Отправкой основного контингента распоряжался Баевский, доставленный в Ванкарем 10 апреля самолётом Слепнёва в один день с Березиным. Уже на следующий день, как отметил в своём дневнике Березин–старший, с крестьянской основательностью заносивший лишь самое главное из событий или поразившее его, «мы вышли первой партией в 15 человек в поход. Двигались на собачьих нартах. На них везли продукты, вещи, иногда садились на нарты. Шли ходко — километров по 70 в день. Продуктов было мало, и мы торопились вперёд. В нарты мы садились поочерёдно». Среди прочего, поразившего воображение крестьянина, были, разумеется, медведи, скалы (это после морских‑то льдов!) и кости животных — скорее всего, китовые рёбра и позвонки. «Пять дней мы шли до мыса Сердце–Камень. Тут переночевали. Всего мы в походе уже девять дней… Интересный этот собачий транспорт… Запряжены в каждые нарты 8—10–12 собак. Кормят их раз в сутки. Делают собаки до 100 километров в день — за восемь суток провезли нас около 600 километров. Люди не все ещё собраны — 40 человек в пути» (т. 2, 1934, с. 431–432), — отметил он уже 29 апреля в бухте Лаврентия. В опубликованной части дневника Березина–старшего не отражены перипетии перехода, включая трудности, которые отчётливо прослеживаются в рассказах других участников событий второй половины апреля на северном побережье Чукотского полуострова.
Березин ошибается, считая свою пешую партию первой, так как в день его прилёта на мыс Ванкарем отсюда вышла на восток партия из пяти человек, доставленных на Большую землю Каманиным и Молоковым ещё 7 апреля во главе с зоологом Стахановым. Хотя в этой партии было пять нарт с чукчами–каюрами, запряженные в них собаки были сильно истощены в предшествующих поездках при заброске горючего для самолётов на мыс Ванкарем.
Условия первой ночёвки в стойбище Ильхетан Стаханов описал так: «Яранга, в которой мы заночевали, была просторная, но закоптелая. При выходе лежала целая стая собак, сильно изнурённых и хилых. В пологе хозяева приветствовали нас на своём гортанном языке.
По стенам полога стояли так называемые жирники, т. е. ящички, наполненные нерпичьим жиром, с фитилями из мха. В обязанности женщин входит тщательное наблюдение за тем, чтобы эти чукотские «керосинки» не коптили. Они постоянно чистят фитили и подправляют их. Над жирниками вешают чайники и котелки, в которых варится пища. Для нас, гостей, было отведено почётное место около жирников, на шкурах оленей. Чукотские женщины повесили нашу обувь сушить.
Отдохнув некоторое время и привыкнув к полутьме, которая царила в пологе, я стал наблюдать за её обитателями… Женщины, совершенно нагие, с повязками на бёдрах, всё время занимались хозяйством. Дети были страшно грязны. После чая нам была предложена своеобразная пища чукчей, так называемый копальхен — моржовое мясо, которое зарывается в землю и квасится там почти год. Запах этого кушанья внушил нам отвращение, и мы принялись за банки консервов, которые нам дали в Ванкареме. Ночью мы занимались избиением полчищ различных насекомых и утром с большим облегчением вылезли из яранги» (т. 2, 1934, с. 424–425).
На дальнейшем пути Стаханов отмечает встречные чукотские упряжки с грузом авиационного горючего для Ванкарема. Как и остальные партии, он отметил трудности на льду Колючинской губы, где продвижение упряжек затрудняли многочисленные торосы и трещины, образовавшиеся из‑за подвижек льда. Вид острова Колючин неоднократно заставил участников перехода вспоминать обещание капитана Воронина при первой же возможности взорвать этот чёртов остров, доставивший множество самых разнообразных бед и неприятностей многим экспедициям: здесь льды остановили «Вегу» Норденшельда осенью 1878 г., в Колючинской губе погиб в 1928 г. самолёт «Советский Север» воздушной экспедиции Красинского, осенью 1932 г. здесь потерял винт «Сибиряков», наконец, здесь же «Челюскин» был затёрт льдами, неподалёку Леваневский разбил свой «Флейстер» и, наконец, здесь же состоялась аварийная посадка самолёта Ляпидевского. Неудивительно, что пешеходы как можно скорее пытались пройти это заколдованное место. «На горизонте, несколько к югу от острова Колючина, я хорошо разглядел в бинокль самолёт АНТ-4 Ляпидевского на месте его последней аварии. Сейчас там работает сам Ляпидевский вместе со своими бортмеханиками. Самолёт готовится к полёту обратно в Уэлен» (т. 2, 1934, с. 426).
12 апреля партия Стаханова пришла на мыс Сердце–Камень с главной базой снабжения челюскинцев на их пути к Уэлену, и соответственно, вступали в свои права денежные отношения, от которых челюскинцы отвыкли. Среди прочих встреч в этом примечательном месте Чукотки у Стаханова особое впечатление оставила встреча с бывшим золотоискателем и китобоем норвежцем Бенгтом Волла, встречавшимся на Аляске с Джеком Лондоном, за три десятка лет превратившимся в аборигена Чукотки и обзаведшимся здесь семейством, включая троих детей. Самое примечательное состояло в том, что норвежец потерял кисти рук и, тем не менее, приспособился к полярным условиям, в которых чувствовал себя вполне уверенно и, видимо, не собирался возвращаться в цивилизованные места. Как сложилась его судьба в советские тридцатые — в литературе сведений нет. Норвежец ознакомил визитеров с журналом посещений, в котором они встретили автографы Сельвинского и Муханова, оставив на память гостеприимному хозяину свои собственные. «Утром 15 апреля мы покинули приветливую ярангу. На дорогу жена мистера Волла снабдила нас хлебом, маслом, мясом и сгущенным молоком» (т. 2, 1934, с. 429). Стаханов ничего не говорит о присутствии здесь зимовщиков Особой Северо–Восточной экспедиции, что подтверждает пограничник Небольсин, сведениям которого нет оснований не доверять. Стаханов также описывает пургу, которая в тот же день доставила много неприятностей другим маршрутным группам на их пути к Уэлену.
Несмотря на все задержки и прочие невзгоды, эта группа завершила свой маршрут в этом пункте уже 18 апреля, одолев, таким образом, за неделю почти 500 км, и весьма вовремя, поскольку у Стаханова в результате перенесённых трудностей произошло обострение туберкулёза. Тем не менее, его статья во втором томе «Челюскинианы» буквально переполнена ценными свидетельствами наблюдательного учёного об особенностях пройденного пути, включая встречи как с местными чукчами, так и с пришлым населением.
13 апреля из Ванкарема в путь отправилась партия Буйко, включавшая, по Бутакову,13 моряков с «Челюскина». Она имела в своём распоряжении четыре упряжки и проделала свой путь за двенадцать дней, также испытав по пути немало лишений. Поначалу внимание Буйко привлекали арктические пейзажи мыса Онман. «Великолепное зрелище предстало перед нашими глазами! Казалось, весь мир был как на ладони. Концом, идущим к северу, мыс Онман срывался 300–метровой стеной скал ко льдам моря. В мягком свете уходящего солнца белела выутюженная простыня залива (Колючинской губы. — В. К.). На востоке она окаймлялась высоким стройным мысом Джинретлен. Далёко в море, точно вызов Арктике, вздыбился ввысь Колючин… Спускаясь, мы долго любовались этой картиной. Но Колючин многие вспоминали недобрым словом. Колючин — братская могила кораблей и самолётов» (т. 2, 1934, с. 408–409). Позднее, как и его предшественник, он отметил трудности пересечения по неровному льду Колючинской губы, а также суровые испытания участников перехода во время пурги 15 апреля. «Вижу, что товарищи бредут в полудремоте. Кроме сна они ничего не видят и ничего не хотят. Всё чаще, снова и снова встаёт вопрос: «Спать! Отдохнуть во что бы то ни стало!» Каюры возражают:
— Спать на снегу в пургу — замерзнешь… Скоро будет одна яранга… Надо скорей идти.
Мы поневоле тащимся за нартами. «Одна яранга», однако, не показывается. Мы обессиливаем вконец и бесконечно твердим каюрам:
— …Спать…
Но они и слушать не хотят и только сильнее и напряженнее кричат на собак.
Наконец, среди белесого засилья прочертилась полоска косы. Мы взбираемся на неё. Нарты сворачивают к чёрным столбам, виднеющимся в тумане. Вероятно, это остатки желанной яранги; хозяин, видимо, откочевал… Каюры выбивают ногами из‑под снега мороженый окорок. Он похож на свиное сало. Ножи кромсают мясо, рты смачно жуют его… Спальные мешки выдёргиваются из‑под увязки нарт, миг — и народ валится меж ропаками льда. Каюры не спали. Они караулили рассвет, а некоторые просто заявили:
— Не хотим замерзнуть.
Только три часа мы провели в мешке под снегом» (т. 2, 1934, с. 414–415). Во время такой ночёвки замёрзли три собаки.
Четырёхсуточный отдых на мысе Сердце–Камень восстановил силы участников перехода. «За это время мы успели постричься, умыться, побриться, переколотить полюбивших нас чукотских вшей» (т. 2, с. 415). Оставшийся путь до Уэлена со свежими силами на отдохнувших собаках одолели за двое суток.
На следующий день (т. е. 14 апреля) тронулась в путь партия Ширшова из 8 человек с двумя нартам. Н. Ширшов: «Мы вышли из Ванкарема последней четвёртой партией. Вышли сверх плана, отказавшись от переброски на самолётах, чтобы освободить их для больных, чтобы посмотреть берега Чукотки и поближе познакомиться с бытом чукчей, наконец, чтобы просто «проветрить свои ноги», как говорит Саша Погосов» (т. 2, 1934, с. 434–435). Незапланированный маршрут едва не получил драматическое развитие, так как на попутных пунктах снабжения не оказалось необходимого продовольствия. В этой ситуации решили выходить к мысу Дженретлен напрямую через остров Колючин. Ночевать пришлось в лагере ремонтников, занятых восстановлением самолёта Ляпидевского, поделившихся с ходоками скудными запасами продовольствия. Объединившись с отставшими от партии Буйко, образовали целый санный поезд из пяти нарт, в расчете на двенадцать челюскинцев, не считая местных каюров, что потребовало оригинальной организации использования упряжек: «Группа ребят садится на нарты и уезжают вперед на километра два от остальных. Затем они слезают, идут дальше, а нарты остаются в ожидании остальных. Отдохнувшие собаки быстро везут следующую группу, далеко обгоняя ушедших вперёд, забрасывая эту группу ещё дальше. Ребята послабее распределены по двое на нарту, более выносливые ходоки… по трое на нарту: каждому из них уже приходится ехать не половину, а только треть пути» (т. 2, 1934, с. 436). В результате из пятисот километров пути каждому удалось проехать на нартах не более ста.
Хотя челюскинцев в это время больше всего занимала возможность добраться в обжитые места, откуда можно было вернуться к семьям и рабочим местам там, на Большой земле, радиограмма за подписью членов Политбюро во главе со Сталиным известила их о предстоящем награждении, что и было оформлено решением ЦИК от 20 апреля 1934 г. Все 104 челюскинца были награждены орденом Красной Звезды, семь пилотов, командиров воздушных машин — орденами Ленина с одновременным присвоением им звания Героев Советского Союза.
Спустя почти две недели для Хмызникова настала пора вылетать в Уэлен. «Всех нас, последних, оставшихся в Ванкареме, забирают три самолёта. Больных Расса и Комова с доктором Никитиным и штурмана Павлова забирает Доронин в свою закрытую пассажирскую кабину. Часть людей берёт самолёт Каманина, и, наконец, Бабушкина, Леваневского и меня — Водопьянов.
Часа через два быстроходная машина Водопьянова приносит нас в Уэлен. Но что это? На аэродроме не видно самолёта Доронина… Оказывается, в пути сдал мотор, и Доронин должен был сделать вынужденную посадку. Без всякого аэродрома ему удалось благополучно сесть, подправить мотор и снова взвиться вверх.
Уэлен поразил нас своими размерами. После разбросанного на большом пространстве десятка яранг Ванкарема он показался настоящим городом. Город, состоящий из яранг, вытянулся на косе, отделяющей лагуну от моря. На лагуне расположился «аэропорт», имеющий котёл для согревания воды моторов, ряды бензиновых бочек, разбросанные бидоны и разную авиационную утварь. На краю аэродрома из‑под снега торчат огромные прямоугольные крылья поломанного самолёта Ляпидевского «АНТ-4»…
…Яранги в Уэлене по величине больше ванкаремских. Часть яранг сделана из дерева с железными крышами стандартного типа. Собственно чукотскую ярангу эти стандартные домики напоминают лишь по своей форме. В селении имеется и несколько настоящих домов; в них помещаются исполком, школа, радиостанция и другие учреждения.
Сейчас Уэлен заполнен челюскинцами. Сюда же подходят отставшие товарищи пеших партий. Эти полтысячи километров, которые им пришлось сделать пешком, часто в пургу, иногда чуть не голодая, были очень трудны. В одном из домов, превращённых в наши общежития, я увидел Пе Пе Ширшова. Лицо у него загорело, устало смотрят глаза.
— Ну как, Пе Пе, прошёл твой поход?
— Очень трудно было. Всё не могу прийти в себя, а завтра надо на собаках в бухту Лаврентия» (1936, с. 234–235).
Однако далеко не всё благополучно обстояло здесь, казалось бы, при самом успешном завершении грандиозной спасательной операции, что засвидетельствовал врач Никитин: «Прилетев в Уэлен, я узнал, что число заболевших продолжает увеличиваться. Тяжёлая дорога на собаках, которую проделали около 60 % всего коллектива, и недостаточное питание в пути ещё более ослабили челюскинцев. Свалился Бобров, заболел зоолог Стаханов» (т. 2, 1934, с.354). Не отрицая приведённых примеров, всё же более вероятным представляется обычная вспышка инфекций, возникающих при контакте зимовщиков с обитателями материка.
Теперь, задолго до сроков начала обычной навигации, предстояло перебросить челюскинцев, а также переживших две зимовки участников Особой Северо–Восточной экспедиции, включая «работников Дальстроя» всех рангов и положений, в жилые места чукотского побережья, доступные для подхода судов на исходе зимы. Этот процесс также отражён в воспоминаниях участников. Так, Березин добрался до культбазы с больницей в бухте Лаврентия 29 апреля, где был оперирован. К тому времени там находилось 16 больных, из них шесть человек в тяжелом состоянии. Особо сложная ситуация возникла в связи с заболеванием Боброва, у которого обычный аппендицит грозил перейти в перитонит, но, к счастью, вовремя сделанная операция завершилась благополучно. Ситуация в бухте Лаврентия оставалась сложной, прежде всего в связи с материальным обеспечением, как и по стране в целом. Так, Семёнов в статье «В бухте Лаврентия» отмечает отсутствие белья (местные врачи делились собственным с женщинами «Челюскина», позже ситцем выручила местная кооперация), не было угля (собственным поделились пограничники), даже с продовольствием дело обстояло далеко не благополучно: «В недрах самой культбазы, у местной кооперации, у пограничного отряда, у местного населения разыскали добавочные продовольственные ресурсы: нашлось немного, но это немногое позволило обеспечить всех больных правильным питанием» (т. 2, 1934, с. 442).
Этот же источник отмечает, что позднее «мало–помалу жизнь челюскинцев в бухте Лаврентия наладилась. Во–первых, силами челюскинцев, прибывших первыми в бухту Лаврентия, было создано отличное общежитие. Каждого вновь прибывшего встречала чистая тёплая комната, а в комнате — самодельная чистая койка, на койке чистый матрац, накрытый ситцевой простынёй. Для каждого раздобыли одеяла. Не хватало подушек. Прибывшим последними пришлось подушки «сочинять». Наладили отлично общую столовую. Нашлось достаточное количество посуды. Повара собственные, пекари — тоже, уборщики, подавальщики — тоже. Не забудем, всё это происходило на Чукотке!
Была даже вытоплена баня. Баня имелась на культбазе, но её не топили полгода. Для того, чтобы вытопить её, понадобилась тонна угля. Зато в бане, кроме челюскинцев, вымылось всё население культбазы. На складах культбазы челюскинцы разыскали неисправное динамо, испорченный киноаппарат и запас изорванных фильмов. Всё это починили и организовали для всего населения культбазы периодические киносеансы. Сеансы давались через день» (т. 2, 1934, с. 446–447).
Когда 14 мая пароход «Смоленск» достиг бухты Лаврентия, основная задача состояла в том, чтобы доставить лежачих больных за двенадцать километров, из них пять — по торосам. Эта задача была решена с привлечением сорока упряжек, растянувшихся почти на два километра. Тем временем происходила переброска большинства челюскинцев в бухту Провидения, более подходящей для захода судов. 7 мая началась посадка на «Смоленск», но одновременно выяснилось, что больных в бухте Лаврентия невозможно доставить вовремя в Провидения, и таким образом, «Смоленску» предстоял заход туда. 24 мая больные были погружены и «Смоленск» снова направился в Провидения на рандеву с «Красиным» и «Сталинградом», доставившим два дирижабля и трактора для спасения челюскинцев. Очевидно, это задание отменялось, а трактора могли пригодиться на будущее, тем более, что Провидения предстояло стать базовым портом на восточном участке Северного морского пути. Дело шло к завершению «Челюскинианы», кульминацию которой по замыслу руководства страны и партии, предстояло сыграть на Красной площади столицы — партия желала получить своё, эксплуатируя челюскинскую тему до конца не только перед лицом собственного народа, но и перед удивлённым человечеством. Оставалось, чтобы удивление перешло в восторг перед возможностями нового строя и его авангарда, что и стало основой челюскинской мифологии в будущем, как она воспринималась разными слоями советского общества и за рубежом.
Пережившие катастрофу спасены, герои названы и отмечены, но последующие события не менее показательны для своего времени, чем гибель судна и спасение экипажа, поскольку по–своему характеризуют эпоху. Не случайно даже семьдесят лет спустя одни расценивают всё последующее как своеобразное шоу на высшем партийно–государственном уровне, а другие считают данью народа своим лучшим представителям, явившим пример мужества и отваги для последующих поколений.
Характерна реакция челюскинцев на отношение к ним людей с Большой земли, хотя пережитое не могло не отразиться на их моральном состоянии, тем более что их пребывание на Чукотке в значительной мере оставалось выживанием в экстремальных условиях Арктики. Тем не менее, совершенно очевидно, что челюскинцы не могли не видеть, что лётчики и обитатели неведомой им прежде Чукотки сделали всё для их спасения. Хотя в том же положении оказались и их попутчики из «работников Дальстроя», затесавшиеся в их ряды по прихоти случая, претендовать на какую‑либо причастность к подвигу челюскинцев, по советским канонам, этим людям не полагалось — а жаль, их свидетельства могли бы оказаться не менее ценными для историка…
Березин–старший (для которого возвращение на Большую землю было предметом особых ожиданий, о которых ниже), оказавшийся в конце мая на борту «Смоленска», отметил внимание, которое оказали челюскинцам экипажи других судов: («Это была замечательная встреча», т. 2, 1934, с. 433), даже с учётом редакционной правки, — и это было только началом… Петропавловск встречал челюскинцев и лётчиков почётным воинским караулом на молу с оркестром, помимо многочисленных приветственных плакатов. За последующие три дня — митинг с выступлениями представителей виновников торжества и местных советских и партийных органов, затем поездки с выступлениями на предприятия и совхозы.
Гораздо более масштабная встреча ожидала во Владивостоке пассажиров «Смоленска». Можно не сомневаться, что местные партийные и советские органы сделали свою работу, но и неподдельный энтузиазм простых людей не вызывает сомнений. «Пронзительным стоном гудков приветствуют его все стоящие в бухте суда… Рокот гудков переплетается с размеренными ударами салюта орудий на берегу… Вот и пристань с вытянутой прямой ниточкой почётного караула и небольшой группой встречающих… Изогнутые улицы очерчены такими же ниточками почётной встречи с бахромой жителей. Вершины сопок, как кустарником, покрыты толпами народа… Сходим на берег. Садимся в поданные автомобили и едем по улицам. Шпалеры народа с букетами в руках. Цветы летят в машины. Короткий парад на главной улице — и нас увозят в гостиницу… Три дня пребывания во Владивостоке проносятся мигом. Доклады, собрания, посещение школ и воинских частей чередуются одно за другим. Наступает день отъезда…
…В окне уже бежали деревья с нависшими листьями, хвоей мелькала маленькими иглами лиственница. Поезд замедлил ход. Темнело. За окном неожиданно для нас послышался шум, крикливый гул и ритмические звенящие удары оркестра.
— Что это? — встрепенулся Гаккель, вытягиваясь к окну. — Да ты посмотри, что здесь творится! — вдруг вскрикнул он… Поезд подходил к небольшой станции. Весь перрон и всё прилегающее к нему пространство было запружено народом. Плескались лентами плакаты с надписями: «Привет героям Арктики»… «Героям Арктики…» «Славным челюскинцам»… В руках встречающих цветы…» (Хмызников, 1936, с. 244–247). И так на всём протяжении пути до столицы…
«Встречи продолжались и днём на больших и малых станциях. Даже там, где экспресс останавливался лишь на минуту, стояли толпы по–праздничному одетых людей. Знамёна, плакаты, оркестры, то военные, то составленные из колхозников. Временами поезд замедлял ход между станциями. И здесь стояли либо зелёные шеренги вышедших к железнодорожному пути красноармейцев, либо те же, в ярких красках, толпы колхозников, пришедших из медвежьих мест… взглянуть на наш поезд. В стороны от встречающих стоят вереницы разукрашенных телег, сибирских кошевок и верховых лошадей, на которых приехали встречающие» (там же, с. 248) и т. д.,и т. п. Даже если челюскинцев объявила героями партийная верхушка, то народ из глубинки с этим согласился и, добиваясь встречи с героями, хотел убедиться в этом, так и в собственной причастности к событиям где‑то на краю всего живого… Сибирякам и дальневосточникам, помнившим озверение Гражданской войны, надо было убедиться, что настали новые времена, искупавшие их участие в брато–убийственном взаимном истреблении, а о роли партии и лично товарища Сталина в спасении челюскинцев они едва ли задумывались…
Одновременно челюскинская эпопея становилась фактором не только внутренней, но и внешней политики, что отражено в воспоминаниях советского посла в США А. Трояновского, с многочисленными ссылками как на прессу (например, «Нью–Йорк таймс»: «В течение многих лет из Арктики не поступало более драматических известий. Мир узнавал о том, что там происходило ежедневно, благодаря радиосвязи и отваге советских лётчиков»), так и специалистов, особенно авиаторов. Например, командующий армейской авиацией генерал Фулуа считал, что «спасением челюскинцев вписана блестящая страница в историю авиации. Бесстрашные авиаторы оказались на высоте положения. Авиация американской армии поздравляет советскую авиацию с великолепным достижением» (т. 3, 1934, с. 402). Мнение морского лётчика Монтгомери отражало точку зрения более узкого специалиста, поскольку, по его мнению, «при подобном состоянии льдов более или менее было невозможно осуществить спасение. Это очень большое, небывалое достижение».
Трояновский приводит более обширный перечень отзывов, для которых характерна общая тональность восхищения работой своих коллег из Советской России. Неменьший интерес к событиям в Чукотском море проявили и американские полярные исследователи, начиная с девяностолетнего Адольфуса Грили, пережившего трагическую зимовку в Арктике, при встрече со Шмидтом и Ушаковым выразившего им свои симпатии. Характерно, что на аналогичных встречах присутствовали также видные американские полярные исследователи Стефанссон, Уилкинс и другие, высоко оценившие подвиг челюскинцев и наших лётчиков.
На фоне выжидательного и противоречивого отношения к происходившему в Советском Союзе поездка Шмидта и Ушакова через Соединённые Штаты по сути превращалась в своеобразную дипломатическую миссию по установлению взаимопонимания между обеими странами. Это обстоятельство было отражено Трояновским сухими строками, характерными для дипломатического отчёта и вместе с тем отражающими суть дела:
«15 мая в Вашингтоне Шмидта встречали на вокзале все сотрудники посольства с семьями и представителями некоторых учёных обществ и корреспондентами газет.
Я представил Шмидта президенту Соединённых Штатов Франклину Рузвельту, который тепло встретил Шмидта, долго беседовал с ним и поздравил его со счастливым спасением. Государственный секретарь Хэлл, которому я представил Шмидта и Ушакова, сказал, что приятно видеть пример исключительного героизма и самозабвения в наше мрачное время. Заместитель государственного секретаря Филипс сказал, что настоящий героизм челюскинцев и спасших их лётчиков является примером, вдохновляющим молодое поколение для подвигов. Американское правительство через своего посла в Москве Буллита официально поздравило советское правительство с благополучным исходом всего этого героического дела» (т. 3, 1934, с. 402).
Французский «Пти журналь» 2 июня отметил, что «пароход привёз в Европу Шмидта, имя которого начертано в золотой книге науки наряду с именами Амундсена и Шарко. Шмидт руководил экспедицией «Челюскина» о необычайных приключениях которого в стиле Жюля Верна писала вся мировая пресса». Дальнейшее следование Шмидта на родину прослеживается по польской прессе, когда, например, «Экспересс поранны» сообщил своим читателям, что «после катастрофы «Челюскина» очутился на высоте задачи, поставленной перед человеком. Он проявил талант и мужество вождя, не допустив во время катастрофы паники, и организовал лагерь на затерянном в арктической пустыне ледяном поле».
Если во внутренней политике государство не брезгует самой дешёвой пропагандой, то мировое общественное мнение на дешёвку не клюёт — и то обстоятельство, что события на «Челюскине» и последующие воздушные операции имели для нашей страны международное значение, лишь подчёркивает роль самих челюскинцев и их непосредственного руководства, не говоря о спасателях–пилотах, как в глазах советского народа, так и простых людей всего мира. Что касается роли «руководящей и направляющей», то это, очевидно, объект специальных исследований, с учетом дивидендов, полученных по результатам завершения спасательных операций.
Вернёмся, однако, на просторы Страны Советов, куда Шмидт добрался, опережая челюскинцев, причем к его приезду в СССР явно готовились, что запечатлено советской прессой тех лет. Описывая возвращение Шмидта в родную страну, известный писатель Лев Кассиль приводит характерные детали: «Родина не давала ему спать. Столько раз виденная во сне, она в ту ночь будоражила явью, нарушала покой вернувшегося путешественника. Родина шумела на перронах Минска, Борисова, Орши. Она будила комиссара челюскинской льдины оркестрами, хоровыми приветствиями. Она полыхала под нашими окнами наших вагонов факелами, прожекторами, знаменами…
… — Товарищ профессор! — кричали у вагонов.
— Отто Юльевич! Отто Юльевич! — настойчиво звали с перронов.
— Да здравствуют победители льдов! — перекрывали гул встречи дружные ребячьи голоса, хотя, по всем правилам, на этой географической широте детям давно было бы пора спать…
Снова и снова падала рама, и усталый, ещё больной, с запавшими глазами и немножко всклокоченный, Отто Юльевич, прикрыв рукой ворот пижамы, высовывался из окна.
— Худой всё‑таки, — слышалось из толпы, затихавшей после оваций. — Э–э, поседел, — сокрушались встречающие. И произносилось это таким тоном, словно люди на этой маленькой станции всю жизнь были неразлучны с Отто Юльевичем и только недавно расстались» (1959, с. 321).
Тем временем и поезд с челюскинцами, с которыми встречающие столь щедро делились своим воодушевлением и энтузиазмом, с каждой минутой приближал их к родным и близким, хотя их повседневная жизнь отнюдь не была безоблачной. Бывалый радист Кренкель, надёжно обеспечивавший своё руководство необходимой информацией, теперь сам оказался жертвой охотников за новостями: «Полного покоя всё же не было. На больших станциях подсаживались корреспонденты, очевидно, всех газет и журналов Советского Союза, начиная от «Мурзилки». Нас всех без исключения терзали. Приходилось отбиваться от шквала вопросов.
— Расскажите о самой–самой страшной минуте.
— Что вы в этот момент думали?
— Что ощущали? Что делали?
— О чёрт! Ничего я не думал и ничего не ощущал по простой причине — не до того было.
Так или иначе, мы хорошо уживались с литературной братией. Эти славные ребята хотя и мучили нас, но в благодарность за мучения рассказывали нам новейшие анекдоты.
Вторым занятием были обязательные дежурства и днём, и ночью. На любой станции, малой или большой, в любое время суток нас трогательно и торжественно встречали. Поезд замедляет ход, и ещё не слыша, какой марш играют, уже улавливаешь рявкание геликонов и удары барабана — пора выходить в тамбур, открывать дверь и быть готовым к очередной речи. При слабом освещении маленькой станции видишь в полутьме море голов. Славные, милые люди! Вместо того чтобы мирно спать, они пришли нас приветствовать!
Под конец дежурства, если на него пришлось много остановок, не говоришь, а хрипишь сорванным голосом и принимаешь охапки цветов. Нам дарили цветы, конфеты и торты… А вот зачем подарили двух живых поросят, я до сих пор не знаю» (1973, с. 354–355).
Однако были и мероприятия другого рода, типичные для того времени, необходимость и значимость которых, например, у Семёнова, не вызывала сомнения: «Я сидел в купе у Васи Копусова рядом с ним, а по другую сторону сидел Герой Советского Союза Сигизмунд Леваневский. Краснея, как ребенок, он говорил мне и Копусову о своём желании вступить в партию. Леваневский рассказал: в продолжении двух месяцев он живёт среди челюскинцев, дышит воздухом их коллектива. Челюскинцы его многому научили. Он хочет быть коммунистом. Это было необыкновенное заседание. В шести тысячах километров от Тихого океана и в трёх тысячах километров от Москвы…
…Лица у всех счастливые, радостные, гордые. Мы переживаем радостное чувство итогов. Не знамена, плакаты, оркестры, митинги, цветы, крики «ура!», сопровождающие наш поезд от станции к станции, вызывают в нас это радостное чувство — нечто другое, гораздо более глубокое и волнующее. В руках у Задорова — кипа различных бумажек. Это заявления и автобиографии челюскинцев–лётчиков, желающих вступить в партию» (т. 2, с. 452–453).
Это документальное свидетельство непосредственного участника событий показательно во многих отношениях. Для многих (включая самого Семёнова) это заседание — итог, вершина жизненного взлёта, для других (того же Леваневского) — ещё одна ступень для дальнейшего движения вверх, включая профессию. Характерно, что сам Герой Советского Союза (чьи заслуги вызывали сомнение у современников), обращаясь к мнению челюскинцев, тем самым признаёт их ведущую общественную роль в событиях, как прошедших, так и будущих. Ещё деталь — желание вступить в партию целого ряда участников событий (насколько искренне — вопрос другой) Семёнов отмечал и ранее, но, очевидно, «добро» на «партийную мобилизацию» из рядов челюскинцев поступило только теперь, спустя неделю после их высадки на «материке», который для полярников начинается во Владивостоке. Очевидно, такому предположению есть документальное объяснение, которым мы, однако, не располагаем. Используя старый партийный штамп — «есть мнение» (теперь уже у историков), что партия начала эксплуатацию челюскинских событий, убедившись предварительно, что народ принял их близко к сердцу. С точки зрения исследователя–историка, описанное — лишь цветочки, ягодки ждали пассажиров поезда впереди… Закрывая партийную тему, лишь отметим, что побудительные мотивы приобщиться к партии у разных людей, как обычно, оставались разными, хотя общий настрой подъёма, несомненно, сыграл свою роль. Тем не менее, далеко не все желающие получили желаемое — например, гидробиологу Ширшову (за какие‑то грехи молодости) пришлось ждать своего часа ещё четыре года…
Между тем столица всё ближе. Шмидт, добравшийся наконец до Москвы через Штаты, Атлантику и Западную Европу, встречал челюскинцев в Буе. «Как похудел после болезни Отто Юльевич! Впалые щеки, посеревшее лицо. Но глаза не те, что были, когда его вывозили из лагеря. Тогда они были скорбные, с болью, сейчас они насыщены радостью, бодрые и живые. Жмёт нам руки, садится в поезд, и мы вместе едем в Москву» (Хмызников, 1936, с. 249).
В Ярославле пассажиров из Чукотского моря встречали родные. «Мы ныряем в море смеющихся радостных людей. Рукопожатия, объятья, а вот и зажатая среди встречающих мелькнула моя Наташа… Ура! Вот наконец она!..
…Машинисты изо всех сил старались, ведя наш поезд по стране, а мы, поелику возможно, платили им взаимностью. На каждом перегоне и челюскинцы, и лётчики делегировали своих представителей в паровозную будку. Очень уж хотелось ответить на чувства этих прекрасных людей, которые они проявляли к нам, своим пассажирам.
До Москвы пять часов езды, но они промелькнули как минуты. Семейные, московские новости докладывала Наташа, стоя со мной у открытого окна в коридоре. Стояли в обнимку и целовались, целовались… На окружающих нам было в высшей степени наплевать, потому что они занимались тем же самым. Часто на бреющем полёте нас обгоняли самолёты с надписью «Привет челюскинцам!». Замелькали знакомые места: Пушкино, Мамонтовка, Клязьма. Такое впечатление, что чуть ли не все дачники высыпали, чтобы нас приветствовать» (Кренкель, 1973, с. 356).
Так относились к полярникам в нашей стране в 30–х годах прошлого века, как к первопроходцам космоса в 60–х! Что было, то было… Поскольку Каланчевская площадь была разрыта при постройке метро, во избежание Ходынки поезд завернули на Белорусский вокзал, где челюскинцев встречали с отданием воинских почестей и рапортом начальника почётного караула Шмидту:
— Товарищ начальник героической экспедиции! Товарищи Герои Советского Союза! Для вашей торжественной встречи построен караул от войсковых частей московского гарнизона, вооружённого отряда Осоавиахима и сводного отряда Аэрофлота!
Народный энтузиазм всё больше уступал своё место большой политике, хотя в челюскинской эпопее хватало и того, и другого. Воспоминания участников сохранили многие детали этого мероприятия, хотя редакционная правка, несомненно, отразилась на свидетельствах очевидцев.
«Садимся в указанную нам машину… Автоколонна медленно начинает двигаться, огибает площадь и выезжает на Тверскую улицу. Узкие тротуары улицы заполнены людьми, исступлённо кричащими «ура!», махающими шапками и руками. Над головной машиной сноп листовок… Со следующего дома снова листовки… Скоро весь узкий, врезанный в дома пролёт Тверской улицы заполнен этим снегом листовок. Ими покрыта и мостовая. Пурга, пурга в Москве в июне… Наши автомобили подкатывают к мавзолею… Оркестр заиграл «Интернационал», сильно, стройно… Из ворот вышла небольшая группа людей. Двигается по направлению к нам. Один поднял для приветствия руку. Это, это… Сталин!.. Громкий голос Куйбышева, разносимый репродукторами, открывает митинг:
— Товарищи! Мне поручено Центральным Комитетом Всесоюзной Коммунистической партии и правительством Советского Союза передать горячий братский привет всем челюскинцам и лётчикам…
…Неокрепший от болезни голос. Растерянное от волнения лицо Шмидта. В бороде и волосах белые блёстки застрявших конфетти.
— Мы были на льду. Нас спасли. Через всю страну — от города к городу — встречала нас приветом наша великая родина. И сегодня мы здесь, в красной столице, перед лицом партии и правительства, перед товарищем Сталиным. Это самый значительный день в нашей жизни…
Слова Каманина, Воронина, Молокова и других…
Парад. Чёткий шаг военных академий, частей, школ. Стройные ряды ветеранов Революции. Вооружённые колонны рабочих» (Хмызников, 1936, с. 249–251) и т. д. и т. п., включая прохождение танковых колонн и пролёт боевых эскадрилий, колонн трудящихся с плакатами и цветами и многое, многое другое.
Несомненно одно — впервые участники полярной экспедиции удостоились в столице приёма на высшем уровне, причём умело срежиссированного. Остаётся вопрос — где неподдельный народный энтузиазм, а где результат работы соответствующих партийных инстанций? Едва ли, читая отчеты о таких встречах, можно провести чёткую грань между тем и другим. Очевидно другое — партия, высказав своё отношение к челюскинцам, и дав «добро» на их спасение, теперь желала получить свою долю, нещадно эксплуатируя челюскинскую тему, как в стране, так и за рубежом. В стране ещё действовала карточная система, и «наверху» понимали значение известного лозунга времен имперского Рима о хлебе и зрелищах. Будущий специалист по общественным отношениям советского времени, анализируя историю «Челюскина», несомненно, отдаст должное и тем, кто достойно обживал льдину в ожидании спасения, и рисковавшим собственной жизнью авиаторам. Однако те и другие оказались заложниками системы, существовавшей в то время на одной шестой суши нашей планеты, что в значительной степени подтверждается их дальнейшими жизненными коллизиями.
Глава 8. Нужен ли был поход «Челюскина»?
….В оценке поздней
Оправдан будет каждый час.
А. Ахматова
Когда спустя много лет трагический опыт многих спонтанных решений, чреватых неоправданными потерями, был наконец сформулирован в известной формуле «хотели как лучше, а получилось как всегда», уроки «Челюскина» оказались поучительными и актуальными по многим причинам для всего советского времени.
Совокупности причин, которые привели к гибели судна, потребовали не просто устранения отдельных недостатков, а гораздо более серьёзных мероприятий в системе Главного управления Северного морского пути в процессе освоения будущей морской трассы.
Во–первых, окончательно стало ясно, что перевозки по Северному морскому пути на обычных морских судах (без которых нельзя было обойтись) без сопровождения ледоколов, неоправданны, с учётом экстремальных условий Арктики. Даже если бы «Челюскин» успешно миновал Берингов пролив, что‑то подобное, похожее на описанные выше события, в том или ином варианте произошло бы в обозримом будущем — и, возможно, с большими жертвами. В этом отношении опыт «Челюскина» оказался не столько полезным, сколько необходимым.
Во–вторых, стала очевидной необходимость создания специальной ледокольной службы на наиболее сложных участках трассы. Не случайно с лета 1934 г. ледокол «Красин» уже обеспечивал ледовые операции на восточном участке трассы, тогда как «Ермак» работал на западе. Позднее, с увеличением перевозок на транспортных судах, понадобился целый ледокольный флот, который частично удалось построить только к началу Второй мировой войны.
В–третьих, обострилась проблема научного обеспечения арктического мореплавания — как необходимой научной информацией с полярных станций и судов ледового патруля, так и внедрением в практику мореплавания регулярного ледового и погодного прогноза. Не случайно, именно в середине 30–х гг. прошлого века выяснилось существование так называемой ледовой оппозиции, когда на востоке и западе трассы Севморпути выяснились противоположные тенденции в развитии сезонных процессов для ледовой обстановки: снижению ледовитости на западе отвечает её увеличение востоке и наоборот. Однако льды в Чукотском море (где определилась судьба «Челюскина») по–прежнему оставались непредсказуемой головоломкой, для решения которой понадобились десятилетия. В целом, совокупность обстоятельств, определяющих условия ледового мореплавания в экстремальных условиях Арктики, в полной мере обозначились в связи с походом и гибелью «Челюскина». Очевидно, чтобы нормально плавать по трассе Северного морского пути, были нужны новые полярные станции, новые научные исследования в море и в атмосфере, новые экспедиции… Соответственно, количество полярных станций по трассе Северного морского пути за время с 1932 по 1935 г. возросло с 16 до 38, что само по себе уже показательно для развития полярной науки.
В–четвёртых, выяснилась необходимость специальной полярной авиации для работ в условиях Арктики с баз, находящихся непосредственно в условиях высоких широт, причём в любое время года, что и привело к созданию в системе ГУ СМП специального подразделения — Управления полярной авиации.
Опыт «Челюскина» оказался бесценным на фоне последующих потерь на трассе Северного морского пути, исключая военный период.
Если учесть количество погибших транспортных судов на трассе Северного морского пути в последующие полвека («Рабочий» в 1938 г., «Моссовет» и «Казахстан» в 1948 г., «Севан» в 1957 г., «Вилюйсклес» в 1964 г. и «Нина Сагайдак» в 1983 г.) то ответ напрашивается сам собой, особенно если сравнить со статистикой морских катастроф на других морях. При этом обошлось в отмеченных случаях без человеческих жертв, а спасение экипажа с последнего из перечисленных судов было завершено всего за полтора часа. Сколько было сделано, чтобы добиться таких результатов, включая поход «Челюскина», достаточно очевидно.
Описанным перечнем организационно–технических мер дело не ограничилось. На фоне партийных пропагандистских мероприятий Шмидт объявил призыв в Арктику нескольким поколениям советских людей, открыв для них возможности профессионального роста и новое поле деятельности, во многом нетрадиционное, включая новые профессии — моряка–ледокольщика или ледового разведчика. Не случайно в университетах Москвы и Ленинграда появились вскоре кафедры североведения, готовившие специалистов полярного профиля. В формировании сознания советского человека в предвоенное время Арктика сыграла такую же роль, как в послевоенное время — космическая тема, породив свою культуру и литературу.
Особо стоит вопрос о мифотворчестве, связанном с челюскинской эпопеей, истоки которого уходят в 30–е годы прошлого века. Челюскинское мифотворчество возникло в советское время как попытка общественного мнения страны в условиях информационных ограничений отстоять своё право на самостоятельность оценок. Любые мифы интересны тем, что претендуя на исправление несовершенства жизни, они характеризуют уровень собственных создателей. А жизнь в полном смысле, по О\'Генри, «даёт форы», когда её реалии превосходят поиски мифотворцев по совокупности всех жизненных обстоятельств, оставляя потребителей мифов сплошь и рядом даже не в кильватере истории, а в мутной струе её отходов. Главным при этом остаётся оценка достоверности, использованной для такого заключения необходимой исходной информации на всех уровнях.
Советский период мифотворчества, несомненно, начался с публикации трёхтомника «Челюскинианы» в издании «Правды» в 1934 г. В глазах многих читателей, пытавшихся сформировать собственную точку зрения на события в далёкой, незнакомой им Арктике, трёхтомник «Челюскинианы» остался даже не советским, а чисто пропагандистским изданием партийной направленности — тем более что первый том открывался статьёй главного редактора Л. З. Мехлиса (в то время главного редактора «Правды»), в которой, помимо множества указаний на роль ВКП(б) и лично товарища Сталина в судьбе челюскинцев, содержалось следующее утверждение:
«Коммунисты доподлинно выполнили в ледяной эпопее роль авангарда. Прочтите двухтомник «Поход «Челюскина», изучите внимательно протоколы ячейки на льду, вслушайтесь в рассказы беспартийных. И вы увидите, как партийная ячейка организовала челюскинцев, как она внимательно следила за поведением и настроением каждого человека, находя доходчивые слова и мысли, чтобы воспитать недостаточно стойких. На этом маленьком примере вы найдёте, как формируется общественное мнение, как партия большевиков ведёт массы в бой, безраздельно владея умами великих народов нашей страны» (т. 1, с. 4). У людей со склонностью к формированию собственной точки зрения, но предельно перегруженных беспардонной коммунистической пропагандой, ничего кроме духовного отторжения подобные утверждения не вызывали, тогда как в наше время необходим анализ всей «Челюскинианы».
Начнём его с текста Боброва, которого сам Шмидт аттестует как «помощника по политической части, старого большевика» (т. 1, с. 25), хотя в подписи под портретами участников он указан просто как «заместитель начальника экспедиции». Правда, настораживает то, что «комиссар», определявший кому писать и как писать, отсутствует в редакционном коллективе (Шмидт, Баевский, Мехлис), На этом, однако, странности не кончаются, потому что Бобров отсутствует среди авторов 1 тома, а во втором ему принадлежат только два небольших очерка, один из которых описывает ликвидацию лагеря Шмидта, в котором осталось лишь шесть человек — какая уж тут партийная работа! Зато название другого очерка «Воспитание боевого коллектива» полностью отвечает утверждению товарища Мехлиса, и нам только остаётся убедиться, как оно выполнялось славными челюскинцами.
А вот как: «…В Мурманске было списано из команды и обслуживающего персонала около 15 человек, не пригодных к арктическому походу. В Мурманске же нашему партколлективу пришлось сменить своё партийное руководство… Серьёзную культурную работу мы начали вести после Мурманска. В первую очередь мы решили ликвидировать неграмотность и малограмотность среди строительных рабочих. Благодаря упорству Зинаиды Александровны Рыцк нам удалось вовлечь в работу всех строительных рабочих… Кочегары и матросы ранее скептически относились к занятиям строителей, но когда убедились, что многие строители по знаниям стали превосходить их, решили учиться. Здесь надо отметить большую роль комсомольской ячейки. Комсомольцы не только сами пошли в кружки, но и повели за собой беспартийных. На корабле была налажена техническая учёба.
Особенно выделился в учёбе и в работе печник Дмитрий Ильич Березин. Начал он обучаться с азов, но в скором времени перегнал своих товарищей. (Знал бы комиссар какую змею пригрел на груди своей! — В. К.)Таких, как Березин, у нас выявилось много. В начале февраля… были произведены испытания для всех учащихся. На этих экзаменах присутствовали все члены экспедиции во главе с Отто Юльевичем Шмидтом… Мы хотели создать техникум. Но, к сожалению, наши планы разрушили события 13 февраля. На корабле успешно шло изучение иностранных языков. (Дальше следует перечисление групп, участников и руководителей. — В. К.) Со студентами из команды занятия по высшей математике вёл Отто Юльевич… Много внимания уделяло руководство экспедиции организации культурного отдыха и развлечений. Были созданы кружки: музыкальный, фотокружок, изобразительный, литературный, драматический, шахматный, физкультурный, стрелковый… Центром общественной работы нашего коллектива была стенгазета и «Ледовый крокодил»… Каждый челюскинец или учился, или учил, а чаще всего совмещал то и другое. Широко поставленная политическая, культурная, массовая работа, огромное влияние партийной организации — всё это в значительной степени воспитало коллектив и подготовило его к тем трудностям, с которыми пришлось столкнуться на льдине. В лагере Шмидта мы, конечно, не могли вести такую культурную работу, как на «Челюскине». Но в пределах возможного учёба продолжалась и на льдине. Мы устраивали лекции историко–географического характера, проводили беседы о литературе, пытались заниматься немецким и английским языками. Для научных работников прочитал цикл лекций по диалектике О. Ю. Шмидт.
Центром массовой работы на льдине были палатки. (В очерке Семёнова это утверждение расшифровывается — см. ниже. — В. К.).
На льдине первое время нервничали строители. Но им было нетрудно внушить, что спасение их в одинаковой степени важно правительству, как и спасение любого научного работника. Вскоре они убедились, что очередность эвакуации со льдины после отправки женщин и детей проводится только по одному признаку — по состоянию здоровья, и с этим они полностью согласились.
Я считаю, что эти успехи достигнуты также благодаря отсутствию у нас знаменитой полярной чарки… Только три товарища одно время вели себя на льдине не так, как следовало… Был устроен товарищеский суд. В результате и эти товарищи коренным образом изменили своё поведение…
…Личные интересы не играли никакой роли. Каждый сознавал, что только коллективом сможем мы выйти из того тяжелого положения, в котором мы очутились…
…Так в трудностях и в борьбе коммунисты создавали и создали монолитный коллектив челюскинцев» (т. 2, 1934, с. 112–114).
Для рядового «гомо советикус», хоть однажды побывавшего на заседании партийного комитета, ясно, что приведённый текст является не более чем отчётом культорга, который по своему положению в любом коллективе несравним с уровнем парторга и, тем более, комиссара. То ли сам Бобров видел себя больше культоргом, чем комиссаром, то ли кто‑то из редакционной тройки пожелал, чтобы текст Боброва из отчёта комиссара снизился до уровня культорга…
Однако надо учитывать, что в составе экспедиции был ещё один человек со сходными полномочиями — секретарь партийной организации «Челюскина» машинист В. А. Задоров, прерогативы которого по смыслу ограничивались только экипажем. По своему жизненному опыту, а главное — по партстажу Задоров слишком уступал Боброву, и тем не менее машинист, он же студент и он же парторг, представлен в 1 томе тремя очерками, зато во втором вообще отсутствует, — очевидно, редакция посчитала, что его партийные полномочия исчерпаны с гибелью «Челюскина».
Был ещё один партиец, который мог поведать о руководящей роли партии в жизни челюскинцев — Пётр Семёнович Буйко, начальник несостоявшейся смены на остров Врангеля. Однако его работа до назначения на указанную должность (помощник заведующего отделом кадров Ленинградского обкома ВКП(б), объясняет его сдержанность в интересующей нас теме, видимо, особенностями профессии. Об этом можно только пожалеть, тем более что два его очерка в «Челюскиниане», несомненно, интересны и написаны хорошим языком.
Наиболее полно роль коммунистов, как в походе «Челюскина», так и в последующих событиях, отражена в очерке «Ячейка на льду» С. А. Семёнова, писателя и секретаря экспедиции. Последнюю должность он, видимо, унаследовал от Муханова, после отправки его на материк. Важно, что Семёнов мог наблюдать авангард советских людей в самых решающих событиях экспедиции. Без большого количества цитат здесь не обойтись, в силу их значимости, начиная с вводной, раскрывающей намерения самого Семёнова: «История о том, как усилиями коммунистов создан коллектив челюскинцев… — это большая тема. Несомненно, она привлечёт внимание десятков писателей, художников, драматургов, поэтов» (т. 2, 1934, с. 115). Не дожидаясь, пока означенные профессионалы доведут своё творчество до жителей Страны Советов в полном объёме, Семёнов обозначил свои трудности в предстоящей работе с коллективом: «Это было сборище разнообразных профессий, необходимых в любой полярной экспедиции. Большинство даже не успело перезнакомиться друг с другом. В Мурманске разнообразие сборища увеличилось. На борт приняли значительную группу строительных рабочих, отправлявшихся для временных работ на остров Врангеля. Все они — недавние крестьяне, мелкие и единоличники, часть из них была вовсе неграмотна. Никто не видел моря. Присутствие этой группы строителей в составе экспедиции означало, что предстоявшая работа по созданию единого сплоченного коллектива будет нелёгкой… Получилась удивительная цепь, нижние звенья которой начинались неграмотным плотником и домашней хозяйкой, а верхние оканчивались профессором математики и философом» (там же, с. 116).
При этом Семёнов забыл или пропустил, как не имеющую значения, одну особенность — если научные работники и большая часть экипажа, как и зимовщики острова Врангеля, были добровольцами, то для несчастных строителей, недавно переживших шок коллективизации, предстоявшие испытания, несомненно, были неменьшим шоком, как и последующее возвращение, с которым многие из них справились на уровне Березина, не растерявшегося, как мы знаем, в самых сложных жизненных обстоятельствах. Даже если эти люди стали в советских условиях вынужденными добровольцами (как и капитан Воронин!), понятно то беспокойство, которое они внушали авангарду — коммунистам, которые сами в своём присутствии на борту «Челюскина» видели «огромное преимущество, какого не знала ни одна из буржуазных (!!! — В. К.) экспедиций прошлого», смело навязывая остальным свою точку зрения: «Челюскинцы сознавали это преимущество и гордились им. Даже больше: челюскинцы ощущали его как надёжную опору» (т. 2, 1934, с. 117). Сам же Семёнов считает, что «коллектив челюскинцев изменился, но изменился в сторону роста. Отдельные товарищи выросли просто изумительно. В палатках, раскинутых среди ропаков и торосов, они укрепили своё мировоззрение, как это можно сделать в лучших комвузах нашей родины» (т. 2, 1934, с. 118).
На фоне этих утверждений коммунисты странно проявили себя в Чукотском море, когда решалась судьба похода во взаимодействии с «Литке», описанная самим же Семёновым в очерке «Отпустить «Литке»? Отпустить!». Логично ожидать, что с позиций «руководящей и направляющей силы», как это было сформулировано позднее, не нарушая руководящих прерогатив ни Шмидта, ни Воронина, парторганизация могла бы довести до комиссии Куйбышева свою точку зрения на сложившуюся ситуацию во взаимодействии «Челюскина» и «Литке», но не сделала этого. А на «знаменитом полумолчаливом совещании» (т. 1, 1934, с. 170,) по определению самого Семёнова, своего слова не сказали ни Задоров, ни Бобров. Малая активность Боброва, видимо, объясняется тем, что он так и не оправился от шока, пережитого во время ареста два года назад и, с этой точки зрения, не оправдал надежд Шмидта. По совокупности этих сведений роль коммунистов на этапе плавания отнюдь не выглядит определяющей в его успехе.
Тем интереснее их роль тут же после гибели судна, которая, по Семенову, выглядела так: «Члену бюро Колесниченко и секретарю ячейки Задорову пришло в голову собрать разбросанное по льду оружие и патроны и поручить хранение определённым товарищам. Они заявили (! — В. К.) об этом Шмидту. Шмидт приказал выполнить немедленно» (т. 2, 1934, с. 120). И это на фоне, когда «никто не управлял самой работой, не регулировал её, не отдавал никаких распоряжений» (там же, с. 121). Полное руководящее бездействие, и только коммунисты (опасаясь то ли вооружённого восстания недавних тружеников села, то ли актов пиратства со стороны экипажа) приняли верное решение, никак не отразившееся на дальнейшем развитии событий. Сейчас это выглядит то ли смешным, то ли неоправданным, а в годы «великого перелома» определялось совсем другой логикой, что и зафиксировал Семёнов, не интересуясь, что будут думать потомки по описанному эпизоду.
На пятые сутки после гибели судна было проведено заседание партбюро, инициатором которого, по Семёнову, был Задоров. Судя по протоколу, начальник экспедиции так определил задачи членов партии в создавшейся ситуации: «О какой‑либо массово–политической работе прежнего типа не может быть и речи. Но тем ответственнее роль каждого коммуниста. Отныне каждый шаг коммуниста, каждый поступок должны быть строго продуманы, взвешены. Каждое слово коммуниста в любом разговоре с беспартийными товарищами — в палатке во время отдыха, на льду во время работы, в случайной беседе — должно быть непрерывной политической работой, которая здесь, в новых, трудных условиях, с успехом заменит нам массовую работу прежнего типа. В любую минуту, в любой обстановке коммунист обязан личным поведением возбуждать мужество беспартийных товарищей. Встречаясь с упадническими настроениями, он обязан сейчас же ликвидировать их» (т. 2, 1934, с 129). Правда, в протоколе не было указано, каким образом…» Затем коммунисты стали докладывать о настроениях в каждой палатке — «чем живёт и дышит каждый челюскинец» (т. 2, 1934, с. 130), причём Семёнов в своей палатке (в которой из семи обитателей — один комсомолец и один член партии) оценил настроение как крепкое, уверенное, чрезвычайно бодрое, подтвердив свой вывод следующим фактом: трое научных сотрудников довольны участием в дрейфе, считая его важным для продолжения научных исследований, что показательно само по себе. О комсомольской палатке в протоколе было отмечено: «бодрая, молодая, весёлая, активная… Настроение превосходное. Вечерами хором распевают песни» и т. д. Тем не менее, по результатам обсуждения выяснилось, что «только две требуют пристального внимания» со стороны партийной организации: палатка штурманов, где нет ни одного коммуниста, и, естественно, палатка строителей. В решение записали три пункта: первый — провести партсобрание, второе — равномернее расселить коммунистов по палаткам, третье — организовать рабочие бригады по «новому признаку», видимо, с той же целью.
Обобщающий вывод Семёнова таков: «В течение двух месяцев ледяного плена любой из коммунистов помнил, что каждый его жест, каждое его движение, каждое его слово должно быть непрерываемой политической работой… Вот здесь и лежит секрет «техники». Этим и объясняется, что партийная работа на льдине стала частью всей нашей жизни, стала необходимым условием существования целого» (т. 2, 1934, с. 139), очевидно обеспечившим благополучное существование лагеря Шмидта вплоть до его эвакуации по воздуху.
Так полагать — полное право Семёнова и его партийных единомышленников. Но и в других случаях ситуацию в лагере Шмидта он не забывает трактовать как результат успешной партработы, например: «В лагере Шмидта всегда царила атмосфера всеобщей нервной подтянутости, постоянного нервного подъёма. Атмосфера эта, безусловно, помогала слабым в физическом отношении товарищам успешно переносить большие физические трудности и весь суровый режим лагеря» (т. 2, 1934, с. 44). Вероятно, специалист–психолог истолковал бы описанное, как моральную мобилизацию коллектива в условиях преодоления предстоящих опасностей и трудностей на основе уверенности в лидере, в первую очередь в Шмидте. По приведённым в «Челюскиниане» конкретным ситуациям и мероприятиям нет основания считать, что коммунисты сыграли особую роль в выживании лагеря Шмидта. Нельзя же, например, всерьёз отнести к заслугам парторганизации согласие комсомольцев по предложению Молокова первыми лететь на Большую землю в парашютных ящиках, как это сделано в очерке А. Апокина, как, впрочем, и в попытке оппонентов объяснить подобные пассажироперевозки стремлением выбраться со льдины любым образом — в жизни экстремальные ситуации рождают своих экстремалов. Всё отмеченное является признаками особой партийной мифологии в отчётах нижних партийных звеньев в адрес вышестоящих, вплоть до Политбюро, по принципу «чего изволите…».
Утверждения Мехлиса типа «партийная ячейка сыграла решающую роль в спасении всех участников экспедиции» (почему не лётчики, среди которых оказалось лишь два коммуниста? — В. К.), не могли не вызвать в обществе, лишь недавно пережившем Гражданскую войну и коллективизацию, со всеми своими противоречиями и потерями, ответной реакции и создания своей мифологии (обычно, устной) типа известной частушки «капитан Воронин «Челюскин» проворонил» или отмеченной исследователями Мемориала в следственных делах НКВД: «Сатирические стихи и насмешливые высказывания по адресу Водопьянова и, соответственно, обвинения в оскорблении Героя Советского Союза встречаются во многих следственных делах 1937–1938 гг. Нам сейчас трудно объяснить себе причины столь иронического отношения наших соотечественников к официально признанному подвигу Водопьянова» (Ларьков, 2007, с. 148).
Тем и объясняется, что сбитое официальным враньём, общество при отсутствии нормальной системы информации не знало, кому доверять, невольно перенося своё недоверие к власти и на участников спасательной операции, которые, таким образом, оказались в сложном положении: им не верило бывшее собственное начальство в лице Алксниса, но и не доверяла значительная часть общества, которое, оценивая Революцию и её последствия (особенно коллективизацию), склонно было считать и события в связи с «Челюскиным» ещё одним экспериментом второго порядка на фоне основного.
На этом фоне порой отмечены случаи другой направленности, также внесшие свой вклад в формирование челюскинской мифологии, один из которых отмечен С. А. Ларьковым: «В архивном деле наградного сектора ЦИК лежит гневное письмо бывшей чекистки, «проливавшей кровь за дело пролетариата», оскорблённой тем, что у неё ордена нет, а этим челюскинским бабам, к тому же — просто жёнам, без должностей, «этим б…» (так в документе. — В. К.) — ордена дали!» (2007, с. 151). Как говориться — ноу комментс…
Оценка событий, связанных с походом «Челюскина» и его участниками — дело весьма непростое, но факт остаётся фактом — одна ложь порождает другую, причём эта тенденция сохранилась до настоящего времени, приобретая порой карикатурный характер, как это имело место с возникновением мифа о двух тысячах заключённых на некоем пароходе «Пижма», якобы сопровождавшем «Челюскина» и затопленном в Чукотском море в разгар полярной ночи. К сожалению, имело место тиражирование этой заведомой лжи средствами СМИ, включая такие, как телеканал «Культура», средствами заведомо преднамеренной дезинформации. Например, демонстрировались лишь «шапки» официальных документов и подписи реальных ответственных лиц, а сам текст заменялся словесным изложением событий, не имевшим к документам никакого отношения, и т. д. Методика подобной фальсификации детально описана в работе (Ларьков, 2007).
В подобного рода «исторических изысканиях», почти по Ильфу и Петрову, делаются ссылки типа «запад нам поможет» применительно к событиям, связанным с походом и гибелью «Челюскина». Авторы подобных версий не учитывают, что американцы с Аляски не могли нам помочь своей авиацией, по той же причине, что сами не обеспечили эвакуацию экипажа шхуны «Нанук» зимой 1929–1930 гг., потеряв в этой операции экипаж Эйлсона — Борланда, тела которых отыскал будущий Герой Советского Союза Слепнёв. Действительно, американские лётчики вывезли с «Нанука» на Аляску четырёх человек, но не надо забывать, что в тех же условиях Галышев вывез со «Ставрополя» 15 человек.
Не самое важное, но заметное место в мифологии «Челюскина» принадлежит нашим соседям на Аляске, тем более что существовало определённое взаимодействие с ними, выразившееся в полётах Леваневского и Слепнёва, эвакуации заболевшего Шмидта и некоторых других мероприятиях. Однако ожидать, что американцы будут заниматься нашими проблемами, едва ли оправдано. При этом соседи по крайней мере на протяжении полувека после продажи Аляски активно осваивали Чукотку, для чего и понадобилось введение на полуострове пограничной охраны во главе с Небольсиным, сыгравшим свою роль в спасательных операциях по эвакуации челюскинцев.
В условиях зарубежья челюскинская мифология отличалась своей спецификой, которую лучше всех выразил мастер сатирических двусмысленностей Бернард Шоу в своей беседе с послом Майским: — «Что вы за страна! Полярную трагедию вы превратили в национальное торжество, на роль главного героя ледовой драмы вы нашли главного Деда Мороза с большой бородой. Уверяю Вас, что борода Шмидта завоевала вам тысячи новых друзей». Что это — дань восхищения реальными заслугами Шмидта (и его харизме) или высокая оценка профессионалом работы других профессионалов в организации театральной постановки силами ЦК ВКП(б) и ОГПУ?
Отношение части русского эмигрантского зарубежья с позиции «…Горжусь: — челюскинцы — русские!» выразила Марина Цветаева:
И спасши (мечта
Для младшего возраста!)
И псов, и дитя
Умчали по воздуху.
В очевидном противопоставлении с катастрофой «Италии» шесть лет назад («не то что — чёрт его — Нобиле!»). Чем не пример поэтического мифотворчества, но высокого!
Авторы последних зарубежных исследований (например, Мак–Конен в «Красной Арктике») истории «Челюскина» уделили особое внимание с точки зрения использования в советской пропаганде, не вскрывая, однако, внутренних противоречий «Челюскинианы», давших обильную пищу для иной позднейшей мифологии, возникшей в противостоянии официальной советской пропаганде, также в основе мифологической.
Важно, в отличие от мифологии, что в реальности история «Челюскина» имела массу конкретных предшественников, как наших, так и зарубежных, освоение опыта которых и стало основой успеха наших полярников в освоении Арктики. Только не надо забывать, что любая деятельность в Арктике отличается повышенным риском — это её непременная специфика, также требующая учёта в исторических изысканиях. Профессия работать в неизвестности, которая опасна сама по себе. Порой настолько, что мы не можем до сих пор установить причин гибели Амундсена, Русанова или Франклина.
Именно этого обстоятельства и не учитывают делатели арктических мифов, создавая их в меру своего понимания, а порой — пошлой выгоды, в попытке перелицевать на советский лад известное, суть которого предельно проста — поход в неизвестное чреват риском, требующим соответствующих мер на сугубо профессиональном уровне, к чему у мифотворцев отсутствует желание.
Первая оценка событиям похода «Челюскина» дана по свежим следам редактором трёх «челюскинских томов» (и по совместительству редактором «Правды») Л. З. Мехлисом и, таким образом, отражает официальный взгляд на события в Чукотском море. Однако для придания ему объективности Мехлис вынужден был обращаться и к иностранным источникам, цитируя, например, британскую «Дейли Геральд»: «История об этом — одна из величайших среди историй о героизме и выносливости, которыми так богата история полярных исследований. Радио и авиация сделала их спасение возможным. Но радио и авиация не могли бы помочь без знаний и доблести лётчиков. Весь мир отдаёт дань этим доблестным русским». Однако одному из самых верноподданных проводников сталинской линии, признания британцев показалось мало, и он ссылается на письмо коллектива путиловцев: «Вы, товарищи, шли по стопам великих героев пролетарской революции и гражданской войны. И ваш подвиг, товарищи челюскинцы, лётчики–герои, озаряет облик нашей страны, укрепляет её силу и мощь. Вы показали замечательные образцы героизма и любви к родине. Привет вам, родные, с берегов Невы, от города Ленина, колыбели великой коммунистической партии! Привет храбрым из железного поколения, воспитанного Сталиным» (т. 3, 1934, с. 9). Собственно, именно в последних строках и заключается смысл и суть руководящих указаний в связи с драмой «Челюскина», челюскинцев и первых героев Советского Союза.
В этом духе Мехлис редактировал весь текст и содержание всех трёх челюскинских томов, в стремлении выхолостить из них всё личное, человеческое при малейшем несовпадении с линией партии, но в спешке всё же не смог выполнить возложенной на него миссии — во многих случаях отпечаток личного восприятия участниками событий прослеживается вполне отчётливо, причём в деталях, противореча порой официозу, что неоднократно отмечено выше на целом ряде примеров.
С учётом своего положения и вклада в развитие спасательных операций, известный полярник Георгий Алексеевич Ушаков следующим образом оценил заслуги челюскинцев и их спасителей в статье под характерным заголовком «Мы победили в бою под Ванкаремом!». При оценке суждений этого важного свидетеля и участника событий необходимо иметь в виду два обстоятельства. Первое — для участника Гражданской войны, как и всего поколения той поры, показательно восприятие даже чисто гражданских событий военными образами, достаточно типичное и для людей, определявших в то время ситуацию в стране. Второе — Ушаков был один из самых компетентных полярников своего времени, прежде всего благодаря опыту пяти зимовок, в том числе трёхлетней на острове Врангеля без связи с Большой землёй, и его назначение в качестве лица с особыми полномочиями было в высшей степени оправданным. Однако бросается в глаза трескучая фразеология, когда дело касается общих оценок: «Вся страна встала на защиту маленького советского отряда. Главный штаб — правительственная комиссия во главе с т. Куйбышевым под руководством Центрального комитета партии и товарища Сталина — сумел показать всю мощь современной техники Советского Союза… И Советский Союз победил! Выражаясь словами «Правды», «большевики победили потому, что ломающимся льдам могли противопоставить своё несокрушимую спайку, свою революционную цельность, своё стальное единство. Страна победила в боях под Ванкаремом сочетанием революционного размаха, блестящей техники, искусством организации и пламенным энтузиазмом всего народа вместе и каждого бойца в отдельности»» (т. 3, 1934, с. 33–34). Где в приведённом отрывке Мехлис, а где Ушаков — в наше время разобрать практически невозможно, поскольку в остальном раздел, написанный Ушаковым, содержит массу интересной и полезной информации.
Глава 9. Последующие судьбы некоторых Челюскинцев, героев–лётчиков, а также кораблей
…А мы такие зимы знали,
Вжились в такие холода…
И. Эренбург
Хоть они порою были и герои,
Не поставят памятника им.
К. Симонов
Судьбы челюскинцев и первых героев (даже если невозможно рассказать о всех) показательны для своего времени, поскольку они прошли не только «огни и воды» Арктики и официальные «медные трубы», но ещё и «волчьи зубы» сталинского времени. Для подтверждения начнём с наиболее известных.
Шмидт после челюскинской эпопеи с каждым годом в своей деятельности брал очередную высоту за другой в сложившейся командно–административной системе, чему способствовала «определённая эйфория, вызванная великолепным результатом спасения челюскинцев. Если же посмотреть на всё трезво, то была подтверждена основная мысль: плавать можно. Поэтому правительство приняло постановление по всем направлениям деятельности Главсевморпути, обеспечивающим его работу. Были запланированы новые ледоколы, крупные работы по авиации, речному транспорту, строительству портов, радиостанций» (Шевелёв, 1999, с. 75). Успешно продвигался Шмидт по линии Академии наук — ещё в 1933 г. вместе с В. Ю. Визе они оба стали членами–корреспондентами этой высшей научной организации в стране, а в 1935 г. Шмидт стал академиком. Уже в навигацию 1934 г. его организация успешно осуществила рейс «Литке» с востока на запад в Мурманск, побитый льдами ледорез ещё долго нёс ледовую вахту на востоке Северного морского пути, где его заменил «Красин», более подходящий для условий Чукотского моря.
Между тем в его ведомстве происходили важные события, о чём свидетельствовало создание Политуправления, причём (вместо Боброва, справившегося с ролью ледового комиссара на «Челюскине» и в лагере Шмидта) в роли его начальника оказался бывалый чекист С. А. Бергавинов, возглавлявший ранее партруководство в Приморье и в Северном крае, там, где сформировался ГУЛАГ (видимо, не случайно). По многим свидетельствам, он успешно проводил генеральную линию партии даже в кабинетных условиях порой с револьвером в руках, — похоже, это не преувеличение. Почти одновременно А. Я. Вышинский провел образцово–показательный процесс двух зимовщиков с острова Врангеля, для обоих закончившийся высшей мерой — полярникам продемонстрировали, что даже в самых медвежьих углах они вполне доступны «бдящим органам». Вместе со своим комиссаром в 1935 г. Шмидт доложил партии и правительству о начале регулярной эксплуатации Севморпути. В том же году ГУ СМП начало работы по поиску высокоширотного варианта трассы, для чего был отправлен в Арктику ледокольный пароход «Садко» (капитан Николаев, начальник экспедиции Ушаков, научный руководитель Зубов). Следующий, 1936 г. ознаменовался первым успешным перегоном военных кораблей (двух эсминцев) с Балтики на Тихий океан по трассе СМП, причём Шмидт сам руководил этой операцией непосредственно в Арктике, в процессе которой обнаружились многочисленные организационные недостатки, вовремя не устранённые и поэтому опасные на будущее. Однако Шмидт в это время был занят другим, тогда как многие его помощники находились в ожидании руководящих указаний, не поспевая за стремительным полётом мысли шефа.
Тем временем Водопьянов и некоторые другие авиаторы без лишней огласки занимались подготовкой к высадке научной станции на Северном полюсе — с этим проектом ещё в 1932 г. выступал в Академии наук В. Ю. Визе. К тому времени, когда сами авиаторы вошли в Политбюро с предложением о трансполярных перелётах из Москвы в Соединённые Штаты, Шмидт изложил «в верхах» идею метеообеспечения таких перелётов силами персонала дрейфующей станции, получив поддержку очередного полярного суперпроекта, который оказался для него последним. В марте он отправился из Москвы на полюс, где в конце мая 1937 г. была успешно высажена первая дрейфующая станция во главе с бывшим чекистом И. Д. Папаниным. За высадку на полюс Отто Юльевич стал Героем Советского Союза, что, как показало ближайшее будущее, видимо, спасло ему жизнь.
Пока Шмидт в связи с полюсной операцией отсутствовал в Москве, за Главсевморпуть принялись «ежовые рукавицы», когда один за другим исчезали видные полярники: изыскатель воздушных путей И. А. Ландин, (15 марта), начальник Чукотской геологической экспедиции М. Ф. Зяблов (5 апреля), бывший директор Арктикугля М. Э Плисецкий (30 апреля), заместитель начальника Полярной авиации Н. А. Жигалев (привлечённый к суду как бывший военный по делу Тухачевского), начальник отдела С. П. Нацаренус (5 июля) и т. д. и т. п. Это было первое, пока осторожное приближение «органов» к организации, пользовавшейся особым вниманием Сталина, когда Шмидту было не до организационных дел в своём «хозяйстве» в связи с поездками по стране и многочисленными встречами с коллективами трудящихся, помимо официальных отчётов, включая встречи в ЦК и Академии наук, не считая необходимого санаторного лечения старой болезни, которая едва не свела его в могилу после гибели «Челюскина». Когда же к осени катастрофа в Арктике обозначилась во всём объёме, «органы» перестали стесняться и принялись за саму руководящую верхушку ГУ СМП, как в столице, так и на периферии. Теперь в жертву молоху НКВД был принесён заместитель Шмидта Баевский (7 августа), позднее начальник радиослужбы Полярного управления А. В. Воробьёв и его коллега Д. И. Поляков (14 сентября), челюскинский комиссар А. Н. Бобров (25 сентября) и многие другие, включая причастных к челюскинской эпопее.
Именно провал навигация 1937 г. поставил крест на полярной карьере Шмидта в качестве главы советских полярников, когда в Арктике зазимовало 26 транспортных судов и все ледоколы, за исключением «Ермака», что в значительной мере было связано с невозможностью для Шмидта заниматься делами навигации после возвращения с полюса. Были и объективные обстоятельства (отсутствие угля на Диксоне и Тикси, не было необходимой ледовой разведки, поскольку авиация была занята обеспечением полюсной операции и поисками пропавшего без вести экипажа Леваневского, и ряд других). Официальное решение по поводу провала арктической навигации 1937 г. объясняло случившееся происками «врагов народа» и вредителей в руководстве ГУ СМП. Шевелёв считает, что в той обстановке «Шмидт, мне кажется, себя не очень хорошо чувствовал. Он ведь до революции был в группе социал–демократов–интернационалистов — это была крупная группа интеллигенции, примыкавшая к Горькому» (1999, с. 92). На взгляд автора, Шмидта спасло от «высшей меры» звание одного из первых Героев Советского Союза — у «исполнителей» НКВД пока не было опыта в отстреле обладателей Золотой Звезды, которой не оказалось у его подчинённых — моряков Янсона, Крастина, Ковеля, Дриго, за которыми последовали задержавшиеся на зимующих судах гидрографы Орловский, Евгенов, Хмызников и многие другие, получившие кто высшую меру, кто лагерный срок… Шмидт пытался спасти своих подчинённых от уготованной им участи, что отражено в «Политдонесении…» и. о. начальника Ленинградского политотдела ГУ СМП Д. Бубнова, в котором отмечалось: «Серьёзное недоумение и тревогу вызывает поведение и позиция в этих вопросах начальника ГУ СМП тов. Шмидта… Тов. Шмидт подходит к этим людям с какой‑то своей особой меркой, резко отличающейся от партийной» (Крылов, 1995, с. 1028). Ясно, что возможности Отто Юльевича в складывающейся обстановке были весьма ограниченными…
В целом, роль и судьба Шмидта не укладываются в рамки советского функционера высокого уровня, как его подают некоторые современные издания (Ермолаев, 2001, Ермолаев, Дибнер, 2005). Для историка личность такого масштаба интересна прежде всего как опыт сотрудничества былой российской интеллигенции с советской властью в процессе социалистического строительства 20–30 гг. прошлого века, проходивший под непосредственным воздействием другой масштабной неординарной личности, стоявшей во главе партии и страны, доставившей историкам работы, вероятно, на века. Возможно, один из сотрудников академического Института геофизики, довольно близко подошёл к сути жизненной драмы своего директора: «Наверное, в О. Ю. Шмидте действительно хватало всего понемножечку — и от крупного учёного, и от коньюктурщика, и от хитрого политика, и от донельзя наивного человека. Но это же можно сказать и о слишком многих…» (Подъяпольский, 2003, с. 16). В любом случае, можно только сожалеть об отсутствии в современной Российской академии наук руководителей масштаба и уровня Отто Юльевича Шмидта, с его руководящими способностями, личной харизмой и уменьем видеть перспективные направления с привлечением многих активных и заинтересованных людей.
Уход Шмидта с арктической деятельности трактуется некоторыми историками (Белов, 1969) как перевод на работу в Академию наук в должности вице–президента, которая оказалась непродолжительной — в 1942 г. высочайшим распоряжением он был снят и вплоть до своей смерти в сентябре 1956 г. оставался одним из многих директоров академических институтов, один из которых теперь носит его имя. В течение нескольких предвоенных лет Шмидт перестал упоминаться в официальных изданиях Главсевморпути, а в лексиконе его преемника Ивана Дмитриевича Папанина появился ругательный термин–определение «шмидтовец», которым тот пользовался до конца жизни. Тем не менее М. И. Белов, отражая точку зрения подавляющего большинства полярников, отметил, что в Главсевморпути «…как начальник он удачно выражал собой всё её существо — масштабность, необычайно смелый организаторский замысел и научный подход к решению хозяйственных и транспортных проблем. Крупный учёный и не менее крупный организатор — именно таким видели полярники О. Ю. Шмидта на посту арктического главка. Традиции, заложенные О. Ю. Шмидтом, пережили его» (1969, с. 104–105). Такая оценка близка к реальной, судя по тому, как взлёты и падения Шмидта воспринимались в среде его бывших подчинённых, отметивших отставку «шефа» по–своему примечательной эпиграммой:
Примеров много есть на свете, Но лучше, право, не найти: Снял Шмидт Папанина со льдины, А тот его с Севморпути.С высоты своего положения в высоких широтах это злоязыкое племя советских людей в те времена часто цитировало Пушкина: «…И академик, и герой, и мореплаватель…» в попытке объяснить, как в условиях советского сталинского времени на месте Шмидта, фигурально выражаясь, мог оказаться плотник.
Теперь о других участниках челюскинской эпопеи, чьи судьбы для своего времени оказались не менее показательными, а порой и драматичными.
Капитан Воронин тут же по возвращении на какой‑то момент оказался в двусмысленном положении, поскольку в обществе имел место «шум, который был поднят разными организациями, вплоть до того, чтобы Шмидта и Воронина отдать под суд» (Шевелёв, 1999, с. 75). Порой в подвыпившей компании можно было услышать немудрящую частушку о том, как «капитан Воронин «Челюскин» проворонил». Несомненно, были и непростые межведомственные отношения Наркомвода и Главсевморпути, так что дальнейшая карьера заслуженного моряка складывалась непросто, причём на самых ответственных местах, нередко в особо сложных ситуациях, которых он не боялся. Показательно его решение поздней осенью 1937 г. в качестве капитана ледокола «Ермак» оставить на зимовку суда в проливе Вилькицкого, что многие моряки расценили как проявление трусости. Такое решение диктовалось сложившейся обстановкой — количество угля на судне оставалось только чтобы вернуться в Мурманск, при очевидной опасности оказаться в ледовом дрейфе. Если бы последний ледокол остался бы во льдах, катастрофа продолжала бы нарастать на новом уровне. Но только благодаря своевременному выходу из льдов Карского моря Воронин на «Ермаке» в следующем году сначала обеспечил спасение папанинской четверки из ледяных жерновов льдах Гренландского моря, а затем выводил большую часть зимовавших судов в Арктике — поэтому его решение той проклятой осенью 1937 г. было на стратегическом уровне не просто правильным, а единственно верным, даже если не встретило понимания у зимовщиков поневоле (Бочек, Матиясевич и другие), и порой даже в исторической литературе (Белов, 1969). Пережитое не прошло даром для здоровья моряка, и на несколько лет он вынужден был оставить ледовитые моря, куда вернулся только с началом войны. По окончании войны возглавил трофейную китобойную флотилию в водах Антарктики. Умер от инфаркта на мостике флагмана нашего ледокольного флота «Иосиф Сталин» в 1952 г. Особо отметим высокие профессиональные качества капитана и его подчинённых из экипажа, которые сумели провести не отвечавшее условиям Арктики судно по всему Северному морскому пути — трассе от Мурманска до Берингова пролива, — где им незаслуженно не повезло…
Павлов, дублёр старпома на «Челюскине», в своей морской карьере оказался не столь удачливым. Погиб осенью 1944 года в Карском море, командуя крохотным гидрографическим ботом «Норд» при встрече с немецкой подводной лодкой, вступив с ней в неравный бой. Не спустил флага в безнадёжном бою — вечная память павшим за Родину!
Баевский, Бобров (Подъяпольский, 2004) всего четыре года спустя оказались в расстрельных списках НКВД, завизированных 3 января 1938 г. Ждановым, Молотовым, Кагановичем и Ворошиловым. 11 января Военная коллегия, потратив по 15 минут на каждого, оформила своё окончательное решение, и в тот же день оба оказались на печально знаменитом расстрельном спецполигоне НКВД — Коммунарке, вблизи Бутова, на теперешней окраине Москвы. Оба реабилитированы 18 лет спустя.
Каким‑то образом за бортом этих репрессий оказались Копусов, видимо, затерявшийся для ищеек НКВД на одной из дальних зимовок, и Гаккель. Яков Яковлевич за последующие годы вырос в крупного исследователя, доктора географических наук, особенно при изучении дна Северного Ледовитого океана в послевоенное время в экспедициях Севера. Вполне заслуженно ныне его имя присвоено вулканическому хребту на дне Северного Ледовитого океана.
Евгенов и Хмызников при аресте весной 1938 г., в связи с коллизиями в «органах» при замене Ежова на Берию, отделались сравнительно дёшево, получив, соответственно, «только» восемь и пять лет лагерей. Для тогдашних советских инстанций их дело не представляло трудностей, поскольку ещё в 1920 г. они были пленены красными при разгроме Колчака, и, несмотря на все их последующие заслуги перед советской властью, уже одним этим обстоятельством не внушали доверия. С некоторым опозданием за них вступились люди из руководства ГУ СМП, имевшие прямой доступ к «верхам». По мнению Шевелёва (1999), «обвинение было действительно идиотским. Для нас, хорошо знавших этих людей, их арест был неожиданным, а уверенность в их абсолютной невиновности заставила нас настойчиво добиваться их освобождения. Мы тогда только что получили звания Героев, нас было немного, и мы надеялись, что нашу просьбу услышат» (с. 58). Но вмешалась война… В результате пересмотр «дела гидрографов» затянулся, и Евгенов был расконвоирован только в 1943 г., вернувшись в Ленинград уже после войны. Судьба Хмызникова оказалась трагичней — он скончался за колючей проволокой в Усть–Кожве (Республика Коми), когда срок его заключения уже истёк, а оформление на освобождение не закончено — то ли не дождался, то ли просто отмучился…
Галышева, пилота, едва не ставшего Героем Советского Союза, ожидала сходная участь. Шеф полярной авиации ГУ СМП «хорошо знал, сколько этот человек сделал, как самоотверженно он работал. Думаю, он даже нарочно брал на себя сложные дела, чтобы показать свою преданность. Пришлось вмешаться в это дело… В конце концов разобрались и выпустили Галышева. Но пребывание под следствием Галышев перенёс очень тяжело. В якутскую зиму его держали в нетопленной камере. Удивительно, как он вообще выжил… Вытащили мы его в Москву к лучшим докторам, затем отправили в лёгочный санаторий на юг… Но организм его был настолько истерзан, что прожил он недолго. Умер, так и не вернувшись к нам. Мысли, что тут могла быть вина самого Сталина, тогда не возникало. Мы считали, что распоясался НКВД, что они сочиняют дела — а что дела сочинялись, нам было ясно» (Шевелёв, 1999, с. 91).
Георгий Кривдун, заведующий факторией на мысе Ванкарем, принимавший челюскинцев, вывезенных со льдины, и готовивший их к дальнейшей транспортировке, также оказался среди жертв Большого террора. Он не мог быть коммунистом (как уверяет пограничник Небольсин) по той причине, что оказался сыном зажиточного терского казака, во время коллективизации отправленного в ссылку. Да и сам вряд ли добровольно выбрал себе местожительство на берегах Чукотского моря. Тем не менее в спасении челюскинцев он сыграл немалую роль, что и засвидетельствовал Небольсин. Однако ведомство последнего по–своему отметило заслуги Кривдуна: «В октябре 1936 г. Кривдун… был арестован и 16 июля 1937 года Особым совещанием НКВД приговорен к шести годам лагерей, его судьба неизвестна» (Ларьков, 2007, с. 164).
Канцын Александр Адамович (помощник завхоза Б. Могилевича, погибшего с «Челюскиным») и Белопольский Лев Осипович, экспедиционный зоолог), получили каждый своё как бы вдогон за основной волной жертв Большого террора. Первый (несмотря на членство в партии, участие в Гражданской войне и службу дипкурьером) был осуждён 28 мая 1941 г. ОСО НКВД к пяти годам лагерей за антисоветскую агитацию и участие в антисоветской группе. Из оказавшихся за колючей проволокой в военные годы мало кто выжил прежде всего из‑за голода. Судьба второго стала известна недавно: «21 мая 1952 года ОСО МГБ определило пять лет ссылки известному полярному зоологу, сибиряковцу и челюскинцу Л. О. Белопольскому, вся вина которого заключалась в том, что он был братом расстрелянного по «ленинградскому делу» 1950 года «врага народа» (Ларьков, 2007, с. 71).
Кренкель Эрнст Теодорович после экспедиции на «Челюскине» возглавлял зимовки на Северной Земле (остров Домашний и мыс Оловянный), откуда Шмидт пригласил его в качестве радиста на первую дрейфующую станцию «Северный полюс» в 1937–1938 гг., после которой он был удостоен звания Героя Советского Союза. Даже после ухода Шмидта из ГУ СМП остался в этой организации вплоть до 1949 г., когда без объяснения причин по указанию ЦК лишился должности начальника Управления полярных станции и возможности работать в Арктике. В последний период жизни возглавил специализированный институт радио–метеорологической аппаратуры.
Ширшов Пётр Петрович верой и правдой служил советской власти — ему режим заплатил с особо изощренной жестокостью. Однако сначала о его научной и административной карьере. Герой Советского Союза за дрейф на СП-1, депутат Верховного Совета СССР, по возвращении с дрейфующей станции заместитель начальника ГУ СМП и директор Всесоюзного Арктического института, академик с 1939 г. В годы войны — уполномоченный представитель Государственного комитета обороны и министр морского флота страны, после войны — основатель Института океанологии АН СССР. Тогда же «органы» похитили его жену (известную киноактрису), скорее всего по «заказу» небезызвестного Лаврентия Павловича, судьбу которой он при жизни так и не узнал. Напиваясь, академик и министр прямо с площади Дзержинского посылал проклятья «большому дому», на что Сталин отреагировал почти сочувственно:
— Мы найдём ему другую жену…
Умер от неизлечимой болезни, как следствия непереносимых душевных и физических страданий, всего за три недели до кончины величайшего диктатора планеты.
Перечень челюскинцев, оставивших свой след в истории Советской (теперь Российской) Арктики был бы неполон без ещё двух участников, по–своему также показательных.
Березин Дмитрий Ильич завербовался в качестве печника–сезонника на остров Врангеля при особых обстоятельствах. Его арестовали «органы» 24 октября 1933 г. за то, что тот «состоял в контрреволюционной группировке, которая систематически вела разлагательную работу в колхозе, агитировала против проводимых мероприятий… сорвала весенний сев… организованно расхитили колхозную рожь» (Ларьков, 2007, с. 136). По совокупности арестант «тянул» на вполне солидный срок, если не на высшую меру, но был он не из робкого десятка. Каким‑то образом сбежал из‑под конвоя на Витебском вокзале в Ленинграде, а затем завербовался с братом Михаилом на остров Врангеля, о котором прежде и не слыхивал. Спустя полгода оба оказались на борту «Челюскина». То, что брат не выдал брата в качестве «стукача», естественно, усугубляло вину обоих, с точки зрения ОГПУ, ибо становилось очевидным сговором. Неудивительно, что при составлении списка лиц, семьи которых на Большой земле, имели право на красноармейский паёк, оба указали, что «иждивенцев не имеют», под угрозой собственного разоблачения оставив без пропитания голодавших родичей — вот такая коллизия при очевидном попустительстве органов.
«Органы» зашевелились, когда страна с оркестрами и цветами встречала возвращавшихся челюскинцев, причём Новгородский оперсектор ОГПУ 9 июня 1934 г. известил Москву, о том что Д. И. Березин полтора года числится в розыске. Исследователь не может уподобиться автору детективного повествования при всём желании, хотя дальнейший сюжет напрашивается сам собой: чекисты ломают голову, когда брать злодеев — на вокзале под звуки оркестров и под вспышки блицев киношников (включая иностранных), или уже на Красной площади пред ликом Политбюро в полном составе?
…А для историка просто отсутствие документов повод задуматься. С. А. Ларьков при изучении архивов Новгородского УФСБ установил, что за «извещением» о побеге «злодея» следует «Заключение Прокуратуры Новгородской области от 10 октября 1989 года о реабилитации Д. И. Березина», что даёт основание сделать вывод о весьма нетривиальном решении «органов»: «Прекратить дело — значит признать, что враг народа и народный герой — одно и то же? Решение, судя по всему, было принято по–своему мудрое — не обращать внимания» (там же). Думается, дело обстояло проще — в расследовании обстоятельств, которые привели братьев Березиных на борт «Челюскина», чекисты должны были объяснить собственные упущения со всеми вытекающими для себя последствиями… В любом случае, жизнь обоих несостоявшихся (по советским понятиям) преступников коренным образом изменилась, поскольку оба указали по прибытии из Москвы в Ленинград адрес представительства ГУ СМП — ул. Халтурина, 15. Перед войной Березин–старший жил и работал в Ленинграде вполне легально, успев отправить до блокады детей в родную деревню. Однако какие‑либо сведения о нём в военные годы теряются — в блокадном Ленинграде с ним могло произойти всё что угодно. О Березине–младшем известно, что в 1950 г. жил и умер в Узбекистане.
В любом описании челюскинской эпопеи присутствует Карина Васильевна, в девичестве Васильева, в замужестве Микеладзе. Хотя её собственных заслуг в появлении на свет в Карском море нет, но её дальнейшая судьба интересовала всех, кто знаком с историей плавания «Челюскина», причём, как автор мог убедиться при личных встречах, всегда благожелательно. Человек, появившийся на свет в таких чрезвычайных обстоятельствах, не мог не состояться как специалист и как личность, наконец как успешная (счастливая) женщина. Там, на льдине, состоявшееся комсомольское собрание (видимо, не без участия родителей) определило целый ряд пожеланий в будущей жизни новорожденной, среди которых были весьма необычные. Например, не употреблять до 16 лет спиртных напитков, не материться… и т. д.
Бабушкин среди челюскинцев (вместе со своим механиком Валавиным) занимает особое место уже потому, что на неоднократно повреждённом и «заштопанном» самолёте самостоятельно выбрался из лагеря Шмидта до Ванкарема на Большой земле. Спустя год на таком же Ш-2 обеспечивал ледовую разведку для первой Высокоширотной экспедиции на ледокольном пароходе «Садко». Затем — начальник оперативного отдела Управления Полярной авиации Главсевморпути. Вершиной его деятельности в Арктике стало участие в высадке папанинской четвёрки на Северном полюсе весной 1937 г. в качестве второго пилота на самолёте Водопьянова. Погиб при возвращении на Большую землю в аварии самолёта, упавшего в Северную Двину.
Ушаков Георгий Алексеевич, ещё один из участников челюскинских событий, — из племени полярников с большой буквы за его предшествующую деятельность на острове Врангеля и Северной Земле. Спустя год возглавил первую Высокоширотную экспедицию, вошедшую в анналы советских исследований в Арктике на ледокольном пароходе «Садко» (капитан Николаев, научный руководитель Н. Н. Зубов), только что поднятом с морского дна водолазами ЭПРОН. Ещё год спустя возглавил Гидрометеослужбу страны, оставаясь в должности заместителя Шмидта по Главсевморпути. Вместе со Шмидтом покинул систему Главсевморпути, начав свою деятельность в Академии наук. В Арктику не возвращался из‑за серьёзного заболевания. Оставил несколько превосходных книг о своей деятельности в Арктике, одна из которых отмечена Сталинской премией.
По–своему показательна ещё судьба одного Героя Советского Союза — Сигизмунда Александровича Леваневского, так и не спасшего ни одного челюскинца из‑за аварии самолёта на подлётах к Ванкарему, жертвой которой едва не стал Ушаков. Дальнейшее своё участие в челюскинской эпопее этот пилот описывает так: «На следующий день после своего прибытия в Ванкарем я поехал (на собаках. — В. К.) к своему самолёту. Его вытащили на берег. Я разобрал его и проверил повреждения. Должен сказать, что больших повреждений не было. Удар вообще был очень удачным. Если бы я не успел дёрнуть самолёт в последнюю минуту, то он ударился бы гораздо сильнее — от нас осталась бы каша. Самолёт был не из особенно хороших… У меня никакой машины к тому же не было. Доставили меня в Уэлен, потом в бухту Провидения» (с. 140). И это всё — не считая полёта в бухту Лаврентия с врачом и перегона чужого самолёта из Уэлена в Провидения. Невольно возникает вопрос — за что стал Героем, тем более что характеристика Шевелёва довольно суровая, но, достаточно объективная: «Участник Гражданской войны. Очень молодым стал командиром кавалерийского полка. После Гражданской войны поступил в лётную школу. Служил в Севастополе в морской авиации… По характеру Сигизмунд был человек жёсткий, суровый, не умел сходиться с людьми. Всё это способствовало тому, что в конце 20–х — начале 30–х годов его демобилизовали из ВВС.
В поисках работы он пошёл в Осоавиахим, где получил должность начальника аэроклуба в Николаеве. Школа при аэроклубе была маленькая, работа не соответствовала его возможностям, как личности… Чухновский знал Леваневского ещё по совместным полётам в ВВС. Он и привёл Леваневского в полярную авиацию. Сигизмунд стал летать на ледовые разведки. Неконтактность его с людьми часто приводила к тяжёлым последствиям. Экипаж после полётов в одной экспедиции больше не хотел с ним работать. На вопросы, в чём дело, отвечали, что не нравится характер, не «наш» человек» (1999, с. 48).
Странный какой‑то получился герой на фоне остальных. Видимо, он сам понимал это, отсюда его стремление в дальнейшем утвердиться любой ценой, что определило его дальнейшую полярную и лётную карьеру, завершившуюся, как известно, печально. Шевелёв далее продолжает характеристику седьмого Героя: «Леваневский — личность довольно противоречивая. С одной стороны, ему в жизни очень везло, а с другой — систематически преследовали неудачи… Как «безлошадный» (после аварии на подлёте к Ванкарему. — В. К.) Леваневский сделать ничего не мог. В то время как остальные шесть лётчиков вывозили людей со льдины, он никого не вывез. Тем не менее, ко всеобщему удивлению, его включили в число семи лётчиков, которым за спасение челюскинцев было первым присвоено звание Героев Советского Союза. Наверное, чувствуя в какой‑то степени свою неполноценность, что ли, Леваневский стал искать, чем подтвердить свой авторитет и высокое звание. Он бросил работу в полярной авиации и стал искать для себя работу более интересную и значительную» (1999, с. 47–49).
Леваневский был вхож в «верха» (которые и сделали его Героем. По слухам, Сталин прочил его в руководство будущей советизированной Польши), добившись от них решения в 1935 г. на перелёт в Соединённые Штаты на новом самолёте АНТ-25 конструкции Туполева. Однако из‑за незначительного дефекта в подаче масла решил вернуться, оказавшись севернее Земли Франца–Иосифа. Видимо, подобная задача оказалась для него своеобразной идеей–фикс, и когда спустя два года экипажи Чкалова и Громова выполнили подобный перелёт на таких же машинах, Леваневский бросился «вдогон» на неотработанной машине конструкции Болховитинова и пропал где‑то за полюсом со всем экипажем без вести.
Благоприятнее складывалась судьба остальных героев челюскинской эпопеи.
Ляпидевский Анатолий Васильевич (1908–1983) в целом сделал успешную карьеру в авиации, дослужившись в военные годы до звания генерал–майора в должности директора крупного авиационного завода. Был депутатом Верховного Совета СССР в 1937–1946 гг.
Каманин Николай Петрович (1908–1982) после челюскинской эпопеи вернулся к службе в ВВС, дослужившись в 1968 г. до звания генерал–полковника в должности начальника Центра подготовки космонавтов. Участвовал в работе Верховного Совета СССР одновременно с Ляпидевским. В годы войны был командиром авиационного корпуса. По сравнению с остальными пилотами челюскинской эпопеи сделал наиболее успешную служебную карьеру.
Молоков Василий Сергеевич (1895–1982) продолжил службу в Полярной авиации ГУ СМП. Участвовал в высадке первой дрейфующей станции на Северном полюсе весной 1937 г. С 1938 г. возглавил Гражданский воздушный флот. В годы войны командовал дивизией ночных бомбардировщиков в звании генерал–лейтенанта, в 1945–1947 гг. — заместитель начальника Гидрометеослужбы СССР. Вместе с другими героями челюскинской эпопеи был депутатом Верховного Совета СССР.
Водопьянов Михаил Васильевич (1899–1980) во многом повторил судьбу многих своих товарищей по челюскинской эпопее. Разрабатывал операцию по высадке первой дрейфующей станции на Северном полюсе весной 1937 г., первым сажал тяжелые самолёты на паковый лёд. Депутат Верховного Совета СССР в 1937–1946 гг. В годы войны — командир авиационной дивизии в звании генерал–майора. В отличие от своих коллег, продолжил полёты в Арктике в экспедициях на Север вплоть до 50–х гг. прошлого века. Написал несколько книг мемуарного характера.
Слепнёв Маврикий Трофимович (1896–1965) вскоре после челюскинской эпопеи возглавил подразделение дирижаблей, а с 1939 г. — начальник академии ГВФ. Во время войны — командир авиационной бригады ВВС Черноморского флота в звании полковника.
Доронин Иван Васильевич (1903–1951) в авиации дослужился до звания полковника, участвуя в испытаниях новой авиационной техники, но по болезни рано вышел в отставку.
Со многих точек зрения, судьба героев для своего времени завидная. Но если бы могли обладатели первых Золотых Звёзд представить, какую характеристику выдаст им их же бывший начальник, командующий ВВС РККА товарищ А. И. Алкснис, то ли в порыве неуёмной зависти, то ли в желании подстраховаться на непредвиденный случай! «Заслуживает внимания тот факт, что из числа 7 лётчиков, коим Правительство присудило звание Героев Советского Союза — 5 человек находились в рядах ВВС РККА и были изъяты или уволены по настояниям особых отделов, политорганов и командиров, как политически и морально неустойчивые и несоответствующие службе в РККА (А. В. Ляпидевский, М. Т. Слепнёв, И. В. Доронин, В. С. Молоков, С. А. Леваневский)» (Ларьков, 2007, с. 147). При всей суперсекретности для рядового члена общества, для историка советская командно–административная система, когда каждый руководитель стремится по случаю и без случая подстраховаться, занимаясь бумаготворчеством, обеспечивая работой будущих историков на века — сущий клад!
Суть такой бумажной активности раскрывает Шевелёв (1999): «Полярную авиацию в то время называли «штрафным батальоном», так как туда шли те, кто по каким‑то причинам не ужился в армии. У нас критерии были такими: уменье хорошо летать, смелость, вдумчивость, осторожность, готовность сражаться за Родину, если потребуется. А то, что иной раз прежнее начальство и кадровики имели какие‑то претензии к лётчику, нам было неважно» (с. 438). Похоже, прав был «шеф» былой Полярной авиации, если учесть, что только пятеро из семи первых Героев Советского Союза до челюскинской эпопеи состояли в рядах ВКП(б), а у остальных отсчёт партстажа начался уже после челюскинской эпопеи.
В целом же биографии всех причастных к челюскинской эпопее весьма показательны для своего времени и память о них должна сохраняться, тем более что (цитирую К. Симонова): «хоть они порою были и герои, не поставят памятника им…». До сих пор его нет на улицах нашей столицы, вопреки постановлению ЦИК СССР от 20 апреля 1934 г.: «В память полярного похода «Челюскина» 1933–1934 г., протекавшего в чрезвычайно трудных условиях во льдах Ледовитого океана и окончившегося 13 февраля гибелью парохода «Челюскин», раздавленного льдами, последовавшего за этим мужественного пребывания участников похода в течение двух месяцев на льдинах, в «лагере Шмидта», героизма при ведении и завершении работ по спасению участников экспедиции, её научных материалов и имущества, завершенных 13 апреля 1934 г., ВОЗДВИГНУТЬ В г. МОСКВЕ МОНУМЕНТ». Кто знает, может быть, однажды потомки участников описанных событий пойдут «с шапкой по кругу» и выполнят обещанное незадачливыми правителями страны своим героям.
Судьбы челюскинцев не просто характерны для своего времени, но ещё и хорошо задокументированы. Поэтому остаётся лишь удивляться создателям мистификаций и ленивым любителям дешёвых суждений. Тяжелая это работа — рассказать последующим поколениям о подлецах и героях, даже если перед историей все равны. И тем не менее, есть ещё одна тема, имеющая отношение к опыту «Челюскина», когда его судьбу в последующие годы разделили другие суда, по разным причинам погибшие в ледовитых арктических водах. К ним мы не относим погибших в военные годы, а также разведчиков–гидрографов, риск для которых заложен в самой профессии.
Первым из таких судов оказался пароход «Рабочий» (капитан Сергиевский), зазимовавший среди других судов в море Лаптевых в конце несчастной навигации 1937 г. Привожу картину гибели этого судна по описанию одного из зимовщиков: «20 января 1938 г. началась подвижка льда в районе парохода «Рабочий» и гидросудна «Камчадал». От сжатия льдов в левом борту «Рабочего» образовалась вмятина. Сжатие льдов продолжалось и в последующие дни. 23 января наблюдалась сильная подвижка льда, в результате которой на «Рабочий» обрушилась подступившая к нему вплотную гряда торосов высотой 4 метра. Корпус судна не выдержал колоссального давления, лопнули шпангоуты, и обшивка борта у трюма № 4 оказалась разорванной.
Лёд и вода устремились в трюм. Заделать пробоину, несмотря на своевременно заготовленные материалы, было невозможно. Работала донка, выкачивая воду. Команды «Рабочего» и «Камчадала» дружно очищали пароход от палубного груза, сбрасывая его на лёд. Люди работали без паники, самоотверженно, при 32–градусном морозе и леденящем ветре. В 20 метрах от парохода был сложен штабель из 150 ящиков со спичками. При навале льдов ящики стали коробиться. В результате трения спички воспламенились, запылал огромный костёр, осветивший место катастрофы. Новый натиск льдов — и судно заметно осело кормой. В 7 часов 10 минут утра судно заметно накренило. На борту оставался лишь один капитан Сергиевский. Своей распорядительностью он поддерживал полный порядок. Бледный и измученный капитан в 7 часов 30 минут покинул корабль. Сжатие льдов ослабевало, и льды начинали постепенно расходиться. Корма парохода стала постепенно погружаться в воду. В 9 часов она коснулась грунта, но другая половина судна ещё высилась над ледяным полем, которое подпирало нос корабля. «Рабочий» встал «на попа» и на мгновенье задержался. Затем раздался треск мачт, и корабль исчез под водой» (Рузов, 1957, с. 229–230). Уже одно то, что гибель этого судна произошла на глазах других судов дрейфующего каравана, обеспечило экипажу необходимую помощь и поддержку, чего не было при гибели одинокого «Челюскина». Роднило с ситуацией на «Челюскине» то, что вывоз спасшихся был осуществлён авиацией с завершением полярной ночи.
Следующим, кому не повезло, спустя десять лет оказался «Моссовет», интересные детали гибели которого приводит тогдашний начальник ГУ СМП А. А. Афанасьев. (2003). Судно в процессе ледовой проводки за мощным линейным ледоколом подверглось напору четырёхметровых паковых льдов. Льдины буквально влезли на палубу, снося всё на своём пути, так что экипаж был вынужден покидать судно с противоположного борта. В итоге судно затонуло. Реакция Сталина на известие об этой катастрофе оказалась вполне адекватной: «Арктику без потерь не освоишь» (там же, с. 273). Увы, вскоре аналогичная судьба постигла пароход «Казахстан», причём в сходных обстоятельствах, судьба капитана оказалась более суровой… Рубеж 50–60 г. ознаменовался гибелью ещё двух судов — пароходов «Севан» и «Вилюйсклес»… Прав был великий диктатор, — действительно, как и в случае с «Челюскиным», Арктику без потерь не освоишь…
Реализация этого опасного полярного опыта, в котором «Челюскин» занял своё достойное место, особенно показательна на примере арктической навигации 1983 г. на востоке Арктики у берегов Чукотки. Сначала ледовая разведка с воздуха, а затем спутниковые снимки зафиксировали, как в конце навигации устойчивые северо–западные ветры буквально загнали ледяной массив в пролив Лонга, закупорив его вместе с судами. На помощь терпящим бедствие бросился атомоход «Арктика», но тут же поломал экспериментальную лопасть винта, ремонт которого занял двое суток. А тем временем между паковыми льдами и прибрежным припаем возникла настоящая «ледяная река», наподобие описанной челюскинцем Ширшовым, в которой оказался очередной караван ледокола «Капитан Сорокин». Напором льда танкер «Каменец–Уральский» навалило на сухогруз «Нина Сагайдак», упёршийся в кромку припая. Кое‑как оба судна вырвались из ледовых объятий, но вскоре корпус сухогруза подвергся новым испытаниям: напором льда разрушило переборку машинного отделения, разорвало трубы аварийного осушения, водоотливные средства вышли из строя… 51 член экипажа вышел на лёд, который буквально шевелился у них под ногами, и с помощью досок и страховочных верёвок добрался до прочного льда в 150 метрах от аварийного судна, откуда вертолетом был доставлен на борт «Капитана Сорокина». Спустя сутки, 8 октября «Нина Сагайдак» с дифферентом на нос навечно погрузилась в холодные арктические воды.
Почти одновременно такая же судьба едва не постигла другой сухогруз — «Коля Мяготин», у которого последовательно напором льда был выведен из строя главный двигатель, частично разрушено рулевое устройство, и в образовавшуюся течь хлынула забортная вода, уровень которой в машинном отделении вскоре достиг 4 метров. Большую часть экипажа пришлось снимать вертолётами и высаживать на находившиеся поблизости ледоколы. Оставшиеся продолжали борьбу за живучесть судна, тогда как их товарищи с безопасных палуб других судов, казалось, наблюдают за последними конвульсиями «Мяготина». Несмотря на повреждения, его корпус устоял, позволив аварийной партии продолжать борьбу за сохранение судна. Почти в лежачем положении это судно на буксире, миновав льды, было доставлено в безопасное место, удивляя встречных массой фонтанов, вздымавшихся над ним при откачке из затопленных трюмов и других судовых помещений. В описанных эпизодах всё было иначе, чем на «Челюскине», и это означало, что его опыт был учтён в полной мере. И, конечно, люди, наши обычные россияне, которые на своей арктической службе сохранили лучшие качества полярников, заложенные поколениями предшественников, включая челюскинцев.
Иллюстрации
Использованная литература
Афанасьев А. А. На гребне волны и в пучине сталинизма. М., 2003.
Белов М. И. История открытия и освоения Северного морского пути. Т. 4. Л., 1969.
Бочек А. Всю жизнь с морем. М., 1969.
Визе В. Ю. На «Сибирякове» и «Литке» через ледовитые моря. М., 1946.
Визе В. Ю. Моря Советской Арктики. М. — Л., 1948.
Ермолаев М. М. Воспоминания. СПб., 2001.
Ермолаев А. М., Дибнер В. Д. Михаил Михайлович Ермолаев. Жизнь исследователя и учёного. СПб., 2005.
Как мы спасали челюскинцев. М., 1934.
Кренкель Э. Т. RAEM — мои позывные. М., 1973.
Ларьков С., Романенко Ф. Враги народа за полярным кругом. М., 2007.
Муров М. С. Записки полярника. Л., 1971.
Подьяпольский Г. Золотому веку не бывать. Звенья. М., 2003.
Поход «Челюскина». Т. 1 и 2. М., 1934.
Шмидт. О. Ю. Жизнь и деятельность. М., 1959.
Хмызников П., Ширшов П. На «Челюскине». Л., 1936.
Шевелёв М. И. Арктика — судьба моя. Воронеж., 1999.
Шмидт. О. Ю. Избранные труды. М., 1960.



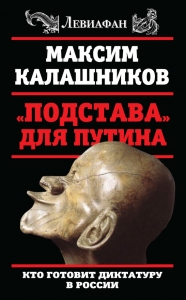





Комментарии к книге «Челюскинская эпопея», Владислав Сергеевич Корякин
Всего 0 комментариев