Произведения великих писателей живут особой, ни с чем не схожей жизнью. При своем появлении они привлекают читателя новизной языка, художественных приемов, несхожестью с тем, как писали раньше. Они злободневны в самом широком смысле этого слова, поскольку существуют (пока) лишь в контексте породившей их эпохи. Не случайно первая реакция первых читателей – всегда – «узнавание» в героях и ситуациях себя, своих друзей, врагов и знакомых. Проходит несколько лет, и они теряют актуальность и остроту новизны.
К тому же их накрывает волна подражаний и заимствований, пряча в общем потоке литературы уникальные черты, низводя гениальные прозрения до уровня банальности. Но затем именно эти произведения возрождаются в каждом поколении читателей чередой новых смыслов и новых ассоциаций.
За ними тянется культурный шлейф, в котором переплетаются эпохи, разделенные тысячью лет, и страны – тысячью километров. Чтение этих произведений порождает эффект «волшебного сундука», из которого каждый может вытащить лишь то, что знает. А поскольку у этого сундука нет дна, то и читать такое произведение можно бесконечное число раз, получая новое знание и новые впечатления. Впрочем, это не мешает читателям-неофитам наслаждаться ими не как музейной редкостью, не как свидетельством эпохи, а как живым и современным творением.
В этом смысле литературное произведение подобно старинному зданию, в котором каждое новое поколение жильцов меняет планировку и интерьер помещений, приспосабливая его к своим нуждам и забывая о том, для кого (и для чего) оно когда-то строилось. Но если в архитектуре даже по небольшим сохранившимся сквозь все перестройки, пожары и разрушения фрагментам фундамента и стен можно установить первоначальный замысел архитектора, то в литературе тем более возможно приблизиться к изначальному звучанию произведения, выявляя круг значений и смыслов, тождественных времени его появления. Так иногда музыканты, обращаясь к произведениям старинных композиторов, используют инструменты и исполнительскую манеру того времени, когда произведения эти создавались. И какое наслаждение – счищая слой за слоем наросшие со временем смыслы, добраться, наконец, до первого – и хотя бы отчасти почувствовать себя современником автора!
Этот комментарий создавался с одной целью: восстановить (насколько это возможно) почти забытый смысл той части пушкинского текста, который был хорошо ясен современникам, не нуждался в пояснениях и вызывал легко предсказуемую реакцию и вполне очевидные ассоциации. Другими словами, мы попробуем воссоздать культурно-бытовой контекст поэмы и приблизить ее восприятие сейчас к тому, каким оно было тогда. Иные могут сказать, что в таком возрождении контекста в гораздо большей степени нуждаются труды посредственных писателей. Они чаще всего создавались на злобу дня или восполняли отсутствие художественной новизны своей укорененностью в какой-нибудь из сфер жизни: в политике, идеологии, литературном или домашнем быту. Они живут только в своем времени, поэтому, чем больше подробностей об этом времени мы знаем, тем ярче и значительней для нас выглядит произведение писателя-эпигона. Тут нечего возразить. Но надо ли доказывать, что произведения великих писателей гораздо глубже, нежели мелких?
И порой бывает жаль, что, подобно неопытным ныряльщикам, барахтающимся на мелководье и не подозревающим о красотах глубин, мы удовлетворяемся доступным нам смысловым слоем, и, в сущности, не знаем того, над чем смеялось и плакало первое поколение читателей.
Приближение к аутентичному восприятию текста поэмы подразумевает знакомство со многими забытыми понятиями и явлениями. Разделим их для удобства на три круга. Первый круг – это общие представления о жизни и быте того общественного слоя – российского дворянства первой четверти XIX века, – к которому принадлежат герои поэмы. Эти представления сравнительно устойчивы на протяжении большого отрезка времени. Они начинают формироваться в 30-40-е годы XVIII века и уходят в прошлое (и то не сразу) с отменой крепостного права в России, то есть в 60-е годы века девятнадцатого. Второй круг – детали быта, а также интересы, взгляды и представления, отражающие специфику того исторического отрезка, в который помещено действие поэмы, то есть середины 20-х гг. XIX века. Третий – знакомство с уровнем образования и литературными интересами возможного читателя поэмы этого времени и, соответственно, понимание тех аллюзий, которые у него могли возникнуть.
Для того чтобы дать читателю представление о первом круге, комментарий к каждой (почти) главке поэмы начинается с одного из понятий, составлявших ее общий культурно-исторический фон («охота», «дом», «слуги» и т. п.) и выбранного в качестве условной «главной темы». Для их пояснения использованы мемуары конца XVIII – первой трети XIX века. Далее идет подстрочный комментарий, для которого отбирались слова и словосочетания, значение которых в настоящий момент утрачено или изменено. Это понятия второго круга. И, наконец, там же, в подстрочном комментарии, содержатся указания на литературные произведения, знание которых, в той или иной мере, углубляет понимание поэмы и дает представление о ее источниках. Место действия поэмы (помещичья усадьба), а также ее название и жанр формируют первую реакцию читателя на предлагаемый ему текст. Поэтому им посвящены три начальные главы комментария. Ни одна из них не претендует на то, чтобы именоваться научным исследованием.
Их задачи гораздо скромнее – ввести читателя в круг проблем, связанных с комментируемым произведением. Все слова, словосочетания и отдельные строки поэмы «Граф Нулин» выделены в тексте курсивом, а строки других поэтических произведений А.С. Пушкина, помещенные в тексте комментария – жирным курсивом. В Приложении помещены самые первые отклики на публикацию поэмы «Граф Нулин», в газетах и журналах 1828–1829 гг., а также те, что сохранились в переписке и воспоминаниях, соотносимых с тем же периодом конца 1820-х гг.
Усадьба помещика конца XVIII–I половины XIX векаПриблизиться к аутентичному звучанию поэмы «Граф Нулин» практически невозможно, не зная реалий быта дворян в деревне. Поэтому – несколько слов об этом особом культурном феномене российской жизни – дворянской усадьбе конца XVIII – начала XIX века. Он весь уместился в 100–120 лет нашей истории и был теснейшим образом связан со становлением единого и свободного сословия дворян – землевладельцев и «слуг отечества».
В начале XVIII века Петр I «выдернул» помещиков, живших полукрестьянской жизнью и мало чем отличавшихся в быту от собственных крестьян, из их деревенек, а бояр – из их родовых вотчин. Он заставил их вспомнить, что они составляют «государственное сословие», ввел пожизненную службу и обязал приобщиться к европейской культуре. Пятьдесят лет жизни русских дворян (мужчин, разумеется) в военных лагерях, на кораблях, за границей, на службе в государственных учреждениях стали предысторией русской усадьбы. За это время два поколения представителей служилого сословия приобрели привычки и бытовые культурные стереотипы, чуждые сельской России, не успев все же забыть окончательно, откуда они вышли – из русской провинции и, в конечном счете, из деревни.
Собственно историю усадебной жизни можно отсчитывать от 1736 года, когда срок службы дворян был ограничен 25 годами. Тогда же возник первый образ усадьбы – «прибежища старости» и «места уединенного отдохновения», хотя большинству ветеранов-отставников (вступавших в службу пятнадцатилетними) было лет по 40–45. Но по-настоящему возрождение заброшенных, было, усадеб началось после 18 февраля 1862 г.
Манифест Петра III «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству», подписанный в этот день, гласил: «Все находящиеся в разных Наших службах дворяне могут оную продолжать, сколь угодно долго пожелают и их состояние им дозволит…» ( ПСЗ , 913) Череда поспешных отставок обрушилась на столицу и армию. По подсчетам современного исследователя, с 1762 по 1771 г. покинули службу 7496 человек, количество офицеров в армии снизилось почти наполовину. При этом в отставку уходили главным образом офицеры от 25 до 45 лет, владевшие не менее чем семидесятью душами крепостных ( Фасизова , 107–115). Дворяне, никогда не забывавшие о том, что они еще и помещики, бросились в деревню – восстанавливать запущенное хозяйство, приращивать доходы и жить частной, семейной жизнью. Они привозили туда свой новый опыт и новые культурные традиции, не умещавшиеся в старую «двоенку» XVII века, то есть избу, составленную из двух «горниц», практически не отличающихся от тех, в которых жили крестьяне, и соединенных сенями ( Забелин , 63).
Уже в 1760-е годы в провинции началось обширное строительство: возводились новые дома и службы, при усадьбах разбивались сады и парки, обновлялись или заново отстраивались церкви. Так появилось уникальное сочетание приобретенных в столице европейских привычек и старинного русского быта. Так возник новый образ русской усадьбы – хранительницы семейного уклада, в противовес городу – прибежищу холостяков, карьеристов и чиновников. Вот как этот образ выглядит в стихах одного из лучших поэтов той эпохи И. Ф. Богдановича:
«Трудящийся судья!
Устав от должностей заботливого чина,
Приди покоиться в гостях у селянина,
Где мирны дни ведет счастливая семья;
А чтоб такое диво
Не возмогло тебе представиться за лживо,
Спроси у всей семьи спокойных дней секрет,
И вот тебе ответ:
«Во время нашего досуга
Не затрудняем мы друг друга
Делами свыше нас;
Хоть дел других не охуждаем,
А только рассуждаем,
Как лучше сделать нам на круглый год запас,
К простому вся дни пиру.
(…)
Бежим ловящих нас похвал;
И если иногда, подчас, из доброй воли,
Придет Фортуна к нам откушать хлеба-соли,
Мы рады тем, чем бог послал». (1784 [1] )
Тот же мотив звучит спустя четверть века в «Деревенской жизни» Г. Р. Державина:
«Что нужды мне до града
В деревне я живу;
Мне лент и звезд не надо,
Вельможей не слыву.
(…)
Богат, коль здрав, обилен,
Могу поесть, попить;
Подчас и не бессилен
С Миленой пошалить». (1802)
В 1785 году императрица Екатерина II подписала «Грамоту на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства», в соответствии с которой дворянам жаловалось «дозволение собираться в той губернии, где жительство имеют, и составлять дворянское общество в каждом наместничестве и пользоваться… правами, выгодами, отличностями и преимуществами» ( РЗ , 32). Так в провинции появились губернские и уездные дворянские собрания, давшие начало общественной жизни. Дворянство окончательно оформилось в единую корпорацию, скрепленную законодательно установленными привилегиями, а также родственными связями и свойственными только этому слою общественными институтами.
В этих условиях усадьба ассоциировалась в первую очередь с частным, негосударственным и свободным образом жизни. Добавим к этому ориентацию на европейские традиции в образовании, костюме, обстановке и формах общения, и каждая усадьба предстанет маленьким островком отдельной дворянской культуры в безбрежье сельского народного быта. А можно сказать об этом и так: «усадьбу окружал ореол душевного и физического благоденствия, устойчивого бытования, безопасности, в самом широком смысле этого слова» ( Евангулова , 186).
Но и это еще не все. Поскольку «социальное самочувствие дворянина строилось на равновесии осознания себя как гражданина и как человека частного» («… в окрестностях» , 141), то и усадьба приобретала двойной, а то и тройной образ. Она была и символом частной жизни, и местом приложения гражданских добродетелей (помещик «отечески» относится к своим крестьянам), и форпостом государственной власти (помещик был представителем закона для своих крестьян). С другой стороны, усадьба символизировала семейное единство жизни крестьян и помещиков. Как исполнял в «Куплетах из одной сельской комедии», сочиненных Н.М. Карамзиным в 1800 г., «хор земледельцев»:
«Как не петь нам? Мы счастливы.
Славим барина-отца.
Наши речи некрасивы,
Но чувствительны сердца.
Горожане нас умнее:
Их искусство говорить.
Что ж умеем мы? Сильнее
Благодетелей любить».
Деревня (усадьба) в сознании дворянина конца XVIII – начала XIX века ассоциировалась и с определенным возрастом, и с определенным временем года, и с соответствующим поведением. В деревне проходило детство дворянина лет до двенадцати-тринадцати. Покидал он ее для учебы, службы и жизни «в свете», а возвращался лишь наездами – в отпуск. Но когда приходила пора заводить семью, он либо подавал в отставку и совсем переезжал в деревню, либо проводил в усадьбе летний сезон, превращаясь, на время, из светского щеголя или рьяного служаки в придирчивого хозяина, хлебосольного барина, добродушного соседа и заядлого охотника. Таким предстает перед нами деревенское житье Г.Р. Державина в его стихах «Евгению. Жизнь Званская»:
«Блажен, кто менее зависит от людей,
Свободен от долгов и от хлопот приказных,
Не ищет при дворе ни злата, ни честей
И чужд сует разнообразных!
Зачем же в Петрополь на вольну ехать страсть,
С пространства в тесноту, с свободы за затворы
Под бремя роскоши, богатств, сирен под власть
И пред вельможей пышны взоры?
Возможно ли сравнять что с вольностью златой,
С уединением и тишиной на Званке?
Довольство, здравие, согласие с женой,
Покой мне нужен – дней в останке».
Столь же ясной и идиллически-спокойной предстает деревенская жизнь в стихах П.А. Вяземского:
«Итак, мой милый друг, оставя скучный свет
И в поле уклонясь от шума и сует,
В деревне ты живешь, спокойный друг природы,
Среди кудрявых рощ, под сению свободы!
(…)
В уединении, в безмолвной тишине
Вкушаешь всякий день лишь радости одне!
То бродишь по лугам, то по лесу гуляешь,
То лирою своей Климену восхищаешь,
То быстро на коне несешься по полям,
Как шумный ветр пустынь; то ходишь по утрам
С собакой и ружьем – и с птицами воюешь;
То, сидя на холме, прелестный вид рисуешь!»
(«Послание Жуковскому в деревню». 1808)
Таким образом, в понятии «усадьба» переплетались сразу несколько культурных линий. Это вотчинно-поместная традиция «барского житья», сохранившаяся от XVII века со всем присущим ей самодурством, «мамками-няньками» и шутами, с гигантскими «поездами» фур и подвод при переездах, с расцветшей во второй половине XVIII в., но угасающей к середине XIX в. традицией псовой охоты; С другой стороны – это государственно-бюрократическая традиция служения отечеству, согласно которой вся жизнь в отставке строилась как воспоминание о прежних годах молодости и службы, а за помещиком закреплялась ответственность за собственных крестьян. Но это и столично-светская традиция, в соответствии с которой в крупных дворянских усадьбах копировались все привычки «большого света», с неизбежным отставанием года на 3–4, а в глубокой провинции и на 10–15 лет. И традиция европейской образованности с постепенно укореняющейся привычкой к чтению, домашним спектаклям, агротехническим новшествам. И традиция семейно-родственная, «родовая», корпоративная требующая обязательного гостеприимства, хлебосольства, взаимных визитов, балов и празднеств. Наконец – народная (крестьянская) традиция, вызванная близостью к природе, сельскохозяйственными работами и постоянным пребыванием в доме огромного количества дворовых.
В каждой конкретной усадьбе чаще всего преобладала какая-либо одна культурная линия, связанная с индивидуальными привычками хозяина (или хозяйки), однако все остальные при этом не были и не могли быть изжиты. Именно вся совокупность пусть только потенциально присутствующих традиций и создавала удивительную атмосферу дворянской усадьбы, в которой каждый приезжающий погостить дворянин чувствовал себя легко и свободно, почти как дома. Более того, именно жизнь в усадьбе и культурные стереотипы, с ней связанные, придавали дворянскому сословию цельность и единство, размываемые в столицах деньгами и чинопочитанием. Деревня давала ощущение того равенства, которое возникает в большой и дружной семье, где уважение к старшим сочетается с ласковым покровительством младшим, где рады каждому приезжему и не хотят расставаться с гостями. Такого рода свойские отношения и составляют основной фон событий, развернувшихся в усадьбе Натальи Павловны и ее мужа в поэме «Граф Нулин».
НазваниеПервоначально поэма должна была носить имя «Новый Тарквиний». Это название наиболее точно отражало авторский замысел, раскрытый Пушкиным в заметке 1830 года:
...«В конце 1825 года находился я в деревне. Перечитывая "Лукрецию", довольно слабую поэму Шекспира, я подумал: что если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию? Может быть, это охладило б его предприимчивость и он со стыдом должен был отступить? Лукреция б не зарезалась. Публикола не взбесился бы, Брут не изгнал бы царей, и мир, и история были бы не те. Итак, республикою, консулами, диктаторами, Катонами, Кесарем мы обязаны соблазнительному происшествию, подобному тому, которое случилось недавно в моем соседстве, в Новоржевском уезде. Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась. Я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть. Я имею привычку на моих бумагах выставлять год и число. "Граф Нулин" писан 13 и 14 декабря. Бывают странные сближения». (VII – 225) [2]
Однако название «Новый Тарквиний» автоматически вводило бы поэму в нежелательный для ее автора художественный контекст. Оно связало бы поэму не только с античным сюжетом (подробно об этом – в 15 главе комментария), но и с предшествующей литературной традицией. С одной стороны, как отметила Г.Л. Гуменная, название «Новый Тарквиний» «связывает это произведение с травестийной поэзией и с поэмами наизнанку типа «Елисей, или Раздраженный Вакх» В.И. Майкова или «Вергилиева Енейда, вывороченная наизнанку» Н.П. Осипова ( Гуменная , 96). С другой стороны, заглавия со словом «новый» были типичными для второй половины XVIII века. Первыми, еще в 60-е годы, появились русские переводы «Нового Телемака» К.Ф. Ламбера и «Новой Элоизы» Ж-Ж. Руссо. Вслед за ними, в 70-90-х годах, на русского читателя обрушились «Новая Памела» (Э. Кимбера), «Новая Астрея» (О. Юрфе), «Новый Донкишот» (К.М. Виланда), «Новый Робинзон» (И.Г. Кампе) и даже «Новый Вертер» (Ж.А. Гурбайона). Все это – сентиментальные романы, подобные тому, что читала героиня «Графа Нулина»:
Роман классический, старинный,
Отменно длинный, длинный, длинный,
Нравоучительный и чинный,
Без романтических затей.
Таким образом, название, начинавшееся со слова «новый», неминуемо отсылало читателя к литературе XVIII века. Между тем поэма насыщена бытовыми реалиями и конкретными деталями 1825 года. Кроме того, и по содержанию, и по своей стилистике она не совпадает не только с сентиментализмом, но и со следующим за ним романтизмом начала XIX века.
В отечественной пушкинистике широко распространено мнение, что Пушкин «отказался от первоначального названия, чтобы дать себе больше простора для бытовой живописи и характеристики русских провинциальных помещиков» ( Алексеев, 259 ). Но здесь возникает вопрос: мог ли сам Пушкин рассуждать в таких категориях, как «бытовая живопись», «картина во фламандском вкусе» (В.Г. Белинский), «бытовой анекдот» (Г.А. Гуковский)? Считал ли он сам, что написал философское размышление об истории (М.О. Гершензон)? Впрочем, даже если и не думал, то мог почувствовать, что «Граф Нулин» как ни попадает в стилистику сентиментальных романов XVIII века, не может быть ни продолжением этой угасающей традиции, ни даже пародией на нее.
Название «Новый Тарквиний» могло быть оправдано еще и в том случае, если бы читатель легко угадал в поэме пародию на поэму «Лукреция». (Обзор публикаций, в которых предприняты попытки ответа на вопрос: в какой степени «Граф Нулин» является пародией на пьесу Шекспира – содержится в монографии Н. Захарова «Шекспир в творческой эволюции Пушкина ( Захаров , 101–111). Там же и общий вывод автора: «в пушкинском варианте осталось не так уж много от шекспировской поэмы «The Rape of Lucrece».)
Однако связь между поэмами Пушкина и Шекспира читатели не заметили, пока П.В. Анненков не опубликовал цитированную выше записку ( Левин , 79). По мнению же В.В. Виноградова, Пушкин, меняя название, сознательно устранял «заранее данную непосредственную проекцию» на шекспировскую «Лукрецию» ( Виноградов1941 , 453). В результате поэма получила название по имени главного героя – вполне в духе тех авторов, с которыми Пушкин в то время соотносил свое творчество, в первую очередь – Дж. Байрона и В. Скотта. (Вот, к примеру, фрагмент из его письма к брату Льву, написанного за год до «Графа Нулина», в ноябре 1824 г.: « Стихов, стихов, стихов! Conversations de Byron! Walter Scott! это пища души ». (X – 108).
Сам же Александр Сергеевич в письме к П.А. Плетневу (март 1826) назвал свое новое произведение « повестью вроде Beppo » (X – 204). Имеется в виду произведение Байрона «Беппо. Венецианская повесть», впервые опубликованное в 1818 г. Это наводит на мысль о сознательном стремлении к подражанию стилю Байрона, в том числе и в названии поэмы. К тому же нейтральное название в гораздо большей степени соответствовало ее «сказовой» стилистике, ориентации на устную речь и даже на определенный образ рассказчика (см. комментарий к главе 10).ЖанрВ собраниях сочинений и сборниках произведений А.С. Пушкина «Граф Нулин» помещается в раздел поэм, также – поэмой – именуется он в некоторых исследованиях ( Виноградов1941 , 452. Майлин , 81 и 84) Между тем определить жанровую принадлежность этого произведения непросто. «Граф Нулин» стал хрестоматийным примером споров вокруг вопроса: «Можно ли считать поэмой произведение, сугубо прозаическое по своему содержанию»? ( Гуляев , 123) Первое издание «Графа Нулина» отдельной книгой (вместе с «Балом» Е.А. Баратынского) вышло под заглавием «Две повести в стихах». Чуть выше мы приводили собственную характеристику А.С. Пушкина, назвавшего «Графа Нулина» повестью в письме к П.А. Плетневу. Эта же характеристика была повторена им в 1830 г., в «Заметке о "Графе Нулине"». Так же – повестью – именовался «Граф Нулин» в первых рецензиях и откликах (см. Приложение к данному комментарию). В.Г. Белинский в «Статьях о Пушкине» (статья седьмая) писал:
...«Поэма рисует идеальную действительность и схватывает жизнь в ее высших моментах… Роман и повесть, напротив, изображают жизнь во всей ее прозаической действительности, независимо от того, стихами или прозою они пишутся. И потому «Евгений Онегин» есть роман в стихах, но не поэма, а «Граф Нулин» – повесть в стихах, но не поэма» (Белинский, 401).
В XX веке «Графу Нулину» часто давали «пограничную» жанровую характеристику: поэма «комического "фламандского" жанра» ( Гершензон , 9); «поэма, которую можно рассматривать не только как эпизодический вариант к "Евгению Онегину", но и как своего рода комментарий к нему» ( Гуковский , 84); «пример повествовательного стиха (поэмы)» ( Тимофеев , 232); «поэма-пародия» ( Айхенвальд , 135), «бытовая поэма» ( Лотман1995 , 135), «шутливая поэма» ( Кибальник1998 , 122; Смирнова, 168), «комическая поэма» ( Гаспаров1999 , 281), «поэма-шутка» ( Фомичев, 104) ироническая поэма ( Лейбов2007 , 55). Вместе с тем, сохраняется традиция характеризовать «Графа Нулина» просто как «повесть в стихах» ( Гроссман1958 , 274; Благой1977 , 217; Гуляев, 125) или «стихотворную повесть» (Т омашевский1957 , 561; Тынянов , 152; Фомичев , 16), а также одновременное использование термонов «поэма» и «повесть в стихах» ( Гордин, 290, 293, 297).
Значительная часть исследователей видела в «Графе Нулине» продолжение тех или иных жанровых традиций XVIII – начала XIX в. Так, Б.В. Томашевский, именуя «Графа Нулина» и «иронической повестью», и «маленькой сатирической поэмой» ( Томашевский 1957 , 561), соотнес ее с жанром литературной сказки, ведущим свое начало от творчества Лафонтена ( Томашевский1961 , 386 и 503) Д.Д. Благой назвал это произведение «сатирико-реалистической новеллой в стихах» ( Благой1946 , 15). Э. Н. Худобина считает, что «Граф Нулин» представляет собой «каламбурное развитие» жанра байронической поэмы, при котором «романтическая схема пародируется низведением сюжета до нуля и возвращением в жанр сказки» ( Худобина , 32 и 41). Г.Л. Гуменная выделила две жанровые составляющие этого произведения: «традиции стихотворной новеллы, conte, обычно использующей анекдотический сюжет, и стилистику иронического повествования» ( Гуменная , 94), и переосмысленные черты ирои-комической поэмы XVIII века. Л.И. Вольперт называет «Графа Нулин» «шутливой» и «пародийной» и «иронической» поэмой, знаменующей собой «важный этап в развитии Пушкина: переход от поэмы к стихотворной повести» ( Вольперт2010 , 112, 133, 167, 547).
В «Графе Нулине» можно найти значительное количество признаков, характеризующих именно повесть как литературный жанр. Это и «обращение к «прозаической» обыденной действительности» ( Розенфельд , 26), и опора на «устную традицию» ( Кожинов , 814), и отсутствие «героического» пафоса, присущего поэме ( Гуляев , 125). С басней и литературной сказкой XVIII – начала XIX в. «Графа Нулина» сближает «условная речь подразумеваемого рассказчика, который на примере опять-таки условной жизненной ситуации… высказывает определенную бытовую морально-дидактическую сентенцию» ( Тимофеев , 332). Хотя нельзя не заметить, что отличительные черты басни-сказки в «Графе Нулине» не воспроизводятся в чистом виде, а пародируются. А из трех формальных правил сочинения ирои-комической поэмы, действующих со времен первой поэмы такого рода – «Налоя» Буало (1674) и первой в России – «Игрока Ломбера» В.И. Майкова, к «Графу Нулину» можно отнести два: «Сюжет поэмы должен быть "низким", то есть должен быть взят из современности, и герои должны принадлежать к классу, с точки зрения автора поэмы недостойному серьезной литературной разработки… В поэму должны быть введены элементы героической эпопеи…» ( Томашевский1933 , 79). Отличие «Графа Нулина от литературных сказок предшествовавшей эпохи – «сложная сюжетная структура» ( Вольперт2010 , 224).
Итак, единства в определении жанра в отношении «Графа Нулина», не сложилось. При желании его можно называть и поэмой, и повестью, и сказкой. Наиболее точно, на наш взгляд, можно охарактеризовать «Графа Нулина» как синтетическое в жанровом отношении произведение, соединяющее в себе традиции литературной сказки (басни), комической поэмы и повести в стихах. Но, во избежание путаницы, в комментарии «Граф Нулин» именуется упрощенно – поэмой.
Глава 1 (Граф Нулин)(текст)
Пора, пора! Рога трубят;
Псари в охотничьих уборах
Чем свет уж на конях сидят,
Борзые прыгают на сворах.
Выходит барин на крыльцо,
Всё, подбочась, обозревает;
Его довольное лицо
Приятной важностью сияет.
Чекмень затянутый на нем,
Турецкий нож за кушаком,
За пазухой во фляжке ром,
И рог на бронзовой цепочке.
В ночном чепце, в одном платочке,
Глазами сонными жена
Сердито смотрит из окна
На сбор, на псарную тревогу.
Вот мужу подвели коня;
Он холку хвать и в стремя в ногу,
Кричит жене: не жди меня!
И выезжает на дорогу.
(комментарий)
Поэма начинается с описания псовой охоты – одной из главных примет усадебной жизни российского дворянства от середины XVIII века до примерно 40-х годов века XIX. Будучи в XVI–XVII веках «забавой» по преимуществу царской и боярской, она была почти забыта на рубеже XVII и XVIII столетий.
Обычаи двора в значительной степени определяли бытовые привычки дворян, а Петр I охоту не жаловал, как и другие «бездельные» развлечения. При потомках его – Петре II и Елизавете Петровне – придворная охота была возрождена, но массовым увлечением она смогла стать только к концу XVIII века, после упомянутых нами выше событий. В то время существовало четыре типа охоты.
Соколиная охота, чрезвычайно дорогая, доступная только двору и крупным вельможам, пережила пик своей популярности при царе Алексее Михайловиче. Тогда в Москве даже существовал Соколиный Приказ, занятый разведением охотничьих птиц и организацией царской охоты. К концу XVIII столетия эта разновидность охоты стала событием чрезвычайно редким, почти исключительным.
Загонная охота на крупного хищника (чаще всего – медведя), заканчивающаяся поединком охотника и зверя, имела отчетливо простонародный привкус и одновременно считалась проявлением удали и молодечества. Для особой породы снобов, гордившихся своей природной силой (вроде братьев Орловых в екатерининские времена), такие поединки были предметом исключительной гордости.
Охота с ружьем, главным образом на птицу, похожая больше на осенние заготовки провианта, чем на развлечение, не была широко распространена. Добавление к этой охоте элементов соколиной делали ее и полезной, и привлекательной.
Вот как описывает такую «смешанную» охоту современник: «Трое суток прорыскали в поле верст 20 от Липецка за крупною полевою дичью: стрепетами, драхвами, дикими гусями и журавлями. Брали с собой больших ястребов, которые чрезвычайно нас тешили. Привезли всякой птицы чуть не целый воз – словом, веселились напропалую» ( Жихарев , 248–249).
Однако, как с полным правом утверждал авторитетный исследователь (а отчасти и очевидец) дворянского быта той эпохи, «исключительным занятием дворян-помещиков, была… псовая охота [выделено мной. – Авт. ]» ( Селиванов , 96). Именно она считалась в ту эпоху чисто дворянским, благородным занятием в противовес крестьянской охоте – силками, или мещанской – с ружьем. Были таки, кто считал охот единственным благородным занятием. Так, отставной фаворит Екатерины II, граф Завадовский, писал своему приятелю, графу Воронцову в 1780 году: «Вместо того чтоб хозяйство разбирать, я с утра до вечера живу на охоте и забываю все выгоды, которые держат вас в столице» ( Архив , 21).
А псовая охота, к тому же, не только самая азартная разновидность охоты, но и самая знаковая. Занятие псовой охотой утверждало любого помещика в качестве владетельного сеньора: он охотится на своих землях, со своими собаками, в окружении своих слуг. Одновременно с этим охотник становился членом большого, но хорошо очерченного и замкнутого круга посвященных – «собачников».
Охота часто была коллективной: «Поездки на охоту были чем-то вроде военных походов… Человек 20 соседей и любителей охоты съезжались со свитою и сворами собак и выезжали на рассвете с верховыми музыкантами…» ( Бутенев , 21). Такого рода охотничьи экспедиции одновременно символизировали верность древним традициям «служилого сословия», возмещая потребность в «военных подвигах», и позволяли вырваться за пределы чисто хозяйственных интересов.
Само слово «охота» имело расширительный смысл: это и сами собаки – предмет постоянной заботы и особой гордости; и вся совокупность атрибутов, необходимых для этого занятия, включая людей, одежду, аксессуары; и, конечно же, сам процесс, к описанию которого мы постепенно приближаемся. Для многих помещиков охота была не только и не столько времяпрепровождением, сколько образом жизни с сентября по март.
Вот один характерный пример. Саратовский помещик Лев Яковлевич Рославлев «держал громадную псарню, множество псарей, и его выезды на охоту представляли зрелище, вроде средневекового переселения народов: со всеми своими псарнями и псарями, верховыми лошадьми, огромным обозом всяких запасов, вин, вещей, с многочисленной компанией приятелей, любителей охоты, он не довольствовался одной Саратовской губернией, но объезжал все соседние, добирался до оренбургских степей и пропадал в охотничьих разъездах по нескольку месяцев. Так продолжалось, пока хватило состояния, двух или трех тысяч душ и кончилось вместе с ними» Фадеев , 18).
В псовой охоте помещик выступал одновременно в нескольких ролях: он и хозяин охоты, и участник, и зритель, и болельщик. Но он же и постановщик большого костюмированного представления под названием «охота», где главными актерами выступают зверь-жертва (заяц, лисица, волк), охотничьи собаки, выгоняющие жертву из укрытия (гончие) и настигающие ее (борзые).
В минимальный комплект охоты входила стая гончих плюс свора борзых – два кобеля и сука, желательно одного окраса. Собственно сворой назывался особый ремень на три ошейника, а по нему уже – и охотничий комплект борзых. Каждому охотнику полагались одна-две своры борзых вместе со стремянными – слугами, держащими ремни и спускающими собак вдогонку за зверем по команде охотника. Псари находились при гончих, чья задача – лаем выгнать зверя на открытое пространство, где в дело вступали борзые.
Помещик, не имевший средств на стаю гончих, охотился только с борзыми и именовался «мелкотравчатым», то есть способным затравить лишь мелкую дичь, вроде зайцев ( Вальцов , 8). Судя по первым строкам поэмы, муж Натальи Павловны, хотя и не мог сравниться охотой с известным любителем генерал-майором Л.Д. Измайловым, державшим «до 200 собак и до 3000 охотников и псарей» ( Селиванов , 78), но и к мелкотравчатым отнюдь не принадлежал.
Сама охота происходила следующим образом. За день до ее начала на место сбора собирались соседи-охотники, а вечером устраивалось совещание с ловчим – главным распорядителем охоты из слуг – о маршруте. Выезжали чаще всего на рассвете. Сигналом к движению служил звук рога устроителя охоты (или специально назначенного человека), вслед за которым начинали трубить все участники охоты. Место охоты именовалось отъезжим полем, а небольшой лесок, группа деревьев или кустарник, откуда предстояло выгнать зверя, – островом. Псари с гончими окружали «остров» и начинали порскать – кричать и хлопать в ладоши под лай гончих. Охотники же со стремянными окружали остров вторым кольцом (или становились с противоположного от псарей его края) и, при появлении зверя в поле, спускали борзых со свор. Добыча доставалась тому охотнику, чьим собакам удалось ее затравить, то есть схватить и придушить. Вот как описана охота в стихотворении П.А. Вяземского «Первый снег»:
«Там ловчих полк готов; их взор нетерпеливый
Допрашивает след добычи торопливой, —
На бегство робкого нескромный снег донес;
С неволи спущенный за жертвой хищный пес
Вверяется стремглав предательскому следу,
И довершает нож кровавую победу». (1819)
Успех охоты зависел от многих факторов: умения ловчего выбрать направление охоты и расставить псарей; хладнокровия и выдержки охотника, на которого выходил зверь; нюха легавых и скоростных качеств борзых. Результаты короткой – дневной и полдневной охоты хорошо отражает дневник приживала многих дворянских семей конца XVIII века Палладия Лаврова, жившего в апреле 1778 года в семье князя П.А. Прозоровского:
...«26 апреля. Были все у обедни, после обеда ездили на охоту, привезли 4 зайца…
28 апреля. Поутру князья уехали на охоту и были до вечера… Привезли 19 зайцев…
29 апреля. Князь Долгоруков ездил стрелять [птиц. – Авт.] и ничего не привез.
30 апреля. После обеда князья ездили с собаками и привезли 6 зайцев» (Похождения… 450).
Все детали поэмы «Граф Нулин» указывают на то, что для мужа Натальи Павловны охота не просто развлечение, а подлинная страсть, главная составляющая жизни. Первый и последний раз отступив от принципа подстрочного комментария, соединим их вместе:
а) … рога трубят – поскольку действовало правило «один охотник – один рог», то объяснение множественному числу – рога – может быть двояким. Либо муж Натальи Павловны выступает организатором охоты для менее богатых соседей, либо он так увлечен этой забавой, что раздал рога своим слугам – ловчему, доезжачему (главному смотрителю за гончими), выжлятникам – помощникам доезжачего, объединенным общим наименованием псари. (Мы оставляем без комментария бросающуюся в глаза двусмысленность всей этой фразы в соотнесении с тем, что составляет основное содержание поэмы.)
б) Псари в охотничьих уборах – возможность нарядить всех слуг, участвующих в охоте, в особые костюмы была только у очень богатых людей, вроде уже упомянутого нами Л.И. Измайлова, у которого одежда свиты и охотничьи рога были отделаны серебром. Но и среди очень богатых настоящие охотники выделялись именно тем, что придавали значение всем деталям охоты, от формы охотничьего ножа и звучания рога до команд, подаваемых на каждой стадии травли. Такого рода охотники не могли не одевать своих псарей в «особые мундиры», как это было заведено в имении деда жены Пушкина А.Н. Гончарова (Бутенев, 8). В описании одной из мемуаристок псари ее отца «составляли как бы особую касту людей и почти все были сущие разбойники». И далее: «У них был красный мундир, синие шапки и серые лошади для парадной охоты, а синие кафтаны и разношерстные лошади для вседневной» (Менгден, 105).
в) Его довольное лицо
Приятной важностью сияет.
Глазами сонными жена
Сердито смотрит из окна — муж не только не замечает настроения Натальи Павловны (он еще много чего не замечает), но и в своем увлечении охотой даже не может себе представить, как момент его высшего торжества – начало охоты – может кого-то не интересовать или даже злить.г) Шла баба через грязный двор – упоминание грязного двора – укор не только хозяйке, но и хозяину усадьбы, которому недосуг заниматься хозяйством, поскольку все мысли занимает охота.
д) Наташа! там у огорода Мы затравили русака… – после приветствия и набора дежурных фраз хозяин сразу же переходит к теме, которая его действительно интересует. Хотя хвастаться по большому счету нечем: один заяц – незавидный результат. Тем не менее, истинный охотник не может говорить ни о чем, кроме как о любимом занятии, даже если тем самым вносит диссонанс в ход беседы.
е) …графа он визжать заставит, Что псами он его затравит — такая реакция на известие об оскорблении говорит не только о значительной разнице в возрасте и, вероятно, в чинах, из-за чего мужу не приходит в голову мысль о дуэли. Первая мысль – о собаках, и это дает повод предположить, что все мысли мужа Натальи Павловны – о них же.
А теперь всё по порядку.
Пора, пора! рога трубят – Н.А. Еськова приводит устное замечание Г.А. Лесскиса: «Пора, пора!» – это то, что «говорят» рога ( Еськова , 71). Такое понимание требует другой пунктуации:
«Пора, пора!» – рога трубят…»
Пора – в данном случае – это и время для охоты (охотничья пора), и время ее начала (пора ехать). Но это, одновременно, и зачин, создающий иллюзию внезапно ожившей картины с условным названием «Сбор на охоту». Картины (и гравюры) такого рода были широко распространены в Европе XVIII – начала XIX в. Н. Мазур обратила внимание на то, что начало поэмы практически совпадает с началом песни Беранже «Двойная охота» ("La Double Chasse"):
Allons, chasseur, vite en campagne;
du cor n\'entends-tu pas le son? (1815)
(Вперед, охотник, скорее в поле,
Разве ты не слышишь звука рогов?)
Автор находит и другие параллели между поэмой Пушкина и песней Беранже ( Мазур, 38–51).
Выходит барин на крыльцо, – Само слово «барин» удобно будет прокомментировать в другом месте (см. главу 10). А сейчас – немного о другом. А.М. Гордин предположил, что в качестве прототипов помещичьей четы в поэме могли выступить соседи Пушкина по Михайловскому: владелец села Ругодева Николай Михайлович Шушерин и его супруга Наталья Николаевна. Шушерины были хорошо знакомы родителям поэта, посещали они и имение Осиповых-Вульф Тригорское, где с ними мог познакомиться и сам Александр Сергеевич. В характеристике А.М. Гордина, Шушерин выглядит, как alter ego барина, отправляющегося на охоту в первых строках поэмы: «Он любил окружать себя всякого рода приживалами и гордился перед соседями своими необыкновенно длинными холеными ногтями да псарней. Охота, собаки составляли его главный жизненный интерес» ( Гордин , 198 и 293). Суждение это опирается на дневниковую запись В.Д. Философова от 12 июля 1838 г., приведенную Л.Л. Слонимской в примечаниях к письмам С.Л. и Н.О. Пушкиных к дочери – О.С. Палищевой. В этой записи Н.М. Шушерин представлен, как человек с «огромными ногтями и еще огромнейшей семьей собак, из коих одна слепа» ( Письма , 16). Согласимся, что одной любви к собакам слишком мало для того, чтобы соответствовать образу, представленному в первых строках поэмы. К тому же, как отметил в одном из писем С.Л. Пушкин, Шушерин любил «изображать больного» ( Письма , 113), что с этими образом кардинально расходится. Что же касается Натальи Николаевны Шушериной, то она была сверстницей матери поэта – Надежды Осиповны Пушкиной – и уже поэтому никак не подходит на роль прототипа Натальи Павловны.
Его довольное лицо
Приятной важностью сияет — сочетание «приятная важность» означает, что муж Натальи Павловны благосклонно и снисходительно относится к окружающим, что вытекает из значения глагола приятствовать – покровительствовать кому-либо и быть к нему благосклонным ( Даль , III, 465).
Чекмень затянутый на нем – все детали наряда мужа Натальи Павловны одновременно и чрезвычайно типичны, и выделяются тщательно продуманным отступлением от обычного стандарта.
Самый обычный костюм охотника выглядел следующим образом: на охотнике бекеша на лисьем меху, «обшитая по краям крымской овчиной» и подпоясанная кушаком, на котором висит охотничий нож. Через плечо – обшитая кожей фляжка «с сладкой водкой» на шелковом шнурке (Селиванов, 97). Здесь же мы замечаем своего рода охотничье фатовство: ни на йоту не отступить от правил, но и не потерять своей индивидуальности. Чекмень – то же самое, что и обычная охотничья бекеша – короткий кафтан на меху со сборками сзади (затянутый). Но название и особенности покроя – восточного происхождения. В ХIХ веке чекмень был распространенной одеждой у казаков Северного Кавказа, народов Закавказья, Турции и Ирана. Пристрастие к чекменю вместо бекеши чаще всего демонстрировали отставные военные, перенимавшие, в боевой обстановке, одежду своих противников. А Д.В. Давыдов даже написал стихи, посвященные этому виду одежды, и назвал их так: «Графу П.А. Строганову. За чекмень, подаренный им мне во время войны 1810 года, в Турции». В них есть такие строки:«Почтенный пращур мой, такой же грубиян,
Как дедушка его, нахальный Чингисхан,
В чекмене лёгоньком, среди мечей разящих,
Ордами управлял в полях, войной гремящих.
Я тем же пламенем, как Чингисхан, горю;
Как пращур мой Батый, готов на бранну прю,
Но мне ль, любезный граф, в французском одеянье
Явиться в авангард, как франту на гулянье,
Завязывать жабо, причёску поправлять
И усачам себя Линдором показать!»
Чекмень здесь противопоставлен жабо – элементу штатского и, более того, светского одеяния. А если учесть, что тут же усачам (то есть солдатам, гусарам) противопоставляется Линдор – любимая собачка императрицы Екатерины II (тоже вошедшая в стихи и ставшая нарицательным обозначением лебезящего придворного), то становится понятно: чекмень – грубая одежда воина. Соответственно, мы можем предполагать, что чекмень мужа Натальи Павловны неслучаен и служит напоминанием о прошлых «бранях» – воинской службе.
Турецкий нож… – «Охотничьи ножи делаются различной величины, в аршине железо имеющие и маленькие, не более 6 вершков длиною; обыкновенно делаются оные с простыми костяными черенками и обухом во весь нож, так что лезвие к концу сходится почти треугольником» (Левшин, 173). У нашего охотника нож не стандартный, а турецкий – с односторонним загнутым лезвием. Поскольку такого типа холодное оружие было сравнительно широко распространено на юге России, в частности, на Кавказе, то эта деталь (в сочетании с предыдущей и некоторыми другими) может указывать на недалекое прошлое мужа Натальи Павловны. Возможно, перед женитьбой он служил на Кавказе, под начальством генерала Ермолова.
…за кушаком – «Кушак – пояс или опояска, широкая тесьма, либо полотнище ткани, иногда с бархатом по концам, для обвязки человека в перехвате по верхней одежде» (Даль, II, 229).
За пазухой во фляжке ром , – фляга с «горячительным» напитком – обязательный и непременный атрибут осенне-зимней охоты. Но чаще всего охотники использовали «сладкую водку» – ратафию. Это напиток высокой крепости, производимый самими помещиками и настаиваемый по собственному вкусу. Ром во фляге может указывать и на богатство помещика, не скупящегося на покупку «необязательных» напитков, и на особое охотничье щегольство. К тому же ром – наиболее распространенный напиток в армейских и флотских – но не гвардейских – частях того времени. Е.И. Раевская сохранила для нас очень характерный рассказ матери, относящийся к рубежу 10-20-х гг. XIX в.: «После замужества… к нам ездили товарищи моего мужа, военные; я считала своим долгом принимать их любезно и всегда им сама в гостиной чай разливала, но эти господа отучили меня от этого занятия. Однажды приехал один из кавказских сослуживцев вашего отца. Я невзначай спросила его: любит ли он чай? сколько чашек пьет его? – Двенадцать стаканов с ромом и двенадцать без рома, – отвечал он» ( Раевская , 956). Для отставных офицеров ром на охоте – дань полковой традиции и воспоминание о лихой военной юности.
И рог на бронзовой цепочке – а не на шнурке – еще один признак своеобразного охотничьего франтовства. Рог – необходимейшая часть амуниции охотника. По знаку рога начиналась и прекращалась охота. Звук рога служил ориентиром для сбора охотников. К звуку рога хозяина приучались собаки. В случае охоты с большим числом участников и люди, и собаки могли ориентироваться только на звуки рога. См. также фрагмент воспоминаний А.П. Керн, относящийся к 1825 г. о пребывании Пушкина в Михайловском и приездах в соседнее Тригорское: «Вообще же надо сказать, что он не умел скрывать своих чувств, выражал их всегда искренно и был неописанно хорош, когда что-нибудь приятное волновало его… Так, один раз, мы восхищались его тихой радостью, когда он получил от какого-то помещика при любезном письме охотничий рог на бронзовой цепочке, который ему нравился. Читая это письмо и любуясь рогом, он сиял удовольствием и повторял: Charmant, Charmant!» ( Керн , 253).
В ночном чепце , – чепец, в XVIII и XIX вв. – женский головной убор высших сословий (в отличие от платка у низших). Форма чепца всегда одна: облегающая голову ткань дополнялась оборками или воланом вокруг лица. Чепец был головным убором замужних женщин ( Кирсанова , 315). Дневные чепцы изготовлялись в то время двуцветными, на латунном каркасе. Их украшали цветами, кружевами и лентами. Ночные чепцы были гораздо проще и удобнее: в один цвет, без каркаса, вместо волана – оборки. В начале XIX века чепец вытеснил из дамского обихода ночной колпак, более привычный помещицам XVIII века. Связано это было с распространившимся в то время способом завивать локоны. Если раньше это делали при помощи нагретых щипцов, то в XIX веке стали применять завивку на папильотки. Просторный и удобный чепец лучше всех других головных уборов облегал голову с накрученными на свернутые бумажки локонами.
…в одном платочке – см. комментарий к главе Х (шаль накинуть).
…на псарную тревогу – слово тревога здесь двузначно. Прямое значение – суета, суматоха, вызванная выводимыми из псарни собаками. Переносное связано с тем, что читатель частично смотрит на сбор охотников, глазами сонными хозяйки поместья, для которой тревога – то, что «беспокоит, докучает, мешает, надоедает» ( Даль , IV, 427). Эта сторона псарной тревоги подчеркнута еще дважды. Во-первых, контрастом между довольным лицом мужа и сердитым видом жены. А во-вторых, оборотом чем свет, использованным чуть выше. Дело в том, что при замене канонического «чуть» на «чем» формируется устойчивая связь с выражением: «вместо того, чтобы», отмеченная Далем в своем словаре ( Даль , IV, 617). Соответственно «сердитый» взгляд Натальи Павловны получает свое объяснение в такой подтекстовой конструкции: «Вместо того чтобы спокойно спать, (чем свет) муж ради своего удовольствия (его довольное лицо) причиняет беспокойство (тревогу) жене; она же сердится».
Он холку хвать и в стремя ногу , – в данном случае холка – это грива, растущая у лошади в том месте, где шея соединяется с хребтом. Муж Натальи Павловны, как это следует из приведенной строчки, сам вскочил на коня, не пользуясь помощью слуг. Это очень существенная характеристика: значит, он хороший наездник (и гордится этим), не очень стар и не грузен.
Кричит жене: не жди меня!
…
Везде находит свой ночлег,
Бранится, мокнет и пирует… – выезд на охоту мог затянуться на день, два или на месяц. По свидетельству П.В. Нащекина, «Такие поездки продолжались иногда 2–3 недели, с музыкой, с цыганами, песенниками, плясунами» ( Нащекин , 287). Для ночевок у охотников имелись палатки и «поварня» ( Бутенев , 21). За обедом «обыкновенно съедали, в различных видах и приготовлениях, всех зайцев, затравленных накануне» ( Вяземский1877 , 312). Слова: «не жди меня», – означали, что охотник и сам не знал, когда он собирается вернуться. Все зависело от хода охоты. Возвращение через сутки объясняется, вероятнее всего, неудачно выбранным направлением охоты и малым количеством затравленной добычи.Глава 2 (Граф Нулин)(текст)
В последних числах сентября
(Презренной прозой говоря)
В деревне скучно: грязь, ненастье,
Осенний ветер, мелкий снег,
Да вой волков. Но то-то счастье
Охотнику! Не зная нег,
В отъезжем поле он гарцует,
Везде находит свой ночлег,
Бранится, мокнет и пирует
Опустошительный набег.
(комментарий)
В этой главке к теме охоты добавляется еще одна – осени, скудной на деревенские радости и развлечения. Первым читателям поэмы не надо было объяснять, почему осенью в деревне скучно: погода резко сокращала число доступных удовольствий, которые летом носили семейно-соседский характер и проходили на свежем воздухе. Самое простое из них – прогулка, на которую отправлялись в дрожках (в поле) или пешком (в сад). Как заметил один провинциальный помещик, сад заводился «для веселости». Прогулка в нем часто оканчивалась в беседке, куда в традициях сентиментального века удалялись, «чтоб дать мыслям волю» ( Острожский-Лохвицкий , 49) или просто, без затей, попить чайку. Так, в усадьбе Бутурлиных был принят целый церемониал прогулки-чаепития в специально сохраняемом для этого старинном доме, оставшемся от прежнего помещика. В этот дом отправлялись в коляске, наслаждаясь видами и одновременно «нагуливая» аппетит ( Бутурлин , 421).
Пешая прогулка в лесу имела цель чисто символическую – «собирать грибы». Это нечто вроде охоты для дам и детей – много азарта и мало хозяйственной пользы. Если же в грибах была реальная надобность, достаточно было дать «урок» крестьянским детям – и грибы приносили в усадьбу десятками корзин. Вечерние «забавы»: пение, музицирование, игра в карты «на изюм» и в бильярд – сопровождались еще одним чаепитием, на балконе помещичьего дома или в саду перед крыльцом. Раз или два за лето состоятельный помещик устраивал настоящее празднество для всей округи. Гости графа Чернышева, например, съезжались на традиционный семейный праздник (именины хозяйки дома), который продолжался два-три дня. В эти дни в конюшнях освобождались места для пятисот «гостевых» лошадей ( Жиркевич , 576).
Самое короткое описание такого рода празднества принадлежит Н.Н. Муравьеву-Карскому. Это тоже именины жены: «Роща и сад иллюминированы, была и музыка, все повеселились вдоволь» ( Жиркевич, 210). Программа деревенских праздников устоялась в конце XVIII века и не менялась на протяжении нескольких десятилетий. Ее обязательными элементами были: гулянье на открытом воздухе (вариант – гулянье в лодках на реке или озере); концерт или представление домашнего театра; обед; танцы; иллюминация или фейерверк. «Французский» вариант праздника подразумевал строгое следование программе. Праздник «по-английски» делал обязательной только вечернюю часть празднества – обед, чаепитие, танцы; утром же и днем гости были вольны «гулять кто где хотел и делать что угодно» ( Болотов , 420).
Главным действием деревенского праздника, безусловно, оставалось гулянье. Вот как оно происходило 1 мая 1816 года в Марьиной роще, в поместье графов Бутурлиных: «гуляли» между беседкой и эрмитажем; во все время гулянья звучала музыка деревенского оркестра; крестьяне и крестьянки, одетые в лучшие наряды, водили хороводы. Беседка на это время была «превращена в кондитерскую с мороженым, лимонадом, кофе и пр.». Крестьян же угощали орехами и пряниками, что было дополнительным развлечением для детей ( Бутурлин , 420).
А самый обширный, на наш взгляд, перечень летних деревенских «забав» принадлежит перу поэта дворянской усадьбы князя И.М. Долгорукова. Вот как он описывает свое пребывание в поместье молодой четы князей Несвицких: «Никогда я не забуду тех удовольствий, коими наслаждался в сообществе сего юного семейства, будучи сам не старее тридцати лет; особенно той недели, которую прогостил я у них в подмосковной, где всякий день начинался и кончался праздничным увеселением. Там были фейерверки, роговая музыка, пляски крестьянские, танцы между нами, разноцветные освещения по ночам, прогулки в шлюпках, фанты, хороводы, сельские игры, и словом, каждый час в сутках посвящался какой-нибудь забаве; едва мы успевали выспаться по ночам» ( Долгоруков , 140).
Понятно, что такого рода развлечения с началом холодов сами собой отмирали. Да и для карт и бильярда время было не лучшее – раскисшие деревенские дороги заставляли откладывать визиты до других времен. Зимой развлечения возобновлялись: «Катанье на санях, тройкою и гусем, вечера у соседей поочередно… игра в фанты, пение и изредка танцы» ( ТолстойМ, 89 ).
Осенняя «скука» – перерыв в развлечениях, который устраивает непогода. С.Л. Пушкин жаловался в письме дочери из Михайловского от 28 октября 1832 г.: «Завтра мы едем к Шушериным – по правде, это тяжкая повинность – не знаю, что бы я дал, чтоб от этого избавиться, но оно необходимо. Надо признаться, что эти путешествия к соседям за сорок верст, по этой погоде весьма неприятны» ( Письма, 115 ) Для обычного помещика трагедии в том, что приходится на время ограничить круг общения, нет: масса хозяйственных занятий наваливается на него именно в этот период (об охотниках не говорим, все сказано выше). Однако рассказчик уже начинает видеть окружающее глазами Натальи Павловны, жаждущей светских развлечений и скучающей без общества.
Помимо чисто бытовой, у этой главки есть и литературная основа. За несколько дней до того, как Пушкин сел за «Графа Нулина», он получил от А. П. Керн последние (из опубликованных к тому времени) 11 песен «Дон Жуана» Байрона, во французском переводе А. Пишо ( Набоков, 183). Еще несколькими днями ранее он писал П.А. Вяземскому: «Что за чудо «Дон Жуан»! я знаю только пять первых песен; прочитав первые две, я сказал тотчас Раевскому, что это Chef-d\'oevre Байрона…» (Х – 190). Не вызывает никакого сомнения то, что сразу по получении продолжения «Дон Жуана» Александр Сергеевич немедленно с ним ознакомился и к 13 декабря находился под сильным от него впечатлением. Ниже мы подробно будем говорить о влиянии на «Графа Нулина» байроновского «Дон Жуана». Пока же отметим, что здесь видна перекличка с его XIV Песнью:
«В закрытом помещенье грусть и скука.
А под открытым небом грязь и слякоть.
В такие дни поэту просто мука:
Как пастораль прикажете состряпать?!» [3]
В последних числах сентября
В деревне скучно: грязь, ненастье,
Осенний ветер, мелкий снег… – иронический и сознательно лишенный «поэтических красот» парафраз нескольких строк из стихотворения П.А. Вяземского «Первый снег»:
«Вчера еще стенал над онемевшим садом
Ветр скучной осени, и влажные пары
Стояли над челом угрюмыя горы
Иль мглой волнистую клубилися над бором.
Унынье томное бродило тусклым взором
По рощам и лугам, пустеющим вокруг.
Кладбищем зрелся лес, кладбищем зрелся луг». (1819)
Вместе с тем, эти строки выражают и настроение самого поэта, охватывавшее его осенью в Михайловском. Так, в последних числах октября 1824 г. в письме из Михайловского к В.Ф. Вяземской он жалуется на «бешенство скуки», и в самом конце вновь возвращается к этой теме: « Я нахожусь в наилучших условиях, чтобы закончить мой роман в стихах, но скука – холодная муза, и поэма моя не двигается вперед…» (X – 770). В начале ноября того же года – брату Льву: «…скука смертная везде» (X – 106), а 9 декабря – Д. М. Шварцу: «Вот уже 4 месяца, как нахожусь я в глухой деревне – скучно, да нечего делать» (X – 115). И почти через год – 6 октября 1825 г. – в письме к Жуковскому этот же мотив повторяется вновь: «…все равно умереть от скуки или с аневризма; но первая смерть вернее другой » (X– 186).
Презренной прозой говоря – Почему проза «презренная»? Объяснения могут быть разные. В шестом томе «Истории русской литературы» оно таково: «Пушкину в начале 20-х годов проза еще не казалась серьезным делом. \'Проза почтовая", "проза презренная", "смиренная проза", "унизиться до прозы" – таковы обычные шутливые формулы в пушкинских письмах и стихах. Здесь было кое-что и от традиционного взгляда на принципиальную разность стиха, "языка богов", и прозы, языка обыденных людей. В этом плане дано и противопоставление "огня и льда", "стихов и прозы" в "Евгении Онегине". Но у Пушкина нельзя понимать этот разрыв буквально. Уже к середине 20-х годов Пушкин считает создание новой русской прозы одной из важнейших задач. Русский стих, в основном, был уже создан. Преодолевая романтизм, Пушкин всюду ищет "истинного романтизма", т. е. реализма» ( ИРЛ, 234).
Комментируя определение прозы, данное Пушкиным в «Евгении Онегине» («смиренная»), Ю.М. Лотман отмечал: «Пушкин, с одной стороны, иронически использует выражение поэтик XVIII в., считавших прозу низменным жанром, а с другой – отстаивает право литературы на изображение жизни в любых ее проявлениях…» ( Лотман1995 , 615–616).
И то и другое объяснение справедливо, но в случае с «Графом Нулиным», видимо, следует говорить и о скрытой полемике с друзьями-литераторами. Эпитет «презренная» поэты – друзья и приятели А.С. Пушкина чаще всего соединяли со словом «толпа». Вот В.К. Кюхельбекер, в стихотворении «Участь поэтов» пишет:«О сонм глупцов бездушных и счастливых!
Вам нестерпим кровавый блеск венца.
Который на чело певца
Кладет рука камен, столь поздно справедливых!
Так радуйся ж, презренная толпа,
Читай былых и наших дней скрыжали:
Пророков гонит черная судьба» (1823)
Вот Жуковский («К месяцу», перевод стихотворения Гете «An den Mond»»):
«Счастлив, кто от хлада лет
Сердце охранил,
Кто без ненависти свет,
Бросил и забыл,
Кто делит с душой родной,
Втайне от людей,
То, что презрено толпой,
Или чуждо ей»… (1817)
А вот – в эпиграмме – Н.М. Языков:
«Прочь с презренною толпою!
Цыц; схоластики, молчать!
Вам ли черствою душою
Жар поэзии понять?»
Возможен и обратный вариант. В сонете А.А. Дельвига «Вдохновенье» толпа презирает поэта:
«В друзьях обман, в любви разуверенье
И яд во всем, чем сердце дорожит,
Забыты им: восторженный пиит
Уж прочитал свое предназначенье.
И презренный, гонимый от людей,
Блуждающий один под небесами,
Он говорит с грядущими веками»… (1822).
Противопоставляя поэта «презренной толпе», автора вольно или невольно противопоставляют поэзию – «презренной прозе». В.А. Жуковский во второй половине сентября 1825 года писал Пушкину: «Твое дело теперь одно: не думать несколько времени ни о чем, кроме поэзии, и решиться пожить исключительно только для одной высокой поэзии… Перестань быть эпиграммой, будь поэмой» (Жуковский, 461). А 11 декабря Пушкин получил письмо К.Ф. Рылеева, в котором звучала та же тема: «На тебя устремлены глаза России; тебя любят, тебе верят, тебе подражают. Будь Поэт и гражданин» (Рылеев, 305). В этом контексте мимоходом брошенная фраза о «презренной прозе» выглядит дружеским щелчком по носу всем тем, кто любит потолковать о «высоком» предназначении поэта. Но фраза понравилась, и через год 1 декабря 1826 года, А.С. Пушкин писал Вяземскому Из Пскова в Москву: «Ангел мой Вяземский или пряник мой Вяземский, получил я письмо твоей жены и твою приписку, обоих вас благодарю и еду к вам и не доеду. Какой! меня доезжают!.. изъясню после. В деревне я писал презренную прозу, а вдохновение не лезет» (IX, 247).
Полемичное звучание выражения «презренная проза», очень хорошо почувствовал (и объяснил) Е.Г. Эткинд: «Поверив Пушкину, что первые строки приведенного отрывка из "Графа Нулина" (1825) – обыкновенная "презренная проза", мы жестоко ошибемся. Это проза, однако не обыкновенная; главное ее свойство в следующем: ей любо красоваться тем, что она проза. Слова, входящие в эти фразы, и фразы, заключенные в эти строки, значат далеко не только то, что им свойственно значить в ином, нестиховом окружении» ( Эткинд , 279). …да вой волков… – это не метафора, а черта быта того времени. Вот фрагмент из письма отца Пушкина – Сергея Львовича – от 29 августа 1829 г., отправленного из ближайшей к Михайловскому усадьбы – Тригорского: «Еду в Михайловское. Волки и бешеные собаки сделали мои каждодневные путешествия лишь немногим менее приятными, но вот лошадь моя, видимо, слышала о них кое-какие толки, ибо последние дни стала боле пуглива» ( Письма …, 58).
…не зная нег – в данном случае – не зная отдыха, поскольку нега определяется Далем как «состояние полного довольства» ( Даль , II, 561). А вообще же нега, неги – распространенный литературный штамп той эпохи, используемый для обозначения всего, что связано с разнообразными удовольствиями, развлечениями, а также отдыхом и ленью. Вот несколько примеров, выбранных почти наугад: Г.Р. Державин:
«В вертепе мраморном, прохладном
В котором льется водоскат,
На ложе роз благоуханном,
Средь лени, неги и отрад,
Любовью распаленный страстной,
С младой, веселою, прекрасной
И нежной нимфой ты сидишь»…
(«К первому соседу». 1780) К.Н. Батюшков:
«О Вяземский! Цветами
Друзей своих венчай,
Дар Вакха перед нами:
Вот кубок – наливай!
…
В час неги и прохлады
На ужинах твоих
Ты любишь томны взгляды
Прелестниц записных».
(«Мои пенаты». 1811–1812) П.А. Вяземский:
«Прости, халат! Товарищ неги праздной,
Досугов друг, свидетель тайных дум!»
(«Прощанье с халатом». 1817) И.И. Козлов:
«Так мы слыхали, что порою
Случайно птичка залетит
(…)
И пенья нежностью простою
Угрюмый бор развеселит,
Минутной негой подарит!»
(«К другу В. А. Жуковскому». 1822) А.А. Дельвиг:
«И я утром золотым
Молвлю персям молодым:
Пух лебяжий, негой страстной
Не дыши по старине —
Уж не быть счастливым мне».
(«Песня». 1824) В 1825 году Е.А. Баратынский в наброске, предназначенном для поэмы «Бал», писал:
«Кружатся дамы молодые,
Пылают негой взоры их».
А еще раньше, в 1821 году, в послании к Коншину он использовал понятие нега именно для описания деревенской жизни:
«Нельзя ль найти подруги нежной,
С кем можно в счастливой глуши
Предаться неге безмятежной
И чистым радостям души».
Что же касается стихов самого А.С. Пушкина, то в них нега встречается так часто, что может претендовать на исследование, специально ей посвященное. Однако данный случай – особый. В нем можно увидеть элементы литературной игры, включающей самопародию, отсылку к любовной лирике и гражданской поэзии коллег по цеху. Дело в том, что помимо любования негой (что характерно для любовной лирики и дружеских посланий), существовала и еще одна традиция, противопоставляющая негу и труд (часто – ратный), негу и подвиг. Так, в сатирических стихах Державина «Вельможа» нега становится символом забвения долга:
«Проснися, сибарит! – Ты спишь,
Иль только в сладкой неге дремлешь,
Несчастных голосу не внемлешь…» (1794)
Столь же отрицательно трактуется нега у Н.М. Карамзина в «Военной песне»:
«В чьих жилах льется кровь героев,
Кто сердцем муж, кто духом росс —
Тот презри негу, роскошь, праздность,
Забавы, радость слабых душ!
Туда, где знамя брани веет,
Туда, где гром войны гремит,
Где воздух стонет, солнце меркнет,
Земля дымится и дрожит;
(…)
Туда спеши, о сын России!
Разить бесчисленных врагов!» (1788)
Специфически отрицательный оттенок – как бездельное, бесполезное удовольствие, противопоставленное долгу гражданина, приобретает нега в поэзии Рылеева. В стихотворении 1824 года «Я ль буду в роковое время…» есть строки, обращенные к дворянству:
«Они раскаются, когда народ, восстав,
Застанет их в объятьях праздной неги
И, в бурном мятеже ища свободных прав,
В них не найдет ни Брута, ни Риеги».
Точно так же и В. К. Кюхельбекер в стихотворении «К Ахатесу» призывал:
«Мы презрим и негу, и роскошь, и лень.
Настанет для нас тот торжественный день,
Когда за отчизну наш меч
Впервые возблещет средь радостных сеч!» (1821)
Пародийное (по отношению к Карамзину, Рылееву и Кюхельбекеру) противопоставление охоты негам предлагает читателю рассматривать это занятие как нечто героическое или (на крайний случай) полезное.
В отъезжем поле… – см. комментарий к предыдущей главке.
…он гарцует, – по словарю Даля грацовать – значит «наездничать, выезжать на коне для схваток, показывать ловкость, молодечество на коне» ( Даль , I, 345).
Везде находит свой ночлег – аллюзия на строки из баллады В.А. Жуковского «Вадим»:
«В осенний хлад и летний зной
Он с верным псом на ловле;
Ему постелей – мох лесной,
А свод небесный – кровлей». (1817)
Опустошительный набег – строка, видимо, взята из произведения П.А. Вяземского «Станция». Эта «глава из путешествия в стихах» была написана в 1825 году, а опубликована в 1829. У Вяземского этот стих звучит следующим образом:
«Свободна русская езда
В двух только случаях: когда
Наш Мак-Адам или Мак-Ева —
Зима свершит, треща от гнева,
Опустошительный набег,
Путь окует чугуном льдистым…»
Использованная Пушкиным строка выглядит одновременно и как литературная игра (привет Вяземскому), и как развитие темы, поскольку большая часть «Станции» посвящена плохим дорогам, а именно они и привели графа Нулина в дом Натальи Павловны. При этом, соединив строчку Вяземского с охотой (а понятие набег у нас ассоциируется, прежде всего, с татарскими набегами), Пушкин как бы «закольцовывает» ироническое описание, начатое темой неги.
Глава 3 (Граф Нулин)(текст)
А что же делает супруга
Одна в отсутствие супруга?
Занятий мало ль есть у ней?
Грибы солить, кормить гусей,
Заказывать обед и ужин,
В анбар и в погреб заглянуть.
Хозяйки глаз повсюду нужен:
Он вмиг заметит что-нибудь.
(комментарий)
Практически всю эту небольшую главку занимает перечисление хозяйственных занятий, которым в усадьбе отводилась первая половина дня: с утра (а у многих оно начиналось в 4–5 часов) и до обеда. В семьях помещиков сохранялось характерное и для крестьян деление работ на полевые и домашние. По свидетельству мемуариста, «жена заведовала скотным и птичьим дворами, ткачихами и кружевницами, а муж занимался в полеводстве» ( Кичеев , 125). С.Н. Глинке запомнилось, что летом и осенью под руководством его матери в доме варили сыры и варенья, ставили мед, а также пекли необыкновенные коврижки, отсылаемые знакомым в Петербург ( Глинка 1866 , 234).
Женское рукоделье – шитье, вышивание, вязание – работой в полном смысле этого слова не считалось, а было одной из форм проведения досуга, главным образом осенью и зимой, когда вечера становились длинны, а соседи приезжали нечасто. Зато нередки были семьи, где женщины принимали на себя все заботы по хозяйству, потихоньку вытесняя мужей из этой сферы. Так, генерал Мертваго, которому надоели семейные споры, записал в своих мемуарах: «Чтобы отстраниться от участия в действиях, мне противных, и исподволь умерять стремление без ссор, не стал я мешаться в дела хозяйства и определился в охотники садоводства, и принялся работать в саду своими руками» ( Мертваго , 312).
В семействе графа Чернышова глава семьи занимался только своим конным заводом, графиня же назначала все работы: домашние и полевые, проверяла отчеты в конторе, занималась строительством, заводом, фабриками, садом, да еще лечила больных в собственном «лазарете» ( Жиркевич , 576). Не только рядовые помещицы, но и многие аристократки совмещали рафинированную светскую жизнь в столице с ведением хозяйства в деревне. Княгиня Д. А. Трубецкая называла это «заниматься своей экономией» ( Шереметьев , 5). П. А. Вяземский, описывая старое московское семейство князей Оболенских, отмечал: «В семействе и хозяйстве княгиня была князь и домоправитель, но без малейшего притязания на это владычество. Оно сложилось само собою к общей выгоде, к общему удовольствию, с естественного и невыраженного соглашения» ( Вяземский1989 , 538). Деловитость помещиц порой поражала их более сентиментально настроенных мужей и братьев. К.Н. Батюшков писал в 1817 году о своей сестре: «А. Н. все в хлопотах. Выстроила дом прекрасный! У нее сад и хозяйство поглощают все время: и слава Богу!» ( Батюшков , 413). При сравнении текста «Графа Нулина» с мемуарами той эпохи обнаруживается почти полное (с поправкой на сезон и интересы) совпадение перечня дел, для которых нужен был хозяйки глаз с реальным «утром помещика»: «каждый день заглянет в свою пивоварню, в сад, в огород, пчельник, в конюшню и коровник…» ( Снигирев , 555).
А что же делает супруга Одна в отсутствие супруга? – Вопрос притворно риторический, поскольку ответ на него уже дан (и довольно давно) в державинском переложении стихов Горация под названием «Похвала сельской жизни». Приведем его:
«Когда ж гремящий в тучах бог
Покроет землю всю снегами,
Зверей он ищет след и лог;
Там зайца гонит, травит псами,
Здесь ловит волка в тенета.
(…)
Но будет ли любовь при том
Со прелестьми ее забыта,
Когда прекрасная лицом
Хозяйка мила, домовита,
Печется о его детях?
Как ею – русских честных жен
По древнему обыкновенью —
Весь быт хозяйский снаряжен:
Дом тепл, чист, светл, и к возвращенью
С охоты мужа стол накрыт». (1798)
Заказывать обед и ужин – с этой процедуры, по сути, начиналась деловая часть дня помещика или помещицы (обед заказывал тот из супругов, кто занимался хозяйством). Как правило, это происходило во время или сразу после утреннего чая.
В анбар и погреб заглянуть – анбар (амбар) – двухъярусное строение «с широкой выступающей площадкой перед входом и нависающим над ней вторым ярусом, стоящее на больших камнях или деревянных "стульях" без окон, но с небольшим отверстием для вентиляции. (…) Внутри бревнами или толстыми досками вдоль стен выгораживали сусеки (закрома) для зерна и муки, иногда имевшие вентиляцию в виде деревянных коробов, пропущенных сквозь стены» ( Беловинский , 12). В конце сентября зерно, просушенное в овинах, закладывали в амбары для длительного хранения – до будущего урожая. То же можно сказать и о погребе. Сентябрь-октябрь – сезон закладки овощей, фруктов, солений и варений на зиму. Контраст между этими «простонародными» занятиями и «возвышенными» устремлениями Натальи Павловны подчеркивается выбранной Пушкиным устной формой слова амбар, его «народным произношением» ( Черников , 435).
Глава 4 (Граф Нулин)(текст)
К несчастью, героиня наша…
(Ах! я забыл ей имя дать.
Муж просто звал ее Наташа,
Но мы – мы будем называть
Наталья Павловна) к несчастью,
Наталья Павловна совсем
Свой хозяйственною частью
Не занималася, затем,
Что не в отеческом законе
Она воспитана была,
А в благородном пансионе
У эмигрантки Фальбала.
(комментарий)
Имя, отчество героини, ее воспитание и ряд других деталей, разбросанных по тексту поэмы, позволяли читателю, знакомому с бытом той эпохи, с достаточной степенью точности реконструировать ее биографию. Отец героини, скорее всего, происходил из небогатой семьи дворян, живших не столько трудом крепостных крестьян, сколько за счет жалованья, получаемого на службе. Именно в этом кругу в XVIII – начале XIX века был распространен обычай называть детей именами великих князей и великих княжон – младшего поколения царствующего дома (такой же обычай был и в придворном кругу, но о принадлежности к нему отца Натальи Павловны ничто не говорит). Павлом чаще всего называли мальчиков, родившихся в 60-е годы XVIII века. Тогда Екатерину II воспринимали, в первую очередь, в качестве матери наследника, а затем уже в качестве императрицы. На ее коронации в 1762 году пелся кант: «Гряди желаннейшая мати, / Гряди с дражайшим Павлом к нам» ( Пыляев , 35) а в поэме И.Ф. Богдановича «Блаженство народов» (1765) помимо строк: «Пребудешь счастлива так долго ты, Россия, / Как будет жить в сердцах Екатеринин глас…», было и обращение к Павлу (выброшенное уже в редакции 1773 г.) ( Богданович , 240):
«Чтоб счастье приобресть сугубое сим веком,
Учись, великий князь, числом примеров сих,
Великим быть царем, великим человеком,
К спокойству твоему и подданных твоих».
Отметим, что ровесником отца Натальи Павловны, «взрослой дочери отцом» был Павел Афанасьевич Фамусов из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Действие комедии проходит в первой половине 1820-х гг., Фамусову, «дожившему до седин» и «почти старику», должно быть чуть более пятидесяти лет.
Мы можем с большой долей вероятности предположить, что отец Натальи Павловны родился и был крещен Павлом между 1765 и 1775 гг. Позже, когда конфликт между Екатериной и ее сыном стал широко известен, и она даже начала подумывать о лишении Павла прав на престол, младенцев стали называть Александрами и Константинами – по именам старших сыновей Павла, к которым Екатерина благоволила. Женившись, по обычаю тех лет, около тридцати лет, он службу не оставил, иначе бы дочь его получила домашнее образование. Так, у богатого барина А. Ф. Грибоедова (дяди писателя) для воспитания дочери держали трех иностранцев. Ими были: «учитель аббат Боде, арфист англичанин Адамс и рисовальный учитель немец Майер…» ( Пиксанов , 60). Помещики средней руки, обходясь, отчасти, своими силами, приглашали в дом хотя бы гувернантку и одного учителя. Однако Наталья Павловна воспитывалась в пансионе, что для девочек-дворянок в то время не было делом обычным. Характерна в этом отношении позиция К.Н. Батюшкова, выраженная в его письме к сестре, обратившейся к нему в 1816 году с просьбой подыскать племяннику учителя:
...«Достать вам иностранца, посадить его в кибитку и отправить мне нетрудно, но какая польза от этого?… По зиме Алеше будет около десяти или одиннадцати лет. Пора с ним расстаться. Он не девочка: его надобно окунуть в Стикс, а общественное воспитание для небогатых дворян необходимо и есть лучшее…» (Батюшков, 408 ).
Наталья Павловна родилась, скорее всего, между 1800 и 1805 годами в августе (26 августа – день Святой Натальи) и в пансион поступила как раз около 1816 года. В это время в России уже распространились частные пансионы, открываемые, как правило, иностранцами. Образцом для них служил Смольный институт благородных девиц, существовавший с 1764 года. Туда принимали главным образом девочек-сирот, отцы которых погибли в сражениях, или детей небогатых дворян, которые сами были не в состоянии дать образование своим дочерям. В Смольный институт поступали по высочайшему повелению, в остальных же пансионах была введена «баллотировка» – жребий среди претенденток на учебу за казенный счет.
Отец Натальи Павловны платил за ее обучение в частном пансионе, но не мог держать ее при себе. В 9 случаях из 10 это означало, что он был военным человеком и жил, что называется, «на бивуаках», возможно, служил в Кавказском корпусе. В этом случае мужем Натальи Павловны вполне мог стать сослуживец ее отца. Отсюда и разница между супругами: и в возрасте, и в интересах.
Имя же – Наталья – особенно в сочетании с именем героини романа, который она читает, и «моралистическим» (а реально – ироническим) завершением поэмы, давало подготовленному читателю много пищи для размышлений. Б.М. Гаспаров предположил, что оно связано с французским natal – родной. Отсюда его комментарий (связанный с общей трактовкой поэмы у автора, как творения, насыщенного апокалиптической символикой): «…героиня повести воплощает (наиболее ироническим образом) синкретический образ «России» и «Мадонны» (Богородицы) – синтез, типический для русской литературной традиции» ( Гаспаров1999 , 104).
Но на наш взгляд, столь глубокая трактовка образа (и имени) Натальи Павловны перекрывается другой, тоже иронической и тоже связанной с христианскими представлениями. Дело в том, что святая Наталья, покровительница Натальи Павловны, прославилась особым отношением к своему супругу – святому мученику Адриану. Она не только была верна Адриану при жизни, но и после его смерти посвятила себя служению мужу, перенеся его мощи в Византию и заслужив своим благонравным поведением статус христианской святой. Если автору требовалось «говорящее» имя, свидетельствующее о супружеской верности, то лучше, чем «Наталья», подобрать было невозможно. Так, Н.М. Карамзин выбрал имя Наталья для своей героини, которая не пожелала расстаться с мужем и отправилась на войну, переодевшись в мужское платье, а затем в сражении прикрывала его щитом (повесть 1792 г. «Наталья, боярская дочь»). В поэме же «Граф Нулин» имя Наталья-Наташа (как и многое другое) иронически перетолковывается. Вспомним, в связи с этим, строки, которыми заканчивается поэма:
…в наши времена / Супругу верная жена, /…совсем не диво.
Ах! – Это восклицание отсылает нас к литературе сентиментализма (как, впрочем, и романтизма) и может быть косвенным свидетельством связи «Графа Нулина» и повести Н.М. Карамзина «Наталья – боярская дочь». На первых эн странице этой повести мы встречаем этот оборот: «Ах нет! Прости безрассудность мою, великодушная тень, – ты неудобна, к такому делу!» и «Ах! В самую сию минуту вижу необыкновенный свет в темном моем коридоре, вижу огненные круги, которые вертятся с блеском и с треском и, наконец, – о чудо! – являют мне твой образ, образ неописанной красоты, неописанного величества!». А еще в повести Карамзина есть: «"Ах!" – восклицала Наталья, и простертые руки ее медленно опускались к земле» и еще 15 таких «Ах».
У поэтов – карамзинистов, «Ах» – своего рода кодовое слово, важный знак. По четыре «Ах» мы находим в балладах В.А. Жуковского «Людмила» (1808) и «Светлана» (1812). Целых три «Ах» небольшом стихотворении К.Н. Батюшкова «К Мальвине» (1805), а у Вяземского в послании «К Батюшкову» – «Ах! юностью подорожим!» (1817). Да и у самого Александра Сергеевича, в «Руслане и Людмиле» это самое «Ах» встречается семь раз, в том числе и знаменитое «Ах, витязь, то была Наина!». Таким образом, рассказчик в поэме «Граф Нулин», через «Ах» заявляет о себе, как о знатоке и любителе современной поэзии. Он, по своим вкусам, сейчас, скорее сентименталист и романтик, чем классицист, которым он предстает в самом конце поэмы. Кроме того, оборот «Ах», может свидетельствовать о том, что история Графа Нулина рассказывается в присутствии дам: ситуация, описанная в стихотворении «Душенька» Д.В. Давыдова:«Я, как младенец, трепетал
У ног ее в уничиженье
И омрачить богослуженье
Преступной мыслью не дерзал.
Ах! мне ль божественной к стопам
Несть обольщения искусство?
Я весь был гимн, я весь был чувство,
Я весь был чистый фимиам!» (1829)
Я забыл ей имя дать. – Отсылка к строкам из поэмы Байрона «Беппо», что уже было отмечено комментаторами ( Кибальник1998 , 60–75):
«Явилась поглядеть на маскарад
Одна синьора. Мне бы надлежало
Знать имя, но, увы, лишь наугад,
И то, чтоб ладить с рифмой и цезурой,
Могу назвать красавицу Лаурой».
(Поэма «Беппо» здесь и далее цитируется по изданию: Байрон Дж. Г. Избранное. М. 1986. Перевод В. Левика.)
Своей хозяйственною частью – читатель может сам выбрать, какое из значений слова часть, предложенных Далем, более всего подходит к положению Натальи Павловны. Итак: «участь, доля, жребий, удел, достояние жизни, счастье, судьба, рок, предназначение» (Даль, IV, 583). Подскажем только, что самое неподходящее значение, судя по содержанию поэмы – это «счастье».
Что не в отеческом законе
Она воспитана была
– одновременно с указанием на образование, полученное вне дома, это еще и ироническая отсылка к «Деяниям апостолов», а если более очно к речи апостола Павла перед жителями Иерусалима, обвинявшими его отступлении от веры отцов:...«Мужи братия и отцы! выслушайте теперь мое оправдание перед вами. / Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал: / я Иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в сем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне» ( Деян. 22, 1–3).
«Отеческим законом» в России может считаться «Домострой» – свод правил семейной и домашней жизни, составленному в середине XVI века духовником Ивана Грозного попом Сильвестром. В допетровской Руси авторитет «Домостроя» был непререкаем. Он был своего рода «учебником» и одновременно «энциклопедией» бытовой культуры. О воспитании детей там, в частности, сказано следующее:
...«А пошлет Бог у кого дети – сынове или дщери, ино имети попечение отцу и матери о чадах своих, снабдити их и воспитати в добре и наказании, и учити страху Божию и вежию, и всякому благочинию, по времени и по детям смотря и по возрасту, учити рукоделии матери дщери [подчеркнуто мной. – Авт. ], а отцу сынове… любити их и беречи, и страхом спасати, уча и наказуя, и рассужая, раны возлагати» ( Домострой , 35).
В контексте поэмы отеческий закон означает одновременно и «закон отцов», то есть «Домострой», и «закон отца» – домашнее воспитание под присмотром родителей. О том, как сам Пушкин относился к домашнему воспитанию, можно судить по фрагменту из его записки «О народном воспитании», написанной для Николая I через 11 месяцев после «Графа Нулина». Там, в частности, есть такие строки:
...«В России домашнее воспитание есть самое недостаточное, самое безнравственное: ребенок окружен одними холопями, видит одни гнусные примеры, своевольничает или раболепствует, не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести. Воспитание его ограничивается изучением двух или трех иностранных языков и начальным основанием всех наук, преподаваемых каким-нибудь нанятым учителем» (VII – 44).
В то же время, в этих двух строках можно разглядеть и иронический поклон в сторону П.А. Катенина, старшего товарища Пушкина, литератора, склонного к наставлениям и поучениям. В его комедии «Сплетни», изданной в 1821 г. и предположительно имевшейся в библиотеке Михайловского ( Лобанова , 37) есть строки, которые отзываются в характеристике Натальи Павловны:
«Хотите ли? за вас скажу я ваше мненье,
Что женщина в наш век прежалкое творенье,
В них вовсе ничего; откуда ж быть уму
Французское, и то плохое лепетанье;
Мазурка, вальс и шаль, вот все их воспитанье».
…в благородном пансионе – противопоставление пансиона отеческому закону очень точно выражает тенденцию, отмеченную Н.Л. Пушкаревой для рубежа XVIII–XIX веков, когда «в русской дворянской культуре сформировалось два пути женского воспитания, два психологических типа… Один характеризовался естественностью поведения и выражения чувств. Воспитанные крепостными няньками, выросшие в деревне у бабушек или проводившие значительную часть года в поместье родителей, девушки этого типа умели вести себя сдержанно и естественно одновременно – как это было принято в народной среде… Иной тип женского поведения, также сложившийся в XVIII – начале XIX в., характеризовался повышенной экзальтированностью публичного поведения (кокетством, игривостью), следованием моде и презрением прежних «условностей» ( Пушкарева, 117). Все дальнейшее поведение Натальи Павловны абсолютно точно вписывается во второй тип «женского поведения», формируемый «образцами поведения столичной публики, «высшего света», а также кругом чтения и уровнем образования».
Максимальный набор предметов в пансионе для благородных девиц (то есть для дочерей дворян) был в уже упомянутом выше Смольном институте. Там преподавали Закон Божий, русскую словесность, немецкий и французский языки, математику, географию, историю, естественные науки (физику, химию и астрономию в очень малом объеме), рисование, музыку, танцы. Частные пансионы ориентировались на этот стандарт, однако не всегда могли его выдержать из-за отсутствия подходящих учителей. Из-за этого, а также по соображениям экономии, один учитель преподавал сразу несколько предметов, давая знания «по возможности». В конечном счете, образование в пансионах для благородных девиц сводилось к тем предметам, знание которых, по понятиям того времени, считалось обязательным для жизни в свете (языки, танцы, благородные манеры) и в семье (рисование, музыка, немного словесности) ( Смирнова-Россет , 73–95).
Сохранились красноречивые свидетельства тому, как велось преподавание в такого рода учебных заведениях. Вот одно из них: «От преподавания мы ничего не ждали, да и трудно было чего-нибудь ожидать; многие из учителей являлись на лекции единственно для нашего развлечения, засыпая на кафедре или повторяя то, что за десять лет было говорено ими. Случалось нередко, что вся лекция проходила в разговоре, кто что видел, слышал, рассказывались городские сплетни, анекдоты, и надо признаться, что это были самые интересные лекции. После классов начиналось заучивание уроков в долбежку, так что на другое утро мы чувствовали себя нагруженными разными сведениями, но к вечеру все это исчезало, и голова, как пустое лукошко, снова готова была принимать в себя все, что в нее ни положат» ( Письмо , 2).
Поступали в пансион с 8-10 лет и до окончания курса, то есть до 16–17 лет, находились в нем постоянно. В качестве поощрения или в случае каких-либо несчастий в семье разрешалось отпускать воспитанниц домой, но не более чем на 1 день и чаще всего в сопровождении классной дамы ( Аладьина , 13–14).
Примером того, насколько трудно бывшим пансионеркам было привыкать к жизни в деревне, может служить история Анны Петровны Скуратовой, окончившей самый престижный в Москве частный пансион мадам Петрозилиус в начале 1820-х годов. Сразу после выхода из пансиона она вышла замуж за Николая Дмитриевича Лукина. Далее предоставим слово подруге Анюты Скуратовой – Наталье Петровне Оболенской (в записи ее дочери):
...«После свадьбы молодые уехали в деревню и располагали там поселиться… Прошло так месяца три. Анюта появляется в Москве и сейчас же была у нас; мы ей очень обрадовались, спрашиваем, где она остановилась, надолго ли к нам. Она говорит: "Я живу у m-me Петрозилиус". Трудно было этому поверить, но это было так: Анюта затосковала в деревне, с ней были припадки меланхолии, и она приехала в Москву, поместилась в пансионе Петрозилиус и вела там жизнь совершенно такую, как и прочие воспитанницы пансиона: она спала в дортуаре, ходила в классы и брала уроки музыки» (Сабанеева, 395 ).
У эмигрантки Фальбала – французское falbala имеет два основных значения. Во-первых, это оборка на платье, а в устной речи – волан. Во-вторых, вообще пышная безвкусная отделка платья. Эмигрантами в России первой четверти XIX века называли главным образом французских аристократов, вынужденных бежать от революции 1789 года и расселившихся по всей Европе. Большое их количество попало в Россию. Часть поступила на русскую службу, остальные вынуждены были зарабатывать на жизнь разными способами, в том числе преподаванием. Ф.Ф. Вигель вспоминал, что самый обычный помещик Пензенской губернии, имевший 300 душ крепостных, нанял в учителя маркиза де Мельвиль ( Вигель , 83).
Учившаяся в московских частных пансионах для благородных девиц как раз в первой половине 1820-х гг. Т.П. Пассек с особой теплотой вспоминала пансион эмигрантки mademoiselle Воше: «Когда я поступила в пансион m-lle Воше, там было не больше двадцати пяти девочек, получавших почти домашнее воспитание… Из учителей у нас был только священник, учитель русского языка Лучков и танцмейстер П.И. Йогель. Остальные предметы наук преподавала сама m-lle Воше, все на французском языке» ( Пассек , 188).
В нашем случае гордое звание эмигрантки в сочетании с отчаянно вульгарным именем намекает на широко распространенное в то время самозванство. К.Н. Батюшков, которого сестра просила найти в Москве француза-учителя, отвечал так:
...«Первое, по справкам моим оказалось, что здесь иностранцев, достойных уважения, мало, особенно французов, что хороший (или то, что называли хорошим, а по-моему, скотина скотиной) не поедет вдаль ни за какую сумму… За тысячу будет пирожник, за две – отставной капрал, за три – школьный учитель из провинции, за пять, за шесть аббат» (Батюшков, 407 и 411 ).
Очень легко представить, к какой категории учителей относилась «эмигрантка» с фамилией Фальбала!
Глава 5 (Граф Нулин)(текст)
Она сидит перед окном;
Пред ней открыт четвертый том
Сентиментального романа:
Любовь Элизы и Армана,
Иль Переписка двух семей —
Роман классический, старинный,
Отменно длинный, длинный, длинный,
Нравоучительный и чинный,
Без романтических затей.
(комментарий)
К сожалению, найти роман, который читала Наталья Павловна, не удалось. Между тем его название настолько типично для сентиментальных романов XVIII века, что напоминает искусно исполненную стилизацию под старинный заголовок. В нем содержится не менее четырех отсылок к разным культурным традициям и стереотипам.
Во-первых, конструкция типа: «любовь такой-то и такого-то» была чрезвычайно распространена во второй половине XVIII века. Из десятков романов с такими заголовками около двадцати было переведено на русский язык. Вот названия только двух: Пьер Бошан «Любовь Исмены и Исмениаса» и Жан Лафонтен «Любовь Псиши и Купидона». Оба романа вышли на русском языке в одном и том же году – 1769.
Во-вторых, в традиции даже не сентиментального, а классического романа XVII века, было давать двойной заголовок, обе части которого соединялись через или. Возьмем почти наугад несколько романов, переведенных на русский – подряд, год за годом:
1789 г. Жан Демаре: «Несчастная любовь, или Приключение Мелентеса и Арианны, одной знаменитой сицилианки»;
1790 г. Жан Жак Бартелеми: «Любовь Кариты и Полидора, или Разные приключения двух великолепных любовников»;
1791 г. Анонимный автор: «Любовь Анделутеда и Уардии, или Несчастные приключения двух судьбою гонимых страстных любовников, через свое постоянство достигших желаемого предмета».В-третьих, жанр переписки, вошедший в моду в середине XVIII века (но появившийся значительно раньше), стал своего рода «визитной карточкой» нравоучительного романа. Так, из семи романов, в заглавии которых есть имя Элиза или его вариации, опубликованных в последней трети ХVIII века, в четырех использован прием переписки. В 1789 г. на русский язык были переведены и сразу стали популярными «Письма Йорика к Элизе», в которых под именем Йорика, выступал писатель Лоуренс Стерн, автор сентиментальных романов: «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» и «Сентиментальное путешествие Йорика по Франции и Италии». Наконец, в-четвертых, имя героини – Элиза – явный и безусловно узнаваемый знак сентиментальной прозы. С этим именем (Элиза, Элоиза, Луиза, а в русской традиции Елиза или Лиза) связана особая культурная традиция, корнями уходящая в европейское средневековье. Начало ей было положено в XII веке в переписке философа и богослова Пьера Абеляра с его возлюбленной семнадцатилетней Элоизой. В ответных письмах Элоизы впервые в европейской литературе соединяются понятия «любовь» и «свобода», в противовес «несвободе» – браку и монастырю. Строки, которые мы приведем ниже, предвосхитили главную тенденцию в развитии европейского романа и опередили время на 400–500 лет:
...«Бог свидетель, – пишет Элоиза, – что я никогда ничего не искала в тебе, кроме тебя самого; я желала иметь тебя, а не то, что принадлежит тебе. Я не стремлюсь ни к брачному союзу, ни к получению подарков… И хотя наименование супруги представляется мне более священным и прочным, мне всегда было приятней называться твоей подругой, или, если ты не оскорбился, – твоею сожительницей или любовницей» (Абеляр, 67 ).
Шестьсот лет спустя Жан-Жак Руссо написал роман о страсти, служащей извинением нарушению семейных приличий и религиозных догм. Название романа – «Юлия, или Новая Элоиза». Преемственность литературной традиции подчеркивала и избранная Руссо форма романа-переписки. После выхода «Новой Элоизы» имя Элизы-Лизы стало символом любви, разрывающей сеть традиционной морали и светских «приличий» ( Топоров ).
Что же до Натальи Павловны, то ее упорное стремление дочитать роман до конца говорит по крайней мере о двух вещах. Первая: она отчасти отождествляет себя с Элизой – героиней сентиментального романа, и скорее всего видит в семейной жизни препятствие для «подлинной» и «высокой» любви. Вторая: поведение героини во всех последующих сценах будет во многом определяться теми стереотипами, которые намертво утвердились в сентиментальной прозе XVIII века. В частности, ухаживание в ней предполагает длительный процесс, обширную переписку, тайные свидания, долгие беседы, робкое, а затем пылкое, но «в рамках», проявление страсти, борьбу «долга» и «чувств» и т. д.
Ироническое отношение Пушкина к сентиментальной прозе отчетливо видно из его письма к брату Льву, написанному за год до «Графа Нулина», в ноябре 1824 г.: «…читаю "Кларису", мочи нет какая скучная дура!» (X – 110). Имелся в виду один из самых знаменитых романов XVIII века «Клариса, или История молодой леди, показывающая бедствия, проистекающие из непредусмотрительного отношения, как родителей, так и детей к браку». Этот эпистолярный роман Сэмюэля Ричардсона, написанный в 1747–1748 гг., предвосхитил явление сентиментализма и был читаем всю вторую половину XVIII в. В начале XIX в. такие романы (но, прежде всего, «Новая Элоиза») имели беспрекословный авторитет в России. Приведем лишь два свидетельства глубочайшего влияния романа Руссо на умы русских образованных дворян начала XIX века: Первое – от Н.Н. Муравьева-Карского:
...«Мне тогда было 16 лет. (…) попалась мне в руки «Новая Элоиза» Руссо. Чувствительность, выражающаяся в сих письмах, растрогало мое сердце, по природе впечатлительное… Слог Жан-Жака увлекал меня, и я поверил всему, что он говорит. Не менее того чтение Руссо отчасти образовало мои нравственные наклонности и обратило их к добру; но со времени чтения сего я потерял всякую охоту к службе, получил отвращение к занятиям, предался созерцательности и обленился. Я перемогал свою лень при исполнении обязанностей и стал уже помышлять об отставке» (Муравьев-Карский, 75 ).
Второе – из круга В.А. Жуковского:
...«По признанию Андрея Тургенева, ближайшего друга Жуковского, Руссо был как бы наставником молодого поэта. «Новая Элоиза» воспринималась в тургеневском кружке, куда входил и Жуковский, как «code de moral\'» во всем – в любви, в добродетели, в должностной, общественной и частной жизни» (Жуковский и литература, 290 ).
Однако появление романтической прозы постепенно оттеснило их на обочину европейской, а к концу 1820-х годов – и российской литературной жизни.
Пред ней открыт четвертый том – упомянутый выше роман Ричардсона «Клариса» вышел в семи томах. «Жизнь и мнения Тристама Шенди, джентльмена» – в девяти. Так что «четвертый том» романа, который читает Наталья Павловна, отнюдь не означает, что он последний.
Роман классический, старинный – все что написано в этом комментарии чуть выше неизбежно должно нас привести к выводу, что роман, читаемый Натальей Павловной написан во Франции или Англии между 40-ми и 60-ми годами XVIII века и переведен на русский язык не позднее 90-х годов того же века.
Отменно длинный, длинный, длинный – для того, чтобы читатель лучше понял, что стоит за этой строкой, приведем (из каталога Российской национальной библиотеки) объем нескольких из упомянутых выше «классических» романов, изданных, в русских переводах, в Санкт-Петербурге в конце XVIII – начале XIX веков, по томам:
Самюэль Ричардсон. «Достопамятная жизнь девицы Кларисы Гарлов, истинная повесть». Книга издана в 1791–1792 годах. Часть 1 – 306 стр., часть 2 – 422; часть 3 – 419 стр., часть 4 – 384, часть 5 – 382 стр., часть 6 – 356.
Лоренс Стерн «Жизнь и мнения Тристама Шенди, джентльмена». Роман издан в 1804–1807 годах. Том 1 – 251 стр., том 2 – 248 стр., том 3. – 239 стр., т 4. – 228 стр., том 5 – 194 стр., том 6. – 208 стр.
Жан Жак Руссо «Новая Элоиза». Издание 1820–1821 годов. Том 1 – 312 стр., том 2 – 279 с тр., т. 3. – 235 стр., том 4 – 214 стр., том 5 – 212 стр., том. 6 – 265 стр., том 7 – 310 стр., том 8. – 232 стр., том 9. – 226 стр., том. 10 – 198 стр.
Глава 6 (Граф Нулин)(текст)
Наталья Павловна сначала
Его внимательно читала,
Но скоро как-то развлеклась
Перед окном возникшей дракой
Козла с дворовою собакой
И ею тихо занялась.
Кругом мальчишки хохотали.
Меж тем печально, под окном,
Индейки с криком выступали
Вослед за мокрым петухом;
Три утки полоскались в луже;
Шла баба через грязный двор
Белье повесить на забор;
Погода становилась хуже
Казалось снег идти хотел…
Вдруг колокольчик зазвенел.
(комментарий)
События этой части развиваются на барском дворе. Двор (или задний двор) начинался сразу за домом, у его заднего крыльца, и заканчивался садом и теплицами (у богачей и любителей – оранжереей). Границы двора формировались хозяйственными постройками. У самого заднего крыльца барского дома обычно ставилась кухня. Ее никогда не располагали в доме, чтобы снизить опасность пожара и избежать распространения в доме специфических запахов. Рядом с кухней размещались амбар, кладовая и погреб, далее – птичий двор, огороженный низкой перегородкой (или вообще без нее).
С другой стороны амбара – скотный двор, конюшня, а у охотников – псарня. Последняя была большим испытанием для чувствительных людей, поскольку «заражала воздух нестерпимым зловонием» ( ТолстойМ , 106). Напротив дома помещика ставились избы для семейных дворовых. Их размещали по 2–3 семьи в одной избе, выдавая на прожитье месячину – запас продуктов на месяц. Типичное описание барского двора выглядит следующим образом: «двор наш широкий и заросший травой, был окружен небольшими постройками, старыми сараями, кладовой и амбарами» ( Полонский , 399).
По сути, именно задний двор был средоточием усадебного быта, там никогда не замирало движение и всегда что-то происходило. Может быть, поэтому Наталья Павловна села с книгой у того окна, что выходило на задний двор (впрочем, этому есть еще как минимум два объяснения).
Но скоро как-то развлеклась
И ею тихо занялась — оба глагола, при помощи которых описывается состояние Натальи Павловны – развлеклась и занялась – имели в то время по нескольку значений. Развлечься означало:
– отвлечься от какого-то дела и заменить его другим; – найти себе какое-нибудь занятие;
– забавляться, потешаться (Даль, IV, 18).Так, например, когда Чацкий в комедии «Горе от ума» говорит Софье: «Пущусь подалее – простыть, охолодеть, / Не думать о любви, но буду я уметь / Теряться по свету, забыться и развлечься», – он имеет в виду два первых значения, но никак не третье.
Точно так же слово заниматься означало: упражняться, работать, но и тешить, забавлять ( Даль , I, 580). Причем приводимые первыми значения были ранними, и потому более укорененными в языке. Следуя этому формальному значению слов развлекаться и забавляться, читатель должен был согласиться с тем, что Наталья Павловна, оставив на время одно дело, перешла к другому. Этой иронической трактовке занятий Натальи Павловны способствуют строки, обрамляющие драку Козла с дворовою собакой: Наталья Павловна сначала / Его внимательно читала (первое дело) и Ею тихо занялась (второе дело).
Сухой и притворно серьезный тон этих фраз способствует смещению и подмене значений, не давая читателю быстро переключиться со строк: Занятий мало ль есть у ней и Своей хозяйственною частью / Не занималася… на второе и более позднее значение слов развлеклась и занялась.
Козла с дворовою собакой – дворовых собак держали для того, чтобы они, днем и ночью вертясь возле дома, лаем предупреждали о приближении чужаков и воришек. В 1819 г. П.А. Вяземский написал два шутливых четверостишья, в которых дворовые собаки выступали в качестве главных персонажей:«Две собаки»
– «За что ты в спальне спишь, а зябну я в сенях? —
У мопса жирного спросил кобель курчавый.
– За что? – тот отвечал, – вся тайна в двух словах:
Ты в дом для службы взят, а я взят для забавы».
«Битый пес»
«Пес лаял на воров; пса утром отодрали —
За то, что лаем смел тревожить барский сон.
Пес спал в другую ночь; дом воры обокрали:
Отодран пес за то, зачем не лаял он».
Кругом мальчишки хохотали – Слово мальчишки крайне редко встречается в поэзии пушкинской эпохи. В этой связи интересно посмотреть на то, как для чего это слово использовалось и в каком контексте. Вот стихотворение Дениса Давыдова 1807 года, с названием «Мудрость. Анакреонтическая ода»:
«Мы недавно от печали,
Лиза, я да Купидон,
По бокалу осушали
И просили Мудрость вон.
"Детушки, поберегитесь! —
Говорила Мудрость нам. —
Пить не должно; воздержитесь:
Этот сок опасен вам".
"Бабушка! – сказал плутишка. —
Твой совет законом мне.
Я – послушливый мальчишка,
Но… вот капелька тебе, —
Выпей!" – Бабушка напрасно
Отговаривалась пить.
Как откажешь? Бог прекрасной
Так искусен говорить».
А вот – Иван Андреевич Крылов, басня «Мальчик и Змея»:
«Мальчишка, думая поймать угря,
Схватил Змею и, воззрившись, от страха
Стал бледен, как его рубаха.
Змея, на Мальчика спокойно посмотря:
"Послушай,– говорит,– коль ты умней не будешь,
То дерзость не всегда легко тебе пройдет.
На сей раз бог простит; но берегись вперед
И знай, с кем шутишь!"» (1818–1819).
И там и здесь мальчишка означает – шутник, озорник, шалун. В этом смысле характерен еще один пример. Василий Львович Пушкин, в 1802 г. опубликовал стихотворение «Подражание (Завещание Киприды)». Вот оно:
«Кипpиде вздумалось оставить здешний свет,
Cокpыться в монастырь, и вce cвое именьe
Отдать мне c Хлоeй в награжденье;
Не знаю, кто ей дал совет
В душеприказчики пожаловать Амура,
Не бога – бедокура.
Он Хлоeю пpeльcтяcь, ee обогатил;
Ей отдал радости, забавы, утешенье;
А я в наследство получил
Одни лишь слёзы и мученье!»
Никакого мальчишки в нем нет. Но, при публикации этого стихотворения в полном собрании сочинений в издательстве А. Смирдина (1855 г.), возможно по цензурным соображениям, слово «бог» в строке «Не бога – бедокура» было заменено. Строка теперь выглядела так: «Мальчишку – бедокура», что в полной мере соответствует тому семантическому ряду, который был построен выше. Вернемся в 1818 год. В послании «К. М.Ф. Орлову (О Рейн…)» В.А. Жуковского есть такие строки:
«Начальник штаба, педагог —
Ты по ланкастерской методе
Мальчишек учишь говорить
О славе, пряниках, природе,
О кубарях и о свободе —
А нас забыл…»
Здесь выделена педагогическая функция Орлова, сторонника, так называемой «ланкастерской» системы взаимного обучения и создававшего в 4-м пехотном корпусе (начальником штаба которого он был) полковые школы. Соответственно, он занят мальчишками, которые, в свою очередь думают о пряниках и кубарях. Детскую игрушку кубарь мы сейчас называем волчком, а «кубарить» или «гонять кубаря» в те времена означал «забавляться, дурить, заниматься пустяками» ( Даль , II, 209). Вот и в поэме А.С. Пушкина мальчишки хохочут, а по сути – кубарят, занимаются пустяками. А вместе с ними – и героиня поэмы.
Меж тем печально, под окном,
Индейки с криком выступали
Вослед за мокрым петухом;
Три утки полоскались в луже; — полемическая отсылка к «драматической шутке» В.К. Кюхельбекера «Шекспировы духи». В своеобразном прологе этой небольшой комедии, полученной и прочитанной Пушкиным в первых числах декабря 1825 г., один из персонажей – Поэт – формулирует свое отношение к взаимоотношениям литературы и жизни в таких словах:«Как сельских девушек, взращенных среди уток,
Гусей и кур, теляток и коров
Равнять с блестящими духами,
Которые, носясь над облаками
Пьют запах и вкушают пыль цветов?
Возьми, раскрой Шекспира…»
Собственно говоря, вся поэма «Граф Нулин» есть не что иное, как буквальное воплощение в жизнь пожелания Поэта, который в эпилоге комедии выступает в качестве alter ego автора. А три утки в луже – это сигнал Кюхельбекеру: вот тебе «шекспировские страсти» среди «теляток и коров». С другой стороны, у читателя этих строк могла возникнуть ассоциация (и как показала критическая статья Н.М. Надеждина в «Вестнике Европы» – возникла) с комической поэмой В.Л. Пушкина «Опасный сосед» (1811) и, в частности, со строками: «Рубашки на шестах, два медные таза / Кот серый, курица мне бросились в глаза».
Белье повесить на забор – еще одно напоминание о своеобразном отношении Натальи Павловны к хозяйственным делам. У «настоящей» помещицы стирка – занятие первостепенное. Ею занималась (в первом значении слова) вся дворня при обязательном наблюдении госпожи. Вершиной «правильного» отношения к стирке было поведение Авдотьи Ивановны Сабуровой (в девичестве княжны Оболенской). Она приобрела голландское «столовое белье» и два раза в год посылала его стирать – в Голландию (Благово, 63).
Вдруг колокольчик зазвенел . – Поддужные колокольчики получили распространение в России во второй половине XVIII века как один из необходимых элементов ямской почты, вытеснив в качестве средства оповещения не привившийся на русской почве европейский почтовый рожок. Тогда (не позже 1770 г.) на дорогах России появились первые тройки, сменившие упряжь цугом, в которой лошадей запрягали (по одной или парами) одну за другой. В тройке коренник, запряженный в дугу, должен бежать рысью, а пристяжные лошади – галопом. Такое сочетание аллюров резко повышало скорость экипажа. Дуга же и ровный бег коренника позволяли использовать колокольчик.
Традиция связывает появление первых колокольчиков с городом Валдай Новгородской губернии (первый датированный колокольчик – 1802 года) Валдайские колокольчики: круглые, с толстыми стенками, диаметром от 90 до 125 см, сделанные из того же бронзового сплава, из которого отливались церковные колокола – стали образцом для других изготовителей ( Ганулич1982 , 151–153; Ким , 3). Появилась даже специальная форма колокольчика: «Дар Валдая». Ямские колокольчики привязывали сыромятными ремешками к дуге коренника. Число колокольчиков колебалось от одного до девяти, а в упряжь пристяжных лошадей вплетали бубенцы ( Ганулич1983, 144–147). Колокольчики особой конической формы – гречишной – подвешивали под шею коренника. В начале XIX в. возникла традиция помещать надписи на поддужных колокольчиках: «Кого люблю, того и дарю», «Сдалеча весточку собою подавай», «Купи, не скупись, сам веселись», «Звону много – веселей дорога», «Езжай – поспешай, звони – утешай».
Почтовых лошадей (за двойную плату) могли использовать для поездок все те, кто хотел ехать быстро. Поэтому звон колокольчика чаще всего означал приближение экипажа с путешественником. Впрочем, несмотря на прямые запрещения, мода на колокольчики быстро распространилась на дворянское и купеческое сословия. В деревне, где нравы были свободней, а контроль – слабее, каждый желающий мог почти беспрепятственно подвязать к дуге коренника свой собственный колокольчик.Глава 7 (Граф Нулин)(текст)
Кто долго жил в глуши печальной.
Друзья, тот верно знает сам,
Как сильно колокольчик дальный
Порой волнует сердце нам.
Не друг ли едет запоздалый,
Товарищ юности удалой?..
Уж не она ли?.. Боже мой!
Вот ближе, ближе. Сердце бьется.
Но мимо, мимо звук несется,
Слабей… и смолкнул за горой.
(комментарий)
Данная главка – первое из четырех отступлений в поэме (если не считать заключительного четверостишия) и первое прямое обращение «рассказчика» к читателю. Эта особенность сказовой манеры, отсылающей читателя к устной речи, отчасти заимствована Пушкиным у Лафонтена. Б.В. Томашевский определил три особенности творческой манеры Лафонтена, примененные в «Графе Нулине»: слабая зависимость действия от сюжета, перенесение внимания с него на саму манеру изложения; комическое использование архаизмов; большое количество речей «от автора», «обрамляющих» повествование ( Томашевский, 250–251).
Но в авторских отступлениях в поэме «Граф Нулин» есть одна особенность. Три из них (и заключительная «мораль») соответствуют настроению, в котором пребывает в настоящий момент один из персонажей поэмы. В данном случае тон рассказчика совпадает с настроением Натальи Павловны, «занятой» дракой козла и собаки и безмерно скучающей в глуши печальной. Это тем более заметно, что авторская речь «врезана» в повествование между строк: Вдруг колокольчик зазвенел и Наталья Павловна к балкону бежит…
Не друг ли едет запоздалый, Товарищ юности удалой?.. – реминисценция на приезд в Михайловское И.И. Пущина. Лицейский друг и сосед по дортуару как никто другой соответствовал этой характеристике. Встреча друзей состоялась 11 января 1825 г. и отозвалась затем в знаменитом послании 1826 года:
«Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный
Твой колокольчик огласил…» (II – 341)
Легко заметить лексическую близость послания Пущину и этой части поэмы: обращение к другу (друзьям); колокольчик; друг запоздалый – «друг бесценный»; глушь печальная – «печальный снег». Тема колокольчика постоянно присутствует и в воспоминании Пущина об этой встрече:
...«Скачем опять в гору извилистой тропой – вдруг крутой поворот, и как будто неожиданно вломились с маху в притворенные ворота, при громе колокольца… Комната Александра была возле крыльца, с окном на двор, через которое он увидел меня, услышав колокольчик… Ямщик уже запряг лошадей, колоколец брякал у крыльца, на часах ударило три. Мы еще чокунулись стаканами, но грустно пилось: как будто чувствовалось, что последний раз вместе пьем и пьем на вечную разлуку!» (Пущин, 67–68 и 73).
Письмо от Пущина, в котором тот сообщал о своем отъезде в Петербург, Александр Сергеевич получил за два-три дня до того, как начал писать «Графа Нулина», воскресив память о встрече, случившейся почти год назад.
Уж не она ли?.. Боже мой! – в отличие от предыдущих строк, эти – не более чем литературная мистификация. Можно было бы попробовать угадать, кого из реальных лиц имеет в виду автор в данном случае: Анну или Евпраксию Вульф, Александру Осипову или Анну Керн. Все они жили неподалеку от Михайловского, все были молоды и красивы. В отношении к ним Пушкина прослеживаются элементы романтической игры. Однако Ю.М. Лотман очень убедительно показал, что стихотворные отсылки к «даме сердца» в пушкинских текстах 20-х годов есть не что иное, как сознательная (а отчасти и бессознательная) «мифологизация личности» писателя, прочно связанная с литературно-бытовой традиций романтизма ( Лотман1995 , 253–256).
… и смолкнул за горой. – В словаре Даля можно найти три значения слова «гора» применительно к реалиям российской средней полосы: а) «горка», то есть холм; б) крутой берег реки; в) кладбище, расположенное на пригорке ( Даль , I, 375). Поскольку выше (как мы уже знаем) дана реминисценция на обстоятельства жизни автора, то и гора – принадлежность не только литературного, но и реального пейзажа Михайловского. Уже названия соседних Михайловскому Святогорского монастыря и Тригорского – поместья А.П. Осиповой-Вульф подсказывают нам, что гора (холм) – естественная часть пейзажа. Но любопытно, что в самом Михайловском и вокруг него встречаются все три типа «гор», отмеченных у Даля. Сама усадьба была расположена на крутом берегу (обрыве) реки Сороти, рядом с Михайловским два «именных» холма Воронья гора и Савкина горка, старая часовня Михайловского стояла на Поклонной горке, а невдалеке – холм, «на котором во время оно находилась «скудельня» – место погребения бездомных людей…» ( Гейченко , 99 и 132; Васильев , 4–5).
Глава 8 (Граф Нулин)(текст)
Наталья Павловна к балкону
Бежит, обрадована звону,
Глядит и видит: за рекой,
У мельницы, коляска скачет,
Вот на мосту – к нам точно… нет,
Поворотила влево. Вслед
Она глядит и чуть не плачет.
(комментарий)
Пейзаж, который наблюдала Наталья Павловна с балкона – важный элемент усадебной жизни. «Мир усадьбы, – отмечает исследователь этой темы, – складывался из соотношения природных, пейзажных мотивов и архитектурных, пространственно-художественных» («… в окрестностях» , 157). Традиция вписывать помещичью усадьбу в пейзаж возникла не ранее середины XVIII века. Еще в 1760-е годы знаменитый в будущем агроном и естествоиспытатель А.Т. Болотов, переселившись из столицы в деревню, сокрушался, как неудобно и некрасиво расположены дома соседей. Дом его будущего тестя стоял на косогоре, в результате чего одна половина дома была выше другой. То, что можно было назвать пейзажем, выглядело следующим образом:
...«…маленький и узенький цветничок, насаженный кой-какими цветами и осененный тенью от насаженных подле решетки высоких черемух и других деревцев был единым только наружным дому украшением, или, паче вещью, увеличивающею еще более его простоту и безобразие» (Болотов, II , 284 ).
И чуть дальше – более короткое, но отнюдь не менее выразительное описание соседского усадебного пейзажа: «Насилу, насилу, мы въехали по грязи на гору к его хороминам, построенным также на косогоре в прескверном месте и не значащем ничего».
Однако уже в 70-80-е годы XVIII века стало правилом располагать барский дом на возвышенности, невдалеке от реки. Эти два естественных компонента пейзажа (река и холм) дополнялись рукотворными – со стороны двора садом, а и с фасадной части дома – парком с аллеями, беседками, системой ручьев и прудов. В устах старшего современника Натальи Павловны описание хорошей усадьбы звучало так: «Славное село подмосковное Иславское! Во-первых, на реке, сад боярский, аллеи с трех концов, оранжереи и пропасть разных затей» ( Жихарев , 243). Тот же А.Т. Болотов, так ругавший невзрачные домишки соседей, с удовольствием описывал дом тульского наместника Михаила Николаевича Кречетникова: «Он жил тут как бы какой английский лорд, и все у него прибрано было тут по-боярски. Позади дома находился регулярный сад, со множеством беседок и разных домиков, а перед домом обширное место с несколькими прудами, а за ним увидел реку Пахру, протекающую прекрасною излучиною, а за оною и по сторонам прекрасный лес и рощи» ( Болотов , II, 362).
Наталья Павловна к балкону
Бежит… – балкон в помещичьем доме был необходимейшей частью усадебного уклада. Двухэтажный дом с колоннадой над крыльцом, балконом и двумя флигелями – самая типичная конструкция деревенского барского дома. М.Н. Макаров вспоминал, что в недостроенном доме его отца «над одним окном в гостиной было прирублено, вроде балкона, крылечко» ( Макаров , 249). На этом «крылечке» в хорошую погоду пили чай.
О том же писала в своих записках хорошая знакомая Пушкина А.О. Смирнова-Россет. Когда она в 1810-х годах гостила в поместье генерала В.А. Недоброва, то встретила там такой обычай: каждый день генерал «уходил один с Варей [дочерью. – Авт.] пить кофий у себя на балконе против церкви, где покоился прах его жены» ( Смирнова-Россет , 68).
Порыв Натальи Павловны – выбежать на балкон и посмотреть, кто едет – целиком вписывается в усадебное поведение тех лет. А.П. Хвостова вспоминала, как помещики, ожидая гостей, высылали дворовых на крышу барского дома – высматривать приближающиеся экипажи ( Хвостова, 19). Позже, при встрече с графом Нулиным, Наталья Павловна поведет себя иначе. Пока же, не зная, кто едет, поступает естественно, «по-деревенски». Для того, чтобы успеть самой увидеть коляску гостя, ей надо перейти на противоположную сторону дома: читала она у окна, выходящего на задний двор – в своей спальне или в будуаре, балкон же украшает фасад, выходящий на дорогу и реку.
У мельницы, коляска скачет — коляска – «рессорный экипаж на четырех колесах с поднимающимся верхом…» ( Словарь , II, 356), при этом, экипаж легкий, щегольский, светский. Словарь Даля его определяет как «барскую ездовую повозку» ( Даль , II, 368). «Дорожными экипажами», то есть предназначенными специально для поездок на дальние расстояния, были брички и возки (а в зимнее время – кибитки и сани) (Альманах, 97).
В Париже, откуда едет граф Нулин, в 1825 г. коляска была самым модным средством передвижения. Она предназначалась для прогулок в парке или ближних окрестностях города. Появилась даже особая разновидность коляски, предназначенная для «дамской» охоты. Истинный щеголь, граф не мог избрать ничего иного для переезда из столицы Франции в Россию. Однако для путешествия по российским дорогам, да еще в сентябре, он выбрал, может быть, самый худший вариант. Надо было очень основательно забыть Россию и российские дороги, чтобы отправиться в путешествие в конце сентября в легком экипаже. Вспоминая о 1810-1820-х годах, князь Вяземский записывал:...«…в осеннюю и дождливую пору дороги были совсем недоступны. Подмосковные помещики за 20 и 30 верст отправлялись в Москву верхом… Так однажды въехал в Москву фельдмаршал Сакен. Утомленный, избитый толчками, он на последней станции приказал отпрячь лошадь из-под форейтора, сел на нее и пустился в путь. Когда явились к нему московские власти с изъявлением почтения, он обратился к губернатору и спросил его, был ли он уже губернатором в 1812 году; и на ответ, что не был, граф Сакен сказал: "А жаль, что не были! При Вас Наполеон никак не мог бы добраться до Москвы"» (Вяземский 1989, 394).
Сравнительно удобным проезд по российским дорогам был с декабря по середину марта (по насту и льду) и с мая по август (по сухим проселкам). В мае-июне происходило ежегодное переселение помещиков из города в деревню, а в декабре – обратно в город.
Май: «Москва начинает пустеть: по улицам ежеминутно встречаешь цепи дорожных экипажей и обозов; одни вывозят своих владельцев, другие приезжают за ними» ( Жихарев, I, 86).
Декабрь: «Помещики соседствующих губерний почитали обязанностью каждый год в декабре со всем семейством отправляться из деревни на собственных лошадях и приезжать в Москву около Рождества…» ( Вигель, 116).
Тех же, кто рисковал отправляться в дорогу осенью или весной, ждала печальная участь, подобная той, о которой сообщала мать поэта – Надежда Осиповна – своей дочери в письме от 1 октября 1829 г.: «Мне очень хочется покинуть Тригорское, погода отвратительная, дороги так испорчены, что одна дама, возвращаясь из Петербурга, несколько дней назад завязла в Долгове» ( Письма, 70). Что значит завязнуть, наглядно пояснила Марта Вильмот: «Лавируя, карета продвигалась вперед почти без дороги (если не считать колеи, оставленной небольшими грязными повозками), и нас било, вертело, трясло, стукало, бросало из стороны в сторону. Вдруг лошади поднялись на дыбы, рванули, и мы все до единого очутились в болоте» ( Письма сестер…, 274).
Глава 9 (Граф Нулин)(текст)
Но вдруг… о радость! косогор;
Коляска набок. – «Филька, Васька!
Кто там? скорей! Вон там коляска:
Сейчас везти ее на двор
И барина просить обедать!
Да жив ли он?.. беги проведать:
Скорей, скорей!»
(комментарий)
Падение коляски – тот сюжетный ход, который обеспечивает завязку поэмы – встречу графа и Натальи Павловны. Поскольку поэма была написана очень быстро – в два дня, то большинство ее сюжетных поворотов были позаимствованы из различных литературных произведений. Здесь удобно указать на одно из них – комедию кн. А.А. Шаховского «Не любо – не слушай, а лгать не мешай», впервые поставленную на сцене в 1818 г. и тогда же вышедшей отдельным изданием.
Для того чтобы установить связь комедии Шаховского с поэмой «Граф Нулин», нужно вспомнить о событиях, происходивших в Михайловском и его окрестностях в начале декабря 1825 г. Именно в эти дни Пушкин решился самовольно нарушить высочайшее предписание, запрещающее покидать место его ссылки. Вот как передает это событие, со слов А. Мицкевича, С.А. Соболевский:
...«Известие о кончине императора Александра Павловича и о происходивших вследствие оной колебаний по вопросу о престолонаследии дошло до Михайловского около 10 декабря. Пушкину давно хотелось увидеться с его петербургскими приятелями. Рассчитывая, что при таких важных обстоятельствах не обратят строгого внимания на его непослушание, он решился отправиться туда; но как быть? В гостинице останавливаться нельзя – потребуют паспорта; у великосветских друзей тоже опасно – огласится тайный приезд ссыльного. Он положил заехать сперва на квартиру к Рылееву, который вел жизнь не светскую, и от него запастись сведениями. Итак, Пушкин приказывает готовить повозку, а слуге собираться с ним в Питер; сам же едет проститься с Тригорскими соседками. Но вот, на пути в Тригорское, заяц перебегает через дорогу; на возвратном пути из Тригорского в Михайловское – еще заяц! Пушкин в досаде приезжает домой…. Наконец повозка заложена, трогаются от подъезда. Глядь! в воротах встречается священник, который шел проститься с отъезжающим барином. Всех этих встреч – не под силу суеверному Пушкину. Он возвращается от ворот домой и остается у себя в деревне» (Соболевский, 1386–1387 ).
Вот как эту же историю описала одна из «тригорских соседок» Пушкина, М.И. Осипова:
...«…слышим, Пушкин быстро собрался в дорогу и поехал; но, доехав до погоста Врева, вернулся назад. Гораздо позднее мы узнали, что он отправился было в Петербург, но на пути заяц три раза перебегал ему дорогу, а при самом выезде из Михайловского Пушкину попалось навстречу духовное лицо. И кучер, и сам барин сочли это дурным предзнаменованием». А вот что писал по этому поводу П.А. Вяземский: «Так и я слыхал от Пушкина. Но, сколько помнится, двух зайцев не было, а только один. А главное, что он бухнулся бы в самый кипяток мятежа у Рылеева в ночь 13 на 14 декабря: совершенно верно» ( Пушкин в воспоминаниях…, 317 и 91).
Оставим в стороне хорошо известный и многократно описанный в пушкинистике сюжет: вместо того, чтобы, приехав к Рылееву 13-го декабря, 14-го выйти с декабристами на Сенатскую площадь, Пушкин сидел в Михайловском и писал «Графа Нулина». Отметим лишь двух или трех зайцев (число которых, правда, в передаче П.А. Вяземского сокращается до одного), вынудивших Пушкина отказаться от своих планов, и обратимся к комедии Шаховского. Главный комический персонаж в ней – хвастун и враль Зарницкин. Наобещав тетушке с три короба подарков и не имея их, он выкручивается из сложного положения, объявив о краже всего имущества, «для убедительности» ссылаясь на приметы:
«Ах! Боже мой! узнайте…
Что всё… Нет сил договорить!
Так, тетушка вы правы,
Что над приметами не надобно шутить:
Под Петербургом, от заставы,
Не больше ста шагов,
Мне заяц три раза перебежал дорогу».
Сколько бы зайцев не перебежало дорогу Пушкину, комедию Шаховского он вспомнил. И этому есть бесспорное доказательство: Зарницкин в комедии Шаховского убеждает своего дядю Мелецкого, что в него давно влюблена княгиня Лидина, а в финале пушкинской поэмы мы узнаем о некоем соседе Натальи Павловны – помещике Лидине. Вряд ли это совпадение имен можно считать случайным. Особенно если помнить о том, что фамилия Онегин впервые встречается в той же самой комедии Шаховского ( Гроссман1926 , 143).
Вернемся к Зарницкину. Нестыковки в своих рассказах, в том случае, когда на них указывали, этот персонаж объяснял падением из кареты:
«К тому ж валдайские пригорки, косогоры
Измучили меня всю ночь…
Ямщик мой повернул так круто от оврага,
Что шкворень пополам… оторвалася вага…
И с дышлом лошади, как вихрь, умчались прочь.
Что ж? – я без лошадей в коляске с гор скатился…
И усидел, хоть, признаюсь, избился…
И руку и плеча ушиб,
А пуще у ноги помял подъемный сгиб…»
Отметим, снова, совпадения «Не любо – не слушай…» с «Графом Нулиным» – поломку кареты, косогор и ушибленную ногу – и двинемся дальше. В другом месте Зарницкин паденьем из кареты объясняет уже встречу с княгиней Лидиной и вспыхнувшую между ними страсть:
«Вчера на всем скаку,
Вдруг обе оси – крак, и лошади взбесились,
По кочкам и по рвам пустились,
Сломили руку ямщику
И бросили меня о камень головою.
Я память потерял…
Не знаю, долго ли лежал,
А как опомнился, то кто ж передо мною?..
Княгиня… да, она… клянуся честью вам.
Против ее ворот разбилася коляска,
И я без чувств упал к ее ногам».
Обратим внимание на текстуальное совпадение окончания последней строки из цитированного отрывка (2упал к ее ногам») и сцены из ночного объяснения графа Нулина и Натальи Павловны: Он входит, медлит, отступает / И вдруг упал к ее ногам. И перейдем к выводам.
На наш взгляд, можно гипотетически восстановить цепь ассоциаций, приведших к поломке коляски уже у графа Нулина: три зайца напоминают Пушкину о комедии Шаховского, а постоянно всплывающая в разговорах Зарницкина поломка кареты подсказывает, как познакомить графа Нулина с Натальей Павловной.
Но вдруг… о радость! косогор;
Коляска на бок… – косогор – «спуск под гору, наклонный к одному боку, двойная косина» ( Даль , II, 175). Помимо своеобразия русских дорог, падению графа мог способствовать и тот способ, который был изобретен почтовыми ямщиками для переезда через реки. Способ этот произвел неизгладимое впечатление на путешествовавшего по России в 1839 году маркиза Астольфа де Кюстина, и тот описал его очень подробно: «В начале спуска лошади идут шагом, но вскоре, обычно в самом крутом месте, и кучеру, и лошадям надоедает столь непривычная сдержанность, повозка мчится стрелой, со все увеличивающейся скоростью и карьером, на взмыленных лошадях, взлетает на мост, то есть на деревянные доски, кое-как положенные на перекладины и ничем не скрепленные – сооружение шаткое и опасное. Одно неверное движение кучера – и экипаж может очутиться в воде» (Кюстин , 217 ).
Судя по тексту поэмы, именно так – с разгона – и был преодолен мост ямщиком графа Нулина, но тут-то «двойная косина» подъема на противоположный берег сыграла с ним дурную шутку – коляска опрокинулась.– Филька, Васька!
Кто там? скорей! – вытащить из грязи коляску было делом нехитрым, но тяжелым. Происходило это (в описании Марты Вильмот) примерно так: «Мирно сидя в экипаже, мы наблюдали, как бедные слуги, просунув под карету жерди, похожие на корабельные мачты, безрезультатно пытались ее поднять. Иногда им удавалось немного приподнять карету, но, громко чмокая и разбрызгивая фонтаны из смеси снегов, льда, дождя и грязи, она вновь оседала» (Письма сестер…, 274 ).
Фильками и Васьками до самой старости именовали в помещичьем доме дворовых людей, начинавших службу барину в детстве казачками, а продолжавших уже лакеями, кучерами, форейторами, парикмахерами и т. п. Причем, именно такое – уничижительное – сокращение имен было принято в обращении именно к «дворовой» прислуге. Вспомним хотя бы название иронического послания Д.И. Фонвизина «Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке». У И.А. Крылова в комедии «Пирог» (1799–1801 гг.) один из персонажей – слуга – именуется Ванькой, в комедии «Модная лавка» (1806 г.) действуют два слуги: Андрей и Андропка, а в комедии «Урок дочкам» (1806–1807 гг.), слуга, выдавший себя за маркиза, французского эмигранта, именуется уважительно Семеном, а конторщик в усадьбе дворянина Велькарова – Сидоркой.
Барский дом тех лет был полон даровой прислуги. Те, кому разрешалось завести семью, переселялись на задний двор. Холостые же были всегда под рукой, поскольку жили в самом первом после сеней помещении господского дома – людской (вариант названия: «лакейская»; вторая часть названия – комната – «лакейская комната» и т. п. в устной речи отсекалась). По свидетельству приятеля Пушкина Ф.Ф. Вигеля, людская – самое неприятное помещение в доме: «Запах лука, чеснока и капуты мешаются тут с другими испарениями сего лживого и ветреного народа» ( Вигель , 145). Но с этим приходилось мириться, поскольку невозможно представить себе быт помещичьего дома без хотя бы минимального количества прислуги в 5–6 человек. Обычный же дворовый штат насчитывал два-три десятка Филек и Васек.
Сами же строчки отсылают читателя к явлению 4 действия III «Горя от ума», начинающегося с реплики старшего из слуг в доме Фамусова: «Эй! Филька, Фомка, ну, ловчей! / Столы для карт, мел, щеток и свечей!»
Именно третье действие пьесы было целиком напечатано в альманахе «Русская Талия» на 1825 г., так что «Филька и Васька» могут считаться своеобразным «приветом» А. С. Грибоедову из Михайловского. Филька, кстати, сокращенное от Филиппа, Филимона или Филата. Последнее наиболее вероятно, если вспомнить примечание (12) Пушкина к Евгению Онегину»: «Сладкозвучнейшие греческие имена, каковы, например: Агафон, Филат, Федора, Фекла и проч., употребляются у нас только между простолюдинами» (V – 194).
По наблюдению В.В. Набокова, в черновиках к «Евгению Онегину» встречаются три отчества няни Татьяны: Фадеевна, Филипьевна и Филатьевна ( Набоков , 254). Как видим, два из них соотносятся с Филькой.… беги проведать – здесь – расспросить, разузнать, осведомиться о здоровье.
И барина просить обедать! – В усадебной жизни не прижился городской обычай делать визиты, то есть посещать дом родственников или знакомых с одной лишь целью – засвидетельствовать свое почтение. Визит как знак внимания действовал даже в отсутствие хозяев (до изобретения визитной карточки все визитеры записывались в специальную книгу, которая хранилась у швейцара) и длился около двадцати минут. В деревне же любой гость, и желанный, и нечаянный, сразу попадал под пресс усадебного хлебосольства. Обычай приема гостей требовал четкого соблюдения трех правил.
Правило первое Почетная встреча гостей. О дворовых на крыше, ожидающих появления кареты, мы уже говорили. Их задача – предупредить хозяев как можно ранее, для того чтобы они могли встретить прибывающих во всеоружии. Отец С.Н. Глинки встречал гостей так: он надевал сюртук понаряднее и выбегал на крыльцо, а хор дворовых в это время запевал «Вспомни, вспомни, мой любезный» ( Глинка1866 , 233). Другой помещик, Андрей Иванович Касагов, отмечал приезд гостей еще более торжественно – «порядочной пушечной пальбою с учрежденных у него батарей» ( Добрынин , 96). Так что послать слуг и пригласить незадачливого путешественника в дом – это самое меньшее из того, что могла (и должна) была сделать Наталья Павловна.
Правило второе. Приглашение к обеду, представлявшее собой в завуалированном виде приглашение погостить: «Приехав к соседу, помещики-путешественники находят несколько комнат для себя и изобильный стол: весь дом бывает к их услугам…» ( Бурьянов , 141). Деревенский визит тем и отличался от городского, что он, как само собой разумеющееся, подразумевал обед в доме хозяев и мог непринужденно перерасти в гостевание.
Правило третье. Предоставление ночлега, закрепляющее «свойские» отношения хозяина и гостя и подразумевающее дальнейшее продолжение знакомства. Гостям отводились свободные помещения в барском доме или во флигеле, а что касается подушек и одеял, то «этого добра у старых помещиков было такое изобилие, что и полдюжины гостей, внезапно наехавших в усадьбу и оставшихся ночевать, не сконфузили бы хозяев» ( Полонский , 394).
В эпоху расцвета усадебного «хлебосольства» (а именно о ней и идет речь) появились и его своеобразные «жертвы». Одна из них – супружеская чета помещиков Львовых – описана в воспоминаниях бывшего воронежского губернатора графа Д.Н. Толстого:...«У них было две дочери, давно отделенные и выданные замуж; остальное значительное имение они прожили на хлебосольстве и гостеприимстве, и затем все состояние их заключалось в огромном шестиместном рыдване, одной повозке и фуре с потребным количеством лошадей, кучеров, в форейторе, лакее, поваре и горничной. С этою свитою и в этом подвижном доме они разъезжали по своим родственникам и знакомым. Отец, кроме своего обычного гостеприимства, оказывал им всегда глубокое уважение, как старшим родственникам» (Толстой Д, 28 ).
Посещение графом Нулиным дома Натальи Павловны развивается по стандартной программе, изложенной выше, за одним лишь исключением – хозяйка не встретила графа на пороге дома, как это полагалась ей по деревенскому обычаю. На то были свои причины, о которых скажем ниже. Пока же можно отметить, что Наталья Павловна не вышла встречать гостя, только разглядев, что это не сосед или родственник, а незнакомец, судя по коляске и облику, недавно прибывший из-за границы.
Глава 10 (Граф Нулин)(текст)
Слуга бежит.
Наталья Павловна спешит
Взбить пышный локон, шаль накинуть,
Задернуть завес, стул подвинуть,
И ждет. «Да скоро ль, мой творец!»
Вот едут, едут наконец.
Забрызганный в дороге дальной,
Опасно раненый, печальный
Кой-как тащится экипаж;
Вслед барин молодой хромает;
Слуга-француз не унывает
И говорит: allons courage!
Вот у крыльца; вот в сени входят.
Покамест барину теперь
Покой особенный отводят
И настежь отворяют дверь,
Пока Picard шумит, хлопочет,
И барин одеваться хочет,
Сказать ли вам, кто он таков?
Граф Нулин, из чужих краев,
Где промотал он в вихре моды
Свои грядущие доходы.
Себя казать, как чудный зверь,
В Петрополь едет он теперь
С запасом фраков и жилетов,
Шляп, вееров, плащей, корсетов,
Булавок, запонок, лорнетов,
Цветных платков, чулков a\' jour,
С ужасной книжкою Гизота,
С тетрадью злых карикатур,
С романом новым Вальтер-Скотта,
С bons-mots парижского двора,
С последней песней Беранжера,
С мотивами Россини, Пера,
Et cetera, et setera.
(комментарий)
По словам одного из первых рецензентов поэмы (Н.И. Надеждина.), «Граф Нулин есть нуль во всей математической полноте. Он не возбуждает никаких ожиданий, кроме чисто нульных» ( ВЕ1829 , II-218). Полемический задор молодого (тогда) критика привел к утверждению, мягко говоря, неточному. Фамилия и титул главного героя, в сочетании с примерной датой его рождения, несут в себе достаточную информацию о его происхождении и положении в обществе. Конечно, «говорящая» фамилия Нулин в первую очередь свидетельствует, скажем так, о малой значимости персонажа. И в этом смысле герой пушкинской поэмы стоит рядом с Простаковыми, Молчалиным, Хлестаковым и целым сонмом менее известных (сейчас) комических персонажей конца XVIII – начала XIX в. Перекликается она и с фамилиями гостей Лариных на дне рождения Татьяны в пятой главе «Евгения Онегина»:
«С своей супругою дородной
Приехал толстый Пустяков;
Гвоздин, хозяин превосходный,
Владелец нищих мужиков;
Скотинины, чета седая,
С детьми всех возрастов, считая
От тридцати до двух годов;
Уездный франтик Петушков,
Мой брат двоюродный, Буянов (…)» (V – 111)
Но можно привести несколько соображений, по которым фамилия Нулин слегка выпадает из этого стройного ряда. Так, Б.М. Гаспаров считает, что «латинское происхождение» фамилии придает персонажу особую окраску, «незаметно связывая "нового Тарквиния" с его древнеримским прототипом» ( Гаспаров1999 , 260). М.А. Бесарабова предположила, что фамилия Нулин появилась из пушкинской шутки по отношению к А. Н. Оленину – «нуль На ножках» ( Бесарабова ,41.) С другой стороны, фамилия «Нулин» не только «говорящая», но и по-дворянски значимая. Она не образована ни от прозвища, ни от имени – значит, она не «низкая». По звучанию она не аристократична, но близка к фамилиям столбовых дворян типа Пушкин или Лунин. С последней она близка настолько, насколько это вообще возможно: фамилия Нулин представляют собой анаграмму фамилии Лунин. В 1823 г. в Дамском журнале была опубликована анаграмма слов «лунь» и «нуль»:
«В арифметических трудах
Я менее чем единица;
Но переставь меня – я птица,
Которая всегда в полях
Так важно плавает над нами,
Она питается мышами» (ДЖ1823. 19, 33).
Так или иначе, у героя поэмы «благородная» фамилия, предполагающая давнее дворянство и, соответственно, обширный круг родственников. Проиллюстрировать возможные родственные связи Нулина можно на примере Михаила Лунина – широко известного в те годы острослова, задиры и забияки, героя наполеоновских войн, любимца великого князя Константина Павловича и, одновременно, одного из самых твердых и последовательных заговорщиков, оставшегося верным революционным идеалам и в заключении, и на каторге.
Отец Михаила Лунина – Сергей Михайлович – отставной бригадир и, по замечанию одного из историков, «человек ничем не примечательный» ( Окунь , 8), не имел ни связей, ни значительных знакомств. Но он женился на Феодосии Никитичне Муравьевой, что моментально ввело его в круг широчайшего родственного общения. По свидетельству современников, дом брата Феодосии Муравьевой, Михаила Никитича, «был всегда открыт для друзей и родственников, которые, по тогдашнему обычаю, приезжая из провинции, иногда целыми семьями подолгу жили… По воскресеньям были у них семейные обеды, и случалось, что за стол садились человек семьдесят. Тут были и военные генералы, и сенаторы, и безусая молодежь, блестящие кавалергарды и скромные провинциалы, и все это были родственники, близкие и дальние» ( Бибикова , 141). Таким образом, декабрист Михаил Лунин получил в наследство от отца огромное богатство, а от матери – возможность «счесться родством» с половиной всех дворянских родов России. Только в одной декабристской организации – «Союзе благоденствия» – вместе с Михаилом Луниным состояли членами семь его самых ближних родственников – Муравьевых и Муравьевых-Апостолов.
Примерно такой же уровень родственного общения можно предположить и у Нулина. И это только первый слой свойских отношений, чрезвычайно развитых в дворянском обществе того времени. Есть и другие, о которых мы ничего не можем знать из текста поэмы, но которые должны иметь в виду.
Близкими и почти родственными были отношения между однополчанами или студентами-однокашниками, входившими в один университетский кружок, между выпускницами одного курса благородного пансиона, между давно друг друга знающими соседями, чему в очень большой степени способствовали совместное времяпрепровождение, охота и деревенские балы, крестины детей и т. п. Граф Нулин уже по фамилии (то есть по происхождению из определенной семьи) не был пустым местом, а был чьим-то племянником, кузеном, крестником, соседом, сыном однополчанина или, на худой конец, двоюродным братом внука матери тетки соседа. Эта возможность установить близкие (или не очень) связи между любыми дворянскими семьями придавала путешественнику уверенность в себе и своей значимости и помогала освоиться практически в любой обстановке.
Но ведь Нулин – еще и граф. А графский титул в первой половине ХIХ века давал массу поводов к толкам и пересудам. Введенные Петром Первым европейские титулы барон и граф должны были способствовать вытеснению боярского местничества, противопоставив достоинству рода преимущество личных заслуг. Баронами (как это часто бывало и в Европе) становились купцы и промышленники, чья деятельность принесла пользу империи (или императору). Таково баронство Демидовых или Строгановых, позже возведенных в графское достоинство. Сразу же графами чаще всего становились две категории дворян. Одна из них – военачальники, отличившиеся на полях сражений, или крупные государственные деятели.
Так, в награду за военные заслуги Петр I возвел в графское достоинство генерал-фельдмаршала Б.П. Шереметева, Елизавета Петровна – П.А. Румянцева, Екатерина II – А.В. Суворова, Павел I – М.Ф. Каменского. За успехи на дипломатическом поприще при Елизавете графами стали П.М. Бестужев-Рюмин и два его сына, а при Екатерине II – А.А. Безбородко, получивший затем от Павла I (как и Суворов) титул светлейшего князя. Однако в XVIII веке графский титул гораздо легче было получить разного рода царским любимцам и фаворитам. Так появились графы Шуваловы, Разумовские, Орловы, Мамоновы, Зубовы, Кутайсовы.
Таким образом, можно представить себе два варианта происхождения и биографии графа Нулина и, соответственно, два оттенка в его положении в обществе. Его отец (или дед) мог попасть «в случай» при дворе Елизаветы, Екатерины или Павла, стать государевым любимцем, а после кончины покровителя или в результате придворных интриг впасть в немилость. Отсюда – парижская жизнь нашего героя Отставленные фавориты, как правило, в столице не задерживались, а отправлялись либо в свое поместье, либо за границу. Там, за границей, наш герой мог и родиться, и получить свое образование.
В другом варианте графский титул был заслужен в ту же эпоху (середина – вторая половина XVIII века) долгими трудами на благо отечества и оставлен наследнику вместе с обширными поместьями, дворцами, роскошной утварью и т. п. А наследник, недолго думая, отправился в Париж тратить все, что получил. В зависимости от варианта происхождения графа Нулина меняется и знаковое содержание его фамилии. В первом случае «Нулин» значит не что иное, как один из «надменных потомков / известной подлостью прославленных отцов», и его пустота – родовой признак «случайных» людей. В другом варианте биографии молодой граф резко контрастирует с поколением отцов – «екатерининских орлов» – полководцев, дипломатов, строителей и реформаторов. И тогда пустота – его личное качество.
Но это еще не все. У графа Нулина есть как минимум два литературных прототипа, оба – графы. Один из них – безымянный Граф из стихотворения Василия Львовича Пушкина «Вечер» (1798). Вот его начало:
«Нет боле сил терпеть! Куда не сунься: споры,
И сплетни, и обман, и глупость, и раздоры!
Вчера не знаю как, попал в один я дом;
Я проклял жизнь мою. Какой вралей содом!
Хозяин об одной лишь музыке толкует;
Хозяйка хвалится, что славно дочь танцует;
А дочка, поясок под шею подвязав,
Кричит, что прискакал в коляске модной – Граф.
Граф входит. Все его с восторгом принимают.
Как мил он, как богат, как знатен – повторяют.
Хозяйка на ушко мне шепчет в тот же час:
«Он в Грушеньку влюблен: он всякий день у нас».
Но Граф, о Грушеньке никак не помышляя,
Ветране говорит, ей руку пожимая:
"Какая скука здесь! Какой несносный дом!
Я с этими людьми, божусь, для вас знаком;
Я с вами быть хочу, я видеть вас желаю.
Для вас я все терплю и глупостям прощаю
Ветрана счастлива, что Граф покорен ей».
Мы увидим чуть позже, что над этой главкой поэмы «Граф Нулин» как бы «витает дух» В.Л. Пушкина, его стихов и стихов о нем. Другой прототип – граф из поэмы Дж. Байрона «Беппо» ( Кибальник1995, 124), сходство с которой (как мы отмечали выше), охотно признавал и сам Пушкин.
Взбить пышный локон… – женская мода на прически 1820-х годов требовала длинных волос. Большую часть из них поднимали вверх и укладывали под шляпку (на прогулке, в театре, отправляясь с визитом), под диадему или букет цветов (на балу) или просто закалывали при помощи большого количества шпилек (дома). Локоны же должны были «выбиваться» из прически и спускаться до шеи. Если волосы не были густыми или длина их не была достаточной (к Наталье Павловне это не относится), то применялись шиньоны – накладные локоны, прикалываемые к прическе. «Дамский журнал» в 1825 г. отмечал: «Все головные уборы [имеются в виду прически. – Авт. ] из волос, собственных или поддельных, чрезвычайно пышны; никогда волосы не были столько закручены, столько раздуты на висках…» ( ДЖ1825, 4, 203).
…шаль накинуть , – мода на шали распространилась в конце ХVIII века. В Европу она пришла вместе с завоеванием Англией Индии, во Францию – после Египетского похода Наполеона Бонапарта ( Кирсанова , 264–265). Российская знать подражала европейской, но шали носили главным образом персидские и турецкие. Ирландка Марта Вильмот, приехавшая в Россию в 1803 году по приглашению княгини Екатерины Романовны Дашковой, писала матери из села Троицкого: «С утра до вечера, по здешней моде, я кутаюсь в черную с желтым шелковую шаль; княгиня подарила мне большую турецкую шаль, которая стоит около 30 гиней…». И чуть позже: «Все носят шали, они в большой моде, и чем их больше, тем больше вас уважают. У меня – шесть. Нужно сказать, что мода эта чрезвычайно удобна. Шали бывают огромными (даже в три человеческих роста), один конец ее обертывается вокруг руки, другой – спускается до земли» ( Письма сестер , 227 и 238). В 1825 г. в моде были именно турецкие шали. Так, согласно «Альманаху на 1826 г. для приезжающих в Москву…», в старой столице было шесть магазинов, продававших турецкие шали, пять – на Лубянке и один – на Маросейке (Волков). Уместно вспомнить и о литературном контексте, в который волей-неволей попадает Наталья Павловна. В литературной сказке того времени шаль – отчетливый символ корыстных отношений женщины к мужчине. Так, в поэме П.А. Плавильщикова «Счастье и несчастье» (1792) «за шаль разъехалась любовь» между героем и его возлюбленной Прелестой. Вот ее прощальные слова к молодому человеку:
– «Оставь, сударь, меня… ты скучен…
Возможно ль? шали нет… ах так!
Оставь меня… какой дурак!..»
После В.А. Белинского поэму «Граф Нулин» часто сравнивали со сказкой И.И. Дмитриева 1791 г. «Модная жена» (и переклички между этими двумя поэмами мы еще не раз отметим). Так, в этой поэме жена, для того чтобы принять дома любовника, отправляет мужа за покупками. Вот этот разговор:
«Супругу говорит: "Послушай, жизнь моя,
Мне к празднику нужна обнова:
Пожалуй, у мадам Бобри купи тюрбан;
Да слушай, душенька: мне хочется экран
Для моего камина;
А от нее ведь три шага
До английского магазина;
Да если б там еще… нет, слишком дорога!
А ужасть как мила!" – "Да что, мой свет, такое?"
– "Нет, папенька, так, так, пустое…
По чести, мне твоих расходов жаль".
– «Да что, скажи, откройся смело;
Расходы знать мое, а не твое уж дело».
– "Меня… стыжусь… пленила шаль;
Послушай, ангел мой! она такая точно,
Какую, помнишь ты, выписывал нарочно
Князь для княгини, как у князя праздник был".
С последним словом прыг на шею
И чок два раза в лоб, примолвя: "Как ты мил!"»
В другой сказке – «Больная и турецкая шаль» Д. И. Хвостова (1806) мужу удается излечить свою жену от какой-то неизвестной хвори покупкой шали за пять тысяч рублей. А вот совсем короткая история, обозначенная ее автором – В. Л. Пушкиным – как «Быль»:
«На Лизе молодой богач-старик женился,
И участью своей он недоволен был.
"Что ты задумалась? – жене он говорил.—
Я, право, пищи всей лишился
С тех пор, как Бог меня с тобой соединил!
Все ты сидишь в углу; не слышу я ни слова;
А если молвишь что, то вечно вы да вы.
Дружочек, любушка! скажи мне нежно: ты —
И шаль турецкая готова
При слове шаль жена переменила тон:
Как ты догадлив стал! Поди ж скорее вон!» (1808)
Итак, читатель, знакомый с ролью шали в поэзии конца XVIII – начала XIX в., получает предупреждение о возможном дальнейшем развитии сюжета о старом муже и молодой жене. Если же вспомнить о стихотворении самого Александра Сергеевича «Черная шаль» (1820), то шаль становится литературным символом измены.
Задернуть завес… – «Словарь русского языка XVIII века» определяет завесу и завес как «висящую ткань, которая занавешивает что-либо (дверь, окно постель и т. п.)» ( Словарь русского…, VII, 174). Так и в ироикомической поэме В.И. Майкова «Игрок Ломбера» (1763) о надкроватном пологе говорится: «Внезапно у одра раскрылись завеса…»
В отличие от шторы, которую надо было поднимать и опускать, завес или занавес неподвижно крепился на карнизе окна. Как правило, он изготовлялся из той же ткани, что и обои ( Пронина, 127), и состоял из трех частей. Верхнюю часть окна прикрывала свободно свисавшая с карниза (полукругом или треугольником) занавеска, а два длинных полотнища, также прикрепленные к карнизу во всю ширину окна, стягивались лентой или шнурком к его краям, образуя, вместе с занавеской, стилизованную букву «М». Широко были распространены и декоративные тюлевые занавесы, в которых боковые части собирались у краев карниза и оформлялись искусно выполненными из ткани розетками и лентами. Такого рода функциональные и декоративные занавесы можно видеть на многих картинах: «Утро помещицы» А. Г. Венецианова (1803), «В комнатах» А. П. Брюллова (1827), «В комнате за шитьем», приписываемой Ф. П. Толстому, а также работах неизвестных художников первой половины XIX века: «В комнатах. Урок», «Интерьер», «Интерьер гостиной», «Комната со ступенчатым помостом» ( Логвинская ).
В парадных помещениях, специально предназначенных к жизни «напоказ», опускали шторы и задергивали завесы отнюдь не с наступлением темноты. Людям, привыкшим быть все время на виду (дворни, родственников, соседей, приживалок), не приходило в голову стесняться чужого взгляда из окна во время ужина, вечернего чтения или дружеской беседы.
Полностью окна занавешивали на время отъезда – поберечь обои, картины и мебель от прямых солнечных лучей, и летним днем – чтобы сохранить помещения более прохладными. Но осенью, да при непогоде («Казалось, снег идти хотел»), у Натальи Павловны такой необходимости не было. В ее желании занавесить окно отчетливо просматривается борьба культурных стереотипов «деревни» и «города», традиции и моды.
Принимать гостя в обеденной зале – устойчивая деревенская традиция, и Наталья Павловна это прекрасно понимает. В Париже, да и в российских «столицах» Москве и Петербурге гостя принимали (в зависимости от степени знакомства) в кабинете, салоне или гостиной. Салона и кабинета в доме Натальи Павловны, судя по всему, нет. А если бы и были, то принять незнакомца в «интимных» помещениях она бы не решилась. Следуя культурным стереотипам «деревни» (об этом – чуть ниже), она совмещает знакомство и обед. В то же время, не желая предстать перед графом провинциальной барыней, она одним действием – закрывая окна завесом – снимает со столовой налет излишней официальности. Теперь столовая чуть-чуть напоминает салон. И граф это прекрасно чувствует. Его непринужденность за обедом во многом определена правильно прочитанным знаком – задернутым завесом на окне.Опасно раненный, печальный Кой-как тащится экипаж — наиболее частая поломка на российских ухабах – перелом оси, на которую приходилась вся тяжесть нагруженного экипажа при каждом попадании колеса в яму, канаву, рытвину и т. п. Если же ось и выдерживала, то рессоры держались очень недолго: они либо «просаживались» и не могли больше амортизировать удары, либо попросту лопались. Печальная судьба графской коляски могла быть предсказана всяким, кто был знаком с тогдашними российскими дорогами. Cвидетельство тому оставил маркиз де Кюстин в своих записках о России. Выехав из Петербурга в Москву, он встретил своего знакомого русского помещика. Далее предоставим слово самому маркизу:
...«Осмотрев подробно мою коляску, русский вдруг разразился смехом.
– Посмотрите сюда, – сказал он, указывая на оси, рессоры, чеки, прочие части экипажа, – они не доедут до Москвы в целости и сохранности. Иностранцев, желающих путешествовать в своих экипажах, постигает одна и та же участь: они выезжают, как и вы, а возвращаются в дилижансе. (…) Едва я распростился с этим мрачным пророком, как одна из рессор лопнула» ( Кюстин , 174–175).
Следует учесть, что описываемые де Кюстином события происходили на лучшем в России шоссе и через 14 лет после похождений графа Нулина. Так что, и не будучи «мрачным пророком», можно было предположить, что в Петербург въедет совсем не та коляска, что выезжала из Парижа.
…экипаж – первоначально французский термин для обозначения всех повозок, имевших рессоры – устройства, смягчающие толчки и удары при движении. Соответственно, коляска – экипаж, а вот кибитка на полозьях, приспособленная для зимней езды – нет. Однако в России понятие экипаж приобрело несколько иное значение: «барская повозка и сани разного рода для выезда» (Даль, IV, 633). Под экипажем, таким образом, понимается дорогое и роскошное средство передвижения. Характерен образ экипажа и его пассажира в шуточном «Светском словаре», опубликованном в 1825 году в «Вестнике Европы»: «Екипаж. Блестящая карета. Ее иногда можно сравнить с храмом древних, где золото сияло со всех сторон, а идолом был вол или обезьяна» (ВЕ1825, VI, 137).
…барин молодой… – слово барин, происшедшее от «боярин», первоначально выражало отношение слуг к господину, вельможе. Переходное состояние от «боярина» к «барину» зафиксировано в «Сатире на поклоны» (1781–1782 гг.) И.И. Хемницера:
«"Ступай, ступай, скоряй!" – повсюду слышен звук,
И топот лошадей, и лишь каретный стук.
Вся сила конская в пары уж исчезает
И город облаком, как мраком, покрывает.
И всё на тот конец, поклон чтоб развезти,
Как будто чтоб себя тем от беды спасти.
Скачи от барина ты одного к другому,
А поглядишь, так ты скакал лишь по-пустому:
Боярин к барину другому ускакал,
И ты его уже, к несчастью, не застал».
В XVIII – нач. XIX вв. «барин» и был синоним слова «вельможа», очень важный человек. Очень характерна в этом отношении басня того же Хемницера «Обоз»:
«Шел некогда обоз;
А в том обозе был такой престрашный воз,
Что перед прочими казался он возами,
Какими кажутся слоны пред комарами.
Не возик и не воз, возище то валит.
Но чем сей барин-воз набит?
Пузырями». (1779)
В этом значении слово «барин» использовано и в комедии А.А. Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (1815 г.):
« Угаров
А где наш генерал?
Княжна
Он хочет отдыхать.
Угаров
Князь славный молодец.
Барон
Вид барина большого
В его сиятельстве являет знатный род».
Постепенно «барами» стали называть всех помещиков (дворян). Противопоставление «барин» – «крестьяне» очень наглядно у Н.М. Карамзина в «Бедной Лизе» (1792 г.), в разговоре Лизы с матерью, после знакомства той с Эрастом:
...– Эраст простился с ними до свидания и пошел. Лиза провожала его глазами, а мать сидела в задумчивости и, взяв за руку дочь свою, сказала ей: "Ах, Лиза! Как он хорош и добр! Если бы жених твой был таков!" Все Лизино сердце затрепетало. "Матушка! Матушка! Как этому статься? Он барин, а между крестьянами…" – Лиза не договорила речи своей».
В ответе Лизы явно слышится ее низкое положение, по отношению к барину – Эрасту. В поэме Пушкина слуги из дома Натальи Павловны бросаются на помощь сломавшемуся экипажу. Они первыми и видят перед собой барина.
Точно так же, уже реальности, а не в литературе реагируют крестьяне на приход молодого помещика (Д.В. Улыбышева) к 142-летнему крестьянину: «"Здорово, дедушка, – сказал я, входя в избу, довольно громко, – как поживаешь?". – "А ты кто такой?" – откликнулся с палатей голос довольно зычный. – "Вишь, молодой барин приехал, – сказал ему внук, – у нас в светлице стоять будет"» ( Жихарев , 215).
«Барин, – говорится в словаре Даля, – боярин, господин, человек высшего сословия; дворянин; иногда всякий, на кого другой служит, в противоположность слуге, служителю» (Даль, I, 49). Соответственно употребление слова «барин» предполагает появление слуги, что немедленно и происходит.
Очень характерно, в этом смысле использование слова «барин» в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». Вот короткий фрагмент, в котором три персонажа (городничий, его жена и дочь) произносят это слово:
...« Анна Андреевна .
Послушай, Осип, а какие глаза больше всего нравятся твоему барину?
Марья Антоновна . Осип, душенька, какой миленький носик у твоего барина!..
Городничий . Да постойте, дайте мне!.. (К Осипу.) А что, друг, скажи, пожалуйста: на что больше барин твой обращает внимание, то есть что ему в дороге больше нравится?»
А вот речь самого Осипа:
...Осип (выходит и говорит за сценой.)
Эй, послушай, брат! Отнесешь письмо на почту, и скажи почтмейстеру, чтоб он принял без денег; да скажи, чтоб сейчас привели к барину самую лучшую тройку, курьерскую; а прогону, скажи, барин не плотит: прогон, мол, скажи, казенный. Да чтоб все живее, а не то, мол, барин сердится».
В литературных произведениях той поры (главным образом в прозе) характеристика возраста дворянина, вне связи со слугами, чаще всего выражалась во фразе «молодой человек». Именно так представлен главный герой в «Бедной Лизе» Н.М. Карамзина в речи «от автора». В повести «Бедная Маша» (1801) А.Е. Измайлова есть такое рассуждение: «Молодой человек семнадцати лет желает приобрести себе поскорее в свете некоторое звание; девушка же семнадцати лет желает поскорее выйти замуж». Идем далее: в «историческом рассказе» Н.В. Кукольника «Сержант Иван Иванович Иванов, или все заодно» (1841) герой является читателям в таком описании: «В это самое время на небольшом коне подъехал молодой человек лет осемнадцати. Он был одет в короткий полушубок тонкого синего сукна с бобровой опушкой, на голове – соболья шапочка с кутасиком, как тогда носили дворянские дети». А в повести А.А. Бестужева-Марлинского «Вечер на Кавказских водах в 1824 году» герою, о котором рассуждают собеседники, именуя его «молодой человек», 25 лет от роду. Судя по письму П.А. Вяземского к А. И. Тургеневу от 30 апреля 1823 г.: содержащим первые впечатления от знакомства с А.С. Грибоедовым: «Здесь Грибоедов-Персидский. Молодой человек с большой живостью, памятью и, кажется, дарованием ( Архив братьев… VI, 16)» – «молодой человек» было устойчивым сочетанием в речи образованных людей того времени, точно также, как (если судить по литературе) «молодой барин» – в речи слуг.
… хромает ; – временную хромоту графа можно было бы оставить без внимания, если бы не одно обстоятельство. Позже, в 15 главке, эта хромота войдет в сюжет в качестве выразительной и яркой детали. Пока же, чтобы заинтриговать читателя, отметим, что граф захромал, выпав из коляски и ударившись о землю. С одной стороны, в этом нет ничего странного, так оно чаще всего и бывает. С другой – столкновение с землей и хромота – это знак, который надо уметь прочесть.
Слуга-француз не унывает – во Франции, как и во многих других странах Европы того времени, личная свобода каждого, будь он гражданином данной страны или иностранцем, была гарантирована законами. Вследствие этого русские помещики, путешествующие по Европе, вынуждены были оставлять своих дворовых в России и нанимать слуг за плату. Н.М. Карамзин, в «Письмах русского путешественника», повествующих о его путешествии по странам Европы специально пишет «наемный слуга», дабы русским читателям было понятно, а в одно месте упоминает о том, сколько столо содержать такого слугу:
...«Наемный слуга мой Бидер, который (за 24 су в день) всюду меня провожает, зная (по словам его) Париж, как свой чердак, давно уже приступал ко мне, чтобы я шел смотреть Царскую кладовую, Garde-meuble du Roi. "Стыдно, государь мой, стыдно! Быть три месяца в Париже и не видать еще самой любопытнейшей вещи! Что вы здесь делаете? Бегаете по улицам, по театрам, по лесам, вокруг города! Вот вам шляпа, трость; надобно непременно идти в кладовую!"»
Интересно, что здесь, как и в поэме Пушкина, наемный слуга чувствует себя свободно и как бы вдохновляет барина на поступок. Если помнить, что су – это 1/20 ливра, то слуга обходился Карамзину в 1,2 ливра. Пять ливров, в конце XVIII века составляли экю, то есть около 30,6 гр. серебра. Плата слуге, таким образом, может быть обозначена как 7,3 грамм серебра в день. А русский рубль в то время содержал 18 грамм серебра. Это значит, что Карамзину, примерно за 35 лет до описываемых событий, приходилось платить слуге в Париже около 40 копеек в день. Мы можем предполагать, что дешевле труд слуг оцениваться не стал и Нулина слуга-француз должен был обходиться не менее чем полтинник в день.
Возвращаясь домой, русские дворяне, как правило, давали расчёт слугам. Только очень богатые соглашались платить камердинеру или камеристке, имея возможность пользоваться даровым трудом крепостных. Граф Нулин не оставил нанятого им слугу в Париже, как это обыкновенно делалось, а повез его с собой в Петербург. Это выдает привычку жить «на широкую ногу» и дает повод к разговору об особой форме снобизма. Граф явно чувствовал себя dendy и, вследствие этого, принципиально не обращал внимания на «расстройство своих дел» или, попросту говоря, угрозу банкротства. Слуга-француз – лучший знак сравнительно новой для России формы щегольства – снисходительно-высокомерного отношения ко всем принятым в «обществе» обычаям, представлениям и поступкам.
И говорит: allons, courage! – Призыв слуги: «вперед, смелее!» – ритмически совпадает с началом Марсельезы: «Allons, en fans de la patrie». Рифма «экипаж – кураж», как отметил еще В.В. Виноградов, впервые была использована И.М. Наумовым в ирои-комической поэме «Ясон, похититель золотого руна», в духе «Нового Енея» (Виноградов1937, 98):
«Вулкан, по данному приказу
Тащил зевесов экипаж.
Хотел исправить по заказу,
Кричал: кураж, Вулкан, кураж».
Вот у крыльца; вот в сени входят . – Все события поэмы происходят в разных помещениях барского дома. Назовем их, как обычно, опираясь на свидетельство современника, в данном случае Ф.Ф. Вигеля: «…зала в четыре окошка, гостиная в три и диванная в два; они составляют лицевую сторону… Спальня, уборная и девичья смотрели на двор, а детские помещались в антресоле» ( Вигель , 144). Между крыльцом и гостиной в доме помещика находились сени с туалетом и людская. Девичья примыкала к спальне, за ней – вторые сени и выход на задний двор. Этому описанию вторит известный знаток усадебного интерьера начала XIX века Г. К. Лукомский: «В доме – обыкновенно зал двухсветный, направо и налево – гостиные, по деревянной лестнице (витой) поднявшись наверх, увидим спальни и рабочие комнаты» (Лукомский, 363). Сени – всегда – холодное, неотапливаемое помещение в доме. В барской усадьбе сени играли роль прихожей, где гости оставляли верхнюю одежду.
Покой особенный отводят И настежь отворяют дверь… – Покой, в данном случае: «крытое место для отдыха, комната, горница, палата, всякое отделенье для жилья, огороженное стенами место внутри дома» ( Даль, III, 242), проще говоря, комната для гостей, названная чуть-чуть устаревшим или устаревающим на глазах словом. В произведениях литераторов XVIII слово «покой» – приобретает значение места для уединенного отдыха, места для сна. Так в предваряющем ирои-комическую поэму «Елисей, или раздраженный Вакх» (1771) изложении событий в прозе, автор, В.И. Майков пишет:
...«Песнь вторая. Ермий приходит в полицейскую тюрьму и там Елисея, перерядя в женское платье, переносит в Калинкинский дом, где тогда сидели под караулом распутные женщины. Елисей пробуждается, дивится, как он там очутился, и думает, что он в монастыре. Между тем начальница того дома, вставши, будит всех женщин и раздает им дело. Но увидя Елисея, скоро его узнала, что он не женщина, ведет его в особый покой [курсив мой – Авт .], где он ей о себе открывает, что он есть ямщик, а потом рассказывает ей о побоище, бывшем у зимогорцев с валдайцами за сенокос».
А в самом тексте поэмы, в ее Третьей песне, есть такие строки:
«"Домашним буди сыт: пей, ешь, живи, красуйся,
А к женщинам отнюдь с амурами не суйся.
Твоя уже чреда любиться протекла!"
Так совесть собственна ему тогда рекла,
Но он толь правильным речам ее не внемлет,
К начальнице в покой вломиться предприемлет»
В романе М.Д. Чулкова «Пригожая повариха, или Похождение развратной женщины» (1770) слово «покой» используется для описания комнаты, в которой есть кровать: «С четверть часа не прошло времени, как взяли меня из сего ада посадили в изрядный покой, где изготовлена была для меня кровать, стол и стул. Не могу я изъяснить, сколько тогда обрадовалась и благодарила заочно Ахаля от искреннего моего сердца, легла на постелю и, не имев долго покою, проспала с лишком половину суток».
Точно так же, в мемуарах, написанных в конце XVIII – начале XIX веков, слово «покой» («покои») чаще всего используется там, где речь идет о личных помещениях и местах отдыха. Вот «Записки» княгини Дашковой: Впрочем, я употребила все усилия, чтобы успокоиться, и вошла в свою комнату с самым хладнокровным видом; уверив княгиню, что минута моего разрешения должна последовать позже, чем мы думали, я уговорила ее вместе с теткой удалиться в свои покои отдохнуть, причем торжественно обещала позвать их в случае крайней надобности (гл. II). И еще: «Вскоре после нашего прибытия в Петергоф Петр III в сопровождении Измайлова и Гудовича явился во дворец с изъявлением покорности. Он был никем не видимый введен в отдаленный покой, где был приготовлен обед» (Дашкова).
А вот «Записки» Г.Р. Державина: «Приехав в Казань, желал с красавицей своей чаще видеться; но, будучи небольшого чина и небогат, не мог иметь свободного хода к ней в покой». (1812).
В XIX веке слово «покой», в значении: «комната, помещение», употребляется редко и главным образом в контексте «старины». Для сравнения в переводе баллады Р. Саути «Суд божий над Епископом», В.А. Жуковоского писал:
«В замок епископ к себе возвратился,
Ужинать сел, пировал, веселился,
Спал, как невинный, и снов не видал…
Правда! но боле с тех пор он не спал.
Утром он входит в покой, где висели
Предков портреты, и видит, что съели
Мыши его живописный портрет,
Так, что холстины и признака нет». (1831)
Слово «покой» тут уместно, поскольку речь идет о давно прошедших временах.
(В речи персонажа, никак не обозначенного в поэме, но от лица которого ведется повествование, такие чуть архаизированные выражения будут встречаться довольно часто. Объяснение этому – чуть ниже.)
Покоем можно было назвать любую комнату в доме, но по первому значению – это помещение для отдыха. Слово же особенный может означать одновременно: а) отдельный, то есть находящийся в другой (по отношению к барским комнатам) половине дома; б) особый, то есть специально предназначенный для гостей; в) отличный, то есть лучший ( Даль , III, 701).
Помещения для гостей могли находиться во флигеле или в отдельном крыле господского дома, или на втором этаже – «в антресоле» – там же, где обычно были комнаты для детей, их гувернеров и учителей. «Гостевые покои» использовали лишь время от времени, когда в них была надобность, а все остальное время держали закрытыми, чтобы там не топить и не убираться. Поэтому воздух в них застаивался, и по приезде гостя его комнату нужно было поскорее проветрить.
Пока Picard… – имя слуги графа с французского переводится как пикардийский или пикардиец. Однако существует и близкое по произношению picaro, что означает интриган и плут. В Испании же picaro (плут) – персонаж, чаще всего выступающий как слуга (о связи «Графа Нулина» с испанским плутовским романом см. в комментарии к главке 15). Вместе с тем, фамилия не придумана Пушкиным. В то время был хорошо известен Луи-Бенуа Пикар (1760–1828) – актер, драматург и театральный деятель. В 1825 г. в Париже были поставлены две его пьесы «Les Surfaces» и «Landau».
… шумит, хлопочет – Хлопотать – прежде всего, суетиться, тревожиться, понукать и погонять, часто – попусту. В сочетании с говорящим именем слуги определение его занятия как хлопоты вызывало отчетливую картинку понукания Пикаром домовой прислуги, при явном нежелании трудиться самому, что составляет отчетливый контраст с тем, как он кряхтит за чемоданом при отъезде.
И барин одеваться хочет – данном случае одеваться означает «переодеваться». Дорожный костюм графа – пыльный, а после падения еще и грязный. Но даже если бы и не было падения, переодевание все равно бы состоялось. К обеденному столу не полагалось выходить ни в дорожной, ни в домашней одежде. Обед, даже в кругу семьи – официальное (если не сказать – церемониальное) действие, наполненное глубоким символическим смыслом. В обеде – главном событии дня – концентрировались и семейные, и сословные традиции российского дворянства. Ритуал обеда был торжественным и церемонным (см. комментарий к главе 11). Соответственно, обеденный костюм строг и официален. Гость не мог себе позволить никаких вольностей в одежде. При этом сохранилось довольно много свидетельств того, как хозяин дома, желая утвердить свое превосходство и выразить снисходительное презрение к гостям, выходил к обеду в обычней домашней одежде – в халате.
Сказать ли вам, кто он таков? – Одна из нескольких явных отсылок к сказово-басенной поэтической традиции конца XVIII – первой четверти XIX веков. В этой традиции басня – это, прежде всего устный рассказ, а затем уже письменный текст. Рассказ подразумевает прямой контакт сказителя и слушателей, что и отражают речевые обороты, которые подразумевают прямой контакт рассказчика и его аудитории. Оборот «сказать ли» подразумевает паузу для возможного ответа слушателей: «сказать, сказать» или: «да говори же». Это придает всему произведению характер живой разговорной речи, чем и пользовались многие поэты. Этот оборот мы находим в стихотворении-басне И.И. Дмитриева «Желания»:
«Вдруг от начальника приказ ему лихой
Лететь в другое государство;
Куда ж? сказать ли вам,
Сердца чувствительны и нежны? (1797)
Есть он и у Карамзина, в шуточных стихах «Исправление», написанных в том же самом – 1797 – году:
«Как друг ваш столь переменился,
Угодно ль вам, друзья, спросить?..
Сказать ли правду?.. Я лишился
(Увы!) способности грешить!»
Читатель меня бы не понял, если бы, написав басня, я не заглянул в сочинения И.А. Крылова. Вот, пожалуйста, басня «Мешок»:
«Сказать ли правду вам тишком?
Не дай бог, если разоритесь:
И с вами точно так поступят; как с Мешком». (1809)
Но интереснее два фрагмента из стихов, в которых есть прямые пересечения с сюжетом «Графа Нулина». Первый фрагмент – из стихотворения В.И. Майкова «Неосновательная боязнь»
«На этот случай я хочу сказать вам сказку,
В которой господин велит впрягать коляску
И хочет к одному он другу побывать;
А может быть, чтоб там он стал и ночевать,
Об этом я не знаю;
Да только баснь мою я снова начинаю».
(Между 1763 и 1767) Именно это: «баснь и или сказку», о том, как некий господин сел в коляску (а точнее, все же, выпал из нее) и что из этого вышло – рассказывает нам повествователь в поэме «Граф Нулин». Второй же фрагмент из басни (сказки) «Черный кот» современника Пушкина А.Е. Измайлова:
«Сказать ли сказку вам про черного кота,
Который уж в преклонные лета
В молоденькую мышь влюбился
И чуть-чуть жизни не лишился?..» (1824)
Нулин – не в преклонных годах, но с котом, погнавшимся за мышью, рассказчик его сравнит (об этом – ниже).
Где промотал он в вихре моды… – Русский дипломат князь П.Б. Козловский, проведший в Париже зимний сезон 1823–1824 гг., в своей книге «Социальная диорама Парижа» подробно и точно очертил круг светских развлечений. Во-первых, это «концерты и балы», которые давали:
– королевские министры;
– парижская аристократия, селившаяся в предместье Сен-Жермен (Козловский, среди прочих, отметил празднества, даваемые бывшими наполеоновскими маршалами Сюше и Сультом, бароном Ротшильдом, племянницей Талейрана – Франсуазой Жюст де Ноай);
– крупные финансисты, «именуемые в Париже обществом Шоссе-д\'Антен»;
– послы и знатные иностранцы (Козловский, 81–82).
Во-вторых, регулярно устраивались «публичные собрания», вроде бала в парижской ратуше. Помимо балов, светская жизнь включала в себя обязательное посещение театров и салонов, а днем – прогулки в парижских парках в коляске или верхом. Каждый выход в свет требовал перемены всего костюма целиком или его отдельных деталей. Перчатки, шляпы, шейные платки, чулки менялись по несколько раз в день.Свои грядущие доходы . – Ю.М. Лотман трактовал это выражение так: «Молодым людям охотно верили в долг рестораторы, портные, владельцы магазинов в расчете на их "грядущие доходы". Поэтому молодой человек из богатой семьи мог без больших денег вести в Петербурге безбедное существование, при наличии надежд на наследство и известной беззастенчивости» ( Лотман1995 , 495). Однако в Париже будущая состоятельность графа не была очевидной. Скорее можно говорить о другом варианте «жизни в долг» (этот вариант тоже рассматривался Ю.М. Лотманом) – возможности заложить свое имение, то есть «души» крепостных крестьян, и жить на полученные деньги в расчете на выгодный брак или наследство, которое бы позволило выплатить долг с процентами и выкупить родовую собственность. Как правило, это не удавалось – и приданое, и наследство проматывались так же, как и родовое поместье. Поскольку отъезд графа – вынужденный («Жалеет о Париже страх» ), а служить он, видимо, не собирается – его приезд в Россию связан именно с расстройством его финансовых дел и необходимостью заложить или даже продать часть крестьян.
Себя казать, как чудный зверь , – казать, в данном случае, представлять, демонстрировать. Чудный – странный, удивительный. А.А. Белый писал о том, что выражение «чудный зверь» несет в себе характеристику дендизма и близко к понятию «светский лев» ( Белый ). Это наблюдение представляется нам верным лишь отчасти. Перенасыщенность данной части поэмы архаизмами («казать», «чудный», «Петрополь», а чуть раньше – «покой особенный») – не только литературный прием в духе Лафонтена (см. комментарий к 7-й главке), но и способ «разделить» автора и рассказчика. Описание графа Нулина дано не только сторонним наблюдателем, но и человеком гораздо более консервативных взглядов, типичным провинциалом и пожилым человеком. Этому в большой мере способствует «крыловско-лафонтеновская» манера изложения с использованием архаизмов и последующим перечислением предметов, которую Л.И. Вольперт назвала поэтикой "болтливости"» ( Вольперт1990 ). Читатель волей-неволей вспоминает хрестоматийные строки:
«По улицам слона водили, Как будто напоказ —
Известно, что слоны в диковинку у нас…»
Басня «Слон и моська» к 1925 году была опубликована как минимум трижды (в 1811, 1815 и 1819 годах) и была хорошо известна. Естественно, напрашивались параллели казать – напоказ и чудный зверь – диковинка. В том же значении «удивительно, интересно» – слово «чудно» использовано и в другой басне Крылова – «Лжец». Там собеседник лжеца в ответ на рассказ об удивительном «римском огурце » высотой в гору отвечает:
«– Поверить трудно!
Однако ж как ни чудно,
А все чуден и мост, по коем мы пройдем,
Что он лжеца не подымает…»
В январе 1825 года газета Ф.В. Булгарина «Северная пчела» напечатала еще одну басню Крылова – «Булыжник и Алмаз», где обыгрывался мотив приезда в столицу «напоказ». Булыжник, узнав о счастливой участи попавшего в столицу алмаза, просит проезжающего мимо мужика:
«– Пожалуйста, земляк
Возьми меня в столицу ты с собою!
Возьми меня. Как знать?
Коль там я покажуся
То также, может быть, на дело пригожуся».
Басенный «зачин» в описании графа Нулина фиксирует образ повествователя – пожилого соседа-ворчуна, рассказывающего в тесном кружке слушателей о чудном звере из Парижа, с подробным перечислением всех его удивительных атрибутов. В свое время этот прием удачно использовал И.И. Дмитриев в своей сказке «Модная жена». Там автор, которому только-только пошел четвертый десяток, «прячется» под маской старика:
«Ах, сколько я в мой век бумаги исписал!
Той песню, той сонет, той лестный мадригал;
А вы, о нежные мужья под сединою!
Ни строчкой не были порадованы мною.
Простите в том меня: я молод, ветрен был,
Так диво ли, что вас забыл?
А ныне вяну сам: на лбу моем морщины
Велят уже и мне
Подобной вашей ждать судьбины
И о цитерской стороне
Лишь в сказках вспоминать; а были, небылицы,
Я знаю, старикам разглаживают лицы:
Так слушайте меня, я сказку вам начну
Про модную жену». (1791)
Манеру добродушного деревенского рассказчика, с «простодушной», по выражению Л.И. Вольперт, интонацией ( Вольперт2010, 223). Пушкин «прорепетировал» в конце 1825 года в небольшом отрывке «Из Вольтера»:
«Короче дни, а ночи доле,
Настала скучная пора,
И солнце будто поневоле
Глядит на убранное поле.
Что делать в зимни вечера?
Пока не подавали кушать,
Хотите ли теперь послушать,
Мои почтенные друзья
Рассказ…» (II – 318)
В Петрополь едет он теперь – в примечаниях к «Евгению Онегину» Пушкин привел «прелестное описание петербургской ночи в идиллии Гнедича», в которой были такие строки:
«Тогда над Невой и над пышным Петрополем видят
Без сумрака вечер и быстрые ночи без тени…» (V – 193)
Изданная в 1822 г., эта идиллия имелась в библиотеке Михайловского (Лобанова, 25) и была в момент написания «Граф Нулина», что называется, «под рукой». Возможно, именно оттуда «Петрополь» и перекочевал в текст поэмы. Вообще же Петрополем именовался Санкт-Петербург только в поэтической речи и только в двух случаях. Первый – когда речи хотели придать особенно торжественный оттенок. Так, Г.Р. Державин использовал название Петрополь в оде «На отсутствие Ее Императорского Величества в Белорусские губернии во время открытия наместничества в сей столице»: «Из Петрополя сокрылась / Матерь от своих детей» (1780), еще в одной – «На присоединение без военных действий к Российской державе Таврических и Кавказских областей»: «Златые Петрополя башни / Блистают как свещи… (1784), а также в стихах «На кончину Великой княгини Ольги Павловны»:
«Вижу блаженну
Чистую душу
Всю из огня,
В свет облаченну!
В райскую кущу
Идет дитя;
Зрит на Россию,
Зрит на Петрополь,
Зрит на родных». (1795)
Точно так же В.А. Жуковский в своем знаменитом на всю Россию произведении «Певец во стане русских воинов», прославляющем героев войны 1812 года, поместил такие строки:
«Наш Витгенштеин, вождь-герой,
Петрополя спаситель
Хвала!.. Он щит страны родной,
Он хищных истребитель».
Второй: когда в стихах идет речь о литературе и литераторах и речь автора становится подчеркнуто (и даже излишне) поэтической. Тот же Державин, вообще предпочитавший именно эту форму поэтического обозначения северной столицы, в послании к Капнисту органично вводит Петрополь в ряд возвышенной архаизированной лексики:
«А мне Петрополь населять
Когда велит судьба с Миленой
И некую поэта тень —
Да правду возглашу святую:
Умей и ты презреть златую
Злословну, площадную чернь». (1796)
А.А. Бестужев-Марлинский начинал свое «подражание первой сатире Буало» (1819) строчкой: «Бегу от вас, бегу Петропольские стены». Склонный к патетике В.К. Кюхельбекер вопрошал в 1821 году в своем стихотворении «Массилия» безымянного «плавателя»:
«Быть может, знаешь ты семью моих друзей:
О! Как прядется нить их драгоценных дней
В стенах Петрополя родимых и священных?»
И даже К.Ф. Рылеев, предпочитавший чисто русскую конструкцию – Петроград – не устоял и в стихотворении «Пустыня», вспоминая о «приятелях-певцах», вздохнул:
«Они все в Петрополе;
В моей счастливой доле
Лишь их недостает!» (1821)
А практически в то же самое время, когда писался «Граф Нулин» (или неделей-другой позже), Д.В. Веневитинов заканчивал послание «К друзьям на Новый год» такими строками:
«Но средь Петропольских затей
Не забывайте звуков лирных,
Занятий сладостных и мирных,
И старых искренних друзей».
Но в нашем случае архаико-патетичный Петрополь должен был вызывать иронию подготовленного читателя, поскольку у него неизбежно возникала ассоциация со знаменитыми стихами Д.И. Фонвизина «Послание к слугам моим – Шумилову, Ваньке и Петрушке», впервые опубликованными еще в 1769 г. Там, в частности, обращаясь к ливрейному лакею Ваньке (в чьи обязанности входило сопровождать барина, стоя на запятках кареты), автор восклицает:
«На светску суету вседневно ты взираешь
И, стоя позади, Петрополь обтекаешь;
Готовься на премудрый дать ответ,
Вещай, великий муж, на что сей создан свет?»
Нулин – воплощение «светской суеты» – направляется именно туда, где найдется лучшее применение его талантам. Именно такое ироничное отношение к возвышенно поэтическому «Петрополю» демонстрировал Пушкин и ранее, в послании 1815 г. «К Галичу»:
«Пуская угрюмый рифмотвор,
Повитый маком и крапивой,
Холодных од творец ретивый,
На скучный лад сплетая вздор,
Зовет обедать генерала, —
О Галич, верный друг бокала
И жирных утренних пиров,
Тебя зову, мудрец ленивый
В приют поэзии счастливый,
Под отдаленный неги кров.
(…)
Садись на тройку злых коней,
Оставь Петрополь и заботы»… (I – 128)
Еще раз появляется Петрополь в язвительном контексте стихотворения «Тень Фонвизина» («Вралих Петрополя богиня, / Пред ним со страха пала ниц»), напрямую отсылающего читателя к шуточному посланию Дениса Ивановича.
С запасом фраков и жилетов, Et cetera, et cetera. – Этот отрывок – скрытая отсылка к стихам И.И. Дмитриева «Путешествие N. N. в Париж и Лондон, писанное за три дни до путешествия» (Гроссман1958, 275). Под N. N. скрывался Василий Львович Пушкин – дядя Александра Сергеевича, сам поэт и предмет постоянных шуток и розыгрышей в литературных кругах. В 1803 году Василий Львович побывал в Париже и Лондоне и опубликовал в «Вестнике Европы» пространное письмо с описанием своего путешествия, после чего и появилась на свет литературная шутка Дмитриева. Стихи Дмитриева построены на постоянном перечислении событий и лиц, встречаемых N. N. в путешествии, а также вещей, им приобретаемых. Есть там и строки, невольно приходившие в голову при знакомстве с багажом графа Нулина:
«Сегодня на корабль отдам
Все, все мои приобретенья
В двух знаменитейших странах!
Я вне себя от восхищенья!
В каких явлюсь я сапогах!
Какие фраки! панталоны!
Всему новейшие фасоны!
Какой прекрасный выбор книг!
Считайте – я скажу вам вмиг:
Бюффон, Руссо, Мабли, Корнилий,
Гомер, Плутарх, Тацит, Вергилий,
Весь Шакеспер, весь Поп и Гюм;
Журналы Аддисона, Стиля…
И всё Дидота, Баскервиля!
Европы целой собрал ум!»
Стихи эти, по признанию самого Дмитриева, были напечатаны «с согласия автора, и только для круга коротких наших знакомцев» ( ДмитриевИ, 45), то есть представляли собой элемент литературной игры, принятой в карамзинском кругу. Соответственно и строки «Графа Нулина», перекликающиеся с вышеприведенным отрывком, продолжают литературную игру и служат намеком «для посвященных». Характерно, что в стихах А.С. Пушкина из письма к дяде Василию Львовичу от апреля 1816 г. содержится тот же оборот: «et caetera», венчающий описание графского багажа.
С запасом фраков и жилетов , – здесь и далее перечисляются детали светского костюма, то есть одежды для театра, приема, бала, прогулки. Самым модным в 1825 году был фрак с бархатным воротником. Черный цвет еще не стал обязательным, и на прогулку надевали фрак синий или зеленый, с металлическими пуговицами, а для визитов – фиолетовый. Длина фалд и форма фрака постоянно варьировались. В описываемое время в моде был достаточно высокий, «стоячий» воротник. Пуговицы доходили до самого воротника, и, выходя на прогулку, можно было застегнуть фрак «наглухо». По моде 1825 года молодой человек надевал сразу три жилета. Первым – черный бархатный, на него – жилет красного цвета, а сверху еще один черный жилет, но на этот раз суконный или «казимировый». Красный с черным были самым модным сочетанием цветов сезона «лето-осень 1825». В том случае, если модник хотел выглядеть более традиционно (и менее вызывающе), он надевал только два жилета: бархатный черный и сверху белый «пике». Возможен был и вариант двух бархатных жилетов разного цвета.
Шляп… – самым распространенным типом мужского головного убора светского человека был цилиндр. Цилиндры – «шляпы» – графа скорее всего были заказаны по последней парижской моде – с небольшими и чуть загнутыми полями, невысокой и немного сужающейся кверху тульей. Цвета – в тон фраку и, конечно, черный.
…вееров… – эта деталь костюма указывает на увлечение графа театром. Духота в театрах того времени нередко приводила к обморокам в зрительном зале, поэтому веер в театр брали не только дамы, но и кавалеры. В разговоре с Натальей Павловной граф стремился предстать знатоком парижских театров. Естественно, он не мог обойтись без набора вееров.
…плащей… – щеголь того времени должен был иметь минимум три плаща. Один – теплый, темного цвета с меховым воротником. Второй – остро модный в сезоне 1825 г. «шотландский» клетчатый, желательно черно-красный. И третий, особый, для прогулок в экипаже. Этот плащ «должен быть так обширен, чтобы он занял весь экипаж и воротник его висел назади. Такие плащи подбивают бархатом синим, цвета Элодии» ( МТ1825 , VI, 103).
…корсетов . – мужчины в то время носили корсеты с двойной целью: придать стройность фигуре (что особенно важно было для военных) и создать иллюзию тонкой талии. Корсет надевался на тонкую рубашку, под жилет. Позже, в конце 1820-х годов, тугие, стягивающие фигуру жилеты полностью вытеснят корсеты из мужской моды ( Кирсанова , 138).
Булавок… – ими закалывали «галстухи» (они же – шейные платки) или скрепляли воротник рубашки. В моде были булавки с брильянтами, а также золотые – в виде кисти винограда с двумя эмалевыми лепестками. Летом 1825 года в Париже некоторое время модники носили булавки с головой обезьянки – в честь одного из актеров бульварных театров, прозванного «обезьяной».
…запонок… – «Рукава сюртука или фрака должны быть такой длины, чтобы видны были немного рукава рубашки, застегнутые запонками с брильянтами» – писал один из модных обозревателей в 1825 году ( МТ1825 , ХХ, 408).
…лорнетов… – лорнет был одним из атрибутов не просто модного, а вызывающе модного поведения. Поднесенный к глазам лорнет воспринимался как демонстративный жест, преследующий цели:
– подчеркнуть преувеличенное внимание к чему– или кому-то;
– привлечь к какому-либо событию или человеку внимание всего общества;
– смутить этим вниманием кого-то из гостей (чаще – даму).
В рассказе «Первый выход на бал», опубликованном в «Московском телеграфе» в 1825 году, дальний родственник девушки, впервые отправлявшейся в свет, заметив недостатки в ее туалете, выражался так: «Помилуйте! возможно ли, не стыдно ли так являться на бал, в круг бонтона: она будет предметом язвительных лорнетов – бедненькая! ее осмеют…» ( МТ1825 , II, 95). И давайте вспомним, что у Евгения Онегина, в его бытность в Петербурге, был двойной лорнет.Цветных платков… – шейный платок (галстук) – обязательный элемент мужского костюма и одновременно одна из главнейших деталей туалета модника. Если плащей можно было иметь три, фраков – пять-шесть, то с платками дело обстояло совсем иначе. «Сколько должно иметь галстухов?» Таким вопросом задавался «Московский телеграф». И сам же давал ответ: «У одного щеголя насчитали только цветных 72, у другого цветных – 154!» ( МТ1825 , VI, 103). Мода на шейные платки менялась очень быстро. В начале 1825 года «Дамский журнал» сообщал, что «щеголи, по утрам, повязывают шею кисейною косынкою, голубою, цвета желтой серы и лиловою, с крапинками голубыми и зелеными» ( ДЖ1825 , I, 40). Летом того же года в моде был цвет «фрейшиц» – красный с черными полосками, получивший название по персонажу оперы Вебера «Вольный стрелок» (нем. – freischutz), чрезвычайно популярной в Париже. А уже в начале 1826 года в моду вошли шейные платки «Тальма» (черный, «трагический») и «Вальтер Скотт» (клетчатый) ( Кирсанова , 75).
…чулков a jour – фр. «пропускающими свет», то есть со сквозным орнаментом. С конца XVIII века модными считались чулки «со стрелками» – то есть с узором по бокам. Цвет чулков и характер рисунка постоянно варьировались, но традиционно считалось, что белые чулки нужно носить с парадным костюмом, а цветные – с повседневным. При этом чулки с вышитым рисунком считались простыми и были сравнительно дешевы, а самыми дорогими были чулки с прозрачным, ажурным узором. Считается, что такие чулки в моду ввела маркиза де Помпадур (Кирсанова, 13 и 321). В 1825 году такие чулки назывались еще «парижскими чулками» и считались «чрезвычайно редкими» ( ДЖ1825 , VIII, 54).
С ужасной книжкою Гизота , – В начале 1825 года А. С. Пушкин писал брату Льву: «Наполеон поглупел – во-первых, лжет как ребенок,
2) судит о таком-то не как Наполеон, а как парижский памфлетер, какой-нибудь Прадт или Гизо» (Х – 123–124).
Франсуа-Пьер Гильом Гизо (1787–1874) – французский историк, публицист и политический деятель. Он считается одним из основателей политической теории «среднего класса». Современное государство, по мнению Гизо, всем обязано классу собственников и должно опираться на два главных принципа: «представительское правление» и «общественное мнение». Для А. С. Пушкина, которому в июне 1825 года К.Ф. Рылеев писал: «Ты сделался аристократом; это меня рассмешило. Тебе ли чваниться пятисотлетним дворянством?» ( Рылеев , 305) – вполне естественно было называть откровенно буржуазные взгляды Гизо «ужасными». Какая конкретно книга имелась в виду, сказать трудно, но она должна быть сравнительно новой, иначе Нулин бы ее не взял с собой. Это могла быть «Смертная казнь как предмет политики» (1822), или «Этюды по истории Франции» (1823). Впрочем, М.Н. Виролайнен, предположила, что этой книгой мог быть первый том французского издания В. Шекспира, открывающийся статьей Гизо «Жизнь Шекспира» и содержащий поэму «Лукреция». «Таким образом, – пишет М.Н. Виролайнен, – издание, и особенно том с «Лукрецией», было для Пушкина «гизотовским» Шекспиром. В контексте пародирующего «Лукрецию» «Графа Нулина» этот том невольно ассоциируется с «книжкою Гизота», и невозможно представить себе, чтобы Пушкин не отдавал себе отчета в такой ассоциации» ( Виролайнен , 84)С романом новым Вальтер-Скота, – верный принципу собирать все самое новое, граф Нулин везет с собой роман одного из безусловных лидеров романтического направления в литературе, о котором главный идеолог нового стиля Шарль Нодье писал: «…великие мастера слова и Байрон, и Вальтер Скотт, и Ламартин, и Гюго устремились на поиски воображаемого мира, словно особый пророческий дар, полученный поэтом от природы, заставил их предугадать, что в одряхлевшем обществе влияние реальной жизни было близко к исчезновению» ( Манифесты , 410). Мощная волна романтизма вышла далеко за пределы литературного мира. Пушкинский герой, безотчетно следуя моде на романтизм, попадает в эмоциональную зависимость от героев Байрона и Вальтера Скотта. В отличие от Натальи Павловны, склонной к сентиментализму, он ориентируется на стандарты «воображаемой реальности». Эта разница в поведенческих стереотипах, сформированных литературой, в полной мере проявится в кульминационных для поэмы 18–19 главках. Что же до романов Вальтера Скотта, то в 1825 году вышли два: «Обрученные» и «Талисман».
С bons-mots парижского двора , – bon-mot (фр. – «меткое словцо») – изящная или язвительная острота. П.А. Вяземский, переводивший bon-mot как «забавное слово» или «острое слово», так определял разницу между французской и русской шуткой: «Французская острота шутит словом и блещет удачным подбором слов, – русская – удачным приведением противуречащих положений» ( Вяземский1963 , 80 и 33).
Главным поставщиком светских острот традиционно считался парижский свет. Элегантные, отточенные экспромты становились особым видом придворного искусства и передавались потом из уст в уста, приобретая форму коротких рассказов – анекдотов. Один анекдот с bon-mot помещен в «Московском телеграфе» за 1825 г.: некий граф, будучи старейшим из гостей на свадьбе и следуя древнему обычаю, разрезал на полоски подвязку (ленту, которой подвязывали чулок) невесты, раздал гостям, а одну из полосок вдел себе в петлицу, как это делалось с орденскими лентами. Наутро, забыв об этом, он пришел на аудиенцию к королю. Король и наследник спросили его «о новом украшении». Смущенный граф оправдывался словами: «Позор тому, кто об этом плохо подумает» (девиз ордена Подвязки – самого престижного ордена в Европе) ( МТ1825 , XIV, 367–368).
Еще один bon-mot того времени, уже с политическим оттенком, привел Е.В. Тарле. В разговоре с Талейраном Карл Х, последний король из династии Бурбонов, заявил: «Тот король, которому угрожают, имеет лишь два выбора: трон или эшафот». «Вы забываете, государь, третий выход, – ответил Талейран, намекая на изгнание, – почтовую карету» ( Тарле , 667–668).
Случайно или нет, но и здесь приходится вспоминать В.Л. Пушкина и его стихотворение «К камину» (1793), в котором были такие строки: «Мне нужды нет, что я на балах не бываю / И говорить бон-мо на счет других не знаю…».С последней песней Беранжера , – Пьер Жан Беранже (1780–1857) – один из самых едких поэтов той эпохи, поставщик сенсаций совсем иного рода, чем представленные выше bons-mots. Его песни регулярно запрещались правительством и были постоянно «на слуху». В 1825 году как раз разразился очередной цензурный скандал. Издатель, выпуская в свет третий сборник песен Беранже, по требованию полиции, но без согласия автора, изъял из песни «Галльские рабы» последний куплет («посылку»):
«Друг Манюэль, в другое время
Я б не воспел тех мрачных дней,
Но галлов нынешнее племя
Не ценит доблести твоей;
А ты, опасность презирая,
Стремясь отважно родине служить,
Жалеешь тех, кто гибнет, повторяя:
"Давайте пить, Давайте пить!"»
(Перевод И. Ф. Тхоржевского)
Беранже подал на издателя в суд, что давало много поводов для толков в «свете». Bon-mot самого Беранже, сказанное одному из политиков примерно в то время, звучало так: «Не благодарите меня за песни, которые я сложил против ваших противников, а благодарите за те, которые я не сложил против вас» ( Беранже , 460). Б. М. Гаспаров считает, что песней, которую вез граф Нулин из Парижа, была «Le bon Dieu» («Добрый бог») ( Гаспаров1999 , 262). С этим трудно согласиться, поскольку эта песня была написана в 1820 г. и последней в 1825 г. быть никак не могла. Нулина же, судя по предыдущим строкам, интересовали лишь остро модные вещи, знанием и обладанием которых можно было блеснуть в гостиных. Соответственно песней Беранжера, которую он мог вести в Россию, должна быть та, которая была написана в промежуток между мартом и сентябрем 1825 г., поскольку в марте вышел в свет третий сборник песен, а в сентябре граф покинул Париж. В этот промежуток идеально укладывается другая песня Беранже: «Коронация Карла III Простоватого». Она была написана сразу после коронации последнего короля из династии Бурбонов Карла Х, состоявшейся 29 мая 1825 г., и была воспринята как чрезвычайно едкая сатира на двор и короля. Когда в декабре 1828 г. Беранже предстал перед судом, обвинитель в своей речи специально отметил, что в этой песне «…священная особа нашего монарха, торжественная церемония венчания его на царство превращены в насмешку в этой фантастической картине коронации, о которой молчит история» ( Данилин , 173).
Соседство этой песни Беранже (впрочем, как и любой другой) с bon-mots парижского двора подчеркивает полную неразборчивость графа Нулина в собирании всего остро модного, и является одной из самых сильных его характеристик в глазах хоть сколько-нибудь просвещенного читателя.С мотивами Россини, Пера , – здесь названы два из трех самых модных в Париже 1825 года композиторов (о Карле Вебере и его опере «Вольный стрелок» мы уже говорили выше).
Джоакино Россини (1792–1868) в 1824 году был приглашен в парижский Итальянский театр на должность дирижера музыки и сцены. К этому времени его опера «Севильский цирюльник» уже восьмой год не сходила с подмостков европейских театров. Одним из свидетельств широкого интереса российской публики к личности композитора и его творчеству могут служить «Записки касательно Россини», опубликованные в № 4 «Дамского журнала» за 1824 г., начинавшиеся так: «Тогда как присутствие Россини волнует дилетантиев Парижских и Лондонских, мы думаем, что биографическое известие о сем знаменитом композиторе будет любопытно для наших любезных читательниц» ( ДЖ1824 , IV, 167).
Нулин, собирая свою модную коллекцию, должен был захватить с собой «мотивы», еще не известные в России. Россини же в Париже не работалось. После премьеры 19 июля 1825 года оперы-кантаты «Путешествие в Реймс, или гостиница Золотой лилии», написанной по поводу коронации Карла X, композитор долго болел и ничего в театре не ставил ( Клюйкова, 140–143).
Все же можно предположить, что при определенной прыткости Нулин мог перед самым отъездом посетить премьеру оперыпастиччо «Айвенго» в театре Одеон, состоявшуюся 15 сентября 1825 года. Либретто было написано по роману Вальтера Скотта, а в качестве музыкального материала этой оперы послужили отрывки из нескольких ранее написанных произведений Россини (поэтому опера и называлась пастиччо – паштет). Вероятно, именно эти отрывки, в новой обработке, граф и вез в Петербург.
Пер – Фердинандо Паэр (1771–1839), композитор из Пармы. Он считается одним из авторов музыкального приема «крещендо» – «постепенного или стремительного увеличения силы звука оркестра, подключения дополнительных голосов и инструментов, а также ускорения темпа…» ( Россини , 205) Старший современник Россини и его художественный оппонент, Паэр был директором Итальянского театра в Париже. Но после приглашения автора «Севильского цирюльника» Паэр оставил этот пост. Возможно, не без участия обиженного Паэра, Россини заслужил в Париже прозвище «господин Громыхатель».Et cetera, et cetera. – И так далее, и тому подобное. Перечисляя «культурный багаж» графа Нулина, «рассказчик» невольно увлекается, в его речи пропадают старорусские выражения типа «казать», появляется все больше французских слов. Заканчивает же он французской переделкой латинского речевого оборота и прямой цитатой из «Дон Жуана» Байрона, где этот оборот использован дважды, в начале Песни третьей («О муза, ах! et cetera!») и в Песне пятой:
«Для чащи экзотических растений —
Жасминов, лавров, пальм et cetera —
Я мог бы вам придумать тьму сравнений!»
Глава 11 (Граф Нулин)(текст)
Уж стол накрыт; давно пора;
Хозяйка ждет нетерпеливо;
Дверь отворилась, входит граф;
Наталья Павловна, привстав,
Осведомляется учтиво
Каков он? что нога его?
Граф отвечает: ничего.
Идут за стол; вот он садится,
К ней подвигает свой прибор
И начинает разговор:
Святую Русь бранит, дивится,
Как можно жить в ее снегах,
Жалеет о Париже страх.
«А что театр?» – О! сиротеет,
C\'est bien mauvais ca fait pitie.
Тальма совсем оглох, слабеет,
И мамзель Марс, увы! стареет.
Зато Потье, le grand Potier!
Он славу прежнюю в народе
Доныне поддержал один. —
"Какой писатель ныне в моде?"
– Всё d\'Arlincourt и Ламартин. —
"У нас им также подражают".
– Нет? право? так у нас умы
Уж развиваться начинают.
Дай Бог, чтоб просветились мы! —
"Как тальи носят?" – Очень низко,
Почти до… вот по этих пор.
Позвольте видеть ваш убор;
Так… рюши, банты, здесь узор;
Всё это к моде очень близко. —
«Мы получаем Телеграф».
– Ага! хотите ли послушать
Прелестный водевиль? – И граф
Поет. «Да граф, извольте ж кушать».
– Я сыт. – Итак…
Из-за стола
Встают. Хозяйка молодая
Черезвычайно весела;
Граф, о Париже забывая,
Дивится, как она мила.
Проходит вечер неприметно;
Граф сам не свой; хозяйки взор
То выражается приветно,
То вдруг потуплен безответно.
Глядишь – и полночь вдруг на двор.
Давно храпит слуга в передней,
Давно поет петух соседний,
В чугунну доску сторож бьет;
В гостиной свечки догорели.
Наталья Павловна встает:
«Пора, прощайте! ждут постели.
Приятный сон!..» С досадой встав
Полувлюбленный нежный граф
Целуют руку ей. И что же?
Куда кокетство не ведет?
Проказница – прости ей Боже! —
Тихонько графу руку жмет.
(комментарий)
Действие этой части поэмы строится вокруг обеда. Между тем, обед в деревне совсем не то же самое, что в городе. День светского человека в городе с обеда только начинался. В деревне же обед отмечал завершение первой – трудовой – части дня. Вслед за ним наступало время прогулок, чтения, музицирования. Поскольку утренний чай зачастую подавался господам прямо «в комнаты», нередко вся семья собиралась вместе именно за обедом.
Помимо того, обед – это еще и официальная церемония: он проходил всегда в одно и то же время, домочадцы и гости имели строго определенные места за столом. Порядок подачи блюд, формы общения и даже темы разговоров за обедом были четко определены.
Для нас важно еще и то, что именно обед, в качестве официальной церемонии, делал возможным и знакомство, и беседу графа с хозяйкой. Дело в том, что граф холост и к тому же путешествует один. По правилам того времени, занимать разговором гостя-мужчину до обеда мог только хозяин дома, а даму – хозяйка. Вот характерная ситуация, взятая из воспоминаний В.Н. Головиной: направляясь к мужу в действующую армию, она проезжала владения отставного фаворита Екатерины II С.Г. Зорича, и тот пригласил ее в гости. Далее предоставим слово самой мемуаристке: «Я употребила все свое красноречие, чтобы отказаться от этого приглашения, но он остался непоколебим, и в конце концов пришлось сесть в его карету и позволить вести себя к его племянницам, чтобы остаться у них до тех пор, пока он не заедет за мной. Этого требовало приличие: Зорич не был женат и потому не позволил себе быть со мною наедине в продолжение двух часов, остававшихся до обеда» ( Головина, 101). Точно так же и Наталья Павловна не могла, не выходя из приличий, долго разговаривать с незнакомцем. Обед же заменял церемонию представления и устранял все формальные препятствия для знакомства.
Общее представление о том, каким должен быть обед в дворянском доме, дает фрагмент из статьи Ф.В. Булгарина в № 7 его газеты «Северная пчела» за 1840 г.:
...«Где и как обедать? Всегда в большой, высокой светлой комнате… Человеку с изящным вкусом никогда не станет обедать ни при лампах, ни при стеариновых свечах, потому что взгляд на них припоминает две отвратительные для вкуса вещи: ламповое масло и сало… В соседних комнатах не должно быть шума и беготни, чтоб все внимание сосредоточено было на обеденном столе. В столовой не должно быть много слуг… Хрусталь, цветы, позолота вечером, хрусталь, серебро и цветы днем, а фарфор во всякое время, должны быть принадлежностью хорошего стола» (Культура застолья… 149).
Не стоит удивляться тому, что в поэме только-только было утро, и вот уже ведутся приготовления к обеду. Деревенский обед, в отличие от городского, начинался рано: от полудня до четырнадцати часов. (Сравним: у Г.Р. Державина в «Жизни Зван-ской»: «Бьет полдня час, рабы служить к столу бегут; / Идет за трапезу гостей хозяйка с хором».) Как правило, он был обильным, но не разнообразным, и состоял из двух-трех «перемен» (то есть разных типов кушаний), с числом блюд в каждой перемене от одного до трех. Один из типичных вариантов деревенского обеда мог выглядеть так:
– «горячее» в глубоких тарелках «до краев» («горячим» называли первые блюда: супы, борщ, уху и т. п.);
– пироги, «не менее 1/2 фунта», полагавшиеся к «горячему»;
– жаркое или котлеты, подаваемые без гарнира, но таким образом, что «укладывались в тарелке из края в край» (описан обед, подаваемый в усадьбе генерал-майора П.А. Фон Рехенбурга) ( Селиванов , I, 66).
Предметом особенной гордости был «соус», который готовили не каждый день, а, как правило, к праздничному, «званому» обеду. Мясо в соусе, не свойственное русской традиционной кухне и приготовляемое по французским рецептам, подавалось, как и жаркое, без гарнира. В постные дни мясные блюда заменялись различными кашами и пирогами. Завершался обед «заедками» – свежими ягодами, булочками, домашней пастилой, орехами, стручковым горохом. Самое распространенное и любимое лакомство начала XIX века – огурцы в медовых сотах.
В год первой публикации поэмы «Граф Нулин» В.Л. Пушкин писал свою – «Капитан Храбров». И в ней описал «деревенский» обед:
«За стол мы сели: и рубцы
Нам подают, к ним пряженцы,
Бараний бок с горячей кашей,
Жаркого гуся и пирог».
Неудивительно, что даже после обеда «за свой» (то есть обычного, непарадного, семейного) из-за стола вставали с трудом. Зато ужин не был обязательной трапезой: часто вечером доедали в холодном виде то, к чему не смогли, из-за величины порций, притронуться за обедом. Если же, как в нашем случае, ужина не было вовсе, то в спальни ставились «заедки», которыми лакомились перед сном.
Уж стол накрыт; давно пора;
Хозяйка ждет нетерпеливо — гость задерживается по двум причинам. Первая – как городской светский щеголь, он привык обедать поздно, не ранее четырех часов пополудни, и ему пока трудно привыкнуть к тому, что обед уже два часа как готов, а он еще не успел проголодаться. Вторая – граф Нулин живет одновременно в двух культурных пространствах. Одно – придворная традиция XVIII века, культивируемая в период Реставрации при французском дворе. Ей свойственна учтивость и утонченная любезность с дамами. Другое – английский дендизм, широко распространившийся в светских европейских салонах после окончания наполеоновских войн ( Лотман1994 , 123–135; Белый ).
Внешний вид и поведение dendy можно коротко охарактеризовать как абсолютно продуманное во всех деталях, высокомерное презрение к тем условностям «света», которые, он, тем не менее, неуклонно соблюдает. Вот как определял разницу между щеголем 20-х годов XIX века и сменившим его денди Шатобриан:...«В 1822 г. щеголю полагалось иметь вид несчастный и болезненный; непременными его атрибутами почитались: некоторая небрежность в одежде, длинные ногти, неухоженная бородка, выросшая как бы сама собой, по забывчивости скорбящего мученика; прядь волос, развевающаяся по ветру, проникновенный, возвышенный, блуждающий и обреченный взгляд, губы, кривящиеся от презрения к роду человеческому, байроническое сердце, томящееся скукой, исполненное отвращения к миру и ищущее разгадки бытия. Ныне все переменилось, денди должен держаться победительно, непринужденно и дерзко; должен тщательно следить за своим туалетом (…), он не снимает шляпы, разваливается на диванах, протягивая длинные ноги чуть не в лицо дамам, которые обступают его, обмирая от восхищения…» (Шатобриан, 339 ).
Демонстративное опоздание, вызванное подчеркнутым вниманием к собственной персоне – один из самых характерных культурных знаков новой моды, поскольку настоящий денди «издевается над правилами и все же их уважает» ( Дендизм , 30).
Наталья Павловна, привстав,
Осведомляется учтиво – Наталья Павловна тоже живет в двух культурных пространствах. Как деревенская помещица, она должна была встретить гостя на пороге дома, расспросить его о самочувствии, «счесться родней» и попотчевать гостя обедом.
Отчасти так и происходит: она привстает, осведомляется о здоровье. Но одновременно она играет роль светской дамы, и эта роль диктует совсем иное поведение. Видимо, она уже успела прочитать в «Московском телеграфе», что в Париже распространилась новая мода в устройстве «приемов» или «светских раутов»: «Хозяйка принимает гостей, не двигаясь со своего места, хозяин и игроки [в карты. – Авт .] не замечают гостя…» ( МТ1825 , V, 87).
Эту перемену правил приема гостей, связанную с общей сменой культурных стереотипов, хорошо описал в своих воспоминаниях племянник И.И. Дмитриева, Михаил Александрович Дмитриев, чья молодость пришлась как раз на 1820-е годы: «Есть пословица: "По платью встречают, по уму провожают!" Не знаю, провожают ли у нас по уму, но встречают действительно по платью. – Сперва было у нас русское, национальное платье: встречали поклонами, и угощением. – Потом ходили в немецких кафтанах или в том, что у кого есть: начали встречать с важностию, с почтением и оглядками. – Потом появились французские кафтаны и фраки: стали встречать первых с тонким приличием, вторых с свободною, непринужденною вежливостию» ( ДмитриевМ , 176). Соответственно этой новой моде и французскому «платью» Наталья Павловна старается принимать в своем доме незнакомца, прибывшего из-за границы, «непринужденно».…вот он садится,
К ней подвигает свой прибор — при встрече граф, строго следуя традиции дендизма, ведет себя крайне бесцеремонно. В то время в России еще сохранялся обычай XVIII века, согласно которому дамы и кавалеры за обедом сидели друг против друга по разные стороны стола. Недаром в «Евгении Онегине» сцена рассаживания гостей за стол во время торжественного обеда в доме Лариных передана так: Теснятся барышни к Татьяне / Мужчины против… а опоздавших Онегина и Ленского Сажают прямо против Тани (V – 112). Даже в Петербурге на званых обедах мужчины и дамы рассаживались отдельно. Вот описание такого обеда в письмах французского писателя Ф. Ансело, побывавшего в России в 1826 г.: «Мужчины подают дамам руку, чтобы выйти из гостиной, но эта мгновенная вольность распространяется не дале дверей столовой: там все женщины усаживаются на одном конце стола, мужчины – на другом, и во все время обеда они могут лишь обмениваться односложными репликами поверх вазы с цветами» (Ансело, 47–48 ).
Нулин же без спроса садится не только на одну сторону стола с хозяйкой, но и очень близко от нее. Такой поступок, будь он совершен в присутствии посторонних, граничил бы с конфузом и оскорблением, но и один на один он был явно вызывающим. Именно такого эффекта и должен добиваться «настоящий» денди, так как «его главная черта состоит в том, чтобы поступать всегда неожиданно, так, чтобы ум, привыкший к игу правил, не мог этого предвидеть, рассуждая логически» (Дендизм, 29).И начинает разговор – один из виднейших пушкинистов начала XX в. П.О. Морозов комментировал разговор графа и Натальи Павловны следующим образом: «Нулин рассказывает о Париже, о новых модах и пр., поет шансонетку, болтает всякий вздор» ( АСП , 387). На самом деле все не так. Разговор наполнен особым смыслом и полон культурных знаков. Прежде всего: он строится по новейшей парижской схеме. «Политика, Литература, Театр – вот три главные стихии парижских разговоров!» – восклицал «Московский телеграф» ( МТ1825, IX, 145). Делаем поправку на то, что разговор происходит в российской провинции, а не в парижском салоне (и значит, разговор о политике исключен) и получаем последовательность: театр – литература – мода, вполне соотносимый с новейшими парижскими веяниями. Не забудем также и то, что это разговор светский и, следовательно, переход от литературы и театра к моде, а затем к пению более чем закономерен. Об этом отчетливо говорит сопоставление разговора графа и Натальи Павловны с тем, который ведут две светские львицы из «Послания к Хлое» К.Н. Батюшкова, написанного не позднее 1805 г. и представленного автором (под названием «Сатира, с французского») для вступления в «Вольное общество любителей словесности, наук и художеств»:
«Из хижины своей брось, Хлоя, взгляд на свет:
Четыре бьет часа – и кончился обед:
Из дому своего Глицера поспешает,
Чтоб ехать – а куда? – беспечная не знает.
Карета подана, и лошади уж мчат.
"Постой!" – она кричит, и лошади стоят.
К Лаисе входит в дом, Лаису обнимает,
Садится, говорит о модах и зевает;
О времени потом, о карточной игре,
О лентах, о пере, о платьях и дворе.
Окончив разговор, который истощился,
От скуки уж поет».
Примечательно, что разговор по «парижской» схеме ведет Наталья Павловна, демонстрируя при этом свое знание светских обычаев, а граф подхватывает и развивает каждую тему, тем самым принимая «равный тон» в общении с провинциальной красавицей и мало-помалу уходя от заявленного в начале обеда дендизма. Именно такой тип застольной беседы рекомендовал Ф.В. Булгарин своим читателям в уже цитированной нами чуть выше статье:
...«За обедом надо уметь перестреливаться короткими фразами, и эти фразы должны быть похожи на пирожки (petits pates) или крепкие пряные соусы…. Не должно никогда заводить речи за столом о важном и сериозном… Везде дамы дают законы в обществе, и с дамами должно говорить о том, что им угодно и что им приятно» (Культура застолья, 151 ).
Святую Русь бранит… – Святая Русь – один из литературных штампов того времени, получивший широкое распространение, вероятно, благодаря Н.М. Карамзину. Он в IX томе своей «Истории государства российского», вышедшем в 1821 году, дважды использовал этот оборот (в описании пленения в Крыму Семена Мальцова и завершения похода Ермака в Сибирь. Впервые словосочетание «Святая Русь», видимо, появилось в так называемых «исторических песнях», известных с XVI века. Интерес к ним в России начала XIX века – часть общеевропейской тенденции в «возрождению» средневековой истории и «открытию» средневековой литературы, принимавшей самые разные формы, от «средневековых» романов Вальтера Скотта, до самой знаменитой подделки в истории литературы – поэзии Оссиана (легендарного кельтского поэта III века нашей эры) созданной шотландцем Макферсоном в середине XVIII века. Одну из «исторических» песен XVI века цитировал Н.М. Карамзин уже в Х томе: «Как умру я, мой доброй конь, // Ты зарой мое тело белое // Среди поля, среди чистаго; // Побеги потом во святую Русь; // Поклонись моим отцу и матери, // Благословенье свези малым детушкам; // Да скажи моей молодой вдове, // Что женился я на другой жене…».
В поэзии 1820-х годов особенно часто этот оборот использовал В. К. Кюхельбекер. В его стихотворении 1821 года «Поэты», в котором упомянут и Пушкин – «певец любви, певец Руслана» – есть такие строки:
«Их зрела и святая Русь —
Певцов и смелых и священных,
Пророков истин возвышенных!»
Точно так же – торжественно и пышно – звучит этот оборот и у К.Ф. Рылеева в стихотворении «Державин»:
«Он пел и славил Русь святую!
Он выше всех на свете благ
Общественное благо ставил». (1822)
В послании «В.А. Жуковскому, возвратившемуся из путешествия», написанном И.И. Козловым в 1822 г., это же выражение присутствует в таком контексте:
«Беседа мудрых укрепляет
Колеблемый рассудок мой,
Дивит в писаниях великих
Рассказ деяний знаменитых;
(…)
Мы с ними чувствуем живей,
Добрее, пламенней бываем, —
Так Русь святая нам святей,
Когда Карамзина читаем».
П.А. Вяземский резко снизил уровень патетики при использовании этого оборота в шуточном новогоднем послании к В.Л. Пушкину (чья тень уже не раз возникала за плечами у графа Нулина). Противопоставление Европа – святая Русь приобретает здесь характер легкой насмешки над обычаями последней:
«Пусть Вестник, будто бы Европы,
По-европейски говорит,
И разных глупостей потопы
Рассудка солнце осушит.
Пусть нашим ценсорам дозволят
Дозволить мысли вход в печать;
Пусть баре варварства не холят
И не невежничает знать.
(…)
Пусть щук поболе народится,
Чтоб не дремали караси;
Пусть белых негров прекратится
Продажа на Святой Руси». (1820).
Об ироническом отношении самого Пушкина к этому штампу свидетельствуют строки из «Послания к цензору» 1822 г. («Скажи: не стыдно ли, что на святой Руси, / Благодаря тебя, не видим книг доселе?» II – 122), а также его письмо к брату, написанное в начале февраля 1824 года: «Святая Русь мне становится невтерпеж Ubi bene ibi patria. А мне bene там, где растет трин-трава, братцы. Были бы деньги, а где мне их взять? что до славы, то ею в России мудрено довольствоваться… Mais pourquoi chantais tu? на сей вопрос Ламартина отвечаю – я пел, как булочник печет, портной шьет, Козлов пишет, лекарь морит – за деньги, за деньги, за деньги – таков я в наготе моего цинизма» (Х – 180). Характерно, что и в этом отрывке, и в разговоре Нулина с Натальей Павловной переплетаются одни и те же темы: явные – «Святая Русь» и Ламартин, и подспудная – отсутствие денег.
Жалеет о Париже страх. – Для того человека, каким граф предстает в разговоре – завсегдатая салонов и «бульварных» театров – длительное пребывание в Париже не могло пройти даром. Он, видимо, старательно учился смотреть на мир глазами француза, а это совсем особое «мировоззрение». Князь П. Б. Козловский, проживавший в Париже в 1823 и 1824 гг., то есть практически в одно время с Нулиным, так описал атмосферу «национального тщеславия», которую он там застал:
...«В салонах, в театрах, на улице, в газетах вы без конца слышите и видите самые напыщенные похвалы французам… Самый плохой актер, играя в самой скверной пьесе, может быть уверен, что сорвет бурные аплодисменты, если произнесет несколько слов о французской чести, французской славе, французском гении и сноровке, наконец, нечто как можно более напыщенное о первенстве Франции. Эти общие места, исполненные самой грубой лести, звучат со сцен мелких театров и никогда никому не надоедают, если же их не декламируют также и на сценах крупных театров, то не публика тому виной, ибо стоит партеру расслышать в пьесе хоть что-нибудь лестное для национального тщеславия, как он приходит в восторг» (Козловский, 53 ).
Значение слова «страх», использованное в данной фразе – очень, весьма – Даль отмечает как «народное» ( Даль, IV, 337). Соответственно оно входит в речевую характеристику не графа Нулина (чья прямая речь дана ниже), а рассказчика, и стоит в одном ряду с такими выражениями, как отмечаемые нами выше: «покой», «казать» и др.
«А что театр?» – О! сиротеет, – в данном случае – нищает, беднеет, поскольку «сирота» – один из синонимов слова «бедняк» ( Даль , IV, 188).
C\'est bien mauvais, ca fait pitie. – Очень плохо, просто жалость (фр.). Эта фраза – не брюзжание сноба, а довольно точная оценка, или, если угодно, отражение мнения, сложившегося в прессе. Наталья Павловна не может с ним не согласиться, ведь она уже читала в «Московском телеграфе», что в декабре 1824 года во всех театрах Парижа было поставлено 20 новых пьес, в январе 1825 года – 14, в марте – 13, а в апреле – только 10. «Иные, – сообщает журнал, – канули в лету при безмолвии зрителей, другие улетали со свистом и шлепаньем» ( МТ1825 , IX, 145).
Тальма совсем оглох, слабеет, – Франсуа Жозеф Тальма (1763–1826) – ведущий актер театра «Комеди Франсез». Его игра на рубеже XVIII–XIX вв. стала непревзойденной вершиной классицистического театра. «Кажется, – вспоминал очевидец, – что Тальма никогда не переводит дыхания и что искусство вновь и вновь повышать голос – его большая тайна» ( Дейч, 214). Однако в начале XIX века Тальма совершил истинный переворот в искусстве драматической игры. Он перенес внимание с голоса на жест и мимику и, не порывая до конца с декламацией, начал «играть лицом». Другими словами, именно Тальма заложил основы психологической манеры игры актера. Оценка его стараний, данная Нулиным, легковесна и обидна, но отчасти отражает истинное положение дел. В марте 1825 года Тальма давал бенефис «по случаю его ухода, после 38 лет служения на сцене» ( Дейч, 244). Самый знаменитый актер первой четверти XIX века уже давно болел раком кишечника. После прощального бенефиса он с театром не порвал, однако выступал все реже и реже.
И мамзель Марс, увы! стареет – самая большая банальность, сказанная графом на протяжении всего разговора. Упрекнуть ведущую актрису все того же Комеди Франсез Анн Франсуаз Ипполит Буте (1779–1847, псевдоним – Марс) в плохой игре у него не повернулся бы язык: все спектакли с ее участием делали полные сборы. Тот же П. Б. Козловский так писал о ней: «В Европе ей нет равных, и, что еще более удивительно, невозможно не только превзойти ее, но даже сравняться с нею» (Козловский, 102). О любви к ней парижской публики рассказывали анекдоты. Вот один из них: иностранец, недавно приехавший в Париж, попал в театр на представление с участием мадмуазель Марс. Видя большое количество людей в театре, он вслух предположил, что все они зашли туда по причине ненастной мартовской погоды. «Нет, – отвечал ему сосед. – У французов месяц МАРТ (фр. – MARS) продолжается весь год» ( МТ1825 ; XII, 272). Вместе с тем актрисе уже исполнилось 46 лет, и она действительно старела, продолжая играть роли «инженю» – молоденьких девушек. Театральные снобы уже стали поговаривать, что и она, и Тальма вынуждены нанимать клакеров – «хлопальщиков» – на каждое представление. Указывались даже суммы, выплачиваемые «группам поддержки» – 300 и 500 франков в год соответственно ( МТ1825 ; XIV, 214).
Зато Потье, le grand Potier! – Шарль Габриель Потье (1775–1838), «великий Потье», как называет его граф Нулин, был острохарактерным, эксцентричным актером, «мастером смеха» «бульварных» театров, таких как «Порт-Сен-Мартен», «Варьете», «Гете» (они располагались на бульваре Тампль, отсюда их общее наименование). В отличие от классицистической, ориентированной на трагедию «Комеди Франсез», «бульварные театры» ставили главным образом водевили – комические пьесы с «облегченным» сюжетом, насыщенные музыкой, пением, танцами. Здесь вряд ли можно было встретить тонкую психологическую игру, ценимую поклонниками Тальма, поскольку главными качествами актера считались «непринужденность, простота, изящество, артистический блеск, достигаемый ритмической остротой и четкостью слова и жеста» ( ИЗТ , III, 304) Преимущество, отдаваемое Нулиным водевильному театру, многое говорит о его привычках и характере. И чем дальше развивается сюжет, тем заметнее становится «водевильная составляющая» поступков графа.
«Какой писатель нынче в моде?»
– Все d\'Arlincourt и Ламартин . – граф бессознательно смешивает два типа модной литературы. Чарльз Виктор Прево, виконт д\'Арленкур (1789–1856) был, безусловно, «модным» писателем. Его романы читали и обсуждали в салонах наравне со светскими новостями. Свидетельство того – сообщение в «Московском телеграфе»: «Важное известие! Модный парижский журнал торжественно объявляет, что 20 декабря [1824 года. – Авт. ] великий виконт Дарленкур выдаст новый роман своего сочинения. Имя его Etrangere [Отчужденная. – Авт. ]; содержание, разумеется, будет чудо, и модные торговки уже подготовили шляп, брильянтов, помады, и все a la Etrangere. Скоро ли дойдет это к нам!» ( МТ1825 ; I, 7) Однако модный светский писатель д\'Арлинкур был забыт уже при жизни. Да и на самом пике его известности серьезные читатели и уж тем более литераторы относились к его произведением с явной иронией. Чтобы убедиться в этом, достаточно перечитать рецензию на роман «Отчужденная», помещенную в парижском «Журналь де Деба» и перепечатанную «Вестником Европы»: «…похвалы журналов заграничных могут обворожить глаза молодых людей, которые легко подумают, что все модное, необходимо уже есть изящное и образцовое» ( ВЕ ; III, 183).
Совсем иное дело – Альфонс Ламартин (1790–1869), ставший известным сразу же после первого сборника стихотворений – «Думы» (1820). Будучи одним из создателей новой эстетики романтизма, Ламартин вместе с Гюго, Виньи, Нодье составил кружок литераторов-новаторов, задававших тон в литературе 1820-х годов. В 1823 г. вышел в свет второй сборник «Дум», закрепивший за Ламартином репутацию одного из самых лучших поэтов Франции. Для российского читателя Ламартин стал образцовым элегическим поэтом. Отметим для себя, что Лиза – героиня пушкинского «Романа в письмах» 1829 г. (а в этом произведении отчетливо видны черты полемики вокруг «Графа Нулина») писала своей подруге: «Уединение мне нравится на самом деле, как в элегиях твоего Ламартина» ( VI – 60 ). Но для графа Нулина, живущего последними новинками моды, разница между Ламартином и д\'Арлинкуром, видимо, только в том, что имя последнего «свежее», соответственно и произносит его граф по-французски.
Собственно Ламартина граф называет в беседе по двум причинам. Первая состоит в том, что тот был, что называется «на слуху»: в мае-июне 1825 года он издал новую поэму: «Последняя песнь Чайлд-Гарольда», посвященную предсмертным событиям в жизни Байрона, гибель которого была одной из главных светских новостей в 1824 году. Для выяснения второй причины обратимся к статье «О Ламартине и современной французской поэзии», опубликованной в Литературной газете в 1830 г. «Ламартин, – говорилось там, – из новейших поэтов французских более других знаком читателям нашим… Он у нас в особенности поэт женского пола… Любовь есть струна, которая боле других звучит под рукою Ламартина, и любовь точно такая, какую женщины любят, по крайней мере, в стихах» ( ЛГ ).У нас им также подражают . – Осведомленность Натальи Павловны в этом вопросе объясняется, видимо, прилежным чтением «Московского телеграфа», в № 6 которого (за 1825 г.) было напечатано стихотворение «К Эльвире» с подзаголовком «из Ламартина», а в № 8 (с таким же поlзаголовком) – «Озеро». Автор обеих публикаций – известный в 1820-х гг. поэт Александр Абрамович Волков. Влияние Ламартина чувствовалось и во многих других поэтических публикациях журнала. Достаточно сказать, что уже первый номер журнала поместил «Элегию» Ф. Алексеева, а стихотворения в других номерах (за редким исключением, куда входят, кстати, стихи Вяземского и самого Александра Сергеевича) воспроизводят одно и то же – разумеется, элегическое – настроение.
– Нет? Право? – Поскольку право в устной народной речи должно означать «уверение в истинности чего-либо» (Даль, III, 377), то восклицание графа можно трактовать как: может ли это быть или неужели это так и есть? В литературе XVIII–XIX века выражение «право» чаще всего встречается в баснях и сатирической поэзии, подражающей устной речи. Вот И.И. Дмитриев в сатирических стихах «Чужой толк» пишет:
«Какие же они, сказать вам не могу,
А только объявлю – и, право, не солгу» (1794).
Он же, в «Модной жене»:
– «"Ты шутишь?"
– "Право, нет; да дай ты мне взглянуть"». (1791).
Вот Денис Давыдов («Сон»):
«– Ай! дай мне отдохнуть, ты ничего не знаешь!
Я, право, вне себя, я чуть с ума не сшел:
Я нонче Петербург совсем другим нашел!» (1803).
А вот хрестоматийная Лиса в басне И.А. Крылова «Ворона и лисица»:
«Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так, право, сказки!» (1807)
Все эти примеры (и множество других) свидетельства общей традиции: использовать оборот «право» там, где требуется добавить убедительности устной речи персонажа, усилить ее эмоциональную окраску. Также и здесь, в поэме Пушкина: оборотом «право» автор подчеркивает удивление Нулина или же (что не одно и то же) – Нулин хочет подчеркнуть свое удивление, льстя самолюбию Натальи Павловны в духе крыловской Лисы.
…так у нас умы Уж развиваться начинают. – Эта фраза графа звучит двусмысленно, поскольку значение слова развиваться – «расти», «усиливаться» – которое он имел в виду, производно и вторично. А изначальный смысл этого слова – расплетаться, распускаться и даже – по отношению к частям человеческого тела – болеть. Распущенность же нравов молодежи под влиянием французских мод – общее место в литературе первой трети XIX в. Для сравнения приведем фрагмент из «Послания к приятелю» И. Долгорукого, написанного в 1823 г. (но опубликованного в «Дамском журнале» только в 1829 г.):
«Теперь какой-то дух возник по новой моде:
На счет своих племен чужие выхвалять,
Возделывать сердца по Лондонской методе
И разум на манер Французский просвещать».
Здесь «возделывание» и «просвещение» сродни «развитию» у Нулина. Но если И. Дологрукий привносит ироническую интонацию осмысленно, то Нулин у Пушкина, говорит искренне, но выходит у него двусмыслица.
«Как тальи носят?» – Очень низко, – по словарю Даля, талия – «пояс, перехват, стан» ( Даль , IV, 389). Наталья Павловна в середине разговора, как бы между прочим, задает самый важный для нее вопрос. Дело в том, что именно в середине 1820-х годов в женской моде происходили очень существенные сдвиги, вполне сравнимые с революцией и контрреволюцией в политике. Мода начала века ориентировалась на эстетические каноны Древнего Рима (так, как их стали понимать в революционной Франции 1790-х годов). «Простота» античного силуэта заставляла отказаться от корсета, выбирать легкие, воздушные ткани и отдавать предпочтение светлым тонам. Платье перехватывалось под грудью и свободными складками свисало до туфель, тем самым подчеркивая естественность и непринужденность движений.
В эпоху Реставрации (после 1815 г.) вкусы стали смещаться в сторону французской моды первой половины – середины XVIII столетия и статичной пышности двора последних Бурбонов. Резко меняя силуэт, в моду вошла «рюмочка», при которой талия очень сильно перетягивается, а совсем было забытый корсет вновь жестко стягивает фигуру. Плечи становились покатыми, а талия сдвигалась все ниже – к бедрам или вот по этих пор, как находчиво выразился граф. В 1825 году от прежней моды сохранялся лишь спенсер – короткая курточка с длинными рукавами, надеваемая в холодную погоду. В платье же все отчетливее проводилось деление на блузу и юбку, колоколом расширявшуюся книзу.
Однако помимо любопытства Натальи Павловны в этом диалоге проскальзывают элементы литературной игры, некий намек, понятный только посвященным. Дело в том, что Талия – имя музы комедии, и в 1824 году Ф.В. Булгарин выпустил альманах «Русская Талия. Подарок любителям и любительницам Отечественного театра на 1825 год». В нем были опубликованы статьи о театре Н.И. Греча, А.А. Шаховского и самого Ф.В. Булгарина, фрагменты новых переводов пьес Мольера, Вольтера, Лебрена, Ретру, Жуи, а также отрывки из пьес А.А. Шаховского («Керим Гирей, или Бахчисарайский фонтан», «Фин», «Тетушка», «Ворожея, или танцы духов»), М. Н. Загоскина («Благородный театр»), П.А. Катенина («Андромаха»), А. С. Грибоедова (фрагменты комедии «Горе от ума»), С. И. Висковатова («Владимир Мономах»). Не все авторы этого альманаха были близки литературным вкусам А. С. Пушкина. И ответ Нулина – очень низко – на невинный вопрос Натальи Павловны, мог иметь еще одно значение, понятное только посвященным, или служить своеобразной «дразнилкой» для литераторов круга Ф.Б. Булгарина.
В доказательство того, что сопоставление талии и «Талии» нами не выдумано, приведем отрывок из письма Пушкина к брату Льву, написанного в первой половине ноября 1824 года: « Если гг. издатели не захотят удостоить меня присылкою своих альманаков, то скажи Слёнину, чтоб он мне их препроводил, в том числе и «Талию» Булгарина. Кстати о талиях: на днях я мерялся поясом с Евпраксией, и тальи наши нашлись одинаковы » (X – 107).Почти до…вот по этих пор – смущение графа и переход с речи на жест обозначено сменой предлога, соотносимого с границей, пределом. Дело в том, что предлог до выражает достижение какого-то предела и, значит, косвенно указывает на то место фигуры, которое в светской беседе граф называть не мог. В 1825 году талия в женском костюме было опущена до предела – до бедер, как сказали бы сейчас. Предлог же по соотносится со стандартом, размером, образцом ( Даль , III, 133 и I, 441). Он одновременно и более нейтрален, и более соотносим с фасоном платья. К тому же он имеет значение «вдоль», а значит, соответствует жесту графа, отмечающего линию талии.
Позвольте видеть ваш убор ; – убор, по Далю: «все, что идет на украшение, наряд, праздничное платье» ( Даль , IV, 458). В этом значении слово «убор» появляется, например, в стихах Г.Р. Державина «Любушке»:
«Не хочу я быть Протеем,
Чтобы оборотнем стать;
Невидимкой или змеем
В терем к девушкам летать;
Но желал бы я тихонько,
Без огласки от людей,
Зеркалом в уборной только
Быть у Любушки моей:
Чтоб она с умильным взором
Обращалася ко мне,
Станом, поступью, убором
Любовалася во мне» (1802).
А совсем близко ко времени написания «Графа Нулина» «убор» мы встречаем в «Отрывке из Гете», А.С. Грибоедова:
«Красавицы под бременем уборов
Тишком желают расточать
Обман улыбки, негу взоров» (1824).
…рюши… – от фр. ruche – тюлевая складка на платье. Рюши нашивались на платье в виде ленты, простроченной посередине. По моде 1825 г. это выглядело так: «В деревне парижские дамы носят фартук шелковый серого или фиолетового цвета, обложенный разрезным рюшем, с двумя карманами, так же убранными. Этот фартук застегивают на спине золотою застежкою» ( МТ1825 , XIX, 363).
…банты… – одна из главных деталей женского туалета 1820-х годов. Банты украшали шляпы, платья и пояса: «Новейший убор платьев из (…) тисненой кисеи или персидской кисеи, называется шалотою: между большими матерчатыми бантами, расположенными фестонами, находятся длинные разводы» ( МТ1825, X, 171).
…здесь узор – в данном случае – вышивка, без которой в то время не обходилось ни одно платье. В торжественных случаях дамы надевали платье с вышитым растительным орнаментом по всей длине юбки. В деревне же «модные дамы» носили «блузы из индийской кисеи, у которых развалистые рукава богато вышиты, а низ украшен витками и кружевами» ( МТ1825 , X, 294). Таким образом, здесь – это на рукавах и внизу платья.
«Мы получаем Телеграф» – журнал «Московский телеграф» начал выходить именно с 1825 года. Его издателю Н.А. Полевому удалось привлечь внимание большого числа читателей за счет сбалансированной подачи литературных, критических, научно-популярных материалов и самых последних новостей, в том числе и из мира моды. Каждый номер журнала делился на две части. В первой помещались научно-популярные и критические статьи, проза и поэзия. Вторая часть содержала два раздела: Прибавление и Смесь. Здесь сообщались светские новости и разные любопытные сведения, печатались выдержки из парижских модных журналов – на французском и русском языках. Завершали каждый номер одна-две «модные картинки». В нашем комментарии сведениям из Прибавления к каждому номеру «Московского телеграфа» отдается предпочтения перед другими возможными источниками, именно потому, что ссыльный Пушкин сам узнавал новости моды из этого журнала. В этой связи отметим, что внимательный читатель «Московского телеграфа» мог знать абсолютно все, что граф Нулин рассказывал о Париже. Оценку же «Телеграфа» самим Александром Сергеевичем мы узнаем из его письма П.А. Вяземскому, датируемого началом июля 1825 г. В ответ на предложение стать не просто автором, но сотрудником этого журнала, Пушкин пишет: «… не соглашусь из благородной гордости, т. е. амбиции: "Телеграф" человек порядочный и честный, но враль и невежда; а вранье и невежество журнала делится между его издателями; в часть эту входить не намерен » (Х – 151).
– Ага!.. – это графское «ага!» будет понятно, если знать, что «Московский телеграф» издается к моменту разговора только девятый месяц, а граф, проведя много времени за границей и, не интересуясь российскими событиями, не знает, какой телеграф имеет в виду его собеседница. Поэтому он и произносит свое глубокомысленное «ага» и тут же, чтобы не попасть впросак, переводит разговор на другую тему. А если бы он этого не сделал, то могло бы получиться так, как в одной из многочисленных эпиграмм на «Московский телеграф», ходивших по рукам в 1825 г.:
«– Ты видел «Телеграф?»
– Во Франции видал.
– Читал ли? – Нет, А что ж тому причина?
– Как что? – Ведь «Телеграф» – журнал!
– Пустое! Телеграф – машина» ( Полевой, 185).
…хотите ли послушать Прелестный водевиль? – первый намек на то, что дендизм графа не был вполне настоящим, прозвучал в его неумеренных похвалах Потье – актеру водевильных театров. Здесь же он «раскрылся» полностью, поскольку любовь к водевилю несовместима с истинным дендизмом. С этого момента граф думает, чувствует и поступает как персонаж водевильной пьесы: «с наивной верой в значимость пустяковых и маловероятных событий» (ИЗТ, 304). Не случайно для характеристики поэмы «Граф Нулин» очень многие авторы используют «водевильную» терминологию: «бытовой анекдот» (Гуковский, 74); «веселая шутка, своего рода игра» (Благой1977, 228); «почти водевиль» (Бонди, 130). По крайней мере, один из героев поэмы не только поступает, но и чувствует себя героем водевиля. Нулину, с его пристрастием к бульварным театрам, это гораздо легче, чем до конца выдерживать в своем поведении линию денди.
– И граф Поет… – в описываемое время пение любительское и пение профессиональное сильно различались по манере исполнения. Все тот же «Московский телеграф» давал точные указания, как должен вести себя исполнитель: «Если певец или певица, по ремеслу, поет и играет, им можно сделать иногда какое-нибудь выразительное телодвижение; напротив, девушка или мужчина, не ремесленники, должны быть недвижимы: руки певицы на фортепьяно, руки певца опущены, какое бы страстное выражение не встретилось бы им в нотах» ( МТ1825 , V, 88). Соответственно и граф при исполнении арий из водевиля не мог себе позволить ни одного жеста.
…«Да, граф, извольте ж кушать». – Я сыт и так… – в издании 1827 (1828) г., когда поэма «Граф Нулин» впервые вышла отдельной книгой (вместе с поэмой Е.А. Баратынского «Бал»), именно граф произносит фразу: «Я сыт и так». Перед глазами читателя возникает реальная бытовая картинка: хозяйка, поддаваясь порыву деревенского гостеприимства, огорчается, что гость ничего не ест. Граф же, не в силах одолеть и десятой части того, чем обычно потчуют гостя, деликатно пытается увильнуть от «обязанности» все съесть и одновременно делает Наталье Павловне комплимент не как хозяйке, а как красивой женщине (именно так, кстати, читает эти строки великолепный Сергей Юрский). У читателя невольно возникали реминисценции на строки из байроновского «Дон Жуана»:
«…юноши, чье время не пришло
Любить еду, держались романтично:
Они обилью лучших вин и блюд
Прелестную соседку предпочтут».
В более поздних изданиях (в том числе в том, на которое мы в данной работе ссылаемся) ответ графа обрубается точкой после слов «Я сыт», а далее следуют слова рассказчика. Такое прочтение опирается на самое первое издание поэмы – в альманахе «Северные цветы» на 1828 г. Но при этом сразу теряются полутона разговора, и вместо романтически и «байронически» настроенного юноши возникает образ сытно наевшегося гостя. Возможно, поэтому, публикуя поэму в книге, Пушкин изменил звучание данной строчки.
Из-за стола Встают. – представление о том, каким мог быть обеденный стол в деревенской усадьбе, дают воспоминания гр. Бутурлина: «Складной в три отделения стол… был топорной работы, и на черном его фоне расписаны были масляными красками сгруппированные не без вкуса плоды и букеты; но все это почернело и стерлось от действия времени» ( Соколова , 96–99). Если в доме Натальи Павловны стол старинный – XVIII века – то он, скорее всего, изготовлен крепостным мастером из дуба, бука или простой сосны и покрашен «под лак», как правило, в два цвета: белый с зеленым, белый с голубым или черно-зеленый. С начала XIX века в моду вошла легкая мебель из карельской березы или тополя, тонированная лаком и инкрустированная другими породами дерева ( Попова, 11; Убранство , 50–51).
Дивиться, как она мила – одно лишь слово – мила – отображает целую гамму чувств графа. Хозяйка к нему «любезна», она «приятна на вид», грациозна» и «обаятельна в обращении» ( Даль , II, 325). В поэтической речи той эпохи «мила» – приятна внешним видом и обращением (поведением). Наверное лучше всех это выражено в стихах «В альбом Т. С. К.» К.Ф. Рылеева:
«Моей Матильды несравненной
Я не забуду никогда.
Она, как вы, была прекрасна,
Она, как вы, была мила,
И так же для сердец опасна
И точно так же весела». (1824 или 1825)
Сравним: у Д. Давыдова, в «Договорах»:
«Ты резвостью мила; но вздох, но томный взор,
Но что задумчивость твоя мне обещают?
Сказать ли все тебе? Уж в свете примечают,
Что ты не так резва, беспечна и меня
Безмолвно слушаешь. Вчера рука твоя
Моей не покидала». (1807).
У Екатерины Растопчиной в «Цыганке Тане»:
Но вот гремящий хор внезапно умолкает…
И Таня томная одна теперь слышна.
Ее песнь грустная до сердца проникает,
И страстную тоску в нем шевелит она.
Бледна, задумчива, страдальчески-прекрасна,
Она измучена сердечною грозой,
На ней видна печаль любови нежной, страстной,
И все черты ее искажены тоской.
О! как она мила! Как чудным выраженьем
Волнует, трогает и нравится она!» (1831).
Заметим, при этом, что часто, где героиня «мила», там и она «томна». Или «томит» героя. Вот и у Г.Р. Державина в его «Мщении»:
«С тех пор Хлою дорогую
Поцелую лишь когда,
Сласть и боль я в сердце злую
Ощущаю завсегда.
Хлоя жаля услаждает,
Как пчелиная стрела:
Мед и яд в меня вливает,
И, томя меня, мила».
Так что, Нулин, отмечая, про себя, что хозяйка «мила» уже почти готов «томиться». А может быть, наоборот, он готов повторить, вслед за Языковым (в его послании «К П.Н. Шепелеву»):
«…она
Мила, как ангел, но едва ли
Так непритворна и скромна».
Давно храпит слуга в передней – то есть в первой отапливаемой комнате в барской усадьбе. Отделанная так же, как и другие «барские» комнаты, но скупо обставленная, передняя служила для общения хозяев усадьбы с тем, кто был ниже их по чину и достоинству. До передней допускались староста, писарь и приказчик, в этой комнате не занятые в данный момент работой слуги дожидались приказания своих господ. Слуга в передней – один из «Филек и Васек», оставленный на случай, если господам что-либо понадобится. Храпит он, скорее всего, сидя на стуле или расположившись на сундуке. Другой мебели в передней не было.
В чугунну доску сторож бьет – имеется в виду «било» – кусок «звонкого» металла (чугуна или бронзы), свободно подвешенный у заднего крыльца или на заднем (хозяйственном) дворе. Обходя двор через равные промежутки времени, сторож должен ударить в било, обозначая свое присутствие, что, по общему мнению, должно отпугивать возможных воров.
В гостиной свечки догорели – можно предположить, что зала и столовая в доме Натальи Павловны были совмещены. Гостиная – комната, непосредственно примыкающая к зале, служащая, как это следует из названия, для приема гостей и вечернего времяпровождения. «Вечер, – опишет современный исследователь, – это самое насыщенное общением время гостиной, ее душа» ( Логвинская; 77). В соответствии с обычаями того времени пол в гостиной был покрыт ковром, а мебель: диваны, кресла, столы и столики, окруженные стульями, расставляли вдоль стен. В углах гостиной и между окнами размещали мраморные бюсты, фарфор, подставки для цветов, трюмо и зеркала. Именно сюда – в гостиную, – встав из-за стола, перешли Наталья Павловна и ее гость, здесь они провели все время до поздней ночи.
«…Приятный сон!..» – Вольно или нет, но пожелание приятный сон (вместо: «приятного сна»), вызывало в памяти читателя воспоминание о сказке А.И. Клушина «А муж? – Он спит, приятный сон!» (1793). В этой небольшой поэме молодая супруга, усыпив старого мужа «сонатой Поейеля», тут же, за фортепьяно наставила ему рога с молодым любовником. Отсылая читателя к этой хорошо известной поэме, автор исподволь готовит его к привычной развязке сюжета, в котором участвуют старый муж, молодая жена и ее друг: Миловзор из сказки Дмитриева «Модная жена» или Всемил из сказки Клушина. Творчество этого последнего автора было хорошо знакомо Пушкину. Так, в 1824 г. он набросал несколько строк, не публиковавшихся при жизни:
«Лизе страшно полюбить.
Полно, нет ли тут обмана?
Берегитесь – может быть,
Это новая Диана
Притаила нежну страсть —
И стыдливыми глазами
Ищет робко между нами
Кто бы ей помог упасть» . (II – 239)
Первая строка этого стихотворения – переделанная строчка из сказки Клушина «Несчастье от лорнета»:
«Чего же Лизинька хотела?
Хотела Лиза полюбить;
С другим собою разделиться,
В объятье нежно устремиться,
Со вздохом целый мир забыть» (1792)
…С досадой встав – граф, наконец, нарушил последнее правило дендизма: «Оставайтесь в свете, пока вы не произвели впечатления, лишь только оно достигнуто, удалитесь» ( Дендизм ; 56). Нулин же довел дело до настойчивой просьбы хозяйки о расставании, и даже более того – показал, что он раздосадован.
…нежный граф – нежный здесь – чувствительный, восприимчивый.
Куда кокетство не ведет? – Кокетство – осознанное или бессознательное поведение, преследующее одну цель – понравиться кому-либо. Термин возник во Франции из обозначения амплуа актрисы классицистического театра coquette – красивой молодой женщины. И коль так, то в нашем случае уместно обратиться к афоризмам французских моралистов XVII в., выражавших (а отчасти и формировавших) отношение светского общества к тем или иным качествам человека или его поступкам.
Прежде всего, отметим, что кокетство это элемент светского поведения. «Женщина, у которой один любовник, считает, что она совсем не кокетка; женщина у которой несколько любовников – что она всего лишь кокетка. Женщина, которая столь сильно любит одного мужчину, что перестает кокетничать со всеми остальными, слывет в свете сумасбродной, сделавшей дурной выбор» ( Лабрюйер ; 66). Уже из этого высказывания видно, что кокетство как мотив светского поведения противопоставляется любви – чувству истинному и глубокому. Еще более категоричен Ларошфуко: «Величайшее чудо любви в том, что она излечивает от кокетства» ( Ларошфуко ; 169).
Таким образом, кокетство Натальи Павловны, с одной стороны, отчетливый элемент светских отношений, установившихся между ней и графом, а с другой – знак, трактуемый Нулиным неправильно. «Женщинам, – отмечает Ларошфуко, – легче преодолеть свою страсть, нежели кокетство» ( Ларошфуко; 176). И умудренный опытом сердцеед на месте графа Нулина сразу бы понял, что ни страсти, ни, тем более, любви нет там, где есть кокетство – черта, присущая всем женщинам и проявляющаяся почти во всех ситуациях. Тот же Ларошфуко глубокомысленно добавлял: «Кокетство – это свойство всех женщин, только не все пускают его в ход, ибо у некоторых оно сдерживается боязнью или рассудком» ( Ларошфуко ; 177).
Но представим себе положение Натальи Павловны, встречающей в ее «глуши» молодого человека, легко принимающего «светский тон» в общении. Сама ситуация заставляет ее стать немного кокеткой. Как, вздыхая, отмечал Лабрюйер: «У молодых женщин подчас невольно вырываются слова и жесты, которые глубоко трогают того, к кому они относятся, и бесконечно ему льстят» ( Лабрюйер ; 66).
Примером того, что слово кокетство в России воспринималось с полной адекватностью французскому оригиналу, может служить фрагмент из «Мыслей, характеров и портретов», помещенных в «Дамском журнале» в год выхода поэмы «Граф Нулин» отдельным изданием:
...«Чего не простишь женщине!.. Вечное жеманство, похожее на карикатуру ребячества; всегдашняя насмешливость, даже без всякого предмета; важничанье по расчету, кокетство без расчета; ум без чувствительности: вот верный портрет Юлии! Но портретисты готовы не сводить с нее взора: прекрасные формы мирят ее с ними… Чего не простишь женщине прелестной!» ( ДЖ1828 ; 19, 29–30).
Проказница – прости ей, Боже! – поскольку проказой называли и вредные шутки – дурачества, и просто «забавы и потехи» (Даль; III, 487), то, в зависимости от тона рассказчика, поступок Натальи Павловны в этой сцене может предстать и как злая шутка, и как почти невинная забава. Но в любом случае определение проказница придает ее поступку налет недозволенности и даже греха.
Тихонько графу руку жмет. – Это первое из замеченных совпадений «Графа Нулина» и «Лукреции» Шекспира: «Лукреция…прощаясь с Тарквинием, подает ему руку, а потом он, вспоминая это пожатие, толкует его как знак» ( Левин ; 77). Тем самым эта часть завершает развернутую экспозицию и открывает собственно действие в поэме. Правда, сознательно культивируемая автором «болтливость» рассказчика приводит к тому, что и теперь действие «анекдота» будет разворачиваться не сразу, а лишь через три части после кокетливого рукопожатия.
Глава 12 (Граф Нулин)(текст)
Наталья Павловна раздета;
Стоит Параша перед ней.
Друзья мои! Параша эта
Наперсница ее затей:
Шьет, моет, вести переносит,
Изношенных капотов просит,
Порою с барином шалит,
Порой на барина кричит,
И лжет пред барыней отважно.
Теперь она толкует важно
О графе, о делах его,
Не пропускает ничего —
Бог весть, разведать как успела.
Но госпожа ей наконец
Сказала: «Полно, надоела!»
Спросила кофту и чепец,
Легла и выйти вон велела.
(комментарий)
В этой части появляется новый персонаж – крепостная девушка и доверенное лицо хозяйки Параша. Ее положение в барском доме определяется, в первую очередь, тем, что она «приданая» девушка, то есть личная собственность самой Натальи Павловны, а не ее мужа. В дворянских семьях, как правило, каждой «девице на выданье» выделяли горничную-камеристку из крепостных «сенных девушек». Наталья Павловна, скорее всего, получила Парашу сразу после выхода из пансиона, как это было с А.О. Смирновой-Россет – той «купили на рынке девку за семь рублей» ( Смирнова-Россет; 28–29). В случае замужества горничная становилась частью приданого и переходила в дом молодой госпожи.
Очень характерна в этом отношении сцена из романа А. И. Герцена «Кто виноват?», в которой отставной генерал и крупный помещик выдает замуж свою незаконную дочь (дело происходит в середине 1830-х годов):
...«…Алексей Абрамович велел позвать Николашку и Палашку – молодого чахоточного малого лет двадцати пяти и молодую девку, очень рябую. Когда они вошли, Алексей Абрамович принял важный и даже грозный вид: "Кланяйтесь в ноги! – сказал генерал. – И поцелуйте ручку у Любови Александровны и у Дмитрия Яковлевича… Это ваши новые господа… служите им хорошо и вам будет хорошо… Ну а вы их жалуйте да будьте к ним милостивы, если хорошо себя поведут, а зашалят, пришлите их ко мне; у меня такая гимназия для баловней, возвращу шелковыми"».
Совместный переход под крышу нового дома молодой хозяйки и ее столь же молодой горничной создавал условия для возникновения своеобразной «дружбы» между ними (при всем понимании разницы в общественном положении и безусловном сохранении определенной дистанции). Слово наперсница прекрасно выражает суть этих взаимоотношений: перси – грудь, наперсник – тот, кого часто прижимают к груди. Это поверенный и в тайнах, и доверительный собеседник, и просто близкий человек. Наперсник – лицо сочувствующее и помогающее. Он не обладает самостоятельной волей и всегда является младшим (или низшим по положению) партнером в дружбе.
Если брак был несчастливым, взаимное притяжение барыни и служанки становилось сильнее, и для барина они составляли как бы одно целое. Так, майор Матвей Никитич Толстой у себя в деревне «сек жену нагую кнутьями, сделал насилие приданой ее девке» ( Похождения… ; 460); а полковник Фрейтаг однажды, когда его жена заступилась за горничную, выпорол ее «на той самой девушке, которую она собой заслонила» ( Жемчужников; 90).
Но, похоже, Параше удалось сгладить все противоречия, сделавшись необходимой не только госпоже, но и господину. Тема любовных похождений барина затронута в поэме лишь намеком, и мы ее здесь касаться не будем. Важно другое: судя по описанию, Параша сумела стать центральной фигурой в доме и, значит, могла позволить себе многое из того, о чем обычная горничная не осмеливалась бы и думать. Один из мемуаристов XIX века описал няньку и ключницу Дарью: «Она мыла, штопала, выдавала провизию, спорила, ругалась, а иногда и дралась» ( Всемирный… ; 286). Параша явно находится в начале этого пути, но движется по нему смело и уверенно.
В той ситуации, которая сложилась в доме Натальи Павловны, можно предположить и такое развитие событий, при котором Параша станет диктовать господам свою волю. Подобного рода история, получившая широкую огласку в Москве, содержится в дневнике С.П. Жихарева за 1805 г.: горничная Софьи Ивановны Благово, вышедшей замуж за помещика Зубарева, сохранила у себя часть посланий из переписки своей госпожи с ее любовником. Шантажируя барыню и ее тайного друга возможностью огласки, она получила от них свободу, деньги на выкуп из крепостного состояния своего жениха, на покупку трактира и оплату многочисленных долгов. Итог этой истории печален: когда денег и драгоценностей на удовлетворение запросов бывшей горничной не осталось, шантажистка показала письма мужу.
Форма же имени Прасковья – Параша – отсылает читателя к литературной традиции «народных» женских имен и, в первую очередь к песне И.И. Дмитриева: «Пой, скачи, кружи, Параша! / Руки в боки подпирай» (1795), а также к его же басне «Кокетка и пчела» (1795), в которой испугавшаяся пчелы барыня звала на помощь дворовых девушек Парашу и Дунюшку. А в комедии А.А. Шаховского «Своя семья, или замужняя невеста» (1817) высмеивается новая тенденция – «перекрещивания» из народных имен во французские:
«Та ж мода и в Москве, я там зимой была,
У мужниной родни, – с ума было сошла!
Трех дочек, уж невест, нашла я у золовки.
Большие модницы и страшные мотовки;
Да это б не беда, кто молод не бывал?
Ну пусть бы ездили хоть всякий день на бал
И, сколько их душе угодно, веселились,
Ан нет, совсем не то, они перекрестились
В такие имена, что в святцах нет у нас.
Перетой, помнится, Параша назвалась,
Фаншетой Фенюшка; а старшую, Бог с нею,
Так назвали, что я и вымолвить не смею».
Наталья Павловна раздета; – надо ли напоминать, что в рассматриваемую эпоху раздета не значит «голая», а лишь – не одета для какого-то конкретного случая. Только что Наталья Павловна была одета к обеду, а будет одета ко сну – когда оденет кофту и чепец. Пока же она стоит в рубашке и значит – раздета.
…вести переносит, – в XIX веке слово переносить имело совершенно определенное значение, придававшее характеристике Параши как наперсницы несколько двусмысленный оттенок. По словарю Даля переносчик – это «наушник, наушница, кто тайно переносит, передает вести, наговоры; лазутчик, сплетник, пересказчик, наговорщик, смутник, клеветник» ( Даль ; III, 71). Параша тут же оправдывает эту характеристику:
«Теперь она толкует важно
О графе, о делах его,
Не пропускает ничего…»
Изношенных капотов просит, – в это время словом капот называли: женскую шляпку, «верхнее» платье (для выхода на улицу) и домашнее обыденное платье. В поэме имеется в виду последнее – удобное, широкое, напоминающее халат платье, вошедшее в обиход во второй половине XVIII века и неизменно остававшееся главным элементом домашнего гардероба российских помещиц. Зимой носили капоты «на вате», летом – более легкие, чаще всего сшитые дома. Характерен в этом отношении вид, в котором предстала перед своими гостями княгиня Дашкова, в прошлом ближайшая подруга Екатерины II и президент Российской академии: «Одежду ее составляет что-то вроде темного халата, на голове она носит мужской колпак» ( Письма сестер ; 225). Чаще всего капот носили вместе с платком на плечах. То, что Параше дозволялось донашивать «господскую» одежду, лишний раз подчеркивает ее особое положение в доме.
Бог весть, разведать как успела – эта строка очень характерна для всей поэмы. Д.Д. Благой назвал этот прием «апелляцией к воображению» читателей ( Благой1977 ; 228). «Догадливый» читатель как бы «программируется» на реакцию типа: «Уж мыто с вами знаем, как и от кого она успела все разведать». Вся эта часть поэмы перенасыщена такого рода намеками: наперсница ее затей; вести переносит; с барином шалит; лжет… отважно и т. д. Текст поэмы предполагает как минимум три вида читателей:
– «догадливый читатель», хорошо знакомый с реалиями времени и без труда расшифровывающий все намеки, дописывающий оборванные сцены и досказывающий не высказанное;
– «светский человек», знакомый с последними веяниями моды, тонко чувствующий нюансы обстановки, беседы и светского поведения, легко отличающий денди от щеголя и повесы;
– «свой брат литератор», не понаслышке знакомый с европейским литературным процессом и художественной ситуацией в России, в частности, с полемикой, которая развернулась в 1825 году вокруг произведений Шекспира в связи с выходом «Русской Талии» и комедии В. Кюхельбекекра «Шекспировы духи» ( Эйхенбаум ).
Автор постоянно обращается именно к «догадливому читателю», при этом время от времени вставляет в текст намеки, понятные только «светскому человеку». А «свой брат литератор» получает дополнительное удовольствие, без труда замечая в невиннейшей строке «укол шпаги» или «щелчок по носу» кому-либо из знакомцев.
Само выражение «бог весть», в значении «не знаю как», как бы снимает ответственность с рассказчика: догадывайтесь сами, я здесь не причем. В этом смысле характерно использование этого выражения в «Главе из путешествия в стихах» П.А. Вяземского «Станция» 1825 г. (выше мы уже обращали внимание, на то, что А.С. Пушкин посылал «привет» Вяземскому, поместив строку из этой главы к себе в поэму)«Как я ни рвался чувством жарким,
Как ни загадывал умом
Полюбоваться небом ярким
И мира светлой полосой,
Как я ни залетал мечтой
В мир божий из глуши далекой,
Где след мой темный, одинокой
Сугробом снежным занесен,
Как ни раскидывал сквозь сон,
Всегда обманчивый и краткий,
Своей кочующей палатки
Среди блестящих городов,
Среди базаров просвещенья, —
Но от латинских оных слов
Оглоблями воображенья
Я поворачивал домой
И жду: схвачу ли сон рукой?
О Польше речь была; но с речи
Бог весть зачем, бог весть куда
Сбиваюсь от горячей встречи
Нежданных мыслей. Господа!
Простите раз мне навсегда».
Спросила кофту и чепец, – спросить здесь употреблено в значении попросить, потребовать. В современной речи эта устаревшая форма сохранилась в конструкции: «спросить что-либо в магазине». Кофта – элемент домашнего наряда. Oна противостоит светским блузе и жакету. Пожилые помещицы носили кофты в сочетании с платком постоянно. Молодые – только в интимной, домашней обстановке, а в холодное время года надевали так, как Наталья Павловна – в постель. Дело в том, что спать ложились в хорошо натопленном помещении, а к утру печи остывали. Часам к четырем утра становилось довольно прохладно. Здесь и должны были выручить ночной колпак (чепец) и кофта, пока дворня (часов в 6–7 утра) вновь не растопит печи.
Легла и выйти вон велела – вон, в данном случае – в соседнее со спальней помещение, в девичью.
Глава 13 (Граф Нулин)(текст)
Своим французом между тем
И граф раздет уже совсем.
Ложиться он, сигару просит,
Monsieur Picard ему приносит
Графин, серебряный стакан,
Сигару, бронзовый светильник,
Щипцы с пружиною, будильник
И неразрезанный роман.
(комментарий)
В шести из восьми строк этой маленькой главки перечисляются предметы, окружающие молодого путешественника в пути. Не следует забывать, что в то время существовал особый стиль жизни – в дороге ( Лотман1995 ; 540–541). Простой пример: дворянское семейство Яньковых, отправляясь в гости к соседям, живущим за 220 верст, проводило в пути 5 дней ( Благово ; 49). В осеннюю распутицу время, проводимое в пути, удваивалось. Ночевать приходилось не только на постоялых дворах, но и в крестьянских избах, лишенных минимальных удобств, а порою и в специальных дорожных шатрах. Поэтому, собираясь в путь, брали с собой все самое необходимое.
Вопрос в том, что считать самым необходимым. Граф Бутурлин, к примеру, возил с собой буфет: «огромный, квадратный кованный сундук на колесах», в котором помещался серебряный сервиз, подаренный Екатериной II, вина «на льду» и ящик с «роговой музыкой» ( Бутурлин ; 291). Более скромный вариант дорожного снаряжения – специальный «погребец», в котором находились отделения для столовой и чайной посуды, чая, специй, сахара, водки и салфеток. Дополнял погребец дорожный складной самовар ( Селиванов ; 127).
Граф Нулин путешествует «налегке», тем не менее, все те предметы, что подал ему слуга на ночь, он везет с собой.
… сигару просит – граф едет из Франции и сигары везет с собой. А вот как Французский автор (правда, не середины 1920-х, а середины 1840-х гг.) описывал французские сигары:
...«Все сигары делаются таким образом: в цельный табачный лист ввертываются обломки (debris) табачных листов не столь хороших. Для верхней её обертки избирается прекрасный табачный лист, гладкий, лоснящийся, скрывающий от глаз самых опытных любителей листы или лучше отребье листов посредственного или даже дурного качества»… Французскими сигарами называются те сигары, которых концы не свернуты. Этим при знаком различаются сигары бордосские и марсельские от тех, которые продаются (…) под-общенародным названием капральских сигар по 5 сантимов. Они обыкновенно дурного качества ( Торжество ; 100–101).
Впрочем, продолжает автор, «для удовлетворения аристократии» во Францию ввозятся сигары из – за рубежа, в первую очередь гаванские сигары, которые «называются vuelta de abajo и достойны занимать первое место: они сделаны с удивительным искусством и старание прилагаемое при их выделке, снискало им всеобщую известность» ( Торжество ; 101). А еще один автор, писавший историю табака уже в 1860-х гг., отмечал, что если 250 французских сигар (произведенных из гаванского табака) стоят 50 франков, то такой же количество сигар, привезенных из Гаваны, могут стоить 125 франков ( Рагозин ).
Нам почему-то кажется, что сигара, которую потребовал себе граф Нулин, была настоящей «гаваной», изготовленной из табака, выращенного на плантациях региона Vuelta Abajo, что расположен на западе острова рядом с горами Кордельера де лос Органос, в так называемом «золотом треугольнике» табачных плантаций Кубы. А то, как он должен был курить тоже отмечено в уже цитированной выше книге: «Куритель аристократ, никогда не закуривает одной и той же сигары в другой раз; он никогда не приблизит к губам конца уже напитанного слюною» ( Торжество ; 103).
…серебряный стакан – такие стаканы производились и продавались как дорожная посуда. Именно их и хранили в дорожных погребцах. В обычной «домашней» жизни они не использовались.
…бронзовый светильник – подставка для свечи у графа сделана из бронзы – материала, только-только вошедшего в моду. Лишь за полгода до приезда графа в Россию «Московский телеграф» сообщал: «Просим внимания, в Париже есть чему поучиться, первое – бронзы: часы, канделябры, даже люстры, должны быть цвета зеленого или темно-зеленого и отнюдь не позолоченные» ( МТ1825 ; V, 86). Естественно, граф не мог везти с собой серебряный или позолоченный светильник. Ничего, кроме бронзы, он теперь не признавал.
Щипцы с пружиною… – возможны два объяснения, для чего графу понадобились щипцы. Первое (и более вероятное) представлено в книге Т. М. Соколовой и К. А. Орловой: поскольку граф собирается читать, ему нужны щипцы для того, чтобы снимать нагар со свечи ( Соколова; 161). Второе объяснение таково: граф, по парижской моде, носит короткую прическу, но волосы все же завивает (см. ниже упоминание стриженых кудрей). Новомодный способ завивки – на папильотках – Нулину не доступен. Следовательно, каждое утро ему приходилось совершать утомительную процедуру: нагревать щипцы и накручивать на них прядку за прядкой.
…будильник – купленный графом в Париже будильник, вероятнее всего бронзовый, изготовленный в «античном стиле» в мастерских Томира или Равио ( Соколова ; 150).
…неразрезанный роман . – По технологии того времени книги печатались большими листами (газетного формата), которые несколько раз перегибались и прошивались с левой (от читателя) стороны. Правая же сторона страниц не обрезалась, и каждые две страницы оказывались соединенными друг с другом. Читая такую книгу, нужно было отделять соединенные страницы – разрезать их. Для того, чтобы облегчить эту процедуру и сделать ее более приятной, выпускались специальные ножи из слоновой кости, рога, дерева или металлические. Обычно владельцы книги не разрезали страницы сразу, а делали это постепенно, по ходу чтения. Таким образом, неразрезанный роман означает – новый, непрочитанный.
Глава 14 (Граф Нулин)(текст)
В постеле лежа Вальтер-Скота
Глазами пробегает он.
Но граф душевно развлечен:
Неугомонная забота
Его тревожит; мыслит он:
«Неужто вправду я влюблен?
Что если можно?.. вот забавно;
Однако ж это было б славно;
Я кажется хозяйке мил» —
И Нулин свечку погасил
(комментарий)
Граф пытается заснуть и у него не получается. Почему? В следующей главке дается объяснение. Оно отчасти мистическое, отчасти ироническое. Но мы можем предположить и самую обычную, в тех обстоятельствах, причину. Поскольку в помещичьем доме была только одна комната, которую в полной мере можно было назвать спальней (да и она зачастую играла какую-нибудь «смежную» роль – будуара или малой гостиной), то для отдыха гостей могла быть приспособлена любая комната с печью. Кровать располагали за ширмами на значительном расстоянии от печи, натопленной так, чтобы тепла хватило часов до двух-трех ночи. Ночью же печь не топили, и часам к пяти утра она совершенно остывала. Перепад температур от вечернего жара к утреннему холоду заставлял стелить толстые пуховые перины (они легкие и долго держат тепло), а спать ложиться в ночной рубахе и колпаке.
Судя по первой строке следующей части: « Несносный жар его объемлет» , – прислуга перестаралась, и в комнате графа очень жарко и душно, что мешало ему заснуть. С другой стороны, слово жар (то есть огонь) должно наводить на мысль об инфернальной, потусторонней причине мучений графа. В последующем описании его поступков мысль эта находит полное подтверждение.
В.В. Набоков писал, что вся эта главка попала в поэму из черновиков к третьей главе «Евгения Онегина» ( Набоков ; 294). В черновиках Пушкина строфа V этой главы читается так:
В постеле лежа, наш Евгений
Глазами Байрона читал,
Но дань вчерашних размышлений
В уме Татьяне посвящал.
Проснулся он денницы ране
И мысль была все о Татьяне.
«Вот новое, – подумал он, —
Неужто я в нее влюблен?
Ей-богу, это было б славно,
Себя уж то-то б одолжил;
Посмотрим». (…) (V – 522)
А Р.Лейбов, по этому поводу отметил, что «в "Графе Нулине" эти уже стихи подвергаются радикальному и демонстративному (для автора и его исследователей) инверсированию: герой размышляет не с утра, а перед сном, он читает не Байрона, а В. Скотта, ирония Евгения, адресованная им себе (Ей богу это было б славно) теперь обращена повествователем на героя…» ( Лейбов2010 , 167).
… Вальтер-Скота Глазами пробегает он.
«Неужто вправду я влюблен?» – если граф читает самый последний на тот момент роман Вальтера Скотта «Талисман», то в самом начале своей «неразрезанной» книги он может наткнуться на фрагмент, отвечающий его состоянию и даже отчасти воспроизводящий ситуацию, в которую он попал: встреча – поданный знак – возникшее чувство.
Встреча – герой романа, странствующий в Палестине рыцарь Кеннет, совершенно неожиданно встречает девушку, в которую когда-то был безнадежно влюблен.
Знак – «Проходя по часовне… где преклонил колена Кеннет, одна из девушек в белом одеянии… оторвала бутон розы из своей гирлянды и, может быть нечаянно, уронила к его ногам. Рыцарь вздрогнул, как будто пронзенный стрелой…»
Чувство – «…сердце Кеннета забилось, как пойманная птица, рвущаяся из клетки… его охватила дрожь, пробежав от груди до кончиков пальцев» (Скотт; 65).
Правда, в водевильном сознании графа цепочка «встреча – знак – чувство» немедленно дополняется еще одним звеном – действие: «Что, если можно?.. вот забавно…» Таким образом, роман Вальтера Скотта, переплетаясь с другими ассоциациями (о которых – чуть ниже) невольно провоцировал графа на любовное приключение.…душевно развлечен – см. комментарий к главе 6.
Неугомонная забота… – забота – беспокойство, но и усердие, хлопоты, «беспокойное попечение» ( Даль ; I, 554). Это слово явно продолжает ряд: занялась, развлеклась (применительно к Наталье Павловне) и развлечен (применительно к графу). Тем самым отмечается принадлежность обоих персонажей, так хорошо понимавших друг друга за обедом, к одному кругу людей, занятых столь «серьезными» делами. У читателя пушкинской поры волей-неволей напрашивалось сравнение героев «Графа Нулина» и знаменитого романа Шодерло де Лакло «Опасные связи». Задуманный как сатира на светское общество предреволюционной поры (а книга де Лакло вышла первым изданием в 1782 году – за семь лет до Великой французской революции), роман этот шокировал читателей своей откровенностью и эротизмом. Главные персонажи романа живут исключительно «любовной игрой» и только к ней относятся всерьез, все остальное считая пустяками.
Неужто вправду я влюблен? – Здесь прослеживается любопытная параллель с незаконченной и не публиковавшейся при жизни Д.В. Давыдова «Элегией» 1818 г.:
«Два раза я вам руку жал;
Два раза молча вы любовию вздохнули…
И девственный огонь ланиты пробежал,
И в пламенной слезе ресницы потонули!
Неужто я любим?..»
Сюжетно-лексические совпадения здесь отчасти случайны, отчасти вызваны общим элегическим настроением, в котором пребывают и граф Нулин и романтический лирический герой Дениса Давыдова.
Что, если можно?.. вот забавно ; – забава, по Далю – «приятное упражнение, занятие скуки ради, увеселение, потеха» ( Даль ; I, 549); но в то же время нечто «странное» и «чудное». Соответственно забавно все то, что делается не всерьез, от нечего делать. Граф, таким образом, оценивает и оправдывает странную мысль, внезапно пришедшую ему в голову. С другой стороны, эту фразу можно расценить как шутливое «подмигивание» А. А. Дельвигу, у которого, если доверять свидетельству А. П. Керн, словечко «забавно» было своеобразной присказкой ( Керн ; 331). Это замечание отчасти подтверждается надписью Дельвига в альбом Б.П. Щербининой:
«Как в день рождения (хоть это вам забавно)
Я вас спешу поздравить, подарить!
Для сердца моего вы родились недавно,
Но вечно будете в нем жить». (1828)
А еще – более ранним посланием княжне Т. Волконской:
«К чему на памятном листке мне в вас хвалить
Ума и красоты счастливое стеченье?
Твердить, что видеть вас уж значит полюбить
И чувствовать в груди восторги и томленье?
Забавно от родни такое восхищенье,
И это все другой вам будет говорить!
Но счастья пожелать и доброго супруга,
А с ним до старости приятных, светлых дней —
Вот все желания родни и друга
Равно и для княжны, и для сестры моей».
(Между 1814 и 1817) Однако ж это было б славно; – то есть хорошо, замечательно, отлично. Для примера, цитата из «Зимних карикатур» П.А. Вяземского:
«"Теперь-то быть в дороге славно!"
Подхватит тут прямой русак.
Да, черта с два! Как бы не так,
Куда приятно и забавно»! (1828)
Выше мы писали, как А.С. Пушкин отсылал читателя своей поэмы к «Станции» Вяземского, используя оттуда строку или выражение. здесь обратная ситуация: рифмовка «славно» – «забавно» позаимствована Вяземским у Пушкина. Но у слова «славно» есть и другое значение – «известно», «хвалимо», «знаменито» ( Даль ; IV, 215). У того же Вяземского в стихотворении «Эперне» читаем:
«Моэт – вот сочинитель славный!
Он пишет прямо набело,
И стих его, живой и плавный,
Ложится на душу светло». (1838)
А у Е.А. Баратынского в стихах Д. Давыдову 1825 г. эпитет «славный» повторяется целых три раза все в том же значении «известно-знаменито»:
«Пока с восторгом я умею
Внимать рассказу славных дел,
Любовью к чести пламенею
И к песням муз не охладел,
Покуда русский я душою,
Забуду ль о счастливом дне,
Когда приятельской рукою
Пожал Давыдов руку мне!
О ты, который в пыл сражений
Полки лихие бурно мчал
И гласом бранных песнопений
Сердца бесстрашных волновал.
Так, так! покуда сердце живо
И трепетать ему не лень,
В воспоминанье горделиво
Хранить я буду оный день!
Клянусь, Давыдов благородный.
Я в том отчизною свободной,
Твоею лирой боевой
И славный год войны народной
В народе славной бородой!»
Очень часто эпитет «славный применяется к воинским подвигам и военным победам. Так, в стихах Г.Р. Державина «На взятие Измаила» эпитет славный (и его вариации) использован пять раз. Трижды его использовал В.А. Жуковский в «Певце во стане русских воинов». Думая про себя, что испытать любовное приключение – славно, граф заранее представляет себе рассказ о своем «подвиге», пусть не военной, но «победе» и «похвальную молву» среди знакомых и друзей, соотносимую с понятием «слава».
Я, кажется, хозяйке мил – в данном случае используется другое значение слова милый – желанный, достойный любви и даже «заставляющий себя любить» ( Даль ; II, 325).
Глава 15 (Граф Нулин)(текст)
Несносный жар его объемлет,
Не спится графу – бес не дремлет
И дразнит грешною мечтой
В нем чувства. Пылкий наш герой
Воображает очень живо
Хозяйки взор красноречивый,
Довольно круглый, полный стан,
Приятный голос, прямо женский,
Лица румянец деревенский —
Здоровье краше всех румян.
Он помнит кончик ножки нежной,
Он помнит: точно, точно так,
Она ему рукой небрежной
Пожала руку; он дурак,
Он должен был остаться с нею,
Ловить минутную затею.
Но время не ушло: теперь
Отворена, конечно, дверь —
И тотчас, на плеча накинув
Свой пестрый шелковый халат
И стул в потемках опрокинув,
В надежде сладостных наград,
К Лукреции Тарквиний новый
Отправился, на все готовый.
(комментарий)
Только в этой части, по сути, начинается действие повести. Оно опирается не столько на сюжет малоизвестной поэмы Шекспира, сколько на один фрагмент биографии героя Древнего Рима Луция Юния Брута. Сцена эта представлена в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха следующим образом: «Тарквиний Гордый [последний из царей Древнего Рима. – Авт .], достигший престола средствами беззаконными и нечестивыми… был уже несносен и ненавистен народу. Бедственная кончина Лукреции, которая умертвила сама себя, быв изнасилована сыном Тарквиния, подала народу повод к возмущению. Люций Брут, приступая к произведению перемен в правлении… изгнал Тарквиниев» ( Плутарх , 88–90)
Традиции античности и, в частности, Древнего Рима играли в культуре Европы ключевую роль, по крайней мере, с XIV века. С началом Великой французской революции символика античного Рима заслонила собой все иные культурные стереотипы. Все сферы человеческой жизни от войны и политики до моды и кулинарии испытали мощнейшее воздействие римской культуры (достаточно вспомнить «воскресшие из небытия» термины «трибун» и «консул», фригийский колпак и тунику в одежде, стиль ампир в архитектуре и дизайне). Изучение латыни в качестве обязательного школьного языка, непременное детское чтение: Плутарх, Тацит и юношеское – Овидий, Апулей; уроки истории – все это, наряду с общей модой на античность, способствовало появлению точных и ясных ориентиров в поведении, обозначаемых, как правило, именами греческих и римских «образцов»: Ликург и Сократ, Цицерон и Цезарь, Нерон и Лукулл. Вот как описывает культурную ситуацию конца XVIII в. С.Н. Глинка:
...«В это время наступил мне одиннадцатый год; узнал я тогда и скалу Трапейскую… и узнал пресловутую Капитолию, представительницу Рима, провозглашенного городом вечным. Узнал сенат римский… ознакомился с летописями римскими и как будто переселился в древний Рим… Не знал я, под каким живу правлением, но знал, что вольность была душой римлян. Не ведал я ничего о состоянии русских крестьян, но читал, что в Риме и диктаторов выбирали от сохи и плуга. Не понимал я различия русских сословий, но знал, что имя римского гражданина стояло почти на чреде полубогов. Исполинский призрак Древнего Рима заслонял от нас родную страну…» (Глинка1996, 68–71 ).
И такое отношение к античности, как эпохе «воспитывающей», эпохе, людям которой следует подражать, сохранилось в России неизменным до середины XIX в. Как пишет об этом А.В. Михайлов:
...«… античность была далеким прошлым, но лишь чисто хронологически. По существу же, по смыслу античность была всегда рядом, не просто как ценное и дорогое, родное наследие, но и как культурно-жизненная совокупность своих проблем, не разрешенных до конца, по-прежнему актуальных» (Михайлов, 578 ).
«Старый» Брут (именуемый так иногда, чтобы отличить от Брута позднего – убийцы Цезаря – Марка Юния Брута) выступал в качестве одной из главных «знаковых» фигур эпохи. В ней сливались два образа: «борец за свободу и права сограждан» и «гражданин и патриот своего отечества».
Брут (мы, правда, не знаем какой) упомянут в первых страх оды А.Н. Радищева «Вольность»:
«О дар небес благословенный,
Источник всех великих дел,
О вольность, вольность, дар бесценный!
Позволь, чтоб раб тебя воспел.
Исполни сердце твоим жаром,
В нем сильных мышц твоих ударом
Во свет рабства тьму претвори,
Да Брут и Телль еще проснутся,
Седяй во власти да смятутся
От гласа твоего цари» (1781–1783).
В декабристских кругах, в особенности в творчестве К.Ф. Рылеева, имя Брут упоминалась там, где следовало сказать: «враг тиранов». Выше мы приводили строки Рылеева, в которых Брут ставился в один ряд с испанским революционером начала XIX века Риегой. Еще один ряд, уже чисто «римский» Рылеев выстроил в послании «К временщику»:
«Тиран, вострепещи! Родиться может он
Иль Кассий или Брут, иль враг царей Катон!» (1820)
Здесь, правда, имеется в виду поздний Брут – соучастник Кассия по заговору против Цезаря. А вот в оде «Гражданское мужество» есть и «наш» – Старый Брут:
«Лишь Рим, вселенной властелин,
Сей край свободы и законов,
Возмог произвести один
И Брутов двух и двух Катонов». (1823)
Эта навязчивая связь ассоциаций «Рим – Брут – свобода» позволила в свое время Г.А. Гуковскому заявить: «Мысли Пушкина… привели его к разочарованию в реальности надежд на русских Брутов. Отсюда пушкинская ирония по адресу римского Брута» ( Гуковский , 7). Утверждение, на наш взгляд, спорное, хотя бы потому, что имя Брут отнюдь не было узурпировано декабристами и могло символизировать порой даже контрреволюционные действия.
Да, по свидетельству Н. Бестужева, Рылеев, уходя на Сенатскую площадь, говорил своей матери: «…я буду лить кровь свою, но за свободу отечества, за счастье сородичей, для исторжения из рук самовластья железного скипетра… может быть, потомство отдаст мне справедливость, а история запишет имя мое вместе с именами великих людей, погибших за человечество. В ней имя Брута стоит выше цезарева – итак, благословите меня!» ( Бестужев , 10) Но и в противоположном лагере возникает образ Брута! Сразу же после разгрома восстания Н. Д. Дурново записал: «Каково было наше удивление, когда генерал Депрерадович пришел [во дворец. – Авт. ] со своим старшим сыном. Он, подобно древнему Бруту, пришел, чтобы передать свой отпрыск в руки правосудия. Маленький негодяй был членом тайного общества» ( Дурново , 297). (Вспомним, что второй главнейший эпизод в жизни Брута Старого состоял в том, что тот отдал на казнь своих сыновей, замешанных в сговоре с изгнанными Тарквиниями.)
Пушкин не мог разочароваться в «русских Брутах», как нельзя разочароваться в культурных знаках эпохи. Другое дело пушкинская ирония. Она, видимо, направлена на эпоху, создающую не Брута, Тарквиния и Лукрецию, а пародию на них.
Выступая в качестве младшего Тарквиния, виновника всех бед, граф Нулин последовательно воспроизводит его образ: он молод, он не властитель, а богатый бездельник, он горд и заносчив (денди), он очарован хозяйкой, наконец, он направляется на свидание «на всё готовый». Другое дело, что это «все» у древнего персонажа и его нового отражения отнюдь не совпадает: тот Тарквиний добивается своего, а этот – позорно бежит. Точно так же не совпадают со своими образцами «новая Лукреция», ее муж и друг семьи.
Несносный жар его объемлет – сопоставление внезапно вспыхнувшей страсти графа с жаром и пламенем перекликается с началом поэмы Шекспира «Лукреция»:
«Из лагеря Ардеи осажденной
На черных крыльях похоти хмельной
В Коллациум Тарквиний распаленный,
Несет едва горящий пламень свой,
Чтоб дерзко брызнуть пепельной золой
И тлением огня на взор невинный
Лукреции, супруги Коллатина».
(Здесь и далее «Лукреция» цитируется по изданию: Шекспир В. Полн. собр. соч. в 14 тт. Т. 14. М. 1997. Пер. Б. Томашевского.)
И далее в обеих поэмах тема «любовного пламени» возникнет не раз. Однако в трактовке этой темы существуют серьезные различия. Если в поэме «Лукреция» каждый раз образ пламени-страсти и жара-похоти самодостаточен и существует как самостоятельная метафора, то в «Графе Нулине» все образы жара и пламени выстроены в единый образ (Cм. комментарий к главке 22).
Не спится графу – бес не дремлет
И дразнит грешною мечтой
В нем чувства… – А.Н. Архангельский отметил, что «хромота» графа, «прозвания», которые дает ему автор («полувлюбленный, нежный граф», «влюбленный граф»), рассыпанные по тексту полунамеки («бес не дремлет»), все это указывает на отдаленную связь Нулина с образом Влюбленного Беса из романа Жака Казота «Le diable amoreux»… (Архангельсктий , 75). И он безусловно прав – некий бес действительно подталкивает графа к действию. Но именно подталкивает, а не действует сам, как самостоятельный персонаж, подобно бесу из романа Жака Казота «Влюбленный бес» (1772), влюбившемуся в молодого человека и явившегося ему в женском обличье. Единственное сюжетное сходство между этим романом и «Графом Нулиным» в том, что в присутствии девушки-беса молодой человек долго не может заснуть.
Бес, не дававший спать графу Нулину, совсем другого происхождения. Он имеет имя. Известны и его внешний вид, и «специализация» на грехах определенного рода. Вспомним еще раз, что граф, ударившись при падении из коляски, хромал. Вольный или невольный, но это намек на чрезвычайно модный в начале XVIII века и хорошо известный в начале века XIX роман А.-Р. Лесажа «Хромой бес». Автором сюжета и персонажа, заимствованных Лесажем, был испанский писатель Луис Велес де Гевара, чей «Хромой бес» был написан на рубеже XVI–XVII веков. Бес у Гевары говорит о себе так: «…я адская блоха, и в моем ведении плутни, сплетни, лихоимство, мошенничество: я принес в этот мир сарабанду, делиго, чакону…; я изобрел кастаньеты, хакары, шутки, дурачества, потасовки, кукольников, канатоходцев, шарлатанов, фокусников, – короче, меня зовут Хромой Бес» (Плутовской роман, 164–165).
Создавая своего Хромого беса, Лесаж подобрал ему имя – Асмодей, а невнятный набор мелких грешков превратил в длинную цепь греховных удовольствий, соединенных одним – страстью. Его Хромой бес не зря гордится собой: «…я устраиваю забавные браки, соединяю старикашек с несовершеннолетними, господ со служанками, бесприданниц с нежными любовниками, у которых тоже нет гроша за душой. Это я ввел в мир роскошь, распутство, азартные игры и химию. Я изобретатель каруселей, танцев, музыки, комедии и всех новейших французских мод… Я бес сладострастия, или, выражаясь почтительно, я бог Купидон» ( Лесаж , 22).
У человека, знакомого с романом Лесажа, невольно складывается мнение, что Асмодей уже давно хозяйничает в поместье: там можно угадать четыре типа «забавных» соединений: брак Натальи Павловны, как можно предположить, неравный (1); разговор хозяйки и гостя проходит как будто под его диктовку – музыка, комедия и французские моды (2); ночная мысль графа о хозяйке сопровождается все тем же словечком забавно (3), вскользь упомянутый сосед – Лидин явно пользуется покровительством Асмодея (4).
Любопытно, что Пушкин вспоминал о Хромом бесе в сентябре 1825 г., то есть тогда же, когда граф Нулин заехал в поместье Натальи Павловны. Тогда в письме к Вяземскому он обратился к адресату так: «Сатирик и поэт любовный, / Наш Аристип и Асмодей…» (II – 314).
«Любовный» поэт, «совращающий» души читателей, и есть современный Асмодей, или Купидон, как тот сам себя аттестует. «Асмодей» был шутливым прозвищем Вяземского в литературном обществе Арзамас. Каждый вступающий в это общество получал новое имя, взятое из баллад В.А. Жуковского. В одной из них – «Громобое» и действует Асмодей:«Старик с шершавой бородой,
С блестящими глазами
В дугу сомкнутый над клюкой,
С хвостом, когтьми, рогами».
И наконец, еще раз о хромоте. В романе Лесажа она появилась у Асмодея после ссоры с бесом корыстолюбия – Пильярдоком из-за студента, приехавшего в Париж: «Мы подрались в средних слоях атмосферы, – рассказывает Асмодей. – Пильярдок оказался сильнее и сбросил меня на землю, подобно тому, как Юпитер, по словам поэтов, свалил Вулкана» ( Лесаж , 26). Стоит ли напоминать, что граф возвращается из Парижа, вырвавшись из объятий Пильярдока – промотав свое состояние? И тут же он попадает под влияние Асмодея: ударившись о землю, хромает навстречу своей судьбе. Характерно, что в русских баснях, воспринявших народную традицию устной речи, уже существовала пара косогор – бес. Так, в начале басни И.И. Хемницера «Чужая беда» читателю представляется бытовая сценка:
«Мужик вез сено продавать;
Случился косогор: воз набок повалился.
Мужик ну воз приподнимать
И очень долго с возом бился,
Да видит, одному ему не совладать.
Проезжего себе на помощь призывает.
"Вот черт тебя на косогор занес", —
Прохожий отвечает
И мимо погоняет». (1799)
То, что бес в поэме не только фигура речи, но почти персонаж, подкрепляется использованием слова «дразнит». По Далю, дразнить означает «сердить насмешками, перекором» ( Даль , I, 489). Погасив свечу, Нулин собрался заснуть, но бес наперекор желанию графа будит его воображение.
…Пылкий наш герой Воображает очень живо — воображение (как и многое в поэме) имеет отчасти литературное происхождение. В данном случае отчетлива перекличка с одной из любовных элегий Овидия, в которой лирический герой вспоминает:
«И показалась она перед взором моим обнаженной…
Мне в безупречной красе тело явилось ее.
Что я за плечи ласкал! К каким я рукам прикасался!
Как были груди полны – только б их страстно сжимать!
Как был гладок живот под ее совершенною грудью!
Стан так пышен и прям, юное крепко бедро!» ( Овидий , 38)
Довольно круглый, полный стан, – стан, по словарю Даля – туловище, «все тело, без головы и членов» и одновременно «поясница, лиф, перехват, место, по которому опоясываются» (Даль, IV, 312). Проще говоря, Наталья Павловна была толстушкой, в полном соответствии с расхожим образом «деревенской красавицы». Вместе с тем эта строка явно отсылает читателя к «Опасным связям» Шодерло де Лакло. В этой книге один из главных персонажей (виконт де Вальмон) в деревенском доме своей тетушки знакомится с молодой женщиной, которую стремится «погубить». Текст Шодерло де Лакло Пушкину конечно же был знаком. Вот пара строк из его письма Н. Вульфу от 27 октября 1828 г.: «Тверской Ловелас С.-Петербургскому Вальмону здравия и успехов желает» ( Переписка …, 183). В описании «предмета страсти» Вальмона есть и такая строка: «…домашнее платье из полотна дает мне возможность видеть ее округлый и гибкий стан» ( Лакло , 24). Граф Нулин не мог не ознакомиться, в свое время, с одним из самых скандальных произведений французской литературы предреволюционной поры. Вспомнившаяся, кстати (или наоборот – некстати), сцена из этого романа могла стать одним из побудительных мотивов его ночного похождения.
Приятный голос прямо женский , – одно из значений слова прямой – самый, настоящий, истинный ( Даль, III , 530). Для сравнения, у В.Л. Пушкина в «Опасном соседе»: «Прямой талант везде защитников найдет!», у К.Н. Батюшкова: «Я снова посещал развалины Москвы, / Москвы, где я дышал свободою прямою!» («Разлука». 1815) и у В.А. Жуковского в рукописном варианте «Послания к кн. Вяземскому и В.Л. Пушкину»: «Ты, Вяземский, прямой поэт! / Ты, Пушкин, стихотворец горе!» ( ДмитриевМ , 265)
Лица румянец деревенский —
Здоровье краше всех румян. – в этих и предыдущих строках автор последовательно противопоставляет красоту «салона» естественной «деревенской» красоте. Противопоставление это опирается на давнюю литературную традицию, в основании которой – взгляды Жана-Жака Руссо. Вот, например, в столь любимом Натальей Павловной «Московском телеграфе» автор иронически описывает превращение молоденькой девушки в светскую красавицу: «Вместо географии – мадам N N, вместо ландкарт – выкройки, вместо истории – городские вести, вместо Расина – Россини, вместо спокойного сна – бессонница, вместо свежего румянца – бледность и расслабленные нервы» ( МТ1825 , VI, 97).
А вот первоисточник – фрагмент из романа Руссо «Эмиль, или О воспитании»:...«Всякое стеснение, всякое насилие над нашей природой есть признак дурного вкуса; я имею в виду, как украшения тела, так и ухищрения ума. Прежде всего, следует стремиться к здоровью, к разумной жизни, к благополучию. Грация состоит лишь в непринужденности движений; томную вялость нельзя назвать изяществом, и чтобы нравиться, нет ни малейшей необходимости иметь нездоровый вид. Тот, кто страдает, возбуждает жалость, и лишь свежесть и здоровье дают право на удовольствия и возбуждают желания» ( Руссо , 559).
Та же мысль Руссо звучит и в строках Байрона из XIII песни «Дон Жуана»:
«К рассвету день кончается в столицах,
А в деревнях привыкли много спать:
И дамы и прелестные девицы
Чуть смерклось – забираются в кровать
Красавицам ложиться нужно рано».
В России же пушкинской поры естественный румянец на щеках – одна из обязательных примет женской красоты. Вот как описывает свою героиню Е.А. Баратынский:
«Красой лица, красой души
Блистала Эда молодая.
Прекрасней не было в горах:
Румянец нежный на щеках
Летучий стан, власы златые
В небрежных кольцах по плечам
И очи бледно-голубые,
Подобно финским небесам». (1824)
Вот красавица Наташа у П.А. Катенина:
«Где уста как мед душистый,
Бела грудь, как снег пушистый,
Рдяны щеки, маков цвет?» (1814)
У В.К. Кюхельбекера красавица, это, прежде всего, румянец:
«Цветок увядший оживает
От чистой, утренней росы;
Для жизни душу воскрешает
Взор тихой, девственной красы.
Когда твои подернет щеки
Румянец быстрый и живой —
Мне слышны милые упреки,
Слова стыдливости немой,
И я, отринув ложь и холод,
Я снова счастлив, снова молод,
Гляжу: невинности святой
Прекрасный ангел предо мной!»
(«К А. Т. Пушкиной». 1823 или 1824)
А Д.В. Веневитинов румянцу любимой посвятил стихотворение, содержащее и такие строки:
«На небосклоне заиграла
Денница пурпурным огнем,
И луч румяного рассвета
Твои ланиты озарил.
С тех пор он вдвое стал мне мил,
Сей луч румяного рассвета.
Храни его – недаром он
На девственных щеках возжен;
Не отблеск красоты напрасной,
Нет! он печать минуты ясной,
Залог он тайный, неземной».
(«Любимый цвет». 1825)
А ранее всех шуточный мадригал естественной жизни, «деревенской» красоте вложил в уста «сельского любовника» Н.М. Карамзин:
«Здесь сердца людей согласны
С их нельстивым языком,
Наши милые прекрасны
Не раскрашенным лицом,
А природными чертами;
Обмануть нас не хотят
Ни глазами, ни словами,
Лишь по чувству говорят»
(«Куплеты из одной сельской комедии». 1800)
Он помнит кончик ножки нежной , – по моде того времени нижний край платья должен был доходить примерно до середины туфель, так, чтобы их носочки чуть-чуть высовывались наружу. Соответственно граф при всем желании не мог увидеть ничего, кроме кончика туфель. А поскольку «нежить» означало – «держать в неге», то есть баловать, холить и лелеять, то ножка нежная, здесь – холеная, ухоженная, о чем граф пока мог лишь догадываться.
Она ему рукой небрежной
Пожала руку… – пожатие руки – конечно, знак, но это лишь один из знаков приязни, а отнюдь не приглашение к немедленному действию. Пожатие может привести к свиданию только после того, как будут пройдены несколько ступенек обряда ухаживания. «Мельком взгляд, кстати слово, вальс, пожатие руки, слова два о верности, о счастье, о блаженстве, тоска, грусть – бойтесь, милые, и – смотрите, как помаленьку дело пойдет дальше!» – предупреждал барышень автор «Московского телеграфа» ( МТ1825, XXIII, 472).
Однако, если Нулин соотносил себя с героями романов, то пожатие руки он мог воспринять и как намек на нечто большее, чем обычное кокетство. Именно так оно было воспринято де Вальмоном в уже известных нам «Опасных связях». В письме своей приятельнице, маркизе де Мертей, де Вальмон описывает одну из последних сцен драмы соблазнения следующим образом: «Наконец, когда все стали расходиться, я подал ей руку, и у своей двери она с силой пожала ее. Правда, в этом движении мне почудилось что-то непроизвольное; но тем лучше: лишнее доказательство моей власти» ( Лакло, 185). И если граф вспомнил об этом романе (а намек на это мы отмечали чуть выше), то он мог, приняв желаемое за действительное, решить действовать так же, как литературный персонаж, с которым он себя в данный момент соотнес.
Воспоминание о рукопожатии подгоняло вперед и Тарквиния из шекспировской «Лукреции». Но там рукопожатие было при встрече:«Он молвил: "Руку мне сжимая,
Она тревожный устремила взор,
Как если бы в глазах моих читая
Судьбе супруга грозный приговор.
…
Затрепетала тонкая рука,
Как будто мне свой страх передавала…
И ей взгрустнулось, кажется слегка…
Но вот что муж здоров, она узнала,
И радость так в улыбке заблистала"».
Рукопожатие Лукреции, таким образом, если и может быть воспринято как знак, то это знак с противоположным значением, не приглашение, а прямое и явное пренебрежение. В случае же с Натальей Павловной пожатие гораздо менее двусмысленно. Оно вполне может быть понято размечтавшимся графом в духе идиллии А.А. Дельвига «Купальщицы»:
«К Дафне юный пастух разгорался в младенческом сердце
Пламенем первым и чистым: любил, и любил не напрасно.
Все до вчерашнего вечера счастье ему предвещало:
Дафна охотно плясала и пела с ним; даже однажды
Руку пожала ему и что-то такое шепнула»… (1824)
Или же в духе девятой «Элегии» Д.В. Давыдова:
«Два раза я вам руку жал;
Два раза молча вы любовию вздохнули…
И девственный огонь ланиты пробежал,
И в пламенной слезе ресницы потонули!
Неужто я любим?» (1818)
А ведь, чуть раньше граф мысленно произносит: «Неужто вправду я влюблен?»
Рука небрежная, – здесь – беззаботная, беспечная. И если граф так думает, то он сам признает, что, пожимая ему руку, Наталья Павловна была небрежна, то есть не подумала о последствиях. О том же свидетельствует и определение этого порыва как минутной затеи.
…он дурак Он должен был остаться с нею, – словарь Даля дает три основных значения слова «дурак»: глупый человек, тупица, тупой, непонятливый, безрассудный; малоумный, безумный, юродивый; шут, промышляющий дурью, шутовством ( Даль, I, 501). В данном случае дурак – глупец, человек, не увидевший своей удачи, в отличие от бранного дурак от мужа Натальи Павловны в конце поэмы. Сочетание же выделенных нами строк, возможно, должно было напомнить читателю пословицы: «Дураку что ни время, то и пора» и «Дурак времени не знает».
Ловить минутную затею. – Затея – причуда, прихоть, каприз (Словарь, II, 106). Другими словами, что-то минутное и несерьезное, из поэтической лексики XVIII века. У Г.Р. Державина Киприда «затевают» хоровод:
«А тут, затея хоровод,
Велела нимфам, купидонам
Играть, плясать между собой
По слышимым приятным тонам
Вдали музыки роговой».
(«Развалины» 1797). А вот в Хемницера «Собака и мухи» «затея» выглядит совсем уж несерьезной:
«Собака ловит мух, однако не поймает
И, глупая, не рассуждает,
Что муха ведь летает
И что поймать ее пустое затевает.
Лови, собака, то, что под твоей ногой,
Не то, что над твоей летает головой».
А самые близкие Нулину «затеи» мы встречаем у М.В. Ломоносова, в «Разговоре с Анакреоном»:
«Мастер в живопистве первой,
Первой в Родской стороне,
Мастер, научен Минервой,
Напиши любезну мне.
Напиши ей кудри черны,
Без искусных рук уборны,
С благовонием духов,
Буде способ есть таков.
…
Всех приятностей затеи
В подбородок умести
И кругом прекрасной шеи
Дай лилеям расцвести,
В коих нежности дыхают,
В коих прелести играют
И по множеству отрад
Водят усумненной взгляд…»
(Между 1758 и 1761)
…теперь
Отворена, конечно, дверь — рифма отсылает читателя к поэме Е.А. Баратынского «Эда», вышедшей в свет в 1824 г. и очень ценимой Пушкиным. Героиня поэмы – Эда – ложится спать, зная, что к ней придет ее возлюбленный:«Уж поздно, полночь; но ресницы
Сон не смыкает у девицы:
"Стучаться будет он теперь.
Зачем задвинула я дверь?"»
Мелкие осколки «Эды» можно заметить и в других частях поэмы Пушкина. Так, строчка Баратынского «Легла и думала заснуть», перекликается с пушкинской: « Легла и выйти вон велела », а еще два стиха: «И вот задвижки роковой / Уже касается рукой» с другими: « И дерзновенною рукой / Коснуться хочет одеяла ».
Свой пестрый шелковый халат. – Современный знаток и исследователь моды прошлых эпох утверждает, что «если архалук, шлафор или капот отличались свободным покроем, то халат в большей степени зависел от моды» ( Кирсанова , 309). Соответственно халат графа – еще один знак утонченного щегольства. Здесь Нулин выступает полной противоположностью А.А. Дельвигу, написавшему годом или двумя позже двустишие «Смерть»:
«Мы не смерти боимся, но с телом расстаться нам жалко:
Так не с охотою мы старый сменяем халат».
(1826 или 1827) И стул в потемках опрокинув… – мебель в первой четверти XIX века стали делать «облегченной» – с вырезанными каннелюрами по ножкам, стулья – с легкими резными спинками. Если бы в комнате стоял «старомодный» стул – из красного дерева или дубовый крашеный, то, наткнувшись на него, граф сильно бы ушибся, но опрокинуть его не смог.
В надежде сладостных наград – эпитет «сладостный» во всех его вариациях – одна из самых больших банальностей в поэзии того времени. Причем это банальность свойственная именно «поэтическому языку, поскольку очень часто встречается в «посланиях» одного поэта – другому или другим. В послании В.А. Жуковоского «Нине» (1808) слово «сладость» и производные от него встречаются пять раз, а в послании Батюшкову – шесть. Сам Батюшков в прозаическом фрагменте «Нечто о поэте и поэзии» пишет о «сладостной минуте очарования поэтического», «сладостной надежде», и «сладостных впечатлениях юности»; в стихотворении «Мечта» (1802 или 1803), о собственно «сладостной мечте», но и «сладостной горечи», «сладостном забвеньи» и сладости «бренной жизни». У П.А. Вяземского в послании «Моим друзьям. К Ж<уковскому>, Б<атюшкову> И С<еверину>» (1812) встречается «сладостный сон», а веще одном послании «К друзьям» (1814) «сладостное ложе». Нулин – не поэт, но, как и все в ту эпоху – читатель стихов. Он мыслит, отчасти поэтическим штампами. Поэтому надеется на те «награды», что описывает, например А.А. Дельвиг в своей «Песне»:
«Наяву и в сладком сне
Все мечтаетесь вы мне:
Кудри, кудри шелковые,
Юных персей красота,
Прелесть – очи и уста,
И лобзания живые.
…
Ночью сплю ли я, не сплю —
Все устами вас ловлю,
Сердцу сладкие лобзанья!
Сердце бьется, сердце ждет, —
Но уж милая нейдет
В час условленный свиданья» (1824).
Глава 16 (Граф Нулин)(текст)
Так иногда лукавый кот,
Жеманный баловень служанки,
За мышью крадется с лежанки:
Украдкой, медленно идет,
Полузажмурясь подступает
Свернется в ком, хвостом играет,
Разинет когти хитрых лап
И вдруг бедняжку цап-царап.
(комментарий)
Выше мы уже приводили мнение Г. А. Гуковского, согласно которому «Граф Нулин» есть не что иное, как комментарий к «Евгению Онегину». Данная главка – лучшее тому подтверждение. По словам Ю. М. Лотмана, «эпизод этот, выпав из "Евгения Онегина", попал в "Графа Нулина"» ( Лотман1995 , 561; Гофман, 39–41). В XIV строфе I главы «Евгения Онегина» (пропущенной в беловом тексте, но сохранившейся в черновиках) мы читаем:
«Так резвый баловень служанки,
Амбара страж, усатый кот
За мышью крадется с лежанки,
Протянется, идет, идет,
Полузажмурясь, отступает,
Свернется в ком, хвостом играет,
Готовит когти хитрых лап
И вдруг бедняжку цап-царап». (V – 512)
Тем не менее, именно в этой главке более всего заметно, что автор и рассказчик в поэме разведены гораздо дальше, чем в романе. В «Графе Нулине» последний предстает в роли деревенского «доброго дядюшки» – провинциального, чуть консервативного любителя представлять «сцены в лицах». Рассказчик он умелый и опытный – искусно нагнетает напряжение, «разбивая» повествование самыми различными отступлениями и затягивая развязку. При этом он мимоходом перевоплощается в самых разных героев поэмы и продолжает повествование уже от их лица. Так, представляя читателю (а в идеале – слушателю) графа Нулина, рассказчик начинает «от себя», а затем, увлекаясь, видит вещи уже глазами самого графа – молодого повесы и щеголя, и этот переход полностью меняет его словарь.
Прием «перевоплощения» автора в рассказчика, а рассказчика в один из персонажей позволяет неторопливо и тщательно выписывать все детали быта, передавать все оттенки настроений, по несколько раз «поворачивая картинку» перед взглядом читателей и слушателей. Это тем более удобно, что в отличие от «Евгения Онегина» рассказчику некуда торопиться: короткий «анекдот» позволяет тянуть повествование как угодно долго, не заботясь о сюжете – тот как-нибудь завершится сам собой.
В данной части поэмы происходит очередное «перевоплощение» – рассказчик видит графа чужим взглядом, холодным, равнодушным и лишь чуть-чуть любопытным. Обилие «простонародной» лексики: лукавый, баловень, крадется с лежанки, украдкой, свернется в ком, разинет, цап-царап – заставляет предположить, что это взгляд из людской или девичьей. Так могла бы смотреть на графа наперсница Натальи Павловны Параша, привыкшая к барским проказам. Особенно характерно употребление слово лежанка, то есть «припечек, длинный и широкий выступ из печи, с оборотами, на которой лежат и греются» ( Даль , II, 632). Такой – русской – печи с лежанкой не могло быть в барских комнатах (ее место – кухня, вынесенная за пределы дома), и ассоциация кот – лежанка заведомо «простонародная». В следующей части поэмы этот прием – комментировать барские поступки «снизу» – рассказчиком будет забыт. Его увлечет новая роль, последует новый подтекстовый комментарий.
Сравнение графа с котом часто привлекало внимание исследователей, которые задавались вопросами литературных параллелей. Ю.М. Лотман считал, что здесь просматривается прямая связь с одной из сцен в «Орлеанской девственнице» ( Лотман 1995 , 561). Действительно, в двенадцатой песне поэмы Вольтера влюбленный паж Монроз, пробирающийся к покоям любовницы короля Карла VII Агнесс, представлен
«Как кошка, что идет, подстерегая,
Застенчивую мышку, чуть ступая,
Неслышною походкой воровской,
Глазами блещет, коготки готовит
И, жертву увидав, мгновенно ловит…»
(Здесь и далее цитаты даются по изданию: Вольтер. Орлеанская девственница. М., 1935. Перевод под редакцией М.Л. Лозинского.)
Г.Л. Гуменная сопоставила его с отступлением в «Енеиде» Н.П. Осипова:
«Читателям, я мню, случалось
В мясном ряду когда бывать
И там частенько удавалось
Собачьи хитрости видать.
Из них котора посмелее
И в бойкости поудалее,
Когда мосол подтепетит,
Тогда проворно без оглядки
С добычей той во все лопатки
Уйти оттоль спешит».
Ю.Д. Левин, в свою очередь, утверждал, что игра в «кошкимышки» – одно из четырех совпадений «Графа Нулина» с «Лукрецией» Шекспира ( Левин, 77). Точка зрения Лотмана представляется более оправданной. В отличие от «Лукреции» Пушкин высоко ценил «Орлеанскую девственницу» и, попав в Михайловское, даже начал ее переводить, но ограничился лишь первыми двадцатью шестью стихами. «Вольтеровские» мотивы, наравне с «байроновскими», ясно читаются в общем строе поэмы (о других заимствованиях и цитатах из «Орлеанской девственницы» см. комментарий к главе 19).
В то же время описание кота в поэме заставляет вспомнить и фрагмент из «Максимов и мыслей» Шамфора – французского литератора второй половины XVIII в., широко известного в России. В русском переводе этот фрагмент выглядит так: «Не кот виноват, а служанки недогляд» ( Шамфор, 97).
Так иногда лукавый кот – начало этой маленькой главки вновь отсылает читателя к бесу, который тревожил графа. Вспомним, что в народной традиции лукавый – один из псевдонимов черта. В ряду других простонародных выражений слово «лукавый» невольно напоминает о пословицах и поговорках вроде тех, которые приводит Даль: «Вся неправда от лукавого. Ворочает, как лукавый в болоте. На лукавого славу пускают, а сами мутят» ( Даль, II, 272). Лучше всего связка лукавый – бес явлена в балладе В.А. Жуковского «Громобой»:Ханжи-причудники твердят:
Лукавый бес опасен.
Не верь им – бредни; весел ад,
Лишь в сказках он ужасен. (1810).
Кроме того, кошка (кот) ближе любого другого домашнего животного к колдовской (бесовской) сфере, особенно там, где, как пишет В. Н. Топоров, обыгрывается «мотив превращения кота в человека и обратного превращения человека в кота, как и его следствие – наличие форм, совмещающих элементы кота и человека, неуловимость границ между кошачьим и человеческим…» ( Мифы… , II, 11) В фольклоре кот – помощник дьявола и одновременно – воплощение похоти. Отметим, кстати, что граф бежал из спальни Натальи Павловны не после пощечины, а после того, как залаял шпиц. Стоит ли напоминать, что собака – главный враг кота?
Жеманный баловень служанки , – жеманничать – любоваться собой, красоваться перед другими, кривляться, а также «охорашиваться ломаясь, высказывать пригожество изысканными приемами» ( Даль, I, 527). Обычно этот эпитет применялся в характеристике женщин. У П.А. Вяземского «жеманными» названы муза («Д. Давыдову». 1816) и грация («Прощанье с халатом» 1817). У И.И. Дмитриева жеманство – синоним женского кокетства («Два веера» 1805). В комедии Шаховского «Пустодумы» один из персонажей (князь Радугин) произносит, обращаясь к жене:
«И, признаюсь, смешно
Смотреть на ваши все причуды и жеманство,
Мигрени, нервы…» (1818)
Мужчине жеманиться не подобает, как о том напоминал, в стихотворении «О благородстве», А.П. Сумароков:
«А ты, в ком нет ума, безмозглый дворянин,
Хотя ты княжеский, хотя господский сын,
Как будто женщина дурная, не жеманься
И, что тебе к стыду, пред нами тем не чванься!» (1771)
Тем не менее, мы можем встретить мужчину (к тому же – графа), который «жеманится» в стихотворении В.Л. Пушкина «Вечер» (1798) – сатире на светское времяпрепровождение.
Разинет когти хитрых лап – слово разинуть в то время не относилось почти исключительно ко рту, как сейчас. Оно означало просто раскрыть что-либо: «море разинуло хляби», «небо разинулось», «двери разинулись». А одно из значений слова хитрость – лукавство, коварство ( Даль, IV, 548). Именно таким – коварным – и предстает в этом описании кот. Таким хотел бы выглядеть и граф в своих будущих рассказах о ночном приключении.
Глава 17 (Граф Нулин)(текст)
Влюбленный граф в потемках бродит,
Дорогу ощупью находит,
Желаньем пламенным томим,
Едва дыханье переводит,
Трепещет, если пол под ним
Вдруг заскрыпит. Вот он подходит
К заветной двери и слегка
Жмет ручку медную замка;
Дверь тихо, тихо уступает;
Он смотрит: лампа чуть горит
И бледно спальню освещает;
Хозяйка мирно почивает
Иль претворяется что спит.
(комментарий)
Содержание этой главки (и – по инерции – части следующей) наиболее тесно переплетается с содержанием «Лукреции» Шекспира. В пятнадцати строках, посвященных «походу» графа Нулина, можно заметить семь мест, соотносящихся, в той или иной степени, с шествием Тарквиния:
«Граф Нулин»: Влюбленный граф в потемках бродит, / Дорогу ощупью находит…
«Лукреция»: А ветер в щелях воет перед ним / И факел поминутно задувает Тарквинию в лицо бросая дым / И путь окутав облаком густым.
«Граф Нулин»: Желаньем пламенным томим, Едва дыханье переводит…
«Лукреция»: Но в сердце тлеет жгучее желанье, / Вновь разжигая факел от дыханья.
«Граф Нулин»: Трепещет, если пол под ним Вдруг заскрыпит…
«Лукреция»: Скрежещет в двери что-то там такое / И хищно в темноте визжит хорек, / И трус не слышит под собою ног.
«Граф Нулин»: Жмет ручку медную замка…
«Лукреция»: Рукой преступной он рванул замок…
«Граф Нулин»: Дверь тихо, тихо уступает…
«Лукреция»: Все двери с неохотой уступают…
«Граф Нулин»: Хозяйка мирно почивает…
«Лукреция»: Но свет в глазах у спящей не играл, / И, как цветы, во тьме они дремали…
«Граф Нулин»: Он входит, медлит, отступает…
«Лукреция»: Как лев играет с жертвою в пустыне / И не спешит терзать добычу он, / Так медлит нерешительный Тарквиний.Вместе с тем, текст Пушкина не производит впечатления перевода главным образом потому, что он, несмотря на малый объем этой части, насыщен бытовыми деталями, не оставляющими сомнения в том, что действие происходит именно в российской провинции и именно в 1825 году, в то время как в текст Шекспира, действие которого происходит в VI веке до Рождества Христова, вторгается деталь средневекового быта – дамская перчатка, оброненная Лукрецией и поднятая Тарквинием: «Лукреции перчатку на полу / Он при неверном свете замечает / И, с тростника схватив ее, иглу / Под ноготь неожиданно вонзает…».
Трепещет, если пол под ним
Вдруг заскрыпит — А здесь тоже перекличка, но уже с Байроном. В шестнадцатой песне «Дон Жуана», к ужасу героя, тоже скрипит половица – под лапами кошки, спешащей «…как ветреная мисс, / На первое свиданье – на карниз!»
Трепещет – на выбор читателя: дрожит, вздрагивает, трясется.…Вот он подходит
К заветной двери… – заветная означает: сокровенная, тайная, хранимая. С этого слова начинается очередное «перевоплощение» рассказчика: он видит спальню глазами графа.
Нулин только что читал роман, действие которого происходит в одном из крестовых походов. Определение двери как заветной – хранящей сокровище и одновременно святыню – литературная ассоциация начитавшегося Вальтера Скотта графа, а отнюдь не рассказчика. Подтверждением этому является последняя строка этой части: «Иль притворяется, что спит». Мысль эта не может прийти в голову рассказчику – тот-то знает, что сон Натальи Павловны не притворен – это графу хотелось бы думать, что он не ошибся и хозяйка его ждет.Жмет ручку медную замка , – эта деталь (но особенно в сочетании с указанием на легкий стул, опрокинуть который ничего не стоит) говорит о том, что дом, в котором происходит действие, или совсем новый, или был недавно заново отделан по последней моде. В 1825 году в Париже (а значит, и в России) только-только вошла в моду отделка из меди: «Медь заменяет нынче железо во всех приборах, – наставлял молодых хозяек все тот же "Московский телеграф". – В новых домах везде замки медные» ( МТ1825 , III, 54). Можно предположить, что брак Натальи Павловны недавний, а к переезду молодоженов в деревню и дом был отремонтирован, и мебель новая завезена.
…лампа чуть горит И бледно спальню освещает, – в середине 20-х годов в ходу были масляные лампы Карселя. Их вставляли в алебастровые вазы и чаще всего использовали в качестве ночников, реже – в люстрах. Спать с ночником – одна из распространенных привычек того времени. В 1825 году наиболее модными считались лампы, выполненные «наподобие небольшой готической пирамиды» ( МТ1825 , II, 35).
Глава 18 (Граф Нулин)(текст)
Он входит, медлит, отступает —
И вдруг упал к ее ногам.
Она… Теперь с их позволенья
Прошу я петербургских дам
Представить ужас пробужденья
Натальи Павловны моей
И разрешить, что делать ей?
(комментарий)
Единственное из авторских отступлений, не отражающее настроения кого-либо из персонажей поэмы. Просто рассказчик, любуясь собой и своим умением, опять «держит паузу», оттягивая развязку. Автор же, посмеиваясь над читателем, «меняет картинку» и предлагает вместо романтической сцены в спальне беседу в петербургском светском салоне.
Он входит, медлит, отступает — И вдруг упал к ее ногам — «романтический» образ графа в этой сцене снижен построением фразы, аналогичным описанию игры кота с мышью: «И вдруг бедняжку цап-царап».
…Теперь с их позволенья
Прошу я петербургских дам
Представить ужас пробужденья
Натальи Павловны моей
И разрешить, что делать ей? – прервав развитие сюжета на ужасном пробуждении Натальи Павловны и называя «своей» героиню, Пушкин вольно или невольно отсылает читателя к балладе В.А. Жуковского «Светлана». В ее концовке автор также обращается к читательнице (слушательнице):«Улыбнись, моя краса,
На мою балладу;
В ней большие чудеса,
Очень мало складу.
Взором счастливым твоим,
Не хочу и славы;
Слава – нас учили – дым;
Свет – судья лукавый.
…
О! не знай сих страшных снов
Ты, моя Светлана…» (1808–1812)
Если наша догадка справедлива, то обращение к петербургским дамам (а это дамы «большого света»), в сочетании с явно указывающими на балладу Жуковского деталями, должно было вызвать в памяти читателя сентенцию «Свет – судья лукавый». Тем более лукавой становится просьба автора разрешить сложную задачу за Наталью Павловну. Выражение «разрешить спор» означало в то время «дать ответ», «указать». Но первое значение этого слова: «развязать, распутать связанные узлы» ( Даль , IV, 45). Таким образом, это слово удивительно подходит и к архаизированному образу рассказчика, и к запутанной ситуации, в которую попала Наталья Павловна. В сочетании же с тем, что было сказано чуть выше, слово разрешить приобретает подлинно «лукавый» характер и может быть воспринято в значении «позволить». Тем более что «толк» баллады Жуковского заключен в сентенции: «Здесь несчастье – лживый сон; / Счастье – пробужденье», – получающее в контексте пушкинской поэмы значение недвусмысленного совета, как и что разрешить Наталье Павловне.
Глава 19 (Граф Нулин)(текст)
Она открыв глаза большие,
Глядит на графа – наш герой
Ей сыплет чувства выписные
И дерзновенною рукой
Коснуться хочет одеяла,
Совсем смутив ее сначала…
Но тут опомнилась она,
И, гнева гордого полна,
А впрочем, может быть, и страха,
Она Тарквинию с размаха
Дает пощечину, да! да!
Пощечину, да ведь какую!
(комментарий)
Мы можем с большой долей уверенности говорить о том, что в сцене между графом и хозяйкой читательские ожидания были на стороне графа. И вот почему: сюжетная канва последних частей «Графа Нулина» во многом совпадает с теми событиями, что разворачивались в заключительных песнях романа Байрона «Дон Жуан». Таких сюжетных совпадений четыре (текстовых значительно больше): действие происходит в деревне (в «Дон Жуане» – в загородном доме лорда Амондевила), куда герой попадает сразу по прибытии из другой страны; главное занятие для проживающих в деревне мужчин – охота; экспозицией к основному действию служит долгий и подробно описываемый обед (в «Дон Жуане» за обедом герой ухаживает за одной из тех дам, вокруг которых строится действие); в ночь после обеда герой гуляет по спящему дому, поскольку не может заснуть.
В романе Байрона главный герой встречает в замке привидение, которое на поверку оказывается графиней Фиц-Флак. Встреча эта описана так:
«Тут мой герой невольно встрепенулся,
Решившись снова руку протянуть.
И что же? Неожиданно наткнулся
На нежную трепещущую грудь!
На этот раз рука не заблудилась:
Вздымалась грудь и даже сердце билось!»
(Песнь 16 – 122)
Читатель «Графа Нулина», уже отметивший про себя эти совпадения и не пропустивший ряда мелких деталей (Нулин, так же как и Дон Жуан, накидывает шелковый халат, прежде чем отправиться в путешествие по дому; пол скрипит и в романе, и в поэме) вправе ожидать продолжения сцены в «байроновском» духе:
«Прелестный дух испуганно дышал,
Потупившись лукаво и смущенно…»
(Песнь 16 – 122)
Но ведь и Нулин был читателем Байрона! Последние две полные песни «Дон Жуана» (15 и 16) вышли в марте 1824 года. В апреле того же года Байрон умер в Греции. Граф, с его любовью ко всему модному и новому, просто не мог не прочитать последних глав романа. Сознавал он сходство своего положения со сценой из романа Байрона или нет, но поступил как литературный герой эпохи романтизма: Нулин, так же как и Дон Жуан, «решился руку протянуть», что в данных обстоятельствах выглядело так: « И дерзновенною рукой / Коснуться хочет одеяла ».
Беда графа в том, что Наталья Павловна «задержалась» в литературе сентиментализма. Романтический натиск ей был чужд. Не то чтобы в сентиментальных романах не было измен. Но чувства там проходили длительный путь развития, для их созревания нужно было много времени (и бумаги – писем, записок). Решительный же поступок графа встретил столь же решительный отказ прежде всего потому, что так и полагалось поступать сентиментальным героиням. Для примера приведем одну сцену, где рассказ ведется от лица героини, подвергшейся столь же дерзкому посягательству: «…он взял меня опять в объятья свои, и невзирая на мой крик, покушался сделать вольности, о которых я не могу вспомнить.
...– Остановитесь, Милорд, – сказала я ему, схватив ножницы, – если не хочешь присоединить смерть мою к прочим твоим злодействам: ибо я вознамерилась лучше лишиться жизни, нежели подвергаться несчастиям, которые ты мне приготовляешь. Я не знаю, усомнился ли он в моем духе, но он продолжал свое предприятие. В сию ужасную минуту я вознесла руку свою, чтоб поразить себя; он поспешил воспрепятствовать мне, кинувшись мне на шею, и получил удар, который я для себя самой предуготовляла» (Хелм, 30 ).
Наталья Павловна обошлась без речей, но действовала столь же решительно.
Она, открыв глаза большие – В.В. Виноградов привел эту строку в качестве примера использования Пушкиным «чисто французских словосочетаний, фразеологических клише и фразовых сращений» ( Виноградов2000 , 340). В оригинале по-французски (по мнению Виноградова) эта фраза выглядит так: «ouvrir de grands yeux».
Ей сыплет чувства выписные – значит нездешние, заграничные. Выписать тогда значило – приобрести что-либо за границей. В буквальном значении это слово встречается у Батюшкова:
«Счастливые места, где нравится искусство,
Не нужны для мужей,
Сидящих с трубками вкруг угольных огней
За сыром выписным, за гамбургским журналом;
Меж тем как жены их, смеясь под опахалом,
"Люблю, люблю тебя!" – пришельцу говорят
И руку жмут ему коварными перстами!»
(«Послание к графу Велеурскому». 1809) Или:
«И роскошь золотая,
Все блага рассыпая
Обильною рукой,
Тебе подносит вины
И портер выписной,
И сочны апельсины…»
(«К Жуковскому». 1812) У А.С. Грибоедова Чацкий, в своем знаменитом монологе о «французике из Бордо», именует себя «недругом выписных лиц, вычер, слов кудрявых». И сам Александр Сергеевич в своих ранних стихах писал:
«Три комнатки простые —
В них злата, бронзы нет,
И ткани выписные
Не кроют их паркет».
(«Городок». I – 100) и
«Там во льду хранится
Бутылок гордый строй,
И портера таится
Бочонок выписной».
(«Погреб». I – 285) Применительно же к чувствам термин «выписные» приобретает оттенок не только чего-то заграничного, но и приобретенного, не своего, неискреннего, вычурного.
И дерзновенною рукой – соотнесенное со стоящим выше: наш герой, определение дерзновенная (а «дерзнуть» означает и отважиться, и осмеливаться и, что более всего подходит к данному случаю – посягнуть) иронически отсылает читателя к высокому стилю романтических поэм. Так, у Рылеева в поэме «Рогнеда» князь Владимир восклицает: «На что дерзнула в исступленье?..» В другой его поэме – «Волынский» – герой, противостоящий Бирону: «Дерзнул на пришельца один / Всю правду высказать пред троном». У Жуковского в «Певце во стане русских воинов» есть строки:
«Хвала, Щербатов, вождь младой!
Среди грозы военной,
Друзья, он сетует душой
О трате незабвенной.
О витязь, ободрись… она
Твой спутник невидимый,
И ею свыше знамена
Дружин твоих хранимы.
Любви и скорби оживить
Твои для мщенья силы:
Рази дерзнувших возмутить
Покой ее могилы». (1812)
Но, вольно или нет, в данном случае дерзновенная рука графа выглядит как ироническая перекличка с нашумевшими стихами Кюхельбекера «На смерть Чернова», написанными в сентябре 1825 г. и распространявшимися в списках ввиду скандальности дуэли К. П. Чернова с В.Д. Новосильцевым и полной невозможности для них пройти цензуру ( Лотман1996, 494–504). Нулин вечером Святую Русь бранит, а ночью дерзновенною рукой посягает на честь Натальи Павловны. А вот фрагмент стихов Кюхельбекера:
«Питомцы пришлецов презренных!
Мы чужды их семей надменных,
Они от нас отчуждены.
Так, говорят не русским словом,
Святую ненавидят Русь;
Я ненавижу их, клянусь,
Клянусь и смертью и Черновым!
На наших дев, на наших жен
Дерзнешь ли вновь, любимец счастья,
Взор бросить, полный сладострастья,
– Падешь, перуном поражен».
Перун, как известно, поражает молнией, то есть огнем (собственно «перун» с маленькой буквы и есть гроза и молния в поэтической речи). О «гибели» графа в огне – см. комментарий к части 22.
Коснуться хочет одеяла,
…
Пощечину, да ведь какую. – Отсылка сразу к двум сценам из «Орлеанской девственницы» Вольтера, в которых на честь спящей Жанны покушаются различные персонажи и каждый раз терпят поражение. Сцена из второй песни:«Монах и конюх, слуги Сатаны,
Стащили с девственницы одеяло;
Уж кости по ее скользя груди,
Должны решить, чье место впереди,
Кому из них принадлежит начало.
Монах взял верх: счастливы колдуны.
Его желания распалены,
Он прыгнул на Иоанну; но нежданно
Денис явился – и встает Иоанна.
Как слаб перед святыми грешный люд!
Соперники в смятении бегут…»
Сцена из песни четвертой (действие происходит в замке Гермафродита):
«Отыскивает он постель Иоанны,
Одергивает занавес и грудь
Рукой бесстыдной силясь ущипнуть,
К ней поцелуем приникая страстно,
На стыд небесный посягает властно;
Чем он страстней, тем более урод.
Иоанна, гневом праведным вскипая,
Могучую затрещину дает
По гнусной образине негодяя».
Из первой сцены в поэму Пушкина перекочевывают одеяло («Стащили… одеяло» – «Коснуться хочет одеяла») и последующее бегство героя, а из второй – почти буквальные цитаты: «бесстыдною рукой» – дерзновенною рукой и «гневом праведным вскипая» – гнева гордого полна ( Вершинина, 98). Сатирическая и эротическая поэма Вольтера была запрещена в России, однако широко ходила в списках. Знакомились с ней, чаще всего, в юношеском возрасте, тогда же, когда читали Апулея, Парни и нашего Баркова. Возможно, что пожелание Николая I, читавшего поэму как цензор, заменить в поэме стих Коснуться хочет одеяла, было вызвано не только его «интимностью», но и желанием молодого государя снять с поэмы налет «вольтерьянства». В.С. Баевский отметил, что стих «Пощечину, да ведь какую», – единственный на всю поэму пример использования пиррихия – пропуска метрических ударений на четных слогах ( Баевский , 145–146).
Глава 20 (Граф Нулин)(текст)
Сгорел граф Нулин от стыда,
Обиду проглотив такую;
Не знаю, чем бы кончил он,
Досадой страшную пылая,
Но шпиц косматый, вдруг залая,
Прервал Параши крепкий сон.
Услышав граф ее походку
И проклиная свой ночлег
И своенравную красотку,
В постыдный обратился бег.
(комментарий)
…шпиц косматый, вдруг залая,
Прервал Параши крепкий сон. – « Мода на маленьких комнатных собачек восходит ко второй половине XVIII в., – писал в комментарии к «Евгению Онегину» Ю.М. Лотман. – Особенно ценились собачки возможно более миниатюрные – шпицы и болонки. Дамы держали их в гостиных на коленях. Существовали специальные «постельные собачки», которых клали в кровать. (…) В начале XIX в. эта мода держалась еще в провинции и в кругах, тянущихся за уходящей модой» (Лотман1995, 700).
К сказанному можно добавить, что моду на комнатных собачек можно удревнить. Они изображались на французских гравюрах уже в XVII веке. В следующем столетии болонки, левретки и шпицы становятся не только непременным атрибутом салонной моды, но и отчетливым культурным знаком: комнатная или постельная собачка намекает на интимную жизнь светской дамы и становится свидетелем утонченной любовной игры.
Характерно, что на галантных картинах и гравюрах той эпохи маленькие собачки изображаются рядом с госпожой в трех случаях: (1) Она присутствует при утреннем туалете своей хозяйки. Таковы сюжеты французской гравюры «Знатная дама берет ванну»; немецкой – «Утренняя ванная»; а также «Утреннего туалета» Бодуэна. (2) Молодая полуодетая госпожа играет с собачкой в своей постели, как в работах Фрагонара («Баранка») и Муше («Ложись сюда»). (3) Собачка присутствует при любовной игре в спальне госпожи, как это представлено у Мондона («Семейные радости»), Г. Сент-Обена («Галантный аббат»), Бальи («Уроки супружеской любви»), Юэ («Страстный любовник» и «Объяснение в любви») (Фукс).
О том, каково было положение постельных собачек в доме на пике «собачьей моды», дает представление басня П.П. Сумарокова «Две собаки» и, в особенности, ее начало:
«У какой-то дворянки собачка жила
И была госпоже своей столько мила,
Что всегда на одной с ней постеле спала,
С ней играла, с ней ела и чай с ней пила…»
В то же время вряд ли можно решительно утверждать, что уже в начале XIX века комнатные собачки были вытеснены на обочину европейской моды. Чтобы убедиться в обратном, достаточно взглянуть на картины первой четверти XIX века «Суд Париса» Дебюкура, «Это муж» Морена, «Визит не вовремя» Вале, анонимную галантную пародию 1827 года или английскую литографию «Кринолин» (Фукс). В каждой из изображенных на этих картинах сцен присутствуют маленькие комнатные собачки самых разных пород и размеров. Наталья Павловна, пусть и провинциальная, но все же модница (вспомним прием, оказанный графу, одобренный им ее наряд, новомодный медный замок в двери ее спальни), и держать шпица по моде ушедшего века она бы не стала.
В упомянутой выше по другому поводу комедии Шаховского «Не любо не слушай, а врать не мешай» комический герой Зарницкин хвастается, что ему удалось «войти в связь» с княгиней Лидиной. И вот как:
Зарницкин
Да; вот это как случилось:
К собачкам маленьким княгиня пристрастилась,
А я уж был влюблен, так спица ей достал,
Который был так мал,
Что в день ее рожденья
Привез его ей в чашке…
Мезецкий
Суповой?
Зарницкин
Нет, в чайной.
Мезецкий
Быть нельзя!
Зарницкин
Да только пребольшой.
Княгиня вне себя была от восхищенья!
Еще одно свидетельство по-прежнему сохраняющейся моды на «постельных» собачек – шуточное стихотворение А. А. Дельвига «На смерть собачки Амики». Приведем из него несколько строк, перекликающихся с той ситуацией, в которую попал граф Нулин:
«Не делила Амика любви своей:
Нет! любила одну она Лидию;
И при ней не приближьтесь вы к Лидии
(Ах, и ревность была ей простительна!):
Она вскочит, залает и кинется,
Хоть на Марса иль Зевса могучего».
Написанные в 1821 г., эти стихи увидели свет одновременно с «Графом Нулиным», будучи помещены в том же самом альманахе «Северные цветы» на 1828 год.
Вмешательство комнатной собачки в действие – еще одна перекличка с поэмой «Модная жена». Правда, у Дмитриева «надежный друг» Фиделька предупреждает любовников о приходе мужа.
И проклиная свой ночлег И своенравную красотку, – забавное совпадение: граф мог бы проклинать свою красавицу стихами, написанными Е. А. Баратынским в том же самом 1825 г. (правда есть и другая датировка – 1829-м годом). В них слово в слово описывается то, как пытался Нулин действовать в спальне Натальи Павловны и что из этого вышло. Вот это стихотворение:
«Сердечным нежным языком
Я искушал ее сначала:
Она словам моим внимала
С тупым, бессмысленным лицом.
В ней разбудить огонь желаний
Еще надежду я хранил
И сладострастных осязаний
Язык живой употребил…
Она глядела так же тупо,
Потом разгневалася глупо.
Беги за нею, модный свет,
Пленяйся девой идеальной!
Владею тайной я печальной:
Ни сердца в ней, ни пола нет».
В постыдный обратился бег. – Возможно, шутливая перефразировка строк Жуковского из «Певца во стане русских воинов»:
«Давно ль, о хищник, пожирал
Ты взором наши грады?
Беги! твой конь и всадник пал;
Твой след – костей громады;
Беги! и стыд и страх сокрой
В лесу…»
Глава 21 (Граф Нулин)(текст)
Как он, хозяйка и Параша
Проводят остальную ночь,
Воображайте, воля ваша!
Я не намерен вам помочь.
(комментарий)
Выше мы говорили о довольно значительном совпадении сюжетных линий и отдельных деталей между «Дон Жуаном» Байрона и «Графом Нулиным». Интересно, что в этой главке поэмы Байрона и Пушкина опять пересекаются, но совершенно непроизвольно. Пушкин не мог читать последней, незавершенной главы «Дон Жуана» (она была опубликована только в 1903 году), а между тем в этой главе автор тоже отказывается говорить о том, что происходило ночью, после того, как герой распознал в «привидении» женщину:
«Итак, остался мой прекрасный дон
В том щекотливом «лунном» положенье,
Когда принять мужчина принужден
Без колебаний смелое решенье.
Но сохранил ли добродетель он
Иль сгоряча поддался искушенью, —
Я не скажу, меня не подкупить:
Вот разве поцелуем, может быть».
Объяснить такое совпадение можно тем, что художественные приемы и «Дон Жуана», и «Графа Нулина» восходят к «Орлеанской девственнице», а там, в четырнадцатой песне, применен тот же прием. Описывая действия английского полководца по отношению к красавице-француженке, встреченной им в храме, рассказчик произносит:
«Я не намерен, о великий Боже,
Описывать читателям-друзьям,
Краснеющим перед таким вопросом,
Что было дальше сделано Шандосом».
Но, в отличие от «Орлеанской девственницы» и «Дон Жуана», пушкинское отступление – это не только очередное приглашение к «додумыванию» поступков персонажей читателем. Это и еще один случай «перевоплощения» рассказчика в кого-то из действующих лиц. Ворчливо-сердитый тон этих четырех строк может трактоваться как явное недовольство рассказчика недостойным поведением графа, но и как воплощение досады Нулина на себя, хозяйку и все окружающее (И проклиная свой ночлег / И своенравную красотку).
Воображайте, воля ваша! – рассказчик, бросает слушателям фразу, смысл которой – делайте что хотите, но без меня. Между тем, у нее может быть и подтекст, понятный лишь небольшому друзей Пушкина и Вяземского. Граф Нулин, находясь в деревне и убегая от собачки, мог вспомнить строки стихотворения П.А. Вяземского «Прелести деревни (с французского)», написанного в 1821 г. и опубликованного в еженедельнике «Новости литературы» в 1824 г.:
«С собачкой стадо у реки:
Вот случай мне запеть эклогу!
Но что ж? – Бодаются быки,
А шавка мне кусает ногу!»
Заканчивается это стихотворение так:
«Нет, воля ваша, господа!
Но деревенские забавы
Найду без лишнего труда,
Не отлучаясь от заставы».
Пушкин в своих произведениях много и охотно цитировал Вяземского. Это замечено уже давно ( Бицили ). Добавим, к числу уже имеющихся наблюдений, еще и это.
Глава 22 (Граф Нулин)(текст)
Восстав поутру молчаливо,
Граф одевается лениво,
Отделкой розовых ногтей
Зевая занялся небрежно,
И галстук вяжет неприлежно,
И мокрой щеткою своей
Не гладит стриженых кудрей.
О чем он думает, не знаю;
Но вот его позвали к чаю.
Что делать? Граф, преодолев
Неловкий стыд и тайный гнев,
Идет.
Проказница младая,
Насмешливый потупя взор
И губки алые кусая,
Заводит скромно разговор
О том, о сем. Сперва смущенный,
Но постепенно ободренный,
С улыбкой отвечает он.
Получаса не проходило,
Уж он и шутит очень мило
И чуть ли снова не влюблен.
Вдруг шум в передней. Входят. Кто же?
«Наташа здравствуй».
– Ах, мой Боже!
Граф, вот мой муж. Душа моя,
Граф Нулин. —
«Рад сердечно я.
Какая скверная погода!
У кузницы я видел ваш
Совсем готовый экипаж.
Наташа! Там у огорода
Мы затравили русака…
Эй, водки! Граф, прошу отведать:
Прислали нам издалека.
Вы с нами будете обедать!»
– Не знаю, право, я спешу.
«И, полно, граф, я вас прошу.
Жена и я, гостям мы рады.
Нет, граф, останьтесь!»
Но с досады
И все надежды потеряв,
Упрямится печальный граф.
Уж подкрепив себя стаканом,
Пикар кряхтит за чемоданом.
Уже к коляске двое слуг
Несут привинчивать сундук.
К крыльцу подвезена коляска,
Пикар всё скоро уложил,
И граф уехал… Тем и сказка
Могла бы кончиться, друзья;
Но слова два прибавлю я.
(комментарий)
В этой главе перед нами предстает как будто совсем другой человек, и высокопарное «восстав по утру» чрезвычайно характерно для поведения графа после ночной сцены. От вчерашнего щеголя осталась лишь бледная тень – отделка розовых ногтей. Небрежность этой отделки, подчеркнутое невнимание к костюму, сознательная неаккуратность прически указывают на некий иной, ранее не свойственный графу стиль поведения. Описать этот стиль можно так: романтический герой-изгнанник, противостоящий «условностям света», уже не как денди, превосходящий их презрением, а как байронический бунтарь, гневно их отвергающий.
Ключ к этой перемене – торжественное «восстав», символизирующее смерть и возрождение героя и перекликающееся с чуть более поздним: «Восстань, пророк… / Глаголом жги…» (II – 339). «Смерть» героя исподволь описана выше, в тех частях поэмы, которые посвящены его ночному приключению. Сначала « несносный жар его объемлет », затем он бродит по дому « желаньем пламенным томим ». И наконец, наступает кульминация: «Сгорел граф Нулин от стыда… Досадой страшною пылая».
Утром он, как птица Феникс, возрождается из пламени ночного унижения другим человеком. Точнее говоря, он мнит себя таковым – новым романтическим героем, отбросившим привычки фата и щеголя. Впрочем, и рассказчик, похоже, готов убедить нас в том же. Если раньше для него не составляло труда прочитать мысли графа и угадать его побуждения, то теперь Нулин предстает перед нами совершенно новым человеком и повествователь растерян: « О чем он думает, не знаю… »
Граф одевается лениво, Не гладит стриженных кудрей. – Почти дословный пересказ 29 строфы XVI Песни «Дон Жуана»:
«Мой Дон Жуан оделся. Сей обряд
Обычно развлекал его немало,
Но в этот день его унылый взгляд
И зеркало почти не занимало.
Он локоны расправил наугад
И застегнул жилет довольно вяло,
И галстук у него на левый бок
Подвинулся – почти на волосок».
И галстук вяжет неприлежно – умение правильно и точно повязать галстук – одно из главных требований «модного поведения» той эпохи (что видно уже по приведенным выше байроновским строчкам). Один из основных способов, по свидетельству современника, был таким: «Основание галстука образовывала тоненькая «машинка» (…) составленная из целого ряда бесчисленных узких спиралей тончайшей медной проволоки, покрытой коленкором и окаймленная тонкой козьей или заячьей кожею. Эта машинка, шириною до трех вершков [чуть более 13 сантиметров. – Авт. ] весьма аккуратно плотно завертывалась в слабо накрахмаленный, тщательно выглаженный платок из тончайшего батиста. (…) Эта несколько массивная повязка прилаживалась серединою своею к передней части шеи, покрытой широким, кверху торчащим, крепко накрахмаленным и до самых ушей доходящим батистовым же воротником рубахи и, обвив довольно плотно всю шею, завязывалась спереди в виде широкого банта, концы которого украшались иногда весьма искусною вышивкою» ( Арнольд, 333). Ироническое звучание слова «неприлежно» сейчас не чувствуется, а в то время быть прилежным означало «трудиться усердно, ревностно заниматься, старательно работать» ( Даль , III, 71).
О чем он думает, не знаю . – Отсылка к XCIV строфе поэмы Байрона «Беппо», начинающейся строчками: «Что Беппо отвечал своей жене – / Не знаю» (пер. В. Левика).
Но вот его позвали к чаю . – Чай в усадьбе заменял завтрак. Он подавался рано утром или в спальни господам, или в общую залу и был распространен в гораздо большей степени, чем кофе – напиток в то время редкий и непривычный. Чай (самым лучшим считался китайский) заваривали в фарфоровом или медном чайнике. К чаю полагались булочки, крендельки, печенье, тартинки с маслом. Встреча за чаем – второе непреднамеренное совпадение «Графа Нулина» и семнадцатой песни «Дон Жуана».
Что делать?.. – вопрос заведомо риторический. Граф не мог покинуть дом, не откланявшись. Легче всего это было сделать за полуофициальной трапезой. Собственно за тем граф и направляется в столовую, «…преодолев / Неловкий стыд и тайный гнев».
Неловкий стыд… – неловко – значит неудобно, неумело и некстати ( Даль, II, 262). Соответственно стыд за ночное поведение лишает графа прежнего умения вести себя с дамой и делает его положение в доме неудобным, а все слова, сказанные при утренней встрече – не к месту и некстати. Через полчаса, усилиями Натальи Павловны, неловкость пропадает, что не преминул заметить рассказчик: « Уж он и шутит очень мило… »
…тайный гнев , – эпитет тайный неотвратимо напоминал любителю поэзии сразу все творчество В.А. Жуковского, в лирике которого (помимо неоднократно встречающихся «тайны» и «таинственного») можно найти «тайную Лету» (Элизиум»), «тайное стремление» и «тайное ожиданье» («Тургеневу, в ответ на его письмо»), «тайного вождя» («Славянка»), «тайный праг» («Цвет Завета»), «тайную страсть» («В.А. Перовскому»), «тайную жертву» («Теснятся все к тебе во храм…»); «тайный рок» («Ахилл»), а в балладе «Вадим» – «тайного вождя-хранителя», «тайную руку» и «тайны чудеса». С легкой руки Жуковского эпитет «тайный» вошел в регулярный словарь романтической и элегической поэзии. И вот уже мы читаем у П. А. Вяземского о «тайном умиленье» («К друзьям». 1814 или 1915) и «тайных мечтах» («Море». 1826); у В. К. Кюхельбекера о «тайных мыслях» («Элегия». 1817) и «тайном содроганьи» («Массилия». 1821); у К. Ф. Рылеева о «тайных думах» («Державин». 1822) и «недруге тайном» («Бестужеву». 1825); у Е. А. Баратынского о «тайных горести плодах» («Эда». 1824); а у молодого А. С. Пушкина о «тайном плоде любви» («Романс». 1814), «тайной тоске» («Мечтатель». 1815), «тайном страхе» («Окно». 1816) и «тайных слезах» («Элегия». «Я видел смерть…». 1817). Соответственно тайный гнев графа Нулина свидетельствует одновременно и о крушении романтических планов, и о вынужденно элегическом настроении, помимо самого простого и очевидного – необходимости скрывать свое разочарование.
Проказница младая… – этот оборот должен был вызвать у подготовленного читателя массу ассоциаций, поскольку эпитет «младая» стал литературным штампом, по крайней мере, со времен Державина и его знаменитых стихов «Приглашения к обеду». Строки: «Не смеют слуги и дохнуть, / Тебя стола вкруг ожидая; / Хозяйка статная, младая / Готова руку протянуть…» – перекликаются и со сценами обеда и утреннего чая в пушкинской поэме. Другой ряд ассоциаций – поэзия В. А. Жуковского, откровенно злоупотреблявшего этим эпитетом. Применительно к положению графа Нулина на ум приходили строки из его стихотворения 1824 года «Таинственный посетитель»:
«Кто ты, призрак, гость прекрасный?
К нам откуда прилетал?
Безответно и безгласно
Для чего от нас пропал?
Где ты? Где твое селенье?
Что с тобой? Куда исчез?
И зачем твое явленье
В поднебесную с небес?»
«Не Надежда ль ты младая,
Приходящая порой
Из неведомого края
Под волшебной пеленой?
Как она, неумолимо
Радость милую на час
Показал ты, с нею мимо
Пролетел и бросил нас».
Если же искать примеры литературных «проказниц», то лучше всего подошла бы под сравнение с Натальей Павловной то, это, конечно Пелагея Николаевна Всеволожская, которой посвящены стих П.А. Вяземского «Простоволосая головка»:
Простоволосая головка,
Улыбчивость лазурных глаз,
И своенравная уловка,
И блажь затейливых проказ —
Всё в ней так молодо, так живо,
Так не похоже на других,
Так поэтически-игриво,
Как Пушкина веселый стих.
Но граф Нулин этих стихов знать не мог. Они написаны в 1928 году, а опубликованы в 1829-м. Впрочем, если он интересовался поэзией, то мог бы, выходя к Наталье Павловне, повторять про себя строки из стихотворения В.Л. Пушкина «К***»:
«…Чего желать мне боле?
Проказничать, шутить, смеяться в вашей воле.
Вы все любезны мне, хоть я на вас сердит…» (1816)
Насмешливый потупя взор
Заводит скромно разговор. – Здесь в «Графе Нулине» на сюжет Плутарха и поэмы Шекспира накладывается еще один – истории, изложенной в восьмой книге «Золотого осла» Апулея. Некий Тразилл, влюбленный в жену приятеля, зазвал его на конную охоту и убил. Открыв свою страсть Харите – жене убитого, он получает приглашение прийти к ней ночью. Харита, решившись мстить Тразиллу, сначала ослепляет его, после чего рассказывает о случившемся «всему народу» и закалывается мечом. Месть Натальи Павловны как раз и состоит в том, что она «ослепляет» графа, заставляя его заново почувствовать себя влюбленным.
Книга Апулея была очень хорошо известна в то время, и, надо думать, не один Пушкин в отроческие годы « Читал охотно Апулея, / А Цицерона не читал…» (V – 165). Достаточно сказать, что самая читаемая поэма конца XVIII века – «Душечка» И.Ф. Богдановича опиралась на сюжет, изложенный в 4, 5 и 6 книгах «Золотого осла».Вдруг шум в передней. Входят. Кто же? – иронически воспроизводится типичный сюжет галантных историй и картин XVIII – начала XIX века: муж возвращается с охоты и встречает жену в объятиях другого. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить картину Мосли «Неожиданное возвращение» (1770) и английскую гравюру «Неверная жена» (1820). При всей разнице мод и обстановки содержание абсолютно совпадает: муж в охотничьем костюме и с хлыстом в руках стоит в дверях, а жена находится в объятиях любовника (Фукс, 68 и 228). Мысль о типичности ситуации волей-неволей приходит в голову всем участникам сценки, но каждый справляется с ней по-своему.
– Ах, мой боже!
…Душа моя,
– оба выражения представляют собой галлицизмы – буквальный перевод на русский язык французских выражений mon dieu и mon ame. Они были чрезвычайно распространены в светских кругах, поскольку мысль сначала формулировалась на французском, а потом переводилась на русский. Для Натальи Павловны эти выражения – знаки принадлежности к светскому обществу (а для читателя – напоминание о воспитании ее в пансионе). Ответная речь мужа резко контрастирует со словами Натальи Павловны. В ней только одно иностранное слово – экипаж. В остальном он использует чисто русские, «деревенские» и простонародные обороты: «рад сердечно…», «скверная погода…» «прошу отведать…» и т. д.Эй, водки! Граф, прошу отведать:
Прислали к нам издалека. – хвастаться присланной водкой тоже снобизм, но особого рода. Поскольку с 1716 года исключительное право на производство «хлебного вина» принадлежало дворянству, то водку – хлебное вино двойной перегонки, настоянное на травах или ягодах – приготовляли практически в каждом поместье, до ста ведер в сезон. По свидетельству специалиста, уже «в конце XVIII века имелось свыше сотни различных марок водки, каждая из которых обладала особым, часто едва уловимым, но, тем не менее, несомненным отличием» ( Похлебкин , 234). Один из мемуаристов того времени выделял несколько основных сортов водки: красная, желтая, зеленая, белая, сладкая, ликеровая, пуншевая (Русский быт…, 102 ).
Ром на охоте и водка не собственного производства, а купленная и привезенная издалека, выдают в муже Натальи Павловны истинного знатока и ценителя крепких напитков. Предположить, откуда могла быть прислана водка, мы можем на основании записок еще одного современника – С. П. Жихарева. Приводя расценки на напитки в Москве в 1806 году, он называет два сорта водки «бордосскую» и «кизлярскую» (Жихарев, 236). Бордосская водка – французская «вейновая», то есть приготовленная не из пшеницы или ржи, а из винограда (в свое время Екатерина II предприняла неудачную попытку насадить «вейновую водку» в России) и стоила дорого – З рубля 50 копеек за штоф. Кизлярская водка производилась на Северном Кавказе и стоила дешевле – 2 рубля за штоф. Если догадка о службе мужа Натальи Павловны на Кавказе верна, то ему должна была нравиться именно кизлярская водка, напоминающая о его военной молодости.Вы с нами будете обедать!
…
Нет, граф, останьтесь! – Создается впечатление, что хозяин дома, следуя традиции, настойчиво уговаривает гостя остаться обедать, и почти наверняка задержаться еще на день. Он даже произносит обязательную формулу: Жена и я, гостям мы рады. Но она немного запаздывает и звучит фальшиво. Ее место должно быть в триаде: рад видеть – плохая погода – останьтесь. Однако в речи хозяина третьей стоит фраза: « У кузницы я видел ваш / Совсем готовый экипаж ». А это отнюдь не тонкий, как писал Ю. Айхенвальд ( Айхенвальд , 136), а вполне грубый и откровенный намек: пора уезжать. Это тем более должно быть ясно, что далее следует демонстративное обращение к жене и только потом хозяин как бы «вспоминает», что гость еще стоит перед ним, и произносит традиционную формулу гостеприимства.Упрямится печальный граф . – Быстрое согласие хозяина на отъезд гостя по провинциальным понятиям того времени граничило с оскорблением. Поэтому гость и хозяин играют заранее известные роли: хозяин уговаривает графа остаться (оберегая репутации и свою, и гостя), тот же «упрямится», как бы заставляя себя уговаривать. Пикар кряхтит за чемоданом . – Косвенное свидетельство холодности хозяина дома к графу. Дворовые люди, отлично чувствуя настроение барина, не помогают слуге гостя, и тому приходится трудиться в одиночку. Причем кряхтеть (или крехтать) означало одновременно и пыхтеть от тяжести ноши, и делать что-либо неохотно, без желания. Недаром строкой выше было сказано, что Пикару потребовалось подкрепиться – то есть (по одному из значений этого слова) придать себе твердости.
…Тем и сказка
Могла бы кончиться, друзья — использованное здесь определение жанра повествования – сказка – было хорошо знакомо первым читателям поэмы. Литературная сказка классицистической поэзии теснейшим образом переплетается с басней, отличаясь от нее главным образом тем, что в басне действуют представители живой и неживой природы, а в стихотворной сказке – люди ( Соколов ). Подзаголовок «сказка» ставили к своим произведениям М.М. Херасков («Клад»), Я.Б. Княжнин («Фрол и Лиза», «Судья и вор» и др.), П.П. Сумароков («Способ воскрешать мертвых»), Д.И. Хвостов («Взаимная чувствительность») П.А. Вяземский («Визирь Гасан») и еще многие их современники.
Классицистическая стихотворная сказка так же назидательна, как и басня. Ее главная (а может быть и единственная) задача – высмеивать порок. Если бы поэма «Граф Нулин» была «настоящей» сказкой, она должна была бы выглядеть примерно так, как сказка Б.К. Бланка «Поспешность», тем более что и здесь и там был использован один и тот же сюжетный ход – поломка кареты:«Еще сегодня же поспею я в Москву, —
Сказал приятелям молодчик самый модный,
Живя в деревне подмосковной. —
Климена ждет меня к себе на рандеву».
В коляску заложа лошадок, погоняет,
Взвивает пыль столбом, прохожих ослепляет.
Уж лошади в поту едва-едва бегут,
А их, сердечушек, еще-таки все бьют.
Как жалки бедные творенья,
Которые глупцов подобных повеленья
Должны всечасно исполнять!
им отдыху свой век, конечно не видать.
Меж тем молодчик наш, как молния, мелькает;
Прохожего встречает.
«Далеко ль до Москвы?» – «Не очень далеко,
Еще до вечера поспеть вам можно —
Хоть солнце уж не высоко —
Лишь только ехать тише должно».
Тогда прохожего ударив раз, другой,
Прикрикнул на удалых снова,
И снова вихрем он летит…
Но ах! судьба сурова
По-своему вертит!..
Вдруг ось ломается, коляска упадает;
Нет способа помочь!
Поспешность тут свою молодчик проклинает
И вместо рандеву, в грязи проводит ночь!» (1806)
Ироническая отсылка читателей поэмы к жанру стихотворной сказки – фрагмент литературной игры с читателем и своего рода провокация, цель которой – вызвать возмущение сторонников и проповедников классицизма явным несоответствием содержания поэмы тому жанру, к которому автор как бы пытается ее причислить. С другой стороны, называя свою поэму сказкой, Пушкин заставляет читателя вспомнить не только череду «правильных» сказок (то есть сказок-басен), но и небольшую фривольную поэму Я.Б. Княжнина «Попугай» (1788–1790), которой автор дал подзаголовок «Не поэма, так сказка». Взяв за основу сюжет поэмы Жана-Батиста Грессе "Ver-Vert", Княжнин написал свою поэму на грани приличий своего времени. А так как за автором закрепилась репутация гонимого властями, то интерес к «Попугаю» (имевшему существенные различия в рукописном и печатном вариантах) в первой трети XIX в. был весьма велик ( Кулакова, 27).
Сходство между поэмами Пушкина и Княжнина не сюжетное, а стилистическое. Их тексты разбиты на короткие, неравные по числу строк главки. Свободное, близкое к устной речи, повествование время от времени прерывается авторскими отступлениями. Сближает оба произведения и использование рассказчиком и персонажами французских выражений, вкрапленных в русскую речь.
Продолжая же игру в «сказку», Пушкин помещает в конце поэмы своеобразное послесловие и «мораль», подобно тому, как это делали авторы «настоящих» сказок. В качестве иллюстрации приведем сказку Н.Ф. Остолопова «Знай время», написанную в 1827 г., до появления в печати «Графа Нулина». Совпадение послесловий в сказке и в поэме кажется абсолютным, если не знать, что одно из них написано всерьез, а другое – как пародия. В сказке Остолопова дьячок рассказывал крестьянам о метеоре. И вот ее послесловие и мораль, выраженная латинским conclusio:«Назавтра в колдуны ученый наш попался,
От них в безбожники один лишь только шаг,
И, наконец, во всех окружных волостях
О дьявольском его художестве узнали;
Крестьяне, встретясь с ним, крестились и дрожали
И приглашать к себе на праздники не стали.
Дьячок!.. conclusio: с невеждами молчи
И бисера пред ними не мечи».
Глава 22 (Граф Нулин)(текст)
Когда коляска ускакала,
Жена все мужу рассказала
И подвиг графа моего
Всему соседству описала.
Но кто же более всего
С Натальей Павловной смеялся?
Муж? – Как не так. Совсем не муж.
Он очень этим оскорблялся,
Он говорил, что граф дурак,
Молокосос; что если так,
То графа он визжать заставит,
Что псами он его затравит.
Смеялся Лидин, их сосед,
Помещик двадцати трех лет.
(комментарий)
У автора есть и формальное право продолжать повествование после отъезда графа: история Лукреции заканчивается трагической сценой. В примечаниях к тексту Плутарха в издании 1815 г. эта сцена выглядит так: «Тит Ливий пишет, что сия добродетельная женщина призвала мужа, отца, родственников и друзей, объявила им в кратких словах несчастие, ей приключившееся, просила об отомщении за свою честь и в ту же минуту поразила себя мечом. Между тем как горесть и отчаяние обладали мужем и другими, Люций Юний, иначе по его притворно глупому виду известный по имени Брута, вырвал из груди Лукреции окровавленный меч и клялся отомстить за учиненное бесчестие» ( Плутарх , 88–89).
Все основные элементы этой сцены в пушкинском тексте сохранены (за исключением самоубийства, конечно), хотя и несколько перегруппированы. Концовка поэмы разделена три части: публичное признание мужу, торжественное обещание отомстить и сочувствие положению хозяйки со стороны «друга семьи».
Признание Натальи Павловны произошло не просто в кругу семьи, но перед «всем соседством». Это последний и очень эффектный штрих в картине усадебной жизни того времени. Наталья Павловна, помня о слугах и возможных пересудах, не менее древней римлянки должна была опасаться за свою честь. Дворянство в деревне жило своим очень тесным кругом. Слухи в нем распространялись очень быстро, и диктат общественного мнения был ничуть не слабее, чем, скажем, при дворе. Бесцеремонность и свойская непринужденность деревенских соседей порой граничили с нахальством. «А вот еще деревенское удовольствие, – писал приятелю один из немногих заядлых урбанистов той эпохи, Ю.А. Нелединнский – любезные соседи! Пожалуют с 9 часов утра и на каждый день»! ( Оболенский , 241)
Казалось бы, явная гипербола. Но вот еще одно свидетельство – фрагмент письма А.А. Баратынского П.А. Вяземскому от 29 декабря 1809 года: «По приезде моем в деревню ежедневно собирался я вам напомнить о себе, любезный князь, но как-то не удавалось, и я оставался при благом намерении… Набег целой орды соседей отнял у меня на дело время» ( Баратынский , 59).
Практически все общение дворянина с равными себе, проходило «в гостях». Строго следя за очередностью визитов, высчитывая первенство по старшинству и положению, они то отправлялись в гости, то принимали гостей сами или как отмечал еще один живописатель нравов той эпохи, «в деревнях дворяне или помещики любят ездить в гости из одного села в другое, таща с собой в нескольких экипажах почти весь свой причт слуг и служанок» ( Бурьянов , 141).
При такой интенсивности общения трех-четырех десятков семей все разговоры велись о знакомых и их делах. Как писал К. Н. Батюшков в своей статье «Похвальное слово сну» (опубликованной в «Вестнике Европы» в 1810 и 1816 годах): «…в деревне нельзя быть без общества; соседи мои люди деятельные; с ними нужно говорить, ездить на охоту, заводить тяжбы, мирить, ссорить и проч. и проч.» ( Батюшков , 278).
Свежих новостей в провинции по понятным причинам всегда не хватало, и слухи о ночном приключении графа, передаваемые сначала дворней, а потом и господами, могли сделать жизнь Натальи Павловны невыносимой. Единственный выход – самой представить на суд соседей поступок графа и изложить его в выгодном для нее свете.
Он говорил, что граф дурак,
Молокосос; — слово дурак помогает выстроить целую цепочку рассуждений мужа Натальи Павловны. Дурак – не просто ругательное слово. Оно вызывало в памяти читателя целый ряд басенных «дураков», начиная с философской басни И. И. Хемницера «Дурак и тень» и кончая знаменитым афоризмом И. А. Крылова: «услужливый дурак опаснее врага» из басни «Пустынник и медведь».
Однако к данной ситуации более всего подходят две басни. Первая – А. Е. Измайлова «Поединок» – о несостоявшейся дуэли осла и лошака, начинавшаяся так: «Осла нечаянно толкнул лошак. "Смотри же ты дурак! / – Осел мой закричал. / – Как смеешь ты толкаться?"». А заканчивалась, как полагается, моралью: «Что, если бы велели / Мальчишек розгами за поединки сечь?» Может быть потому, что муж Натальи Павловны считал себя одурачнным, в его сознании выстроился ряд: дурак – осел – мальчишка – молокосос, и, соответственно, отказ от мысли о дуэли и желание расправиться с обидчиком при помощи собак.
Вторая басня – «Голова и ноги» Дениса Давыдова. Концовка ее выглядит следующим образом: «Смысл этой басни всякий знает… / Но должно – тс! – молчать: дурак, кто все болтает». Если мужу Натальи Павловны пришла на ум именно эта басня, то рассуждения его очевидны: граф человек не серьезный, может разболтать о своем конфузе, косвенно опозорив и его – полуодураченного мужа.
В цитированном уже выше стихотворении В.Л. Пушкина «Вечер», ориентированном на традиции басни-сказки, есть такие строки о старом муже Скопидомове, «купившем» себе молодую жену:«Не правда ль, что в жене находит он врага
И что она ему поставила рога?
…
Бог наградил его прекрасною женою!
Да полно, сам дурак всем шалостям виною.
Не он один таков: в Москве им счета нет!»
Дальнейший ход мыслей мужа Натальи Павловны: « Собаками его затравит », – тем более очевиден, что в то время существовала давняя и прочная традиция давать кличку Дурак охотничьим собакам. Так, в шуточном стихотворении Г.Р. Державина «Милорду, моему пуделю» антиподом комнатной собачке выступает дворовый пес – «велик могущ Дурак». Примерно в те же годы (первое десятилетие XIX в.) С.П. Жихарев, уезжая на лето из Москвы в Липецк, ходил на охоту сразу с «двумя преогромными польскими легавыми, которым кличка: Дурак № 2 и Дурак № 3» ( Жихарев , 100), подаренными ему местным лесничим. Пожилым читателям первого издания поэмы строка «…графа он визжать заставит » должна была напомнить «сказку» Н.В. Леонтьева «Разумный и дурак», в которой есть такие строки:
«С налету мужику дурак дал оплеуху.
Мужик, взбесясь, схватил, давил его как муху.
Дурак под ним визжал;
Оплаты таковой отнюдь не ожидал…» (1766)
Но, вероятнее всего, «визжащий дурак» двух произведений – чистое совпадение, вызванное частичной ориентацией поэмы «Граф Нулин» на стилевые образцы классицистической басни и сказки.
Смеялся Лидин… – Выше мы отмечали, что фамилия Лидин впервые появилась в комедии А.А. Шаховского «Не любо – не слушай, а лгать не мешай». У другого автора – П.А. Катенина, в известной уже нам комедии «Сплетни», одно из главных действующих лиц – калужский помещик Лидин, двадцати лет. Вот его характеристика, вложенная в уста одного из персонажей: «…ни статский, ни военный, / Ни умной, ни дурак, пресыщен сам собой Кокетка из мущин…».
В отличие от Катенина, Пушкин не дал соседу Натальи Павловны никакой характеристики, кроме той, что содержится в самой фамилии. Но для читателя, воспитанного на греческих авторах, этого было вполне достаточно. Любой, кто хотя бы начинал читать Геродота, мог разгадать несложную символику фамилии Лидин. Первая книга его «Истории» начинается с описания Лидии – самого могущественного государства Малой Азии начала VI века до н. э., и жизни лидийского царя Креза, по преданиям, самого богатого человека на земле. В 547 г. до н. э. персидский царь Кир захватил Лидию и пленил Креза.
К чему читателю эти, казалось бы, совершенно посторонние сведения? А к тому, что «История» Геродота входила в круг обязательного школьного чтения, и даже самый ленивый ученик, скорее всего, добирался до того места, где описывалось восстание покоренных лидийцев в городе Сарде, намерение разгневанного Кира обратить их всех в рабов и совет, данный ему Крезом: «самим лидянам даруй прощение, а чтобы они не бунтовали против тебя… запрети им носить оружие, прикажи надеть хитоны под верхнее платье и подвязывать высокие башмаки [элементы женского одеяния. – Авт .], вели им также обучать своих детей игре на кифаре и на арфе, и торговать, и ты царь, скоро увидишь их женщинами…» ( Геродот , 82). Через некоторое время после исполнения этого совета сильный и воинственный народ обратился в людей слабых, изнеженных и избалованных – женственных.
Лидин в поэме – молодой человек, не служащий и живущий в деревенской праздности. «Говорящая» фамилия дополняет его образ указанием на воспитание, образование, привычки и даже характер.
Возможно, впрочем, что имя Лидин должно было напомнить читателю о другой истории, взятой также у Геродота и обыгранной в маленькой поэме А.И. Бухарского «Наказанное хвастовство» (1793), имеющей подзаголовок «Сказка, взятая из истории». В этом рассказе (и, соответственно, поэме) царь Лидии Кандол, хвастаясь перед своим другом Гигесом красотой своей жены, пожелал, наконец, чтобы тот увидел ее обнаженной. Он провел Гигеса в спальню царицы и спрятал там. Обнаружив у себя Гигеса и узнав, что тот подсматривал за нею по настоянию Кандела, возмущенная царица в поэме Бухарского произносит:«Когда все так, я говорю,
То гнев свой весь я усмирю;
Но чувства им мои пылают —
Я гнев к супругу обращу;
Он винен, так ему отмщу,
Как женщины мужьям отмщают».
Что же касается Гигеса, то:
«Царев любимец сей расстроен,
Вспален, испуган, восхищен,
В различны страсти погружен,
Не знал, как с делом развязаться;
Но должен был царице сдаться».
Возможно, Пушкин и не вспоминал о поэме Бухарского, когда писал «Нулина», но, тем не менее, существует еще одно пересечение между этими двумя поэмами. Нулин, прежде чем отправиться в спальню Натальи Павловны, « Воображает очень живо » ее черты: стан, румянец, ножку. Гигес, находясь в спальне царицы, видит: «Смешенны с розами лилеи, / Упругость груди, негу шеи, / Стан, ножку…» В результате и тот и другой загораются желанием: Гигес «горел и трепетал», а Нулина объял «несносный жар».
…их сосед, Помещик двадцати трех лет. – Прозрачный (особенно при сопоставлении с историей царя Кандела) намек на домашние обстоятельства Натальи Павловны, вследствие которых граф Нулин не добился ее благосклонности. Более откровенно по поводу такого рода «семейных отношений» Александр Сергеевич выразился в послании «К Родзянке» (май 1824 г.):
«(…), замечу я,
Благопристойные мужья
Для умных жен необходимы:
При них домашние друзья
Иль чуть заметны, иль незримы.
Поверьте, милые мои:
Одно другому помогает,
И солнце брака затмевает
Звезду стыдливую любви». (II – 266)
Выше мы отмечали, что появление «друга» хозяйки было ожидаемо в свете традиций литературной сказки. Другое дело, что им оказался не Нулин, а сосед. Но и это вполне предсказуемо. Более того, можно предположить существование литературного прототипа Лидина. Это Милов из сказки А.И. Клушина «Лунатик поневоле» (1793). В этой фривольной поэме события развиваются в деревне, куда сорокалетний отставной офицер увез воспитанную в столице молоденькую жену. А рядом живет «модный дворянин». Вот его описание:
«Имел деревни, деньги, чин,
Умел пришаркнуть, изгибаться,
По моде быть одет, чесаться,
На языке залет, резец,
Из франтов мудрый молодец!
Ума он не имел – и стало,
В нем ничего недоставало
Чтоб женщину собой пленить».
«Вчера вечернею зарею / Приехал Милов, наш сосед», – сообщает жена своему мужу в поэме Клушина. Согласимся, что строчка: « Смеялся Лидин, их сосед », – чрезвычайно напоминает это сообщение и заставляет читателя восстановить в памяти сюжет старой поэмы.
Глава 24 (Граф Нулин)(текст)
Теперь мы можем справедливо
Сказать, что в наши времена
Супругу верная жена,
Друзья мои, совсем не диво.
(комментарий)
Якобы нравоучительный тон рассказчика в заключительной части поэмы приводит литературную игру к ее логическому концу. С одной стороны, мораль завершает ироническую параллель античности и современности. С другой – этим финалом поэма как бы превращается в подобие басни или сказки, как понимали этот жанр в литературе классицизма второй половины XVIII – начала XIX в. Оборот: «мы можем справедливо / Сказать» – обращает читателя к традиционной басенной концовке в духе Лафонтена и его русских последователей середины XVIII века. Еще в 1762 г. А. П. Сумароков завершил свою изящную миниатюру «Коловратность» подобной конструкцией: «И видно нам неоднократно, / Что все на свете коловратно».
Так же завершалась басня М.М. Хераскова «Две щепки»:
«Мы видим в наши веки
Сияющих умом и славой в темноте:
Сиянье пропадет, лучи погаснут те,
Когда увидят их разумны человеки». (1764)
Этот шаблон сохранился и в первой четверти XIX в. По крайней мере, две басни Крылова заканчиваются тем же речевым оборотом:
«Про нынешних друзей льзя молвить не греша,
Что в дружбе все они едва ль не одиноки.
Послушать, кажется одна у них душа, —
А только кинь им кость, так что твои собаки!»
(«Собачья дружба», 1815)
и
«Примолвить к речи здесь годится,
Но ничьего не трогая лица,
Что делом, не сведя конца
Не надобно хвалиться».
(«Синица», 1811)
Тут следует, видимо, еще раз вернуться к И.И. Хемницеру, поскольку тон и содержание заключительной главки чрезвычайно напоминают целых две басни этого писателя. Одна из них – «Счастливое супружество» (1782) – начинается так:
«Вот говорят, примеров нет,
Чтоб муж в ладу с женою жили
И даже и по смерть друг друга бы любили.
(…)
Я сам свидетелем тому,
Что и согласие в супружествах бывает,
И тот, кто этому не верит, согрешает.
А вас, клеветников, чтоб навек устыдить,
Я буду вам пример живой здесь говорить».
В конце же ироническая «мораль»:
«А сколько лет их веку было?
Да сколько лет? С неделю и всего; А без того
На сказку б походило».
У второй басни – «Вдова» (1799) – такое же патетическое начало:
«Нет, полно больше согрешать
И говорить, что жен таких нельзя сыскать,
Которые б мужей сердечно не любили
И после смерти бы их тотчас не забыли».
И такой же «разоблачительный» финал:
«Ужли б и впрям зарыть себя она дала? —
Нет, так бы замужем чрез месяц не была».
Финал поэмы «Граф Нулин», таким образом, характеризует только одного героя – самого рассказчика, предстающего перед читателем (слушателем) в образе новейшего Стародума. Этому способствует и оборот «совсем не диво», явным образом отсылающий читателя к еще одной сказке с тем же названием и содержанием, что и у Хемницера – «Счастливое супружество» (оба автора переводили басню Геллерта). Автор этой сказки, изданной в 1812 г., Н. В. Неведомский. Начиналась она так:
«Какой уж ныне свет!
В нем правды ныне нет».
– Зачем судить так ложно? —
Что в век наш золотой
Нигде, никак найти не можно,
Чтоб не был муж какой
С рогатой головою!
И в добром мире жил с любезною женою!»
Здесь отчетливо читаются параллели: «в наш век» – «в наши времена»; «любезная жена» – «верная жена». А в конце – совпадение почти дословное: «– Какое диво! / Да полно, правда ли, чтоб был пример такой? / – Уверить вас могу, что говорю нелживо».
К сказанному добавим, что, возможно, рассказчик последний раз перевоплощается в одного из персонажей поэмы. Правда, в данном случае трудно определить в кого из двух: эту фразу мог сказать остывший от гнева муж Натальи Павловны, но и отсмеявшийся Лидин, приняв благопристойный вид, мог, попадая в тон мужу, вовремя ему поддакнуть.
Приложение Поэма «Граф Нулин» в оценке современников. По публикациям в прессе, письмам, дневникам и воспоминаниямИз записных книжек П. А. Вяземского:
«Граф Нулин» – сказка Боккаччо XIX в. А, пожалуй, наши классики станут писать и тут про романтизм, байронизм, когда тут просто приапизм воображения.
Примечания:
Князь П. А. Вяземский (1792–1878) – поэт и близкий друг А. С. Пушкина. Запись не датирована, но, судя по содержанию, она сделана до появления рецензий на «Графа Нулина», следовательно, между сентябрем 1826 г., когда Пушкин приехал в Москву и познакомил друзей и литературных единомышленников со своими последними произведениями, и январем 1828 г., когда появились первые рецензии.
Боккаччо Джованни (1313–1375) – итальянский писатель и один из первых гуманистов. Сравнивая «Графа Нулина» с творчеством этого писателя раннего Возрождения, П. А Вяземский имел в виду скорее всего сюжетное сходство с некоторыми новеллами самого известного произведения Боккаччо – «Декамерон».
Приап – в античной Греции и Древнем Риме божество, связанное с культом зарождения всего живого. Зачатый Афродитой от двух отцов (Диониса и Адониса, либо Зевса и Гермеса), он имел два фаллоса и покровительствовал всем «телесным» наслаждениям, в особенности же сексуальным утехам. Приап – самый колоритный персонаж в окружении Диониса, подающий пример пол ной невоздержанности в еде, питье и любовных утехах.
Московский телеграф. 1826. Ч. Х. № 16. Литературные известия. … А. С. Пушкин, находящийся нынче в Москве, вскоре издаст Вторую Главу Евгения Онегина и стихотворение Граф Нулин. Мы не будем предупреждать суждения читателей касательно сих новых прелестных произведений.Примечания:
Московский телеграф – литературно-критический журнал, издаваемый в Москве с 1825 г. по 24 номера в год. Издателем и редактором журнала был историк и писатель Н.А. Полевой (1796–1846).
Из письма С. П. Шевырева – М. П. Погодину. Январь 1827: … Что Пушкин… Зачем Нулина выкинули.Примечания:
С. П. Шевырев (1806–1864) – литератор, критик, филолог и историк, один из создателей и самых активных литературных сотрудников журнала «Московский вестник». Приведем здесь комментарий публикатора письма – М. А. Цявловского: «Отрывок из "Графа Нулина" был напечатан в № 4 "Московского вестника" за 1827 г., вышедшем в свет в феврале 1827 г. Судя по этой записке Шевырева, можно думать, что отрывок этот был намечен к напечатанию в каком-то из предыдущих номеров журнала» (ЛН, 688).
Из письма П. А. Плетнева – А. С. Пушкину от 27 августа 1827 г. … «Графа Нулина» государь император изволил прочесть с большим удовольствием и отметить своеручно два места, кои его величество желает видеть измененными, а именно два стиха: «Порою с барином шалит» и «Коснуться хочет одеяла»; впрочем, прелестная пиеса сия позволяется напечатать.Примечания:
Плетнев П.А. (1792–1865) – поэт, член Вольного общества любителей российской словесности, издатель ряда произведений А. С. Пушкина. Цит. по: Переписка А. С. Пушкина. Т. 2. М., 1982. С. 117.
А. П. Вульф. Дневник. 16 сентября 1827 г. … Смешно рассказывал Пушкин, как в Москве цензурировали его «Графа Нулина»: нашли, что неблагопристойно его сиятельство видеть в халате! На вопрос сочинителя, как же одеть, предложили сюртук. Кофта барыни показалась тоже соблазнительною: просили, чтобы он дал ей хотя салоп.Примечания:
Вульф А. Н. (1805–1881) – сын от первого брака соседки Пушкина по Михайловскому, владелицы села Тригорского П.А. Осиповой. Тесно общаясь с Пушкиным в декабре 1834 – январе 1825 г., он, вероятно, был одним из первых, кто познакомился с поэмой «Граф Нулин» еще до ее издания. Цит. по: Пушкин в воспоминаниях современников. Л., 1950. С. 325.
Сюртук – элемент мужской одежды, предназначенной, в то время, для официальных визитов. Салоп – верхняя теплая одежда, напоминающая широкий плащ. Вряд ли можно придумать более нелепую одежду для спальни.
Северная пчела. 1828. № 4. 10 января Рассмотрение русских альманахов на 1828 г. Продолжение.Воля ваша: я не имею ни духа, ни терпения разбирать все пиесы348, напечатанные в Альманахе, хотя уверен, что каждая из них дорога Автору. Скажу о главном, и начну маленькой диссертациею о большом предмете, а именно о нравственности. Что значит нравственное и что значит безнравственное сочинение? Нравственное сочинение есть то, где герой представлен в таком виде, что вызывает к себе омерзение, или где действующее лицо представлено в столь неприглядном виде, что ни один из читателей не хотел бы быть на его месте; наконец, где действующее лицо изображено таким, что вымышленное имя оного становится упреком, и каждый читатель, видя ничтожность или смешное положение сего лица, радуется, что он не похож на него, и вследствие того намеревается поступать так, чтоб и впредь не быть на него похожим.
Безнравственное сочинение, где под самыми благородными формами Автор скрывает пороки и, хотя избегает нескромных сцен и речей, но одними положениями своего героя в свете доказывает, что и порочный может избежать общего презрения и укрыться от наказания. Легковерный читатель или юноша видит одни розы на пути порока и думает, что в свете можно избежать шипов, т. е. избежать презренья и наказанья за дурное поведение.
Если смотреть на предметы с этой точки зрения, Граф Нулин, Повесть в стихах соч. А. С. Пушкина, есть Пиеса нравственная, в полном смысле слова. Граф Нулин изображен в таком виде, что ни один юноша не захочет быть на него похожим. Барич, воспитанный по моде, щеголь и фанфарон, едет за границу, проматывается, возвращается в отечество с кипою новых фраков, помады и духов, воображая, что он великий человек, мудрец. Он бранит свое Отечество, выхваливает одну Францию и в полноте своего невежества и глупости думает, что ему только следует открыться в любви, чтобы получить взаимное признание (когда я пишу сии строки, у меня так и мерещится перед глазами толпы Нулиных, в которых у нас нет недостатка). – На пути у Графа Нулина ломается экипаж; он заезжает в дом к помещику, который в это время на охоте, открывается в любви жене его, – и получает пощечину, за дерзость и самонадеянность. Это не повесть, а картина нравов. Жизнь помещика, дом его, охота и романтическая супруга описаны прелестно и с натуры. Быстрота в слоге, блеск в изображениях переменяющихся на сцене лиц и картин, веселость, легкость рассказа, плавность и гладкозвучие стихов поставляют сию пиесу в число первоклассных произведений поэзии… Ф. Б.Примечания:
Северная пчела – политическая газета, издаваемая с 1825 г. три раза в неделю. Подпись Ф. Б. принадлежит издателю газеты – Ф. В. Булгарину (1789–1859), в газете которого А. С. Пушкин печатался в 1825 г.
…разбирать все пиесы – пьеса (пиеса) – здесь и в других рецензиях – небольшое поэтическое сочинение, по аналогии с французским piece – небольшое лирическое музыкальное произведение.
…можно избежать шипов – отсылка к немецкой поговорке: «Keine Rose ohne Dornen» – нет розы без шипов.
Барич – не только сын барина, но и «человек, привыкший жить праздно, роскошно» (Даль, I, 49).
Фанфарон – от фр. fanfaron – бахвал, хвастун, восходящего к ит. fanfara – медный духовой инструмент и трубный звук, возвещающий о начале празднества, торжества.
Московский телеграф. 1828. Ч. 1. No. 1. Новые Книги Северные цветы на 1828 год. СПб. В Тип. Деп. Нар. Просв. In 16, III, 314 и 107 стран. … Из пятидесяти стихотворений, составляющих отдел поэзии, первою пьесою по предмету, где вдохновенная поэзия сливается с философическою идеею, и по выражению поэтическому кажется нам Последняя смерть, отрывок из поэмы Баратынского. Другая пьеса неменьшего достоинства: Ангел, соч. А. С. Пушкина. Небольшая, мило рассказанная Пушкиным, быль не быль, однакоже и не сказка. Граф Нулин и отрывок из трагедии: Борис Годунов, отрывок из поэмы Баратынского: Бальный вечер и стихи Вяземского: Море: вот, по нашему мнению, прекраснейшие из новых цветов русской поэзии…Примечания:
Поскольку рецензия не подписана, то ее автором, видимо, следует считать редактора журнала Н. А. Полевого. «Второе место», отведенное произведениям А. С. Пушкина в этой рецензии (как и отсутствие сколько-нибудь заметного отклика на «Графа Нулина» через год, по выходе отдельной книги), можно объяснить двояко. Первое объяснение: в 1827 г. отношения между Пушкиным и Полевым если не испортились, то стали прохладными. Связано это с тем, что Пушкин практически перестал сотрудничать в «Московском телеграфе», отдавая предпочтение «Московскому вестнику» М. П. Погодина. Объяснение второе: у Н. А. Полевого раз и навсегда сложилось представление о «Графе Нулине», как о не стоящей серьезного внимания «забавной шутке» (ПолевойН., ПолевойК., 238).
Дамский журнал. 1828. № 2. Об альманахах на 1828 год… Ежели бы Северные цветы как-нибудь и пострадали от северных морозов; то наше красное солнышко оживотворило их: Пушкин явился в сем Альманахе и своею особою, и с своими стихами – в портрете, чрезвычайно сходном, и с Поэмою, чрезвычайно забавною – но только для мущины (не говоря о других стихотворениях сего благотворного светила нашей поэзии). Эта поэма – Граф Нулин – довольно.Примечания:
Дамский журнал – литературный журнал, издаваемый в Москве с 1823 г. по 24 номера в год. Издатель журнала и наиболее вероятный автор рецензии – князь П. И. Шаликов (1768–1852) – журналист, переводчик Шатобриана и литератор «карамзинско-сентиментального» направления. Его издательский вкус («нежная чувствительность, сопряженная с моралью»), поэтическое творчество и бытовые привычки – предмет постоянных насмешек в литературной среде первой трети XIX в.
…наше красное солнышко – использование данного оборота по отношению к Пушкину должно подчеркнуть уникальность его поэтического дара, возвышающего его над всеми другими литераторами. Ср. русские пословицы: «Взойдет красно солнце – прощай ясный месяц!»; «Одно красно солнце на небе, один царь на Руси»; «И красно солнышко на всех не угождает» и др.
… Поэмою, чрезвычайно забавною – но только для мущины – критик отсылает читателя к строкам из поэмы «Граф Нулин»: «Неужто вправду я влюблен? / Что если можно?.. вот забавно; Однако ж это было б славно; / Я, кажется, хозяйке мил…»
Московский вестник. 1828. Ч. 7. № 1–4. Критика. Северные цветы на 1828 год. С.-Петерб. В типогр. Департ. народного просвещения. 1827. IV 314. 107. Стихотворная часть сего Альманаха, за исключением имен Пушкина и немногих других, окажется не столь богатою, как прежние. Лучшие наперечет: Нулин, Череп, Отрывок из Бориса, Море, Ангел, Отрывок из Бального вечера… Нулин доказывает, что мастер Поэт и шутит поэтически. Предмет его картины не важен, но какая зрелая и легкая кисть! Какой верный глаз, зорко уловляющий малейшие подробности в описании. Строгие аристархи спрашивают о нравственной цели в этой пиэсе. Вот она, если им того хочется: нескромные желания людей – худо награждаются!Примечания:
Московский вестник – литературный журнал, выходивший раз в две недели с 1827 г. Большинство авторов журнала (Д.В. Веневитинов, И.В. Кириевский, С.П. Шевырев и др.) ориентировались в тот период на эстетику немецкого романтизма. Редактор журнала и наиболее вероятный автор рецензии – М.П. Погодин (1800–1875) (Потапова, 199–201).
Аристархи – Аристарх из Самофракии – комментатор и издатель Гомера, Гесиода и других античных авторов. Жил в Александрии, во второй половине II века нашей эры. В дальнейшем его имя стало нарицательным, при обозначении безжалостного критика.
… спрашивают о нравственной цели в этой пиэсе – см. приведенное выше рассуждение о нравственности из «Северной пчелы».
Письмо П. А. Катенина А. С. Пушкину от 27 марта 1828 г. … Я читал недавно третью часть «Онегина» и «Графа Нулина»: оба прелестны, хотя без сомнения, «Онегин» выше достоинством.Примечания:
Катенин П.А. (1792–1853) – полковник в отставке, поэт, переводчик, драматург. Цит по: Переписка А. С. Пушкина. Т. 2. М., 1982. С. 219.
Вестник Европы. 1828. № 22 Литературные опасения за будущий год. (Окончание) … Все наши доморощенные стиходеи, стяжавшие себе лубочный диплом на имя поэтов дюжиною звонких и богато обрифмованных строчек, помещенных в Альманахах и расхваленных Журналами, загудели a la ByronЗатянули молодцы: кто в лес, кто по дрова
И у кого что силы стало!
… Все их герои суть или ожесточенные изверги; или заматеревшие в бездельничествах повесы. Главнейшими из причин, приводящих в движение весь пиитический машинизм их, обыкновенно бывает пунш, аи, бордо, дамские ножки, будуарное удальство. Самую любимую сцену составляют Муромские леса, подвижные бессарабские наметы, магическое уединение овинов и бань, спальные закоулки и фермопилы… Коротко сказать – главный и почти единственный фонд, безжалостно изживаемый нашими Байронистами, составляет все, что можно выдумать самого чудовищного, отвратительного и грязного – все изгарины и поддонки Природы. … Как для гения не должно существовать никакой узды, никаких мерил, никакого правила действования?… Все явления жизни имеют для него равную цену? Удивительно ли после того, что мастерское изображение влюбленного кота, в пылу неистового воспылания страсти цап-царапающего свою любимицу, могло составить занимательную эпизодическую картину в одном из пресловутейших пиитических наших произведений? – и между тем виновата опять матушка природа!.. «Мы соревнуем Природе!» вопиют удалые: «Природа – единственный образец наш!» – Нет, милостивые государи! Вы не соревнуете природе, а ее передразниваете…
Примечания:
Вестник Европы – литературно-политический журнал, основанный Н.М. Карамзиным в 1802 г. В рассматриваемый период его редактором был историк и литературный критик М.Т. Каченовский (1775–1842), ярый сторонник классицизма в литературе, чем, в частности, объясняется пафос этой и других статей, посвященных творчеству А. С. Пушкина и его единомышленников. Автор рецензии – молодой и пытавшийся самоутвердиться в литературе критик Н.И. Надеждин (1804–1856), в то время – апологет философии Шеллинга и эстетического направления, отстаиваемого Каченовским, а также журналом М. Г. Павлова «Атеней».
Статья построена на диалоге двух персонажей: поклонника рмантической поэзии Тленского и «экс-студента» Никодима Надоумко, представлявшего alter ego автора. Публикуемые здесь слова вложены в уста Никодима Надоумко. Это первый критический отзыв Надеждина о поэме «Граф Нулин», полный намеков, но пока еще не прямых инвектив.
…стяжавшие лубочный диплом – «стяжать» – приобретать. «Лубочный диплом» можно трактовать двояко. С одной стороны – это отсылка к лубочным картинам, то есть народным картинкам с незамысловатым сюжетом и в безыскусном оформлении. В этом смысле «лубочный» означает – самодельный, невзаправдашний. С другой стороны – одно из значений слова «лубочный» означает «бесстыжий» и «бессмысленный» (Даль. II, 270).
Затянули молодцы – цитата из басни И.А. Крылова (1769–1844) «Музыканты».
… пиитический машинизм – поэтический механизм.
… пунш, аи, бордо… – пунш – напиток на основе рома, виски или коньяка с использованием сахара, лимонного сока и фруктов. Аи – сорт шампанского. Бордо – сухое вино из одноименной французской провинции. Упоминание двух последних напитков – явная отсылка к XLVI строфе четвертой главы «Евгения Онегина», полностью посвященной сопоставлению аи и бордо.… дамские ножки… – Ср. «Граф Нулин»: «Он помнит кончик ножки нежной…», а также строфы XXX–XXXIV в романе «Евгений Онегин».
… Муромские леса – намек на поэму Пушкина «Братья разбойники».
368…подвижные бессарабские наметы – отсылка к началу поэмы Пушкина «Цыганы»: «Цыганы шумною толпой / По Бессарабии кочуют. / Они сегодня над рекой / В шатрах изодранных ночуют». Наметы – здесь – шатры.
… спальные закоулки и фермопилы – намек на поэму «Граф Нулин». Фермопилы – в июле 480 г. 150-тысячное войско персидского царя Ксеркса двинулось на завоевание Греции. Путь в среднюю Грецию лежал через Фермопильский проход в горах. Именно там 5300 воинов, во главе со спартанским царем Леонидом преградили путь войску Ксеркса. 300 спартанских воинов и сам царь Леонид, прикрывавшие отход основных сил, погибли. Защита Фермопил, позволившая грекам собрать крупные силы, в конечном счете, одержать победу над персами, вошла в историю как один из главных примеров выполнения долга, пусть даже ценой жизни. Соответственно выражение спальные фермопилы лишь усиливает общий иронический контекст статьи.
…все изгарины… – изгариной называли и окалину, остающуюся после ковки железа, и перегорелую глину, остающуюся после обжига посуды, и головешки в печи, и любой негодный, перепревший товар.
… поддонки Природы – в данном случае Надеждин использован не тот термин. Имея в виду «подонки», т. е. «гущу», «осадки», то, что отстаивается в жидкости, а написал «поддонки» – то, что ставится под дно сосуда, другими словами – подносы.
…никаких мерил… – мерило – приспособление для измерения веса, количества или протяженности. Здесь – образец.
… изображение влюбленного кота (…) цап-царапающего свою любимицу – отсылка читателя к поэме «Граф Нулин». Однако той сцены, которую описывает здесь Надеждин, в поэме нет. В тексте поэмы, помещенном в «Северных цветах» значится: «За мышью крадется с лежанки». Это значит, что сцена с котом не имеет никакого фривольного содержания, сознательно или по ошибке приписываемого ей Надеждиным. Тем удивительнее упорство критика, вновь вернувшегося к этой же сцене в следующей статье, специально посвященной «Графу Нулину».
Мы соревнуем Природе! – слово соревновать здесь означает стремление не победить природу, а подражать и следовать – сравняться с ней.
Северная пчела 1828. 15 декабря
Новые книги.
Две повести в стихах: Бал, сочинение Евгения Баратынского и Граф Нулин, соч. А. Пушкина. СПб. в типогр. Департам. Народн. Просвещения. 1827–1828, 45 и 32 стран. В 12-ю д. л.
Граф Нулин, Повесть А. Пушкина, была напечатана в Альманахе: «Северные Цветы», на 1828 год. В ней рассказываются приключения одного молодого Графа, который, возвращаясь из чужих краев, Где промотал он в вихре моды Свои грядущие доходы, заезжает в дом одного сельского помещика, безустального охотника, застает жену его одну, влюбляется в нее мимолетною любовью – и успевает получить пощечину в виде отказа.
Маленькая сия поэма нравится необыкновенною легкостью слога: трудно высказать в прозе с большею легкостью то, что Пушкин высказывает здесь в беглых прелестных стихах. Сия-то легкость, сия-то свобода поэтического языка, столь коварно обманывает молодых подражателей Пушкина! Они думают, что переняли у него этот неподражаемый дар – приятными живыми стихами передавать все, от предметов возвышенных до самых мелочей, но при них остаются только мелочи, и те, хотя иногда и в гладких стихах, пересказываются вяло, смутно и приторно.
Примечания:
Яркой иллюстрацией к данной сентенции стали «Отрывки из повести А. Башилова «Гусар», опубликованные в альманахе «Памятник отечественных муз» на 1828 г. и вышедшие из печати в 1829 г. книги Н. Н. Муравьева «Котильон. Глава из стихотворного романа: Ленин, или Жизнь поэта» и Ф. Соловьева «Московский пленник». В первом из них, оцененном «Московским телеграфом» как «нечто в роде подражаний Онегину», есть отрывок, который можно соотнести не только с «Евгением Онегиным», но и со строками из «Графа Нулина»: «Полувлюбленный нежный граф / Целует руку ей. И что же?» и «…бес не дремлет / И дразнит грешною мечтой / В нем чувства…»
Вот он:«Разнеженный, полувлюбленный
С своей Нинетою безценной,
Как Ленский Пушкина живой,
Кончает быстро Ленин мой
Вальс общий. Чувства неземные
Бушуют в нем; кипит душа;
Когда же юного чела
Коснулись кудри золотые,
Когда неопытная грудь
Нинеты вздохом опалилась,
Она едва могла вздохнуть,
В ней будто все поворотилось;
Как электрический удар
В ней что-то сердце раздирало,
Как вдохновенья дивный дар,
Ее томленье обуяло.
В «Московском пленнике» также есть строки, навеянные «Графом Нулиным», или выражения, заимствованные из него. Вот несколько примеров:
«Вино и пунш, bon mot и смех
Друзей веселых забавляют…
…
Но наконец от сна восстал
И полусонным мрачным оком
Увидел он обширный зал…
…
Он просьбе девушки не внемлет;
Какой-то страстный, тайный жар
Мгновенно пленника объемлет».
В рецензии «Атенея» (1829. № 22. С. 316–318) на поэму «Московский пленник» содержались, в частности, и такие положения, близкие к оценке «Северной пчелы»: «Прочитав эту повесть в стихах, если только достанет терпения прочитать ее, невольно спрашиваешь самого себя, что это такое: пародия или неудачное, самое неудачное подражание Кавказскому пленнику Пушкина?… Пушкин облегчил стихосложение, умел на самые обыкновенные предметы набросить свет поэзии: и тотчас явились мелочные подражатели, заговорившие о пунше, о картах, о блинах, явились Московские пленники, Киргизские пленники с черно-голубыми очами… Было время, когда написать несколько стихов значило быть стихотворцем. Теперь некие думают, что набрать побольше плоскостей, сбросив с себя все законы приличия, похвастаться каким-то удальством и деспотизмом в бурных стихах, значит быть Пушкиным, современным поэтом, романтиком». Славянин. 1828 Ч. 8. № 52. Две повести в стихах: Бал, соч. Евг. Баратынского и Граф Нулин, соч. А. Пушкина. Уведомив читателей о выходе в свет сих прелестных литературных игрушек, сказав имена Авторов и прибавив, что книжка, в которой переплетены вместе сии две стихотворные повести, продается у комиссионера редакции Русского Инвалида, книготорговца И.В. Сленина и у содержателя Библиотеки для чтения А.Ф. Смирдина по 6 рублей, нужно ли рассыпать общие похвалы и изношенные фразы, которых в десять минут можно написать сотню? Например, можно бы весьма красиво сказать, что обе повести – «писаны верною литературною кистью поэтов наблюдателей; что в них – стихотворение свободное и звучное; что здесь находится – множество прекрасных, западающих в память стихов, движение и живопись рассказа, и счастливая способность поэтов рисовать воображению читателя, часто одним словом, предмет в настоящем и полном виде». Но боясь колиих, справедливых, в сем случае, насмешек гг. издателей Северной Пчелы за такую сентиментальную нелепицу, говорю просто: это стихотворения А.С. Пушкина и Баратынского.
Приимечания:
Славянин – военно-литературный журнал, выходивший в 1828 г. еженедельно. Редактор журнала и наиболее вероятный автор рецензии – А.Ф. Воейков (1776–1839) – родственник и близкий знакомый В.А. Жуковского, литератор, издатель и редактор, более всего известный сатирой «Дом сумасшедших». В 1822–1828 гг. – редактор газеты «Русский инвалид», своеобразным литературным приложением, к которому и выступал «Славянин».
И. В. Сленин (1789–1836) – петербургский книгопродавец, поставщик А.С. Пушкина (см. выше – примечание к слову «тальи»), лавка которого находилась в доме Энгельгардта у Казанского моста (через Екатерининский канал на Казанской площади).
А.Ф. Смирдин (1795–1857) – петербургский издатель и книготорговец, известный тем, что, во-первых, ввел в обычай выплачивать авторам гонорары, а во-вторых, книжным магазином, находившимся в то время у Синего моста (через р. Мойку, на Исаакиевской площади), выполнявшего функцию своеобразного литературного клуба.
… колиих… насмешек – здесь – многих.
… издателей «Северной Пчелы» – имеются в виду Ф. В. Булгарин и Н.И. Греч (1787–1867), хотя формально соиздателем «Северной Пчелы» Н.И. Греч стал только в 1831 г.
Послание к И. Г. Б. Москва. В типографии Августа Семена, при императорской Медико-хирургической академии. 1828 381(…)
Иль станем критики писать;
Примером: есть роман – Граф Нулин,
В нем про охоту говорят
Невыгодно – и тем он дурен. —
Я не скажу, как сей чудак:
Прости жена, не жди к обеду.
Охотник я, но не дурак,
То повторю жене: приеду
И, может, с тощим животом,
То сладким угости столом.
(…)
Примечания:
Автор стихотворного послания жандармский полковник И. П. Бибиков (1788–1856), негласно наблюдавший за Пушкиным во время его пребывания в Москве. Адресат – родственник автора И.Г. Бибиков, произведенный в год выхода послания в генерал-майоры за взятие Варны в русско-турецкой войне 1828–1829 гг.
Бабочка. Дневник новостей. 1829. № 6. Январь 19. Суббота. Новые Книги Граф Нулин: Повесть (в стихах) Александра Пушкина, напечатанная вместе с повестью Бал, Г. Баратынского. С.П.Б. 1828 в 12 д. л. 32 стр. Дело кажется самое простое: был муж, помещик, собачий охотник, каких у нас много; была жена, воспитанница благородного пансиона эмигрантки Фальбала, Наталья Павловна, каких также у нас немало; ехал в близ от их дома незнакомый им Граф Нулин, каких также, к несчастью, у нас еще довольно. У последнего изломалась коляска: он, нечаянный гость Натальи Павловны, когда «В отъезжем поле муж гарцует», обедает с нею, говорит о Дарленкуре и Ламартине, проводит с нею вечер не приметно…Глядишь – и полночь вдруг на двор.
Давно храпит слуга в передней,
Давно поет петух соседний,
В чугунну доску сторож бьет;
В гостиной свечки догорели.
Наталья Павловна встает:
«Пора, прощайте! ждут постели.
Приятный сон!..» С досадой встав,
Полувлюбленный, нежный граф
Целует руку ей. И что же?
Проказница – прости ей, Боже! —
Тихонько графу руку жмет.
Наталья Павловна раздета;
Стоит Параша перед ней.
Друзья мои! Параша эта
Наперсница ее затей:
Шьет, моет, вести переносит,
Изношенных капотов просит,
Порою с барином шалит,
Порой на барина кричит
И лжет пред барином отважно.
Теперь она толкует важно
О графе, о делах его,
Не пропускает ничего —
Бог весть, разведать как успела.
Но госпожа ей наконец
Сказала: «полно, надоела!»
Спросила кофту и чепец,
Легла и выйти вон велела.
Граф Нулин лег тоже:
Несносный жар его объемлет,
Не спится графу – бес не дремлет
И дразнит грешною мечтой
В нем чувства.
Он мечтает:
«теперь
Отворена, конечно, дверь» —
идет, «на все готовый», и – получает пощечину…
Что может быть простее? Все вещи знакомые, бывалые, но великий мастер поэтического дара создал из них повесть, у нас еще небывалую.
В этой повести все превосходно: живость рассказа, очерки лиц, изображение местностей. Она может служить образцом остроумия и утонченного вкуса.
Если бы в наше время жил еще старичок Вольтер, то, верно, он не отказался бы подписать имя свое под повестью Граф Нулин – Пушкина молодого.
Стихов в образец красоты из всей повести приводить нельзя: ибо мы перепечатывать целых произведений, без позволения сочинителей, не имеем права.
Если бы кто решился приказать нам в повести Граф Нулин сыскать непременно слабый стих, тогда мы, покорствуя только приказу, указали бы из всей повести, на один стих: «Уж подкрепив себя стаканом».
Что касается до: «Супруга, Одна в отсутствие супруга», то эти рифмы, вероятно, употреблены здесь с каким-нибудь намерением».Примечания:
Бабочка. «Дневник новостей, относящихся до просвещения и общежития». – Газета выходила с января 1829 г. в Петербурге по средам и субботам. В объявлении о начале ее выхода сообщалось: «Цель при издании сей Газеты предполагается следующая: сообщать своевременно для читателей обоего пола занимательные новости, относящиеся для просвещения и общежития, и через то доставлять им разнообразное, полезное чтение, приятное чтение… Бабочка сочтет себя счастливою, если и при занимательности Пчелы и полезности Инвалида она найдет себе место в области литературной». Редактор газеты и наиболее вероятный автор рецензии – В. С. Филимонов (1787–1858) – литератор, автор известной в то время поэмы «Дурацкий колпак», адресат послания А. С. Пушкина: «Вам музы, милые старушки…».
…собачий охотник – см. комментарий к главе I поэмы «Граф Нулин».
…вещи (…) бывалые – здесь – уже случавшиеся.
Старичок Вольтер – Мари Франсуа Аруэ (1694–1778), француз ский философ и писатель. Упоминание о Вольтере в данной рецензии – первое указание на возможные источники поэмы «Граф Нулин» и первое, высказанное в печати мнение о сходстве стиля данной поэмы с творчеством Вольтера.
Пушкина молодого – эпитет «молодой» введен автором рецензии как напоминание о существовании другого известного поэта – Василия Львовича Пушкина (1770–1830) – дяди Александра Сергеевича.
Сын Отечества и Северный архив. 1829. Т. 1. Две повести в стихах. Бал, сочинение Евгения Баратынского, и Граф Нулин, соч. А. Пушкина. С. П. б. в типографии Департамента Нар. Просвещения. 1827–1828. В 12 д. л. 45 и 23 стр. Об анекдотической Повести Граф Нулин не станем распространяться: ее многие уже знают наизусть, и все любители словесности давно уже согласились, что бойкость рассказа и живость стихов в ней единственны. Может быть, закоснелые любители старины389, критики Словесности и нравов, которые находят, что французские дамы времен регентства и Лудовика XV390 очень мило падали с табуретов, – сердятся на Пушкина за пощечину, данную Натальею Павловною Графу Нулину. Но пусть их сердятся! Повесть Пушкина нисколько от этого не потеряет, и все-таки останется в памяти у людей, которые умеют оценивать и любить прелестные игрушки Поэзии....С.
Примечания:
…анекдотической Повести – греч. Anekdotos – рассказ о какомнибудь интересном, забавном или поучительном случае с эффектной концовкой перешло в русский литературный язык в форме anecdote из французской литературы XVII–XVIII вв.
…бойкость рассказа и живость здесь единственны – единственны, здесь – уникальны. Ср. определение в словаре Даля: «Единственный, один или единый, чему нет ровни, несравненный, исключительный; одиночный, единичный, лишь один» (Даль, I, 514).
…закоснелые любители старины – косный или закоснелый – человек, не желающий в своей жизни ничего менять.
…времен регентства и Лудовика XV – имеется в виду период упадка французской монархии, после смерти «короля-солнца» – Людовика XIV. Регентство – время правления во Франции герцога Филиппа Орлеанского (1715–1723), являвшегося регентом при малолетнем Людовике XV. Самостоятельно же Людовик XV правил в 1723–1774 гг. Таким образом, автор отсылает читателя к культивирующей образцы утонченной чувственности культуре рококо и «версальским» нравам французского двора XVII в.
С. – Наиболее вероятный автор рецензии – Орест Михайлович Сомов (1793–1833) – литературный критик, в ту пору – постоянный литературный сотрудник Ф.В. Булгарина, и подписывавшийся «С» в «Северной пчеле». Другие литераторы, использовавшие большое «С» в качестве подписи: товарищ и издатель Пушкина Сергей Александрович Соболевский (1803–1870); Василий Иванович Соц, публиковавшийся в «Сыне Отечества» и сотрудничавший «Историческим, статистическим и географическим журналом» Владимир Михайлович Строев (1796–1876).
Вестник Европы 1829 № 2
Две повести в стихах: Бал и Граф Нулин
…Stulta est clementia, cum tot ubique
Vatibus occurras, pereture parcere chartae.
Juven. Sat. I.
Напрасно восклицают брюзгливые старики, что мир стареется. Они судят обо всем по себе и думают, что когда сами подвигаются вперед, то и все туда же за ними движется. Ничего не бывало! Мир идет совершенно обратною дорогой: чем долее он живет, тем более молодится. Оглянитесь хоть на минутку назад: что вы там увидите?.. Седую древность, коея старушечье чело изрыто глубокими браздами сурового размышления и строгой отчетливости. Это – страшилище, коим можно только пугать настоящее цветущее время детской шаловливости! – У нас ныне живут, действуют, абонируются на славу и на бессмертие, не потея, по-старинному, в тяжелых и бесполезных трудах, а попросту – припеваючи. Оттого-то и произведения настоящего времени отличаются не стародавнею грубою прочностью и полновесностью, а ефирною легкостью и миниатюрностью. Чтобы увериться в истине сего, не нужно ездить на Кузнецкий мост, ни в Ниренбергские лавки: в самых даже книжных магазинах и так называемых конторах, заключающих в себе изделия умственных фабрик, кои, кажется, менее всех прочих допускают пожертвование фасону добротою, видно то же самое стремление к мелкотравчатости и щепетильности. Посмотрите на настоящие400 явления книжного мира! – Это – не книги, а книжечки, или лучше книжоночки, в собственнейшем смысле слова! Печать, чернила, бумага, обертка – загляденье! Формат – уместится в самом маленьком дамском работном ящичке; толщина – не утомит самых нежненьких беленьких ручек; содержание – не затруднит ни одною мыслею самой ветреной и резвой головки. То ли бывало в старину!.. Однако воспоминание о долговязых фолиантах, кубических in quarto, тучных in octavo, под которыми кряхтят полки старинных библиотек, производит содрогание. Старики не разумели верно смысла пословицы, ими же самими изобретенной: Мал золотник, да дорог! Избираемые теперь нами для разбора две повести в стихах принадлежат к подобным золотничкам, кои чем меньше, тем дороже (цена книжки 7 рублей!). С первого взгляда сие chefd\'-oeuvre галантерейной нашей литературы, нельзя не полюбоваться дружеским союзом, заключенным так кстати между Балом и Графом Нулиным.
О дружество, союз священный,
Влиянно небом чувство нам!
И рок не страшен разъяренный
Тобою связанным сердцам.
Вероятно, этот союз происходит от того, что Граф Нулин, как человек светский, никак не может обойтись без Бала; но о том рассуждать не наше дело! – Книжки напечатаны, союз между сею прелестною двоицею заключен славно! Иные пожалеют, правда, что издатели поскупились заказать для нее нарядное предисловице с блестками похвал от любезного фабриканта, и с черными пятнами порицаний Вестнику Европы. Уж так и быть!
Кропотливые старики обыкновенно начинали бывало свои разборы мелочным и педантичным разысканием о роде, под который надобно было бы подвести разбираемое произведение, чтобы точнее определить его есфетическое достоинство. В нынешние времена это, кажется – стара штука! После того, как самозаконные гении, закусив узду правил, пустилися со всех четырех ног, на славу, Не взвидя света, ни дорог, смешно и совестно было бы измерять циркулем и подводить под мафематические формулы бурный бег их. Произведения подобных гениев всегда бывают из роду вон. А ни один еще Кувье не составил доселе полной систематической классификации для всех выродков, коих произведением иногда бывает угодно забавляться Природе.
Равномерно, мы сделали бы ужасный литературный анахронизм, вздумав искать в разбираемых нами повестях идею, которая составляла бы их есфетическую душу и по мере сообразности с коею можно было бы произнести суждение о внутреннем поэтическом достоинстве самой наружной их отделки. Это значило бы искать порожнего места. Сотни Пигмалионов самыми жарчайшими лобзаниями не могли бы пробудить малейшей жизненной искорки в этих разряженных куколках. Да и к чему это?.. Статочное ли дело налагать на поэта тяжкую обязанность говорить о чем-нибудь? – Эта смешная quidditas годна только для студенческих диссертаций! – У нас главный закон: пиши пока пишется, не размышляя о том, что пишется!..
Чем менее холодного смысла, тем огненнее Поэзия. И так самая необходимость заставляет нас теперь отступить от обыкновенной методы разборов. С волками надо и выть по-волчьи. Разбираемые нами повести излились из недр самозаконных гениев, презирающих правила: будем и разбирать их теперь не по правилам! Со всевозможною осторожностью, тихонько, легонько, полюбуемся драгоценными произведениями новомодного поэтического нашего тканья, или лучше, плетенья!.. И если бы даже довелось нам усмотреть на них некоторые пятнышки, то, избави Боже! чтобы мы на них одних основали наше суждение об их достоинстве! – У какой записной красавицы не развивается иногда пуколька, или не изминается кружевной зубчик, в пылу страстных восторгов?..Примечания: Автор статьи – Н. М. Надеждин.
…Stulta est clemencia, cum tot ubique
Vatibus occuras, pereture parcere chartae.
– «…Когда столько писак расплодилось повсюду, / Глупо бумагу жалеть, все равно обреченную смерти». – Ювенал. Сатира I (пер. Д. С. Недовича).
Абонируются – здесь – собираются занять место. Дополнительный иронический оттенок придает сочетание слов абонироваться, т. е. получать право на что-то, на какой-либо срок и бессмертие.
…ефирною легкостью – ефир (эфир) – в античной науке – верхний, лучезарный слой воздуха, в физике XVII–XVIII вв. – невидимая и неощутимая стихия, наполняющая весь мир. Соответственно читатель, в меру своего понимания, может трактовать это высказывание и как комплимент, и как завуалированное издевательство.
…не нужно ездить на Кузнецкий мост – улица Кузнецкий мост в первой трети XIX в. – место «модных» французских магазинов, ассортимент которых был рассчитан на вкусы дам высшего света. «Указатель жилищ и зданий в Москве» составленный В. Соколовым в 1826 г., содержит адреса 26 «модных» магазинов и лавок. 19 из них – на Кузнецком мосту.
…Ниренбергские лавки – вероятнее всего, имеется в виду город Нюрнберг в Баварии, широко известный производством бытовых изделий и бытовых пустячков из дерева, кости, бронзы и т. п. В Москве на Ильинке, согласно все тому же «Указателю жилищ и зданий…», был Ниренбергский галантерейный магазин Пирлинга.
…и так называемых конторах – конторами в то время часто на зывали редакции журналов и газет.
…стремление к мелкотравчатости и щепетильности – одно из значений слово «травчатый» – узорный. Соответственно – мелкотравчатый – искусно выписанный, детализированный мелкий узор, чаще всего на ткани. Щепетильность – пристальное внимание к мелочам, безделушкам, «светским пустячкам» (Даль, IV, 655). Таким образом, эти термины продолжают уже обозначенное сопоставление рассматриваемой поэзии с галантерейной лавкой. 400…настоящие явления – настоящие – здесь – современные. 401… в самом маленьком дамском работном ящике – то есть таком, в котором хранится работа – здесь – дамское рукоделие: вышивка или вязанье. Столики и комоды с такими ящиками находились, как правило, в спальне или гостиной.
…долговязых фолиантах – нем. Foliant происходит от лат. folium и означает книгу форматом в 1/2 печатного листа. Как правило, фолиантом называют крупную и толстую книгу, но у Надеждина, по контрасту с другими перечисляемыми им форматами, фолиант долговязый, то есть длинный, но тонкий (Даль, I, 461).
…кубических in quarto, тучных in octavo – форматы книг в 1/4 и 1/8 печатного листа, соответственно – в два и четыре раза меньше, чем фолиант, но значительно толще.
Мал золотник, да дорог – золотник – мера веса, равная 96 долям (4,266 г).
… chef-d\'oevre галантерейной нашей литературы – игра слов, опирающаяся на два значения фр. «шедевр». Наиболее распространено уже и в XIX в. было переносное значение – выдающееся произведение искусства. Но значение первоначальное – образец товара, выполняемого ремесленником при вступлении его в цех или получении прав мастера, тоже не было забыто.
…с блестками похвал от любезного фабриканта, и с черными пятнами порицаний… – двойная игра слов вокруг термина «фабрикант». С одной стороны, блестки от любезного (здесь – приятного) фабриканта продолжают «галантерейную» тему. С другой – фабра – черная краска, которой в то время «фабрили» усы.
…есфетическое – эстетическое. Отстаивая принципы классической литературы, Надеждин и в лексике использует «классицистическую» терминологию и стремительно устаревающее написание. Так и здесь вместо входящего в моду «э» он использует «е», а вместо «т» – «фиту», передававшую в алфавите звук между «т» и «ф» – «фертом».
…со всех четырех ног, на славу,
Не взвидя света ни дорог, – соединенные вместе строчки из басен Крылова «Обоз» и «Конь и всадник».
…из роду вон – иронически искаженная пословица – «из ряда вон», означающая какое-либо необычное «нерядовое» происшествие.
Кювье – член французской академии, естествоиспытатель, зоолог (1769–1832), составивший свою классификацию животного мира и выпустивший в свет в 1817 г. четырехтомный труд «Царство животных».
…искать порожнего места – то есть пустого.
Сотни Пигмалионов самыми жарчайшими лобзаниями… – в древнегреческой мифологии Пигмалион – царь Кипра, влюбившийся в изготовленную им из слоновой кости статую женщины. Богиня Афродита помогла Пигмалиону поцелуем оживить статую, названную Галатеей.
…эта смешная quidditas – здесь – пропись, правило (лат.).
…или лучше, плетенья!.. – каламбур, обыгрывающий разные значения слова плести: а) вить, перевивать; б) лгать, врать, нести околесицу; в) писать плохие стихи (Даль, III, 124–125).
…у какой записной красавицы – т. е. всем известной, признанной.
…развивается иногда пуколька – то есть локон, завиток.
…в пылу страстных восторгов – в данном контексте используется поэтическое «восторги» в том значении, в каком в настоящее время употребляется слово «секс».
Вестник Европы 1829 № 3 Две повести в стихах: Бал и Граф Нулин. (Окончание)Граф Нулин есть произведение Корифея нашей Поэзии. Оно пересажено сюда из оранжереи Северных цветов, где явилось, назад тому уже год, во всей полноте младенческого простодушия, утрачивающегося, как видно, с летами. И столь ослепительное яркое сияние славы Поэта, в лучах коея вращается эта милая крошка литературного нашего мира, что еще доселе ни один дурный глаз (на недостаток коих грешно бы однако было пожаловаться) не изурочил ее внимательным рассматриванием и завистливым разбором. Нулин… Пушкин!.. Сие последнее имя обдавало невольным благоговением всех и повергало в безмолвное изумление. Честь и слава величию гения! Одно имя его есть уже фирма, под которою самое ничтожество пропускается беспошлинно в храм бессмертия!..
Его Сиятельство является теперь в другой раз на литературной сцене, почти особнячком, не без некоторой даже перемены в прозрачном своем костюме против первого дебюта [4] . Это показывает, что Поэт не оставляет без отеческого внимания детища, им на свет пущенного; что ему хочется продлить, упрочить всеобщее внимание, созываемое им на малютку. Будем признательны к трудам высокомощного повелителя в области нашей поэзии: отважимся бросить теперь скромный взгляд на сие драгоценное произведение, в котором, как в микрокосме, отпечатывается тип всего поэтического мира, им сотворенного!
Но с чего начать?.. Дай Мне точку! требовал некогда мудрец, пытавшийся повернуть вселенную: мы бы удовольствовались теперь и звательцом, чтобы иметь по крайней мере что-нибудь, к чему бы можно было прикрепиться. Но, по несчастию, для нас в Графе Нулине нет даже и тех точек, коих длинные ряды украшают, подобно перлам, произведения нынешних гениев: это – да простит нам тень великого Паскаля! – это есть кружочек, коего окружность везде, и центр – нигде!.. Если имя Поэта (…) должно оставаться всегда верным своей этимологии, по которой означало оно у древних Греков творение из ничего: то певец Нулина есть par excellence Поэт. Он сотворил чисто из ничего сию поэму. Но зато и оправдалась над ней во всей силе древняя аксиома Ионийской философической школы, на которую столь нападали позднейшие Креационалисты, что из ничего ничего не бывает (ex nihilo nihil fit). Никогда произведение не соответствовало так вполне носимому им имени. Граф Нулин есть нуль [5] во всей математической полноте. Глубокомысленный Кант поставлял существенным характером комического то, что ожидание, им возбуждаемое, превращается в нуль. Наш Нулин не может иметь и на то претензии. Он не возбуждает никаких ожиданий, кроме чисто нульных. И мы – не без сердечного, конечно, раскаяния в позволяемом себе кощунстве – можем сказать языком великого Галера: «Взгромождаю нули на нули, умножаю их, возвышаю в бесчисленные степени: и ты, нуль! остаешься всегда весь, всегда равен себе – предо мною!»
И так – просим теперь не прогневаться, если мы увольняем себя от всегда скучной, но всегда и полезной работы: представить содержание разбираемой нами поэмы в анатомическом скелете. Что тут анатомировать?.. Мыльный пузырь, блистающий столь прелестно всеми радужными цветами, разлетается в прах от малейшего дуновения… Что же тогда останется?.. Тот же нуль – но в добавок… бесцветный! А эта цветность составляет все оптическое бытие его!.. Скажем по сему только pro forma: Граф Нулин проглотил пощечину Натальи Павловны; гений Поэта превратил ее с творческим одушевлением и… разрешился – Нулиным. C\'est le mot de l\'enigme!..
– «Fi donc!» закричат со всех сторон усердные прихожане нигилистического изящества, коим становится дурно от всякого чтожества: «что за педантический тон? Что за школьное тиранство? Как будто от поэтического произведения, назначаемого единственно для наслаждения, непременно должно требоваться это несносное нечто, коим прожужжали нам уши предки и диссертации!.. A bas le Vandale! a bas le pedant!.. Нам не нужно ничего, кроме картин – одних картин и только! Поэт должен быть верным живописцем природы: et viola tout!» – Ваши покорные слуги, Mesdames et Messieurs! Мы никогда и не думали отнимать у Поэзии ее законного родового преимущества – живописать Природу. И мы можем, с позволения нежнейшего слуха вашего, прошепнуть в оправдание наше варварское изречение Горация, почитаемого Корифеем педантов и идолом школ: ut pictura, poёsis!.. Да и что ж иначе могло бы привлечь внимание наше на разбираемую теперь нами поэмку, если бы мы поэтическую живопись считали чисто за нуль в эстетическом мире?… Не одно ли только это и сообщает ей призрак литературной вещественности?… иначе – нам пришлось бы ограничиться одним арифметическим действием вычитания: нуль из нуля – нуль! и – концы в воду!
И так – живопись… поэтическая живопись!.. A la bonne heure!.. Никто не может оспаривать пальму поэтического живописца у Певца Нулина. Его произведения – и кто не знает их наизусть! – исполнены картинами, схваченными с Натуры рукою мастерскою, одушевленною и – даже иногда слишком – верною. Граф Нулин представляет непрерывную галерею подобных картин. Самое начало повести есть образец живописи, коей не постыдились бы знаменитейшие мастера Фламандской школы:Пора! пора! рога трубят;
Псари в охотничьих уборах
Чем свет уж на конях сидят,
Борзые прыгают на сворах.
Выходит барин на крыльцо,
Все, подбочась, обозревает;
Его довольное лицо
Приятной важностью сияет.
Чекмень затянутый на нем,
Турецкий нож за кушаком,
За пазухой во фляжке ром,
И рог на бронзовой цепочке.
В ночном чепце, в одном платочке,
Глазами сонными жена
Сердито смотрит из окна
На сбор, на псарную тревогу…
Вот мужу подвели коня;
Он холку хвать и в стремя ногу,
Кричит жене: не жди меня!
И выезжает на дорогу. (5, 6)
Не правда ли, что прекрасно?…. Но превосходнейшее chef-d\'-oevre сей прелестной галереи есть панорама сельской или лучше дворовой Природы, раскинутая магическим ковром пред глазами Натальи Павловны, героини повести:
Наталья Павловна сначала
Его [6] внимательно читала,
Но скоро как-то развлеклась
Перед окном возникшей дракой
Козла с дворовою собакой
И ею тихо (?) занялась.
Кругом мальчишки хохотали;
Меж тем печально под окном
Индейки с криком выступали
Вослед за мокрым петухом;
Три утки полоскались в луже.
Шла баба через грязный двор
Белье повесить на забор… (9, 10)
Это уже – не первой чета! Здесь изображена природа во всей наготе своей – a l\'antique! Жаль только, что сия мастерская картина не совсем дописана. Неужели в широкой раме черного барского двора не уместились бы две три хавроньи, кои, разметавшись по-султански на пышных диванах топучей грязи, в блаженном самодовольствии и совершенно Епикурейской беззаботности о всем окружающим их, могли бы даже сообщить нечто занимательное изображаемому зрелищу?… Почему Поэт, представляя бабу, идущую развешивать белье через грязный двор, уклонился несколько от верности, позабыв изобразить, как она, со всем деревенским жеманством, приподымала выстроченный подол своей пестрой понявы,
Чтобы ей воскрилий
Не омрачить усыпленною грязного моря волною?..
Это едва извинительно в живописце великом и всеобъемлющем!.. Изображения внутренних душевных ситуаций не менее живописны. Кто не закраснеется хоть немножко при описании расстроенного положения сердечных дел Графа Нулина, приготовляющегося к ночному пилигримству?
Несносный жар его объемлет,
Не спится Графу, бес не дремлет,
И дразнит грешною мечтой
В нем чувства. Пылкий наш герой
Воображает очень живо
Хозяйки взор красноречивой,
Довольно круглый, полный стан,
Лица румянец деревенский —
Здоровье краше всех румян.
Он помнит кончик ножки нежной,
Он помнит: точно, точно так,
Она ему рукой небрежной
Пожала руку; он дурак,
Он должен был остаться с нею.
Ловить минутную затею.
Но время не ушло… (21, 22)
А!.. каково! Не льзя, право, не сотворить молитвы! Так живо изображено бесовское наваждение!.. Здесь интерес повести начинает возрастать по законам драматического искусства. Опытный читатель вместе с влюбленным Графом
…В потемках бродит,
Дорогу ощупью находит,
Желаньем пламенным томим,
Едва дыханье переводит,
Трепещет, если пол под ним
Вдруг заскрипит… вот он подходит
К заветной двери и слегка
Жмет ручку медную замка;
Дверь тихо, тихо уступает;
Он смотрит: лампа чуть горит
И бледно спальню освещает;
Хозяйка мирно почивает,
Иль притворяется, что спит.
Он входит, ищет (?), отступает —
И вдруг упал к ее ногам.
Она…
Поэт не столько милостив для читательниц: он просит Петербургских дам, с их позволенья, самим
Представить ужас пробужденья
Натальи Павловны…
И разрешить, что делать ей. (24)
Это не совсем вежливо! Может быть, многие из наших Московских дам, не бывавши в таких случаях, не будут и уметь дополнить сами собою этот пробел. Но – тс!.. что-то будет дальше?….
Она, открыв глаза большие,
Глядит на Графа – наш герой
Ей сыплет чувства выписные
И дерзновенною рукой
Уже руки ее коснулся… (25)
Helas!..
Но – тут опомнилась она; (ib.)
Слава Богу!
Гнев Благородный в ней проснулся,
И честной гордости полна,
А впрочем, может быть и страха,
Она Тарквинию с размаха… (ib.)
Уф!..
Дает – пощечину, да, да!
Пощечину, да ведь какую!.. (ib.)
Вот истинно Высокое Поэзии!.. Какой беспредельный Океан вскрывается для взора и слуха читателя!.. Здесь живопись сливается с музыкою; краски мешаются со звуками… и у меня по сю пору мерещится в глазах этот бедный Нулин, облизнувшийся как лысый бес, и отдается в ушах эта звонкая пощечина, разбудившая даже косматого Шпица и верную Парашу. Чудаки покачивают головою и говорят сквозь зубы: «все это так! все это правда! все это верный снимок с натуры!..Да с какой натуры?…Вот тут-то и закавычка!.. Мало ли в натуре есть вещей, которые совсем не идут для показу?… Дай себе волю… пожалуй, залетишь и – Бог весть! – куда! – от спальни недалеко до девичьей; от девичьей – до передней; от передней – до сеней; от сеней – дальше и дальше!.. Мало ли есть мест и предметов, еще боле вдохновительных, могущих представить новое неразработанное и неистощимое поле для трудолюбивых деятелей!.. Немудрено дождаться, что нас поведут и туда со временем! – Что ж касается до повесничеств и беспутств, то им несть числа!.. Выставлять их напоказ, значит, оскорблять человеческую природу, которая не может никогда выносить равнодушно собственного уничижения. Почему и желательно было бы, чтоб они не выходили никогда из того мрака, в коем обыкновенно и совершаются!» – C\'est bon, Messieurs les Camtscadales, c\'est bon! – Правду сказать, не льзя не признаться, что ваши опасения имеют вид справедливости. Сцена, происшедшая между Графом и Натальей Павловной, без сомнения, очень смешна. Можно легко поверить, что ей от всего сердца
Смеялся Лидин, их сосед,
Помещик двадцати трех лет. (31)
Я и сам, хоть не помещик, но, завалившись недавно еще за двадцать три года, не могу не разделить его смеха, хотя и не имею на то особых причин, какие, вероятно, имел он. Но каково покажется это моему почтенному дядюшке, которому стукнуло уже пятьдесят, или моей двоюродной сестре, которой невступно еще шестнадцать; если сия последняя (чего Боже упаси), соблазненная демоном девического любопытства, вытащит потихоньку из незапирающегося моего бюро это сокровище?.. Греха не оберешься!.. С другой стороны, однако, должно согласиться, что певец Нулина не совсем еще отрешился от приличия и умеет иногда полагать границы своевольному своему гению. Так напр. При подобном описании ночных утварей, которыми аккуратный Monsieur Picard снабдил отходящего ко сну Графа:
Monsieur Picard ему приносит
Графин, серебряный стакан,
Сигару, бронзовый светильник,
Щипцы с пружиною, будильник…(20)
Кто не чувствует, что последнее слово есть вставка, заменившая другое равно созвучное, но боле идущее к делу, слово, принесенное Поэтом с истинно героическим самоотвержением в жертву пуританскому приличию?.. То же самое чувство благородной снисходительности к людским предрассудкам выражается в полумимическом ответе Графа на вопрос Натальи Павловны:
«Как тальи носят?» – Очень низко,
Почти до… вот до этих пор.
Какая любезная скромность!.. Поэт заставил героя своего не сказать, а показать [7] то, для чего наш не имеет книжного слова. Grand merci!..
О стихосложении Графа Нулина и говорить нечего. Оно, по всем отношениям, прекрасно [8] . Стихи гладкие, плавные, легкие, как бы сами собою сливаются с языка у Поэта. Это – nugat canore! Увлекаясь их пленительною гармониею, невольно иногда негодуешь и спрашиваешь: «Зачем эти прекрасные стихи имеют смысл? Зачем они действуют не на один только слух наш?» Истинно завидна участь Графа Нулина! За проглоченную им пощечину Его Сиятельство купил счастие быть воспетым в прелестных стихах, которыми не погнушались бы знаменитейшие герои.
Кончим рассмотрение наше общим замечанием об обеих повестях, нас занимавших. Это суть прыщики на лице вдовствующей нашей Литературы! Они и красны и пухлы и зрелы: но…
Che chi ha i duo\' occhi il veda!.....С Патриарших
прудов.
Примечания:
Корифей – предводитель хора в греческой трагедии (koryphaios – гр.). Здесь – «глава», «вождь».
Его Сиятельство – обращение «ваше сиятельство» являлось составной частью графского и княжеского титула (за исключением «светлейших князей», к которым обращались: «ваша светлость».
…в другой раз (…) против первого дебюта – имеется в виду первое издание поэмы в альманахе «Северные цветы» на 1828 г., выпущенном в свет в конце 1827 г.
Дай мне точку! – Согласно легенде, переданной Плутархом, фразу: «Дайте мне точку опоры, и я подниму Землю!»– произнес Архимед (ок. 287–212 г. до н. э.), открывший законы действия рычага.
Звательцо – «надстрочный знак церковной грамоты, который ставится над начальными гласными». (Даль, I, 672). В данном случае «звательцо» используется в значении «исходная точка», «точка отсчета».
Селадон – герой романа Оноре д\'Юрфе «Астрея», ставший символом куртуазной возвышенной и платонической любви, чье поведение абсолютно противоположно тому, как поступал граф Нулин.
…Васьки прожоры – отсылка к басне И. А. Крылова «Кот и Повар».
…украшают подобно перлам… – первое значение слова «перл (перло)» – жемчужина, а «перлы» – нить жемчуга. Вместе с тем в то время уже существовало переносное значение «перл» – поэтическая находка, украшающая текст. Надеждин иронически обы грывает вид отточий в тексте, представляя их «перлами».
…тень великого Паскаля – Блез Паскаль (1623–1662) – французский математик, физик, философ, писатель. Мысль его, ирониче ски перетолковываемая здесь Надеждиным, в оригинале звучала так: «Если наше зрение останавливается здесь, воображение идет дальше: оно скорее устанет постигать, чем природа – доставлять материал… Это бесконечная сфера, у которой центр всюду, а окружности нет нигде». В другом варианте это же высказывание относится ко вселенной: «Вселенная – это не имеющая границ сфера, центр ее всюду, периферия нигде».
Этимология – от etimologia (гр.) – происхождение слова и родственные отношения к другим словам.
Par exellence – по преимуществу (франц.).
Ионическая школа – направление философской мысли, существовавшее в VI–IV вв. до н. э. Название связано с тем, что основатели школы были жителями греческих колоний на Ионических островах. Наиболее знаменитые философы этого направления: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит. Одно из главных положений философии «ионической школы» состояло в том, что все существующее во вселенной происходит из единого первоначала.
Креационалисты – направление в философии, для которого характерно положение о «творении» (лат. – creatio) всего сущего Богом из ничего.
Ex nihilo nihil fit – точный перевод: ничто не возникает из ничего (лат.).
Глубокомысленный Кант – И. Кант (1724–1804), немецкий философ. Сентенция Канта, на которую ссылается автор статьи («Смех есть аффект от внезапного превращения напряженного ожидания в ничто»), содержится в «Критике способности суждения» (Кант, 352).
…языком великого Галера -Альбрехт Галлер (1708–1777) – швейцарский естествоиспытатель, профессор университетов в Геттингене и Берне. Один из самых ранних переводов его на русский язык (Н. М. Карамзина) назывался: «О происхождении зла, поэма великого Галера».
Pro forma – для видимости (лат.).
C\'est le mot de l\'enigme! – Вот отгадка (фр.).
Fi donc! – «Фи!» (фр.), приблизительно передается русским выражением «подумать только» с интонацией презрения и (или) возмущения.
…нигилистическое изящество – одна из первых попыток пересадить в русский литературный язык термин «нигилизм» (от лат. nihil – ничто), используемый до этого в средневековой схоластике и немецкой философии XVIII в. В данном случае термин «нигилистическое» – ничтожное по своим результатам.
A bas le Vandale! a bas le pedant! – прочь вандал! прочь педант! (фр.)
…одних картин и только! – Скрытая полемика с «Московским вестником», где в «Обзоре российской словесности на 1827 г.» (№ 1 за 1828 г.) говорилось: «Напомним строгим Аристархам, что не дело Поэта преподавать уроки нравственности. Он изображает всякое сильное ощущение в жизни, всякий характер, носящий на себе оригинальную печать или одной мысли, или одного чувства. Если поэзия есть живая картина необыкновенной человеческой жизни, то не Ангелов совершенных должны представлять нам Поэты, но человеков с их добром и злом…»
…et viola tout! – Вот и все! (фр.)
Mesdames et Messieurs! – Дамы и господа! (фр.)
Гораций – Квинт Гораций Флакк (65-8 до н. э.), римский поэт. 443…ut pictura? Poёsis! – «Поэзия подобна живописи!» – Фраза из трактата Горация «Наука поэзии», считавшегося теоретическим фундаментом классицизма в литературе.
A la bonne heure! – Пусть так! (фр.)
Фламандская школа – круг живописцев Фландрии (совр. Бельгия) XVII в. Самые известные представители: Питер Пауль Рубенс (1557–1640), Антонис ван Дейк (1599–1641), Якоб Иорданс (1593–1678), Франс Снайдерс (1579–1657). Сравнение поэзии Пушкина с Фламандской школой вызвано, видимо особой любовью художников Фландрии (особенно последних двух) к натюрмортам и бытовым сценкам, исполненным в натуралистичной манере. A l\'antique – на античный манер.
…Епикурейской беззаботности – одна из сторон философии Эпикура (341–270 до н. э.) – учение о человеческой природе и цели человеческой жизни. Одно из главных понятий такого учения – атараксия (греч. ataraxia), т. е. полная безмятежность духа, к достижению которой должен стремиться каждый разумный чело век.
…своей пестрой понявы – здесь – женской рубахи или юбки, сделанной из широкого лоскута. В любом случае понява – элемент крестьянской и, шире, простонародной одежды. Выражение использовано явно для контраста со следующими встык строками классической поэзии.
Он входит, ищет, отступает – так в издании «Две повести в стихах». В первой публикации – в «Северных цветах» – «Он входит, медлит, отступает».
Helas! – Увы! (фр.)
…лысый бес – выражение, синонимичное другому: «старый черт», но чаще всего употреблявшееся в значении «ничего», «пустота». Ср.: «Ни лысого беса нет тебе!» (Даль, II, 276).
…от сеней – дальше, дальше! – Если следовать предложенному Надеждиным маршруту, то дальше за сенями (рядом с крыльцом) – туалет. Отсюда и следующее ироническое замечание о «вдохновляющих» местах.
C\'est bon, Messieurs les Camtscadales, c\'est bon! – Хорошо, господа камчадалы, хорошо! (фр.) «Камчадалы» здесь – традиционалисты.
Я сам хоть не помещик… – Надеждин был сыном дьякона и окончил Московскую духовную академию, чем, во многом, объясняется круг цитируемых авторов. Недворянское же происхождение и «чужеродность» молодого критика литературной среде того времени отзывается в статье неумеренным использованием французского – языка светских салонов – и, одновременно, негативная оценка его воздействия на русскую литературу.
…незапирающегося моего бюро – от фр. bureau – письменный стол (часто – для работы стоя) с ящиками, полками и крышкой.
Греха не оберешься – здесь – не спрячешь, в смысле – «стыдно будет».
…но боле идущее к делу слово – рецензент имеет в виду «урыльник», то есть ночной горшок. Намек не беспочвенный. Надеждин точно подметил некоторое (хоть и отдаленное) сходство «Графа Нулина» А.С. Пушкина с «Опасным соседом» В.Л. Пушкина, а в этой последней поэме, в описании дома, куда попал ее герой, есть такие строки: «Безносая стоит кухарка в душегрейке; / Урыльник, самовар и чашки на скамейке…». У А.С. Пушкина же «урыльника» не было и в черновиках. Тем не менее «догадка» Надеждина пошла гулять по салонам (свидетельство чему – фрагмент воспоминаний А.О. Смирновой-Россет, приводимый ниже), а затем попал и в некоторые литературоведческие работы (Гордин, 297).
Grand merci! – Большое спасибо! (фр.)
…nugat canore – звучные, но пустые стишки (лат.). Цитата из «Науки поэзии» Горация.
Превиль – настоящее имя Пьер Луи Дебюс (1721–1799) – французский актер, с 1751 г. – первый комик Комеди Франсес. В 1822 г. вышло второе издание его «Воспоминаний», откуда, вероятно и заимствованы его слова.
…mon d… aussi est dans la nature, et pourtant je ne monte pas – моя з… часть тоже часть природы (тоже естественна), и все таки я ее не покажу.
Строгие метроманы… – здесь – блюстители чистоты размера в стихах.
…русской просодии – от греч. prosodia – система стихотворных размеров, характерных для данного языка.
Che chi hai duo\' occhi il veda! – Среди слепых и кривой зрячий.
Московский вестник 1829. № 6
Письмо к издателю Московского Вестника (…) Всегда уважая необыкновенный талант А.С. Пушкина и восхищаясь его прелестными стихами, с неудовольствием читывал я преувеличенные, безусловные и даже смешные похвалы ему, в Сыне Отечества, в Северной пчеле и особенно в Московском телеграфе. (…) Если неумеренные похвалы возбуждают неудовольствие в людях умеренных, какое же негодование должны произвести в них явные притязания оскорбить, унизить всякими, даже не литературными средствами, того же самого поэта, перед которым те же раболепные журналы весьма недавно пресмыкались в прах?…
Есть и другие журналы, впрочем, достойные уважения, в которых разбирали Пушкина или с пустыми привязками, или с излишним ожесточением. Последнее тем прискорбнее, что встречалось в рецензиях Критика, по-видимому, имеющего большие познания не только в своей, но в древних и новейших иностранных литературах, мысли которого по большей части свежи и глубоки. Я уверен, что он отдает полную справедливость Пушкину, и что только нелепые похвалы и вредное для словесности направление его последователей, вместе с строгим образом мыслей самого критика о некоторых предметах, увлекли его в излишество….
...А.
Примечания:
…другие журналы… в которых разбирали Пушкина с пустыми привязками… – В первую очередь имеется в виду критическая статья М.А. Дмитриева (1796–1866) в «Атенее» (1828 г. Ч. 1), по священная «Евгению Онегину».
Критик – Н.М. Надеждин. Ср. отношение к его статьям в «Вестнике Европы» самого Погодина, выраженное в письме к С.П. Шевыреву: «Надеждин вооружился против Пушкина и говорил много дела, между прочим, хотя и семинарским тоном» (Гиппиус, 8).
А. – Так подписывал свои заметки в «Московском вестнике» в 1827–1828 гг. П. И. Артемов, а в 1830 – П. А. Андросов или Андроссов (1803–1841), известный статистик и литературный сотрудник «Московского вестника». Один из них, скорее всего, и был автором цитируемого письма.
Вестник Европы. 1829. № 9
Полтава, поэма Александра Пушкина…. Поэзия Пушкина есть просто – пародия. Нечего Бога гневить!.. Что правда – то правда. Мастер посмеяться и посмешить… когда только, разумеется, знаешь честь и меру! – И если можно быть великим в малых делах, то Пушкина можно назвать по всем правам гением – на карикатуры!..Пускай спорят прочие Бахчисарайскому ли фонтану или Цыганам принадлежит первенство между произведениями Пушкина? По моему мнению, самое лучшее его творение есть – Граф Нулин!.. Здесь поэт находится в своей стихии: и его пародиальный гений является во всем своем арлекинском величии…
...С Патриарших
прудов.
Примечания:
Рецензия построена как разговор трех лиц: рассказчика, его товарища Флюгеровского и их случайного собеседника – Незнакомца, позже представившегося как «Пахом Силыч Правдивин, корректор университетской типографии». Приводимые ниже рассуждения вложены в уста Незнакомца – Правдивина. Автор – Н. И. Надеждин.
… арлекинском величии… – имеется в виду Арлекин – персонаж итальянской комедии Дель Арте, слуга и обманщик. В России Арлекин имел устойчивую репутацию шутника, гаера и даже «шута горохового». Так что «арлекианское величие» – это оксюморон и шутка на грани оскорбления.
Дневник М. П. Погодина. 4 апреля 1829 г.
… Целое утро убеждал Пушкина, чтобы он не намекал на царскую цензуру своим критикам. Бесится без памяти за обвинения в безнравственности.
Примечания:
Погодин М. П. (1800–1875) – историк и литератор, профессор Московского университета. В 1829 г. – редактор журнала «Московский вестник», в издании которого А.С. Пушкин принимал активнейшее участие. Дневник цитируется по изданию: Пушкин по документам Погодинского архива // Пушкин и его современники. Материалы и исследования. Т. 6. Вып. 23–24. Пг., 1916. С. 102.
… царскую цензуру… – На аудиенции, данной Николаем I Пушкину в Москве, в сентябре 1826 г., император освободил поэта от общей цензуры, обещав лично давать разрешения на публикацию его произведений. Это поставило и поэта, и критика в двусмысленное положение: обвинение в безнравственности задевало не только самого Пушкина, но и его цензора – царя.
… обвинения в безнравственности. См. выше статьи Надеждина в Вестнике Европы № 2, 3 и 9 за 1829 г.
Шаховской А. А. Еще меркурий, или романный маскарад. Праздник-водевиль, составленный из лиц, представяющих известный роман, с плясками, танцами, разными музыками, в стихах. (По сюжету водевиля граф Одашев показывает княгине Борской персонажей «литературного маскарада». Один из персонажей – граф Нулин.)Граф
…
Но я дерзну вам показать
Романы русские, а их всего немного.
Княгиня
Тем лучше, но кажи скорее, ради Бога.
Граф Нулин
Bon jour! Граф Нулин я!
И, говорят, любезной,
Хотя вся жизнь моя
Не кажется полезной.
Пускай я был ничто
И свет коптил напрасно,
Но Пушкиным зато
Представлен вам прекрасно.
Княгиня
Ах, боже мой! да я везде слыхала
Об авторе. Он принят в свет большой,
И тридцать раз прочесть его желала,
Да и прочту весной,
В деревне. Так мне даже стыдно,
Что не успела я; об нем везде кричат,
Но без таланта он, как видно…
Граф
С талантом и с большим, и надобно сказать,
Он красит русскую словесность (…)
Примечания:
Шаховской А. А. (1777–1846), – князь, поэт, драматург и театральный деятель.
Bon jour – добрый день (фр.).
… прочту весной… – Первое представление пьесы состоялось осенью: 28 октября (по другим данным – 3 ноября) 1829 г.
Северная пчела. 1829. № 133 Русский театр. Еще Меркурий. Водевиль А. А. Шаховского. Выбегает какой-то шут, пляшет, коверкается и поет:Bon jour! Граф Нулин я!
И говорят: любезной.
Хотя вся жизнь моя
Не кажется полезной (?)
Пускай я был ничто
И свет коптил напрасно;
Но Пушкиным за то (? – за что?)
Представлен вам прекрасно.
По счастью для князя Шаховского, актер пропел невнятно первые стихи и уперся на одном последнем стихе. Публика приняла это за похвалу Пушкину и захлопала. Единственный аплодисмент в течение целого представления, а князю Шаховскому урок – не потчевать публику своей ненавистью к авторам, которых он не любит, за то, что публика их любит…
...Пантелеймон Виршин.
Примечания:
При сравнении с текстом водевиля отчетливо видно, что в рецензии намеренно искажено отношение Шаховского к поэме Пушкина, а соответственно и отношение публики к творчеству Шаховского. Наиболее вероятный автор рецензии – сам редактор «Северной пчелы» Ф.В. Булгарин, чей роман «Иван Выжигин» в этом водевиле был едко высмеян.
Атеней. 1829. № 21
Мысли и замечания касательно современной Русской Словесности.
Какой чародей Пушкин!.. Он обладает несметным богатством образов; какое бы лицо он ни представлял, оно тут… со всеми принадлежностями, из коих каждое способствует изображению характера… Читая последние его произведения нельзя не сказать: какой всеобъемлющий талант! Из спальни Натальи Павловны вдруг в келью Летописца – и я вижу, я слышу XVII век!.. Пушкин ввел в нашу Поэзию изящную дикость романтической музы Байрона, ее искусственную неопределенность, прелесть ее неистовства, ее силу и разительность. – Еще великая мера, и вечная услуга. Пушкин довершил изгнание богов, богинь и божков Греческого Олимпа вместе с увы и ах. Его образцы говорят нам: поражайте не баснословием, не мифословием, не восклицаниями, но положением лиц ваших, и в нем ищите образов и выражений.
Что сказать о стихах его? Поэзия есть его владение, там он играет и языком и рифмою, – но не заигрываясь. Он никогда не был их рабом, но был всегда властелином осторожным. Благозвучие – его элемент: он не напишет, не умеет написать ни одного стиха не плавного…
...Н. И. П.
Примечания:
Атеней – «Журнал наук, искусств и изящной словесности с присовокуплением «Записок для сельских хозяев, заводчиков и фабрикантов». Выходил с 1828 г. раз в две недели. Издатель журнала профессор Московского университета М. Г. Павлов.
…я вижу, я слышу XVII век! – Имеется в виду драма А. С. Пушкина «Борис Годунов».
…разительность – здесь – необычайность.
…богов, богинь и божков Греческого Олимпа – Олимп – гора в Фессалии, на которой, согласно древнегреческой мифологии, находились дворцы Зевса и других богов.
…положением лиц ваших – здесь – состоянием, обстоятельствами в которых данное лицо находится.
Благозвучие – его элемент – здесь – первооснова.
Н. И. П. – Автор рецензии – литератор Н. Д. Иванчин-Писарев (1790–1849).
Сын Отечества и Северный Архив 1829. № 12
О чутье Критика имярек, живущего на Патриарших Прудах.
Similis simili gaudet.
Подобное подобным и любуется: таков, кажется, смысл этой латинской поговорки, оправданный на деле г. Критиком с Патриарших Прудов. Сей Критик жалеет, что «в широкой раме барского черного двора (описанного Пушкиным в повести: Граф Нулин) не уместились две, три Хавроньи» и что «баба, идучи развешивать белье, не приподымала выстроченный подол своей пестрой понявы». Он же, г. Критик, говорит: «Дай себе волю: пожалуй, залетишь и Бог весть куда! От спальни недалеко до девичьей, от девичьей до передней; от передней до сеней; от сеней – дальше и дальше!.. Мало ли есть мест и предметов, еще более вдохновительных» и пр. и пр. Видим, куда залетел г. Критик. Оставим его там. – Он же, г. Критик, подозревает, что принесенный Нулину слугою его будильник заменил другое, созвучное, но более идущее к делу слово: какое тонкое чутье!
Наконец, он же говорит о двух повестях Бал и Граф Нулин: «это суть прыщики на лице вдовствующей нашей Литературы! Они и красны и пухлы и зрелы: но….
...Che chi ha i duo\' occhi il veda!»
и весьма кстати подписывает под этим итальянским стихом: С Патриарших Прудов.
Не правда ли, что у г. Критика весьма тонкое чутье?… Не правда ли, что он кстати выбрал себе местопребывание? Не правда ли, что подобный подобным и любуется?
Кстати о Хавроньях: вспомним, как в Басне Крылова отвечает Хавронья пастуху на вопрос, что она видела в богатом и пышном барском доме:
«Хавронья хрюкает: ну, право, порют вздор;
Я не приметила богатства никакого:
Все только лишь навоз, да сор;
А кажется уж не жалела рыла
Я там изрыла
Весь задний двор».
Вспомним также и прекрасный стих, которым Баснописец наш начинает меткое примечание своей басни. «Не дай Бог никого сравненьем мне обидеть!» и пр.
О молодости лет г. Критика с Патриарших Прудов Г. Критик с Патриарших Прудов извещает всех, кому ведать о том надлежит, «что он недавно еще завалился за двадцать три года». Следовательно, он уже вышел из ребят, хотя еще и незаметно в критиках его возмужалости. Жаль, что в эти лета он или близорук или опрометчив, и не может отличить кошки с мышью: иначе он не сделал бы той грубой ошибки, которую поместил в примечании к своей критике на Графа Нулина [9] . Из человеколюбия советуем ему надеть очки, читать повнимательнее, помнить прочитанное и писать не наобум.
Примечания:
Эта и последующая заметки – ответ на статью Н. М. Надеждина «Две повести в стихах» в № 2 и 3 в «Вестнике Европы» за 1829 г.
Similis simili gaudet – подобный радуется подобному (лат). Русский вариант этой поговорки: рыбак рыбака видит издалека.
Хавронья – Здесь и выше цитаты из басни И. А. Крылова «Свинья». За ехидным «и пр.» стоят строки: «Но как же критика Хавроньей не назвать, / Который, что не станет разбирать, / Имеет дар одно худое видеть?»
Здесь что ни слово, то спасибо – каламбур, соединяющий в одно две поговорки: «Что слово, то ком» и «Великое слово: спасибо».
Дневник А. Н. Вульфа. 23 октября 1830 г.В последних числах октября,
(Презренной прозой) говоря
В деревне скучно… —
В моей Антоновке, и особенно, когда в ней живешь по нужде и без денег, – не раз вспомнишь этот стих Пуш(кина).
Примечания:
Цит. по: Дневник А. Н. Вульфа. 1828–1831 // Пушкин и его современники. Т. 6. Пг., 1916. С. 137–138.
П. А. Катенин. Воспоминания о Пушкине. 9 апреля 1852 г. … Из стихотворений среднего объема отменно люблю я три: повесть «Граф Нулин», балладу «Утопленник» и сказку «О рыбаке и рыбке»; каждая в своем роде прелесть, и как они разнообразны!..Примечания:
Цит. по: Катенин П. А. Размышления и разборы. М., 1981. С. 216.
А. О. Смирнова-Россет. Рассказы о встречах с Пушкиным … Ты знаешь, что государь только что воцарился491, вызвал Пушкина в Москву… и взялся быть его цензором. Государь цензурировал «Графа Нулина». У Пушкина сказано «урыльник». Государь вычеркнул и написал – будильник. Это восхитило Пушкина. «Это замечание джентльмена. А где нам будильник, я в Болдине завел горшок из-под каши и сам его полоскал с мылом, не посылать же в Нижний494, за этрусской вазой»…Примечания:
Смирнова-Россет А. О. (1809–1882) – выпускница Смольного института, фрейлина вдовствующей императрицы Марии Федоровны, участница многих литературных событий конца 1820-1840-х гг. Фрагмент воспоминания цитируется по: Смирнова-Россет А.О. Воспоминания. Письма. М., 1990. С. 192.
…государь только что воцарился – государь – Николай I (1796–1855). Имеются в виду коронационные торжества в Москве осенью 1826 г.
…написал – будильник – на самом деле этого не было, а толки вокруг «будильника – урыльника» могли ходить в связи намеками в статье Надеждина в «Вестнике Европы» № 3 за 1829 г.
… в Болдине… – Пушкин провел в Болдине осень 1830 г., а летом 1831 г. жил в Царском селе и часто встречался с А.О. Россет. Если и был подобный разговор, то он мог состояться именно летом 1831 г., когда память о нападках на «графа Нулина» еще была свежа.
…не посылать же в Нижний – рядом с Нижним Новгородом находилась Макарьевская ярмарка – самая крупная в России. 495…этрусской вазой – этруски – народ, населявший во I–II тыс. до н. э.
Этрурию – область в Италии. Этруском был царь Рима Тарквиний Гордый, история изгнания которого положена в основу сюжета «Лукреции» Шекспира и, косвенно, «Графа Нулина». Этрусские вазы «буккеро» или «буккероненро) (VI–VI вв. до н. э.), изготовлялись из глины по уникальной технологии. Их украшали рельефами, животных и птиц, а также человеческих лиц, обжигали до черноты, а затем полировали до цвета металла.
Е.И. Раевская. Воспоминания Исторический вестник. 1898. № 11. С. 521–556. … Кроме любви к живописи, отец понимал музыку, обладал голосом и отличным слухом. Любил в досужее время писать стихи, из которых некоторые были напечатаны в периодических изданиях двадцатых годов. В «Послании» к дяде Илье Гавриловичу Бибикову, брату моей матери и лучшему другу моих родителей, исчисляя все деревенские удовольствия, он говорит:«Иль будем критики писать?
Примером их – роман «Граф Нулин».
В нем про охоту говорят
Невыгодно; и тем он дурен.
Я не скажу, как тот чудак:
"Прости меня! Не жди к обеду!"
Охотник я, но не дурак:
И повторю жене: "Приеду!"
Хотя и с тощим животом.
Ты ж сладким угости столом».
При выходе в свет этого «Послания» отец сидел, что по обыкновению, вечером в английском клубе в Москве, играл в вист. Подошел к нему А.С. Пушкин.
– Иван Петрович! Неужто вам, в самом деле, не понравился мой «Граф Нулин»?
– Полноте, – отвечал отец. – Я пошутил: в рифму пришлось!Примечания:
Отец – Иван Петрович Бибиков.
Из рассказов С. П. Шевырева о А. С. Пушкине «Москва приняла с восторгом: везде его носили на руках… Здесь в 1827 году читал он своего «Бориса Годунова»; вообще читал он чрезвычайно хорошо. Утро, когда он читал наизусть своего «Нулина» Шевыреву у Веневитиновых».Примечания: Рассказы С. П. Шевырева были записаны в декабре 1850 и январе 1851 гг. П.В. Анненковым или, по его просьбе, Н.В. Бергом (Майков Л.Н. Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки. СПб., 1899).
Д. В. Веневитинов (1805–1827) – поэт и лидер литературного кружка, начавшего издавать в 1827 г. журнал «Московский вестник» и привлекшего к участию в нем А. С. Пушкина.
Список литературыАбеляр – Абеляр П. История моих бедствий. М., 1959.
Айхенвальд – Айхенвальд Ю. Пушкин. М., 1916.
Аладьина – Аладьина Е.В. Воспоминания институтки. СПб., 1834.
Алексеев – Алексеев М.П. Пушкин. Л., 1972.
Альманах – Альманах на 1826 г. для приезжающих в Москву и для самих жителей сей столицы или Новейший указатель Москвы. М., 1825. С. 97.
Ансело – Ансело Ф. Шесть месяцев в России. М., 2001.
Архангельсктий – Архангельсктий А. Н. Герои Пушкина. Очерки литературной харакерологии. М., 1999.
Архив – Архив кн. Воронцова. Т. 12. М., 1877.
Архив братьев… – Архив братьев Тургеневых. Вып. 6. Переписка А.И. Тургенева с кн. П.А. Вяземским. Лейпциг, 1976.
АСП – А.С. Пушкин. // Библиотека великих писателей С. А. Венгерова. СПб., 1908. Т. 2.
Баевский – Баевский В.С. О театральных строфах в «Евгении Онегине». // Временник пушкинской комиссии. Вып. 20. Л., 1986.
Батюшков – Батюшков К.Н. Избранные сочинения. М., 1986.
Белинский – Белинский В.Г. Полн. собр. соч. Т. 7. М., 1955.
Беловинский – Беловинский Л. В. Российский историко-бытовой словарь. М., 1999.
Белый – Белый А.А. «Бывают странные сближения». // Творчество А.С.Пушкина в диапазоне от Канта до русского рока. – http://– Беранже Ж.П. Избранные песни. М., 1950.
Бесарабова – Бесарабова М.А. Малиновый берет (ритуальная семантика в произведениях А.С. Пушкина). // Михайловская пушкиниана. 2001. Вып. 19.
Бестужев – Бестужев Н. Воспоминания о Рылееве. // Воспоминания Бестужевых. М.-Л., 1951.
Бибикова – Бибикова А. Из семейной хроники. // Декабристы в воспоминаниях современников. М., 1988.
Бицили – Бицили П.М. Пушкин и Вяземский. К вопросу об источниках пушкинского творчества. Варна, LiterNet,(первое издание – 1939 г.) // – Благово Д. Рассказы бабушки. Л., 1980.
Благой1946 – Благой Д.Д. Творческий путь Пушкина. М., 1946.
Благой1977 – Благой Д.Д. Душа в заветной лире. М., 1977.
Богданович – Богданович И. Ф. Стихотворения и поэмы. Л., 1957.
Болотов – Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим для своих потомков. М., 1931. Т. 2.
Бонди – Бонди С.М. О Пушкине. М., 1983.
Бурьянов – Бурьянов В. Прогулка с детьми по России. Ч. 1. СПб., 1837.
Бутенев – Бутенев А.П. Воспоминания. // Русский архив. 1881. Кн. 3.
Бутурлин – Бутурлин М.Д. Записки. // Русский архив. 1897. Кн. 1.
Вальцов – Вальцов Д. Псовая охота Великого Князя Николая Николаевича в селе Першине Тульской губернии. 1887–1912. СПб., 1913. С. 8.
Васильев – Васильев М.Е. Музей «Святогорский монастырь». Л., 1984.
ВЕ – Вестник Европы.
Вершинина – Вершинина Н. Л. К вопросу об источниках поэмы «Граф Нулин». // Проблемы современного пушкиноведения. Л., 1981.
Вигель – Вигель Ф. Ф. Записки. Т. 1. М., 1928.
Виноградов1937 – Виноградов В. В. Пушкин и русский язык. // Вестник АН СССР. 1937. № 2–3.
Виноградов1941 – Виноградов В.В. Стиль Пушкина. М., 1941.
Виноградов2000 – Виноградов В.В. Язык Пушкина. М., 2000.
Виролайнен – Виролайнен М.Н. «С ужасно й книжко ю Гизота…» // Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Западный сборник. В честь 80-летия Петра Романовича Заборова. СПб, 2011. С. 78–84.
«… в окрестностях» – «… в окрестностях Москвы». М., 1979.
Волков – Волков А.А. Альманах для приезжающих в Москву и для самих жителей сей столицы. М., 1825.
Вольперт1990 – Литературный процесс: внутренние законы и внешние воздействия. // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia II: Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. Тарту, 1990. (Учен. зап. Тартуского гос. университета. Вып. 897.) С. 25–35
Вольперт2010 – Вольперт Л.И. Пушкинская Франция. Тарту, 2010. Интернет-публикация.
Всемирный… – Дмитриев Н. Из семейной хроники. // Всемирный труд. 1872. № 2.
Вяземский1877 – Вяземский П.А. Московское семейство старого быта. // Русский архив. 1877. № 3.
Вяземский1989 – Вяземский П.А. Московское семейство старого быта. // Русские мемуары. 1800–1825. М., 1989.
Вяземский1963 – Вяземский П.А. Записные книжки (1813–1848). М., 1963.
Ганулич1982 – Ганулич А. Поддужный колокольчик. // Наука и жизнь. 1982. № 7.
Ганулич1983 – Ганулич А. Русская троечная упряжь – музыкальный инструмент. // Наука и жизнь. 1983. № 12.
Гаспаров1990 – Гаспаров Б.М. Апокалиптическая тема в Пушкинском «Графе Нулине». // Даугава. 1990. № 1.
Гаспаров1999 – Гаспаров Б.М. Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка. СПб., 1999.
Гейченко – Гейченко С.С. Пушкиногорье. М., 1981.
Геродот – Геродот. История в девяти книгах. Т. 1. М. 1888.
Гершензон – Гершензон М.О. Граф Нулин. Приложение. // Пушкин А. С. Граф Нулин. М., 1918.
Гиппиус – Гиппиус В. В. Пушкин и журнальная полемика его времени. СПб., 1900.
Глинка1866 – Глинка С.Н. Из записок. // Русский вестник. 1866. Т. 1.
Глинка1996 – Глинка С.Н. Записки. // Золотой век Екатерины Великой. М., 1996. С. 68, 69, 71.
Головина – Головина В.Н. Мемуары. // История жизни благородной женщины. М., 1996.
Гордин – Гордин А.М. Пушкин в Михайловском. Л., 1989.
Гофман – Гофман М.Л. Пропущенные строки «Евгения Онегина». // Пушкин и его современники. Т. 9. Вып. 33–35. Пб., 1922.
Гроссман1926 – Гроссман Л П. Пушкин в театральных креслах. Л., 1926.
Гроссман1958 – Гроссман Л.П. Пушкин. М., 1958.
Гуковский – Гуковский Г.А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1937.
Гуляев – Гуляев Н.А. Теория литературы. М., 1985.
Гуменная – Гуменная Г.Л. «Граф Нулин» и традиция ирои-комической поэмы. // Болдинские чтения. Горький, 1985.
Даль – Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1–4. М., 1998.
Данилин – Данилин Ю.И. Беранже и его песни. М., 1978.
Дашкова – Дашкова Е.Р. Записки княгини: Воспоминания. Мемуары. Мн., 2003.
Дейч – Дейч А.И. Ф.Ж. Тальма. М., 1973. С. 214.
Дендизм – Барбе д\'Оревильи Дендизм и Джордж Брэммель. М., 1912.
ДЖ – Дамский журнал, издаваемый князем П.И. Шаликовым. 1823–1833 гг.
ДмитриевИ – Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь. // Дмитриев И.И. Стихотворения. К лире. М., 1987.
ДмитриевМ – Дмитриев М.А. Московские элегии. Стихотворения. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1985.
Добрынин – Добрынин Г.И. Истинное повествование или жизнь Гавриила Добрынина им самим писанная… // СПб., 1872.
Долгоруков – Долгоруков И.М. Капище моего сердца. М., 1997.
Домострой – Домострой. М., 1991.
Дурново – Дурново Д.Н. Дневник. // Декабристы в воспоминаниях современников. М., 1988.
Евангулова – Евангулова О. С. Город и усадьба второй половины ХVIII в. в сознании современников. // Русский город. Вып. 7. М., 1979.
Еськова – Еськова Н.А. Хорошо ли мы знаем Пушкина. М., 1999.
Жемчужников – Жемчужников Л.М. Мои воспоминания. Т. 2. Л., 1927. С. 90.
Жиркевич – Жиркевич И.С. Записки. // Русская старина. 1875. Т. 13.
Жихарев – Жихарев С.П. Записки современника. Т. 1. Л., 1989.
Жуковский – Жуковский В.А. Избранное. М., 1986.
Жуковский и литература – Жуковский и литература конца XVIII -начала XIX в. М., 1988.
Забелин – Забелин И.Е. Домашний быт русских царей в ХVI и ХVII вв. Кн. 1. М., 1990.
Захаров – Захаров Н. Шекспир в творческой эволюции Пушкина. Jyväskylä, 2003.
ИЗТ – История западноевропейского театра. Т. 3. М., 1963.
ИРЛ – Гиппиус В.В., Мейлах Б.С., Орлов А.С., Слонимский А.Л., Якубович Д. П. Пушкин // История русской литературы: В 10 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом); Ред.: Б. С. Мейлах. М.-Л., 1941–1956. Т. VI. Литература 1820—1830-х годов. 1953. С. 161–328.
Кант – Кант И. Критика способности суждения. // Сочинения: в 6 т. – М., 1986. – Т. 5.
Керн – Керн А. П. Воспоминания. Л., 1929.
Кибальник 1995 – Кибальник С.А. Тема случая в творчестве Пушкина. // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XV. СПб., 1995. С. 60–75.
Кибальник 1998 – Кибальник С.А. Художественная философия Пушкина. СПб., 1998.
Ким В. А. Ямские колокольчики и бубенцы (сводный каталог – справочник). Т. 1. Ростов Великий, 1998.
Кирсанова – Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII – первой половине XX вв. М., 1995.
Кирсанова – Кирсанова Р.М. Розовая ксандарейка и драдедамовый платок. Костюм – вещь и образ в русской литературе XIX в. М., 1989.
Кичеев – Кичеев П.Г. Из недавней старины. М., 1870.
Клюйкова – Клюйкова Щ.В. Маленькая повесть о большом композиторе или Джоакино Россини. М., 1990.
Кожинов – Кожинов В.В. Повесть. // Краткая литературная энциклопедия. Т. 5. М., 1968..
Козловский – Козловский П.Б. Социальная диорама Парижа. Сочинение чужестранца, проведшего в этом городе зиму 1823 и часть 1824 года. М., 1997.
Кулакова – Кулакова Л.И. Жизнь и творчество Я. Б. Княжнина. // Княжнин Я. Б. Избранные произведения. Л. 1961.
Культура застолья… – Культура застолья XIX в. Пушкинская пора. М., 1999. С. 149.
Кюстин – Кюстин Астольф Де. Николаевская Россия. М., 1990.
Лабрюйер – Лабрюйер Ж. де. Характеры или нравы нынешнего века.
М., 2001.
Лакло – Шодерло де Лакло Опасные связи. М., 1990.
Ларошфуко – Ларошфуко Ф. де. Мемуары и максимы. М., 1993.
ЛГ – Литературная газета. 1830. № 47. 19 августа.
Левин – Левин Ю.Д. Некоторые вопросы шекспиризма Пушкина. // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 7. Пушкин и мировая литература. Л., 1974.
Левшин – Левшин П.А. Псовый охотник. М., 1810.
Лейбов2007 – Лейбов Р.Г. Секст Тарквиний или принц Гарри? Из заметок о «Графе Нулине». // The Real Life of Pierre Delalande Studies in Russian and Comparative Literature to Honor Alexander Dolinin. Part I. Stanford, 2007. P. 52–66.
Лейбов2010 – Лейбов Р.Г. Карпалистический пласт «Графа Нулина»: цап-царап. // От слов к телу. Сборник статей к 60-летию Юрия Цивьяна. М., 2010. С. 162–169.
Лесаж – Лесаж А.Р. Хромой бес. М., 1969. С. 22.
ЛН – Пушкин по документам архива М. П. Погодина // Литературное наследство. Т. 16–18. М., 1934.
Лобанова – Лобанова Э.Ф. Михайловская библиотека Пушкина. М., 1997.
Логвинская – Логвинская Э.Я. Интерьер в русской живописи первой половины XIX в. М., 1978.
Лотман1994 – Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. М., 1994.
Лотман1995 – Лотман Ю.М. Пушкин. СПб., 1995.
Лотман1996 – Лотман Ю.М. Кто был автором стихотворения «На смерть Чернова». // О поэтах и поэзии. СПб., 1996.
Лукомский – Лукомский Г.К. Памятники старинной архитектуры России. Ч. 1. Пг., 1916.
Мазур – Мазур Н. Пушкин и Беранже: к источникам фабулы «Графа Нулина». // The Real Life of Pierre Delalande Studies in Russian and Comparative Literature to Honor Alexander Dolinin. Part 1. Stanford, 2007.
Майлин – Майлин Е.А. Пушкиин. Жизнь и творчество. М., 1981.
Макаров – Макаров М.И. Черты из жизни русских дворян в конце ХVIII в. // Московский наблюдатель. 1836. Ч. IХ.
Манифесты – Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980.
Менгден – Менгден Е. Из дневника внучки. // Русская старина. 1913. Т.
1. № 1.
Мертваго – Мертваго Д.Б. Записки. 1760–1824. М., 1867.
Мифы… – Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 2. М., 1988.
Михайлов – Михайлов А.В. Языки культуры. М., 1997.
МТ – Московский телеграф. 1825 г. Прибавление.
Муравьев-Карский – Муравьев-Карский Н.Н. Записки. // Русские мемуары. М., 1989.
Набоков – Набоков В.В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб., 1998.
Нащекин – Нащекин П.А. Воспоминания. // Прометей. № 10. М., 1974.
Оболенский – Оболенский А.П. Хроника недавней старины. СПб. 1876.
Овидий – Публий Овидий Назон. Элегии и малые поэмы. М., 1973.
Окунь – Окунь С.Б. Декабрист Лунин. Л., 1985.
Острожский-Лохвицкий – Острожский-Лохвицкий Х.О. Записки Новооскольского дворянина. Киев, 1886.
Пассек – Пассек Т.П. Из дальних лет. Т. 1. М. – Л., 1963.
Переписка… – Переписка А. С. Пушкина. М., 1982.
Пиксанов – Пиксанов Н.К. Грибоедов. Л., 1934.
Письма – Письма С.Л. и Н.О. Пушкиных к их дочери О. С. Павлищевой. 1828–1835. СПб., 1993.
Письма сестер… – Письма сестер М. и К. Вильмот. М., 1987.
Письмо – Письмо из провинции (воспоминания старой институтки). // Русское слово. 1862. № 1.
Плутарх – Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Перевод Спиридона Дестуниса. Ч. 2. СПб., 1815.
Плутовской роман – Плутовской роман XVI–XVII вв. М., 1992.
Полевой – Полевой К.А. Заметки о жизни и деятельности Н.А. Полевого. // Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики 30-х гг. Л., 1934.
ПлевойН, ПолевойК – Полевой Н.А. и Полевой К.А. Литературная критика. Л., 1990.
Полонский – Полонский Я.П. Воспоминания. // Сочинения. Т. 2. М., 1988.
Попова – Попова З.П. Русская мебель конца XVIII в. М., 1957.
Потапова – Потапова Г.Е. М.П. Погодин – критик Пушкина: К вопросу о атрибутации нескольких статей в журнале «Московский вестник» // Временник пушкинской комиссии. Вып. 27. СПб., 1996.
Похлебкин – Похлебкин В.В. История водки. М., 1991.
Похождения… Похождения монаха Палладия Лаврова. // Русский архив. 1878. Кн. 2.
Пронина – Пронина И.А. Терем. Дворец. Усадьба. М., 1996.
ПСЗ – Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 15. СПб… 1830.
Пушкарева Н.Л. Материнство и материнское воспитание в российских семьях XVIII – начала XIX в. // Расы и народы. Вып. 25. М., 1998.
Пушкин в воспоминаниях… – Пушкин в воспоминаниях современников. Л., 1950.
Пущин – Пущин И.И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1989.
Пыляев – Пыляев М.И. Старая Москва. М., 1990.
Рагозин – Рагозин С. История табака и системы налога на него в Европе и Америке. Спб., 1871.
Раевская – Раевская Е.И. Воспоминания. // Исторический вестник. Т.
74. 1898. № 12.
РЗ – Российское законодательство X–XX вв. Т. 5. М., 1987.
Розенфельд – Розенфельд Б. Повесть. // Литературная энциклопедия. Т. 9. М., 1935.
Россини – Джоакино Россини. Избранные письма. Высказывания. Воспоминания. Л., 1968.
Русский быт… – Русский быт по воспоминаниям современников. XVIII в. Т. 2. Вып. 2. М., 1922.
Руссо – Руссо Ж-Ж. Избр. соч. в 3 тт. Т. 1. М., 1961. Перевод Е. Н. Бируковой.
Рылеев – Рылеев К.Ф. Сочинения. М., 1983.
Сабанеева – Сабанеева Е.А. Воспоминания о былом. // История жизни благородной женщины. М., 1996.
Селиванов – Селиванов В.В. Сочинения. Т. 1. Владимир, 1902.
Скотт – Скотт В. Талисман. // Собр. соч. в 20 тт. Т. 19. М.-Л., 1965.
Словарь – Словарь языка Пушкина. Т.2. М., 1957.
Словарь русского… – Словарь русского языка XVIII века. Вып. 7. СПб., 1992.
Смирнова – Смирнова Н.В. «От Графа Нулина» к «Домику в Коломне». Эволюция жанра. // Болдинские чтения. Горький, 1987.
Смирнова-Россет – Смирнова-Россет А.О. Воспоминания. Письма. М., 1990.
Снигирев И. М. Воспоминания. // Русский архив. 1866. № 4. С. 555.
Соболевский – Соболевский С.А. Таинственные приметы в жизни Пушкина. // Русский архив. 1870. Т. 8. кн. 2–3.
Соколов – Соколов А.Н. Стихотворная сказка (новелла) в русской литературе. // Стихотворная сказка (новелла) XVIII – нач. XIX века. Л. 1969. С. 5 – 41.
Соколова – Соколова Т.М. и Орлова К.А. Глазами современников. Российский интерьер первой трети XIX в. Л., 1982.
Соловьев – Соловьев К.А. «Во вкусе умной старины…» Усадебный быт российского дворянства II пол. XVIII–I пол. XIX вв. СПб., 1998.
Тарле – Тарле Е.В. Избранные сочинения в 4 тт. Т. 2. М., 1994.
Тимофеев – Тимофеев Л. И. Слово в стихе. М., 1987.
ТолстойД – Толстой Д.Н. Черты старинной помещичьей жизни. // Памятная книжка Воронежской губернии на 1894 г. Воронеж, 1894.
ТолстойМ – Толстой М.В. Мои воспоминания. // Русский архив. 1881. Кн. 2.
Томашевский – Томашевский Б.В. Пушкин и Лафонтен.// Пушкин. Временник пушкинской комиссии. № 3. М., 1937.
Томашевский-1933 – Томашевский Б.В. Ирои-комическая поэма. // Ирои-комическая поэма. Л., 1933. С. 79.
Томашевский-1957 – Томашевский Б.В. Примечания к «Графу Нулину». // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 4. М., 1957.
Томашевский-1961 – Томашевский Б.В. Пушкин. Кн. 2. М-Л., 1961.
Топоров – Топоров В.Н. «Бедная Лиза». Опыт прочтения. М., 1995.
Торжество – Торжество табаку. Физиология табаку, трубки, сигар, папирос, пахитос и табакерки. Полное сочинение С.Б. в четырех частях. Перевод с французского. Спб., 1863.
Тынянов – Тынянов Ю.Н. Пушкин и современники. М., 1969.
Убранство – Художественное убранство русского интерьера XIX в. Л., 1986.
Фадеев – Фадеев А.М. Воспоминания. // Русская старина. 1891. Ч. 2. С. 18.
Фазизова – Фазизова И.В. «Манифест о вольности» и служба дворянства в XVIII столетии. М., 1999.
Фомичев – Фомичев С.А. Поэзия Пушкина. Творческая эволюция. Л., 1986. Гордин – Гордин А.М. Пушкин в Михайловском. Л., 1989
Хвостова – Хвостова А.П. Мои бредни. // Русский архив. 1907. Вып. 1.
Хелм – Хелм Э. Луиза или Хижина среди мхов. Пер. П. Белавина. М., 1790. Ч. 2.
Худобина – Худобина Э.Н. Жанр стихотворной повести в творчестве А. С. Пушкина. Новосибирск, 1987.
Черников – Черников В.И. О языке и правописании Пушкина. // Пушкин. Временник пушкинской комиссии. М.-Л., 1941.
Шамфор – Шамфор. Максимы и мысли. Характеры и анекдоты. М., 1993.
Шатобриан – Шатобриан Франсуа Рене де. Замогильные записки. М., 1995.
Шереметьев – Шереметьев С.Д. Из семейной старины (По бумагам Остафьевского архива кн. Вяземских). СПб., 1903.
Эйхенбаум – Эйхенбаум Б. «О замысле «Графа Нулина» // Пушкин. Временник пушкинской комиссии. Вып. 3. М.-Л., 1937. С. 349–357.
Эткинд – Эткинд Е.Г. Проза о стихах. Спб., 2001.
Примечания
1
В скобках указывается дата написания данного произведения, а если она не установлена, то дата первой публикации.
2
Все цитаты из произведений, писем и записок А.С. Пушкина даны по изданию: Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах. 2-e изд. М., 1957. Римскими цифрами обозначен номер тома, арабскими – страницы.
3
Все цитаты даны в переводе Т. Гнедич, по изданию: Байрон Дж. Дон Жуан. Л. 1959.
4
В превосходной эпизодической картине кота (Гр. Нул. Ст. 23), Поэт подменил ныне, если не обманывает нас память, кошку мышью: это переодело жеманного Крысопольского Селадона в старинный обыкновенный костюм Васьки прожоры, более щадящий чувство приличия, но менее оригинальный и не совсем гармонирующий с ходом целого. Соч.
5
Один забавник, занимающийся литературною геральдикою, предлагает Нулину принять в Графский герб свой, вместо девиза, тот арифметический знак, от которого происходит его знаменательное имя = 0. Пожалуй – чего доброго!.. Если ввести этак алгебраическую схематику в область литературы, то мы увидим на опыте длинные ряды воображаемых только в Математике чисел с минусами. Соч.
6
Т. е. Роман.
7
Совсем иначе думал Превиль (Preville), отвечавший одному поэту: «mon d… aussi est dans la nature, et pourtant je ne montre pas!» И то правда, однако, что вежливый Граф Нулин показал не свое, а чужое!.. Соч.
8
Строгие метроманы нападают на некоторые просодические вольности, которые позволял себе иногда певец Нулина. Они особенно цитируют сей стих, с мрачным неудовольствием:
И мамзель Марс, увы стареет. (15)
Но тоническое насилие, оказанное здесь слову: мамзель, есть дело совсем постороннее для трибунала русской просодии. Оно не наше, а Французское. Французскому же языку – по делам и мука! От него произошло не мало бед для нашей несчастной Литературы. Соч.
9
В. Евр. Кн. III, стр. 216. Там сказано: «В превосходной эпизодической картине кота поэт подменил ныне, если не обманывает нас память, кошку мышью. Это переделало жеманного Крысопольского Селадона в старинный обыкновенный костюм Васьки прожоры, более щадящий чувства приличия, но менее оригинальный и не совсем гармонирующий с ходомцелого». – Здесь, что ни слово, то спасибо. Крысопольский Селадон и Васька прожора – все это очень хорошо и совершенно гармонирует с понятиями, вкусом и чувством приличия г. Критика с Патриарших Прудов. Жаль только, что построенные им городки сами собою рассыпаются: придуманной так удачно г. Критиком кошки нет и не бывало ни в Нулине, помещенном в Северных цветах, ни в Нулине, напечатанном в особой книжке. Охотники до справок и поверок могут взглянуть на 16 страницу стихотворений в Север. Цветах 1828, и на 23 стр. Повести: Граф Нулин, напечатанной вместе с Повестью: Бал.
ОглавлениеПринципы и структура комментарияУсадьба помещика конца XVIII–I половины XIX векаНазваниеЖанрГлава 1 (Граф Нулин)Глава 2 (Граф Нулин)Глава 3 (Граф Нулин)Глава 4 (Граф Нулин)Глава 5 (Граф Нулин)Глава 6 (Граф Нулин)Глава 7 (Граф Нулин)Глава 8 (Граф Нулин)Глава 9 (Граф Нулин)Глава 10 (Граф Нулин)Глава 11 (Граф Нулин)Глава 12 (Граф Нулин)Глава 13 (Граф Нулин)Глава 14 (Граф Нулин)Глава 15 (Граф Нулин)Глава 16 (Граф Нулин)Глава 17 (Граф Нулин)Глава 18 (Граф Нулин)Глава 19 (Граф Нулин)Глава 20 (Граф Нулин)Глава 21 (Граф Нулин)Глава 22 (Граф Нулин)Глава 22 (Граф Нулин)Глава 24 (Граф Нулин)Приложение Поэма «Граф Нулин» в оценке современников. По публикациям в прессе, письмам, дневникам и воспоминаниямСписок литературы

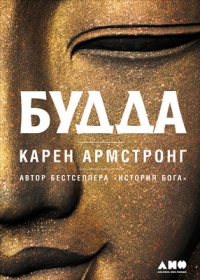

Комментарии к книге «Псевдолотман. Историко-бытовой комментарий к поэме А. С. Пушкина «Граф Нулин»», Василий Сретенский
Всего 0 комментариев