Гаральд Карлович Граф
Морская летопись –
Аннотация
Имя Гаральда Карловича Графа хорошо известно всем, интересующимся историей Русского флота. Он прославился не морскими сражениями с неприятелем (хотя и их было достаточно), не изобретениями или научными открытиями, не путешествиями, как многие и многие офицеры, а своими мемуарами. В книге Графа перед читателями предстает яркая картина повседневной жизни морских офицеров предреволюционной России. Хороший литературный слог, живая память, прекрасная наблюдательность, способность несколькими штрихами дать характеристику сослуживца – все это поставило труды Г.К. Графа в число лучших книг о Русском флоте конца XIX – начала XX века.
Глава первая
Было 7 часов утра. Толпа мальчишек‑подростков высыпала во двор дачи, в которой помещался пансион Антонины Лаврентьевны М. (Мешковой. – Примеч. ред.)[1], в местечке Шувалово, под Петербургом. Антонина Лаврентьевна уже много лет вполне успешно подготовляла к экзаменам в Морской корпус.
Мальчиков поставили во фронт и повели на вокзал. Сегодня был знаменательный день, день вступительного экзамена в младший класс или, как говорили, в 4‑ю роту. Все нервничали, но подтрунивали друг над другом и старались храбриться. Настроение создавалось бодрое и веселое. Среди этих мальчиков был и я. Хотя я и не происходил из морской семьи, но меня всегда привлекала морская служба, она была моей мечтой. Что именно меня влекло, я не мог себе объяснить, тем более что моря не знал и даже никогда не видел. Не знал я, конечно, и всей сущности морской службы. Но меня тянула, чисто инстинктивно, стихия, люди, которые всю жизнь служат на кораблях, все их интересные приключения, о которых я уже успел прочитать. Привлекала и форма морского офицера, такая отличная от других и красивая своею простотой. Мне было жалко мальчиков, которые не стремились поступить в Морской корпус.
Но вот поезд довез нас до Петербурга, а финляндский пароходик по Неве быстро домчал до Васильевского острова, как раз к пристани против Морского корпуса. Все поспешно с серьезными лицами вышли на набережную, вошли в подъезд, поднялись по широкой лестнице и вошли в классный коридор с бесконечным числом дверей. Первыми предстояли письменные экзамены, и для этого всех отвели в одну из больших ротных зал, в которой были расставлены столы и скамейки.
Кому не приходилось переживать волнений перед экзаменами, когда наступает последний момент и экзаменаторы входят в класс! Как замирает сердце, когда раздают бумагу для письменных работ или начинают вызывать к доске. У кого не екало сердце, глядя на серьезные и важные лица экзаменаторов, которые в этот момент кажутся какими‑то священными особами и оттого особенно страшными…
Всех экзаменующихся было около 100 человек. Нас рассадили по алфавиту, так что пришлось сидеть рядом с незнакомыми мальчиками. Один из экзаменаторов начал диктовать, а мы быстро за ним записывали. Головы усиленно работали, чтобы на свои места посадить предательские «ять», не забыть поставить на конце правильно «я» или «е» и вообще превозмочь все трудности правописания, которые далеко не всем одинаково давались. Время летело быстро, и мы не заметили, как диктовку окончили. Дали ее прочесть, но лучше бы этого и не делали, так как при чтении все казалось неверным, и зачастую верное переправлялось на неверное.
Затем дали короткий перерыв, и начался экзамен по арифметике и алгебре. Всех разбили на две смены и раздали задачи. Задачи были нетрудные, но от волнения тяжело было собраться с мыслями, и цифры как‑то путались. Тройное правило, пропорции, корни квадратные, уравнения с одним и двумя неизвестными – все это угрожало перепутаться и положительно выйти из повиновения. Я кончил задачи одним из первых и, хотя чувствовал, что их решил не совсем правильно, боялся, чтобы не вышло еще хуже.
Первый день экзаменов, и притом еще очень серьезных, закончился. Мы все повеселели и оживленно делились между собой впечатлениями, сверяли ответы, вспоминали ошибки, пеняли на себя за рассеянность и утешались, что авось до удовлетворительного балла дотянем. Всем дышалось легче, точно гора с плеч скатилась, и только некоторые сидели пригорюнившись, так как определенно знали, что провалились, а среди них были и такие, которые держали экзамен уже второй, а то и третий раз. Особенно помню одного, очень неспособного мальчика, который сдавал их уже третий раз. Он сильно заикался и был некрасив, за что мы его прозвали «мафукой». При всем старании он не мог преодолеть школьной премудрости, и все его усилия пропадали даром.
За математику я был спокоен, а вот по диктовке уверенности совсем не чувствовалось: она у меня всегда прихрамывала, и тут можно было срезаться. Ну, авось! Надежда не умирала.
Когда мы вернулись в пансион, Антонина Лаврентьевна учинила нам строгий допрос: кто что, как написал и решил, и тут уж не стеснялась в комплиментах вроде: «дуб стоеросовый», «мозги вывихнуты», «я так и знала, что из вас ничего не выйдет и зря на вас деньги тратят», и т. п.
За этим днем быстро полетели дни других экзаменов и особенно промежутки между ними, когда все старались наскоро повторить то, что, казалось, знали слабее. Это было жаркое время, и сама Антонина Лаврентьевна и все учителя с раннего утра и до позднего вечера не давали нам вздохнуть, и мы сиживали за уроками по десять часов.
Здесь нельзя не вспомнить и саму Антонину Лаврентьевну М. Это была, несомненно, замечательная в своем роде женщина: высокого роста, очень полная, с красивыми, чисто русскими чертами лица, энергичная и властная, она ярко напоминала легендарный тип русской помещицы‑барыни, которая умела управлять своими крестьянами, и все перед ней трепетали. Каких только сорванцов и лентяев не было у нее в пансионе, а она умела не только заставить себя слушаться, но и прилежно учиться. Целыми днями М. наблюдала за занятиями. Она преподавала русский язык и часто доводила до отчаяния своих учеников, заставляя их по четыре‑пять раз переписывать диктовки, в которых было много ошибок. Когда увещания и слабые наказания не действовали, она, не задумываясь, прибегала и к физическому воздействию, которое выражалось тем, что она неожиданно подходила к провинившемуся и пребольно драла его за уши, в присутствии всего пансиона. Мы, конечно, ее за эти качества очень боялись и… уважали. Полагаю, что многие из нас только благодаря ей вышли в люди и сделались полезными офицерами.
Хотя М. круглый год держала пансион, но особенно усиленные занятия происходили летом. Большинство отдавали детей только на это время, чтобы «натаскать» к экзаменам, да и долго держать в пансионе многим было не по средствам. Летний курс длился три месяца, и за это время мы не имели, кроме воскресений, да и то для тех, кто хорошо учился, свободных более двух‑трех часов в день. В эти часы нас обычно посылали гулять или купаться.
Этот период был очень тяжелым испытанием, но мы всегда вспоминали и вспоминаем Антонину Лаврентьевну с глубоким уважением и благодарностью за ее выдающуюся добросовестность во взятом на себя деле[2].
Уже довольно многие провалились на экзаменах, но я пока удачно миновал «подводные камни» и продолжал успешно «выгребать». Мне было труднее, чем многим товарищам, так как я окончил только второй класс гимназии, а для поступления в 4‑ю роту требовалось знание программы трех классов, а по некоторым предметам и четырех, так что в пансионе пришлось за три месяца пройти полный курс 3‑го класса. Да и по летам я был самым молодым, и мне только в декабре исполнялось 13 лет. Но желание поступить в Корпус помогало преодолеть все трудности, а подчас и лень, и усталость.
Вот наконец и последний экзамен сдан и объявлены отметки за письменные работы. Я все благополучно выдержал. Мое ликование трудно сейчас описать. То‑то героем теперь можно будет вернуться домой и поважничать перед братом и сестрами. Шутка ли: кадет Морского кадетского корпуса, 4‑й роты! Наверное, вновь назначаемые министры не чувствуют такой важности, как чувствовал ее в то время я. Вот только несколько огорчало, что еще приходится ходить без формы. Но форма скоро будет!
Глава вторая
Десять дней, оставшихся до начала занятий в Корпусе, пролетели как сон. Настал день явки в Корпус – 1 сентября 1898 г.[3] В последний момент стало немного жутковато: ведь как‑никак нам придется подчиняться военной дисциплине, иметь дело со столькими мальчиками, жить целую неделю вне дома и все время находиться под надзором офицеров.
Корпус встретил новых питомцев очень приветливо. Ротный командир подполковник Д. (Данчич Арсений Михайлович. – Примеч. ред.)[4] был добрый, спокойный и снисходительный начальник. Другие офицеры тоже оказались не слишком страшными, и вся наша шумная молодая компания почувствовала себя свободно и сразу перестала стесняться. Даже начали острить по поводу немного кривых ног одного дежурного офицера лейтенанта П. (Попов. – Примеч. ред.)[5] и прозвали его «циркулем». Прозвище это так за ним и утвердилось.
Нас долго выстраивали во фронт по ранжиру и распределяли номера коек, шкафов, конторок и т. д. Как только все это кончилось, начались шум, беготня, а кое‑где и драки.
Для классных занятий нас разделили на пять отделений, так как принято было около 125 человек. Такой прием в 4‑ю роту был произведен оттого, что Морское ведомство приступило к постройке большого числа новых кораблей и нужда в офицерах предвиделась большая.
Номера давались нам по росту, т. е. самый высокий – правофланговый – имел номер первый и так далее. Рост связывал нас как во фронте, так и в столовой. Только в учебном отношении распределение по отделениям было сделано по успешности выдержанных экзаменов, так что самое последнее отделение состояло из наиболее слабых по познаниям.
Затем много времени пошло на переодевание новичков с ног до головы, на пригонку шинелей, брюк, голланок[6], фуражек и т. д. Но как шинели, так и голланки оказались без погон, а фуражки – без кокард и ленточек, так что мы несколько напоминали арестантов. В таком виде предстояло ходить до корпусного праздника, который был 6 ноября. До этого дня нас усердно учили отданию чести – проходя и становясь во фронт. Все старались делать отчетливо, чтобы на испытаниях не провалиться и не остаться еще на некоторое время без погон. Для нашего обучения были приглашены унтер‑офицеры лейб‑гвардии Финляндского полка, которые усердно обучали нас военной выправке.
Вначале меня многое поражало в Корпусе, и я проникался к нему все большим уважением. Само здание было большим и величественным, с длинными коридорами, огромной столовой и светлыми обширными ротными помещениями. Чудные картины морских сражений в картинной галлерее, роскошный аванзал, музей с массой интересных вещей, бриг «Меркурий»[7] в столовой и зеркальное окно, выложенное мрамором, с датами посещения Корпуса Императором Николаем Павловичем, когда он сидел на этом окне и разговаривал с кадетами, – все казалось таким интересным и красивым. Образцовая чистота и порядок, хорошая пища и одежда.
Кормили нас, безусловно, недурно, и хотя и не слишком разнообразно, но очень сытно, и все приготовлялось из доброкачественных продуктов. Мы каждый день получали к завтраку или обеду рубленые котлеты или зажаренное кусками мясо и на третье блюдо вкусные пирожные, нередко служившие предметом мены или расплаты за какие‑нибудь услуги. Сервировка была тоже хорошая: серебряные вилки и ножи, квас подавался в больших серебряных кубках по одному на каждый конец стола; скатерти и салфетки всегда чистые. За столом прислуживали дневальные.
Огромное здание Морского корпуса выходило на набережную, между 11‑й и 12‑й линиями Васильевского острова, и тянулось еще далеко по этим линиям. Здание было очень старинное, освященное веками, и трудно было даже себе представить, сколько воспитанников прошло через его стены и сделалось морскими офицерами. Конечно, как и все такие здания, оно имело и свои легенды.
Запомнилась особенно одна, поразившая молодое воображение: один кадет, кем‑то подговоренный, должен был во время корпусного бала устроить покушение на чью‑то жизнь. Для этого он предполагал забраться на чердак над столовой и там перепилить цепи, которые держали потолок, так как огромная столовая была совершенно без колонн. Очевидно, рассчитывали, что от колебаний, вызываемых большим количеством танцующих, потолок рухнет и погребет под обломками всех находящихся там. Но когда этот воспитанник забрался на чердак, то его кто‑то обнаружил, потому что он забыл закрыть за собой входную дверь, которая обычно была на замке. Захваченный с поличным и немедленно арестованный, он в ту же ночь покончил с собой, и, по преданию, его призрак ежегодно, накануне 6 ноября, бродил по чердаку над столовой. Не знаю, что в этой легенде правда и что вымысел, но мы в нее верили и всегда стремились проверить, действительно ли призрак бродит по чердаку.
Особенно нам нравились бесконечно длинные коридоры, по которым приходилось много раз в сутки нестись в классы. Самым длинным и прямым был классный коридор, пересеченный посередине совершенно круглым компасным залом. Пол этого зала представляет картушку компаса, с нанесенными румбами, и замечателен был тем, что, когда кадет выгоняли из классов за плохое поведение, их ставили на эти румбы до окончания данного урока.
Уроки начинались в 8 часов 10 минут утра, и потому нас будили около семи. Утреннее вставание было самым неприятным моментом: в спальнях еще только затапливали печи, зимой было совершенно темно, и вдруг слышаться неприятные резкие звуки горна, игравшего «побудку». Через пять минут уже появлялся дежурный офицер, а за ним дежурный унтер‑офицер и фельдфебель роты. В первый раз они обходили спальни и только покрикивали. Особенно ленивые делали вид, что встают, но, как только должностные лица проходили, они сейчас же опять заваливались. Через десять минут начинался второй обход, и тут уже спящим приходилось хуже – с них сдергивали одеяла, а кто и после этого оставался на кроватях, тех записывали и потом наказывали.
В 7 ч. 30 мин. начиналась гимнастика, а без четверти восемь шли пить чай с французской булкой. Ровно в восемь возвращались в роты и отправлялись по классам.
Кроме дежурных офицеров для присмотра за кадетами из двух гардемаринских рот назначались фельдфебель и человек 10–12 унтер‑офицеров. Это были лучшие по учению и поведению гардемарины, и они всегда жили среди нас и только на уроки ходили по своим классам. В самой младшей роте мы питали к ним большое почтение, но чем становились старше, тем их авторитет обычно падал.
Нашими преподавателями были частью офицеры, а частью учителя гимназий и других учебных заведений; по иностранным языкам преподаватели были преимущественно из Училища правоведения или Лицея.
В те времена преподавательский состав по качеству оказался весьма разнообразным, и наряду с выдающимися педагогами встречались довольно слабые; у них, конечно, мы учились плохо и предметов почти не знали. Таким образом, в значительной степени все зависело от того, к какому преподавателю попадешь. Если он сам серьезно относился к своим обязанностям и умел обращаться с кадетами, то они хорошо учились, и, наоборот, у плохого ровно ничего не делали.
Вообще же тогда в Корпусе царил дух довольно большой распущенности, и особенно трудно было с нами справляться штатским преподавателям, которых мы, конечно, считали много ниже военных и потому их не слушались и изводили. Благодаря этому некоторые преподаватели за долгие годы так привыкли к нашему отношению, что, казалось, на все махнули рукой и только отбывали номер.
Морской корпус в те времена был очень своеобразным учебным заведением. Он существовал уже два века и за это время переживал и периоды расцвета, и периоды полного упадка. За эти два века в нем выработались особые обычаи и традиции, которыми, по‑видимому, пропитались даже стены, и их выветрить было почти невозможно. Хотя в Корпус ежегодно поступали новые воспитанники и каждая рота была совершенно отделена от другой, но и одного воздуха было достаточно, чтобы новички быстро проникались «корпусным духом» и через два‑три месяца оказывались такими же, как и их предшественники.
Мы все любили Корпус и им чрезвычайно гордились, но в то же время питали какое‑то инстинктивное неуважение к своим воспитателям – корпусным офицерам. Морской офицер, бросивший службу на флоте и перешедший в Корпус, уже одним этим фактом как бы сразу лишался уважения. У нас, кадет, да, в сущности, и на самом флоте, корпусные офицеры считались много ниже плавающих. Надо все‑таки отметить, что это имело и некоторые основания, так как среди корпусных офицеров были такие, которые уже по 20–30 лет не плавали на боевых кораблях и совершенно отстали от строевой службы. По‑видимому, даже высшее морское начальство перестало считать их настоящими морскими офицерами и дало им сухопутные чины и на погонах черные просветы заменило белыми.
Была еще одна «особенность» в Корпусе: воспитанники считали как бы унизительным для себя военную выправку, отчетливое отдание чести, согласно требованиям Устава, и хождение во фронте, «как в пехоте». Вообще ничто не должно было напоминать подтянутости сухопутных военных училищ. «Настоящий» кадет Морского корпуса должен был иметь вид весьма независимый, несколько расхлябанный, ходить вразвалку и честь отдавать небрежно, так сказать, походить на морского волка. Между прочим, из‑за плохого отдания чести сухопутные офицеры, в особенности гвардейские, относились к нам враждебно и часто придирались на улицах. Никакие строгости не могли побороть эту закваску, да, впрочем, в то время и не очень энергично боролись с этой расхлябанностью и подчеркнутой небрежностью: начальство как будто свыклось с таким положением вещей. Сам директор Корпуса контр‑адмирал К. (Кригер. – Примеч. ред.)[8] мало вникал в его дела и в воспитание «вверенных ему» будущих офицеров, и все шло по «добрым старым порядкам», по инерции. В то же время, конечно, такие замашки оставляли свой след в нашем воспитании и отражались в будущем на отношении к службе.
Вообще, нельзя не сознаться, что в тот период Корпус переживал времена упадка и положение настоятельно требовало реформ. Это сознавалось всеми, и в последние годы моего пребывания в Корпусе даже сам Государь Император обратил внимание на плохую постановку воспитания и через генерал‑адмирала Великого Князя Алексея Александровича сделал суровое внушение нам и всему нашему начальству. Скоро после этого был назначен и новый директор со специальной целью – Корпус подтянуть.
Да и действительно, так дальше продолжаться не могло: флот требовал все большее количество офицеров, и быстрое увеличение его количественного состава часто выдвигало вновь произведенных офицеров на очень ответственные должности, и они должны быть к ним подготовлены. А в стенах Корпуса то и дело происходили разнообразные скандалы: кадеты были плохо дисциплинированы, небрежно относились к занятиям и устраивали всякие неприятности воспитателям и преподавателям.
Почти во всех учебных заведениях учащиеся устраивают скандалы начальству и ленятся, однако это не мешает обычно учению и хорошей подготовке по специальностям, у нас же в Корпусе эти неизбежные отрицательные явления превратились в систему и оттого приносили определенный вред.
Я помню целый ряд проделок, которые доставляли нам много удовольствия, и мы ради них готовы были нести даже суровые кары. Излюбленным местом таких «бенефисов» была столовая. Здесь собирались кадеты и гардемарины четыре раза в день: для утреннего и вечернего чая, завтрака и обеда, и, благодаря присутствию всего Корпуса, такие «спектакли» могли выходить эффектнее и в них могло участвовать сразу несколько рот.
Например, чтобы поизводить дежурных офицеров, иногда роты сговаривались между собой после еды, когда их поставят во фронт и скомандуют: «Такая‑то рота на пра‑во шагом марш», то, вместо того чтобы спокойно идти шагом, роты начинают шаг постепенно ускорять и переходят в бег. Дежурные офицеры попадали в глупое положение и не знали, бежать ли им вдогонку или стараться роту остановить криками, а тем временем она уже скрывалась в коридоре. Также соглашались во время ходьбы стучать в такт каблуками, и это создавало страшный шум, или вся рота демонстративно растегивала воротники голланок, что строго запрещалось. Зачинщиками чаще всего были старшие гардемарины, которые пользовались известными льготами, и у них не было отдельного дежурного офицера.
Иногда устраивались и более крупные скандалы, и их объектом зачастую бывал один из ротных командиров, полковник А. (Анцов Николай Спиридонович. – Примеч. ред.)[9], в сущности, очень добрый человек, но по натуре вялый и флегматичный. За бесцветные глаза и сонный вид его прозвали «судаком» и изводили каптенармусом Поросенковым, так как он часто, приходя в роту, громко звал этого каптенармуса и очень смешно, на французский лад, произносил «Поросенков».
Так вот, к заранее назначенному дню, когда полковник А. дежурил по Корпусу, заправилы запасались детскими воздушными шарами и тайком проносили к обеду в столовую. Во время обеда, пока полковник А. разгуливал между столами, из какого‑нибудь конца выпускали эти шары с привязанным к ним бумажным судаком. Шары медленно поднимались к потолку под неистовый хохот всего Корпуса. От неожиданности сам А. и дежурные офицеры сразу не могли принять никаких мер, и приходилось звать дневальных, и те тащили огромную лестницу, так как потолок был очень высок. Пока происходило ее передвигание, от движения воздуха шары отгонялись в сторону, и их ловили длинными половыми щетками. Процедура длилась долго – к огромному удовольствию кадет и смущению начальства.
Помню я также очередной скандал, который устраивало несколько поколений 3‑й роты одному дежурному офицеру по прозвищу «вошь». Это прозвище он получил оттого, что был маленького роста и имел привычку, когда делал замечание, чесать бороду на щеке и причмокивать.
Этой злополучной жертве нашего озорства доставалось ежегодно в один и тот же день много неприятностей. Обычно к этому дню запасались хлопушками, которые при ударе обо что‑либо твердое издавали сильный треск. В день «бенефиса», после вечерней молитвы, все послушно шли спать и даже делали это слишком послушно, что, очевидно, замечалось бедным капитаном С.
Приблизительно в 10 часов дежурные офицеры должны были обходить спальни, чтобы убедиться, что все улеглись спать. Вот в этот‑то момент, когда капитан С. был на середине длиннейшей спальни, внезапно тушилось электричество; со всех сторон начинали взрываться хлопушки, и по его адресу сыпалась отборная ругань, и повторялось в бесчисленных вариациях прозвище «вошь».
Застигнутый темнотой далеко от выхода, С., конечно, с трудом оттуда выбирался, находясь все время, так сказать, под обстрелом. Затем появлялись дневальные, которые зажигали свет, но уже все кадеты смирно лежали по своим койкам, как ни в чем не бывало. Немедленно вызывался ротный командир, нас заставляли одеваться, ставили во фронт, и начинался разбор. В результате – полный карцер и много сидящих без отпуска на продолжительные сроки. Тем не менее на следующий год такой же бенефис «вше» опять повторялся, пока он наконец не покинул Корпус и не перешел на службу в другое ведомство.
В той же 3‑й роте был замечательный дежурный офицер полковник Г. (Геращеневский Зиновий Николаевич. – Примеч. ред.)[10], мужчина уже за 40 лет, огромного роста, мощной фигуры, с длиннейшей черной с проседью бородой и при этом забавно картавивший. Он был добродушный человек, с весьма непосредственной натурой, но не отличался умом – совсем дитя природы. Мы, да и целый ряд наших предшественников, учли это качество и метко прозвали «обалдуем». Его очень любили изводить, в особенности оттого, что он легко этому поддавался или, по‑нашему, «травился».
Однажды несколько сорванцов решили над ним особенно позабавиться. Когда все улеглись, около 12 часов ночи Г. тоже лег спать на диван в дежурной комнате и снял с себя виц‑мундир и саблю, надел пальто и убавил свет. Тогда кадеты поставили ряд табуреток у двух дверей дежурной комнаты и из одной громким шепотом стали звать: «Обалдуй, обалдуй, вставай, ротный командир идет». Г. уже успел заснуть и со сна только и разобрал, что идет ротный командир. Живо вскочил, схватился за саблю и стал застегивать портупею. В этот момент из обеих дверей раздался громкий смех и крики: «Надули обалдуя», и шалуны врассыпную бросились бежать.
Сообразив, что его обманули, Г. страшно рассердился и как был, с саблей в руке, бросился за ними. В темноте наткнулся на заграждение из табуреток, которые с шумом попадали, что его еще больше рассердило, и он со страшным ревом и руганью бросился в спальню, где всех разбудил. Его же обидчики уже мирно лежали под одеялами и дружно храпели. Еще долго Г. в бешенстве метался по спальне и старался определить, кто устроил над ним такое издевательство.
В этот день дежурным по Корпусу был наш ротный командир, и он как раз в это время случайно зашел в роту, и дежурный дневальный прибежал к Г. доложить. На этот раз сомнений не было, это действительно шел ротный командир, и Г. бросился в дежурную комнату, чтобы захватить треуголку и идти его встречать, но треуголки там не оказалось, так как она была запрятана, и ему пришлось подойти с рапортом с обнаженной головой. В этом же духе бывали проделки, устраиваемые нами преподавателям, и особенно доставалось штатским, а главным образом иностранцам.
Был у нас француз Г. (Гризар Иван Львович. – Примеч. ред.)[11], уже старик, всегда франтовато одетый в сюртук морского покроя и весьма гордившийся своим чином статского советника. Так что мы его называли «votre exellence». Он, по‑видимому, очень боялся простуды, а столик для преподавателей приходился близко от окна с форточкой, и когда он входил в класс, то первым делом подбегал к ней и пробовал, хорошо ли закрыта задвижка. Потом быстро садился на свое место, раскрывал журнал и отмечал, кого из кадет нет на уроке. Это обстоятельство и было нами учтено, и однажды задвижку обмазали чернилами, и когда француз схватился за нее, он вымазался, но не заметил этого сразу и, как обычно, сел и открыл журнал, отпечатав на нем свои пальцы. Возмущению Г. не было пределов, он вскочил и сказал: «Господа, это свинство, я у вас не могу остаться» и быстро ушел к инспектору классов и больше уже в этот урок к нам не пришел. Конечно, мы были сурово наказаны и потом перед ним извинялись.
Иностранным языкам, к большому сожалению, мы учились чрезвычайно плохо, хотя именно нам, будущим морякам, это было важно, в наших же интересах. Не то что преподаватели были плохи, наоборот, среди них имелись и очень хорошие, но как‑то уж так повелось, что на преподавание языков мы смотрели как на какую‑то проформу, выполнением которой следует пренебрегать. Как‑то наш англичанин, у которого мы ровно ничему не учились и только над ним издевались из‑за его плохого знания русского языка, вдруг перед Рождеством заикнулся, что необходимо сделать письменную работу на полугодовой балл, причем он предполагал диктовать русские фразы, а мы их должны были писать по‑английски. Такая проверка знаний никак не входила в наши расчеты, так как мы языка почти не знали, но все имели лучшие баллы, и работа, конечно, выказала бы полное наше невежество. Сначала весь класс искренне возмущался и старался его уверить, что никаких письменных работ нам не полагается делать и даже запрещено. Но это не помогло, так как оказалось, что сам инспектор классов посоветовал англичанину работу сделать. Следовательно, приходилось как‑то выворачиваться, и мы решили обмануть его, т. е. заранее заготовить на английском языке несколько фраз, их переписать на соответствующие листки бумаги и по окончании урока подать их англичанину вместо тех фраз, которые он собирался нам продиктовать. Во время же урока будем только делать вид, что пишем. Как решили, так и сделали, и англичанин был очень доволен, что весь час прошел совершенно гладко.
Мы рассчитывали, что он проделки нашей не заметит, поскольку у всех будут одинаковые фразы, и забудет, какие именно фразы он нам диктовал, так как их выдумывал тут же на уроке. Наш расчет оказался совершенно правильным, только мы пожадничали и все написали работу почти без ошибок. Вот это‑то и подвело, так как англичанин отлично знал, что многие этого никак сделать не могли, и благодаря этому заметил, что фразы были другие. Недолго думая, он пошел жаловаться к инспектору, что его обманули, и тот приказал работу повторить. В субботу, когда все уже ушли в отпуск, она была повторена, и тут уже пришлось действовать начистоту, потому что это явилось неожиданностью, да и англичанин зорко следил. Но зато мы же ему и отомстили, и во время урока стоял такой шум и был такой беспорядок, что англичанин, наверное, долго не забывал этого часа.
Среди офицеров‑преподавателей частенько от нас доставалось преподавателю алгебры и теоретической механики подполковнику М. (Михайлов. – Примеч. ред.)[12]. Это был человек небольшого роста, весьма кроткой наружности, всегда державший свою маленькую головку набок и обладавший нежным картавящим голоском. За эти качества мы его прозвали «куропаткой», что его очень обижало, и, когда на уроке раздавались звуки, напоминающие воркование куропатки, или кто‑нибудь картавя произносил «куропаточка», он страшно изводился. Так доведенный до бешенства, он закричал: «Называйте меня львом, тигром, леопардом, но только не куропаткой», чем, конечно, доставил нам огромное удовольствие[13].
Доставалось также преподавателю кораблестроения, ученому инженеру Ш. (предположительно, Шершов. – Примеч. ред.)[14], который немного заикался, и это заикание особенно проявлялось в начале урока. Например, когда он собирался что‑либо говорить о постройке броненосцев, то сразу никак не мог сказать «броненосец», и у него выходило «бр… бр… броненосец», так мы его и прозвали «бр… бр… броненосец». Особенно для него трагичным был урок, когда он объяснял спуск корабля со стапеля и доходил до торжественного момента обрубания канатов, которыми держались на месте салазки, после чего корабль на них начинал медленно скользить вниз. По церемонии настоящего спуска при этом оркестр играл «Боже Царя храни…», караул брал «на караул», и присутствующие кричали «ура». Ну и мы, желая поставить бедного Ш. в глупое положение, все сразу вскакивали с мест, пели гимн и кричали «ура». Он же, будучи человеком застенчивым и деликатным, решительно не знал, как нас остановить в этом патриотическом порыве. После же того как это было проделано в нескольких отделениях, он стал объяснять спуск корабля перед самым концом урока и, когда раздавался звонок, быстро хватал журнал и убегал из класса.
Много курьезов происходило и с нашим корпусным батюшкой, весьма заслуженным стариком протоиереем Б. (Белявский Капитон Васильевич. – Примеч. ред.)[15], человеком ученым и серьезным, но которого за его огромный рост, тонкую фигуру и жиденькую бородку мы прозвали «козой в сарафане». На уроках обычно кто‑либо старался вступить с ним в богословский диспут, и старик скоро так увлекался, что весь час говорил и никого не успевал спросить. Он не любил иноверцев, и, чтобы занять батюшку, подговаривали кого‑нибудь из них задать ему вопрос о различии вероисповеданий. Если такой иноверец начинал слишком отстаивать свою веру, батюшка в конце концов изводился и кричал: «Молчи, еретик» и к тому же иногда прогонял из класса. Или ему задавали какие‑нибудь казуистические вопросы, в особенности из Ветхого Завета. Сначала он не замечал, что это делается с целью поиздеваться, и терпеливо разъяснял, но затем, поняв, в чем дело, страшно сердился и под крик: «Молчи, пес смердящий» выгонял провинившегося из класса.
В противовес этим преподавателям у нас были такие, которых нам и на ум не приходило изводить, и мы у них на уроках сидели так смирно, что действительно казалось, что можно было бы услыхать, как пролетит муха. Кто из бывших кадет не помнит высокоуважаемых математиков Б. и С. (вероятно, Сухомель. – Примеч. ред.)[16] астрономов Ш. и Б. (Безпятов Михаил Михайлович. – Примеч. ред.)[17] и навигатора В. (Вагнер. – Примеч. ред.)[18]. Особенно мы трепетали перед математиком Б., хотя тот был очень маленького роста и по наружности совсем не страшный. Когда он вызывал к доске и начинал сердиться на непонятливого кадета, то у того душа уходила в пятки, и он окончательно все путал, а Б., выведенный из терпения, кричал что‑нибудь вроде: «Вас, наверное, в молодости мамка уронила» или «вашей головой сахар кололи». Если же кого‑нибудь ловил со шпаргалкой или в списывании у соседа во время классной работы, то немедленно ставил единицу и выгонял из класса. Даже рассказывали случай, что, когда один кадет его уж очень рассердил, он того не только вышиб из класса, но и коленом помог выходить, да еще так энергично, что двери сами распахнулись. Но зато мы у него отлично знали предмет, тем более что он и преподаватель был превосходнейший.
Противоположностью Б. был математик С. – поляк по происхождению и сама любезность в обращении. Особенно же он становился вкрадчив и любезен, когда вызванный к доске кадет ровно ничего не знал. Тогда С. выражал столько сожаления и сочувствия, что отвечающий даже на один момент воображал, что его с миром отпустят на место, но не тут‑то было, любезность оставалась любезностью, а жирная единица появлялась в журнале. За такие, несколько иезуитские, приемы его не слишком‑то любили, но сильно боялись и всегда особенно тщательно изучали его предмет.
Глава третья
Своеобразная атмосфера Корпуса сразу поглотила и меня. Появились особые интересы, новые взгляды на вещи и страстное желание поскорее сделаться «настоящим кадетом».
Конечно, первым условием для этого было бы надеть форму, а это, как я упоминал выше, свершится только 6 ноября, в день корпусного праздника, до которого оставалось еще два месяца. Об этом дне мы между собой много говорили, и всякий строил свои планы. Но вот наконец и дождались: мундиры были заранее подогнаны, пуговицы начищены, и бляхи портупей блестели, как солнце. Новые кадеты чувствовали себя в форме вполне счастливыми.
Церемония праздника, день св. Павла Исповедника, началась с богослужения в красивой корпусной церкви. Две младшие роты, которые не входили в состав батальона, присутствовали в церкви, а остальные роты, в новых мундирах, высоких сапогах и с ружьями, выстраивались в обширной столовой, из которой все столы, конечно, были вынесены. На богослужение обычно приезжали: генерал‑адмирал, начальник Главного Морского штаба, члены Адмиралтейств‑Совета и вообще адмиралы и морские офицеры, находившиеся в Петербурге и Кронштадте. После богослужения обе младшие роты быстро выводились в столовую и выстраивались за батальоном.
В это время все начальство, в полной парадной форме, медленно шло через музей туда же. Когда генерал‑адмирал в сопровождении директора Корпуса входил, батальонный командир, старик генерал‑майор Д. (Давыдов Василий Алексеевич. – Примеч. ред.)[19], командовал: «Батальон, слушай, на‑краул» и подходил к нему с рапортом. После этого генерал‑адмирал обходил фронт, здоровался и поздравлял с праздником. Особенно он останавливался перед младшей ротой и многих новичков расспрашивал, как их зовут, из каких они семей и т. д. Если встречались кадеты со знакомыми морскими фамилиями, то он часто вспоминал их отцов, с которыми встречался по службе. После обхода фронта было краткое молебствие, и затем батальон проходил церемониальным маршем мимо генерал‑адмирала, а за батальоном и обе младшие роты.
Этим кончался парад, и кадеты расходились по своим помещениям, а в столовой быстро расставлялись уже заранее накрытые столы, так что в 12 часов дня все роты опять вводились и чинно становились у своих столов. В углу, у брига, накрывались особые столы для почетных гостей.
Меню этого обеда было глубоко традиционным и состояло из трех блюд: борща с кулебякой, гуся с яблоками и пломбира, кроме того, всем полагались полуфунтовые коробочки с конфетами. Сами коробочки были особенные – с гербом Корпуса, и все кадеты обязательно их приносили домой. Во время обеда играл наш оркестр, который считался одним из выдающихся в Петербурге. Самым замечательным блюдом был гусь с яблоками – в память тех гусей, которых однажды на праздник Корпуса прислала Императрица Анна Иоановна, и с тех пор они стали традиционным блюдом 6 ноября.
В конце обеда старший из присутствующих произносил тост за Государя Императора, покрываемый оглушительными криками «ура». Затем следовали тосты за генерал‑адмирала, директора Корпуса и т. д. и читались приветственные телеграммы. Этим обед оканчивался, и по сигналу гардемарин и кадет выстраивали во фронт перед столами. Генерал‑адмирал прощался, и все гости проходили вдоль фронта, после чего нас уводили по ротам и до бала отпускали по домам.
Первый праздник на нас, новичков, произвел сильное впечатление. Все эти блестящие, золотом шитые мундиры, эполеты, ордена и сабли так красиво играли в лучах солнца, снопами врывавшихся в огромные окна столовой! Ровные ряды батальона, в новых мундирах и фуражках, и блеск штыков. Красивое корпусное знамя, старенькое, совершенно обтрепанное от ветхости и походившее на выдержавшее много сражений. Все это наполняло умилением юные души, которые так рвались скорее влиться в общую морскую семью и под впечатлением увиденного проникались особым чувством ко всему, что принадлежало флоту. Невольно мы проникались все большей любовью и к самому Корпусу, из стен которого вышли все эти седые адмиралы, которых мы видели на празднике, и нам тоже хотелось сделаться выдающимися морскими офицерами и спустя годы также присутствовать на празднике Корпуса.
После обеда сразу же начинались лихорадочные приготовления к известному всему Петербургу балу Морского корпуса. Им открывался петербургский бальный сезон, и на него вывозились барышни, которые впервые начинали выезжать. Бал был нашей гордостью, и мы прилагали огромное старание, чтобы все выходило возможно красивее и веселее. Младшие роты, конечно, никакого участия в украшениях зала и других приготовлениях не принимали, главные заботы ложились на старших гардемарин. Это был их бал, последний перед выпуском.
Для гостей открывались почти все ротные помещения. Необходимо было превратить их в уютные гостиные, буфеты и танцевальные залы. Времени для этого оставалось совсем мало, и оттого мобилизовались все местные художники под предводительством кого‑нибудь из корпусных офицеров, понимавших в этом толк. Каждое помещение, точно по волшебству, превращалось в подводное царство, царство льдов, тропический уголок, хвойный лес и так далее, насколько хватало фантазии и средств. Главная же трудность заключалась в том, чтобы не повториться и не походить на прошлые годы.
К 8 часам вечера все уже должно быть готовым к приему гостей, которых набиралось до трех‑четырех тысяч. Все кадеты и гардемарины были налицо: кто стоял у входных дверей и проверял билеты, кто находился в буфетах, кто в танцевальных залах, а кто и просто толкался по всем направлениям или ждал приезда своих знакомых. Так называемые «распределители» имели особые значки, которые сами выдумывали и чаще всего делали из лент цветов Андреевского флага, пропущенных под левый погон, в виде аксельбантов, и завязанных бантом с лежащим на нем золотым якорем.
Новички к началу съезда гостей уже успевали, конечно, всюду побывать. Осмотрели музей с бесконечным количеством корабельных моделей и чертежей старых и новых кораблей, коллекциями минералов, раковин, кораллов и медалей, прежними формами Корпуса и предметами вооружения военных судов. Осмотрели убранство помещений и не забыли бриг «Меркурий», который по случаю праздника был в полном блеске: с поставленными парусами, с красивым георгиевским флагом на гафеле и длинным вымпелом на грот‑брам‑стеньге. Очень соблазнительно было полазать по вантам, да это строго запрещалось. Наконец, совсем уже уставшие, неслись к выходу смотреть на приезжающих.
Вот съезд начался. Потекли бесконечные ряды одетых в зимнее пальто и ротонды дам в чепцах и теплых платках, в сопровождении офицеров и штатских. Вся эта вереница торопилась прежде всего попасть в классы, где были устроены раздевальни, и оттуда роскошно одетой толпой беспрерывно направлялись в главный зал. Каких тут только не было туалетов: белые, голубые, розовые, зеленые, всех оттенков и цветов радуги, декольтированные и закрытые, с драгоценными украшениями и без них. Из этих туалетов выглядывали то строгие лица мамаш и тетушек, то веселые и сияющие девичьи личики. Мужчины были тоже во всем блеске своего величия, морские мундиры перемешивались с сухопутными; кое‑где мелькали и фраки. Каких только эполет тут не было, каких лент и орденов!
Эта красивая и пестрая картина в первый раз меня совершенно ошеломила: я никогда еще не видел такого блестящего зрелища. Как ни велик был наш зал, как ни обширны многочисленные помещения, предоставленные для гостей, но все же места не хватало, и с большим трудом удавалось продвигаться вперед. Только мы тогда еще были такого маленького роста, что могли успешно шмыгать между парами.
Теперь наш главный интерес сосредоточивался на танцах, которые в первый раз мы видели на балу. Огромный зал был полон парами, красиво кружащимися под плавные звуки музыки. Один танец сменялся другим, и казалось, что все сливается в одно непрерывное движение. Томные, нежные звуки вальсов захватывали душу, хотелось слиться с этими кружащимися парами и без конца танцевать.
Вся эта роскошь туалетов – шелка, бархат, кружева и драгоценности, запах духов, блеск военных форм – пьянила душу и наполняла ее восторгом. Мне казалось, что я попал в какое‑то волшебное царство, и долго не мог оторваться от этого зрелища. Не скоро я стал различать отдельные лица танцующих и, когда наконец освоился, даже не заметил прелестное личико молоденькой барышни, которая шла под руку с кадетом.
Так незаметно время перешло за полночь, и, утомленный всеми впечатлениями, теснотой и жарой, я решил идти домой. Довольно было на первый раз перечувствовано, и, наверное, в последующие годы эти впечатления не будут уже такими яркими и бал не будет казаться таким великолепным и интересным.
Быстро сбегав в роту за шинелью, я вышел на набережную и полной грудью вздохнул свежий морозный воздух. Была чудная лунная ночь. Всего несколько дней тому назад выпал снег, и потому улицы и крыши казались в темноте совершенно белыми. Мне приходилось идти с Васильевского острова на Кирочную улицу – большое расстояние, но от полноты чувств хотелось пройтись пешком и подышать свежим воздухом. Да и как красива набережная Невы в такую ночь! Ровный ряд огней газовых фонарей, слабо освещающих гранитные плиты панелей, дворцы, особняки, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, на другой стороне темнеющая Петропавловская крепость. Все покрыто снегом и освещено бледным светом луны, а внизу чернеет Нева, и по ней плывут большие льдины, медленно налезая друг на друга, издавая какой‑то особый скрип и треск. Точно какие‑то сказочные чудовища борются между собой. Я всегда любил Петербург, и он был дорог моему сердцу, но еще сильнее я любил его в эти ночи: он казался таким таинственным, особенным.
Пока я шел по набережной, мне навстречу летели роскошные сани, запряженные парой или одиночкой, попадались и скромные извозчики, везущие сонных седоков, закутанных в меховые воротники шуб, изредка шли пешеходы. Кое‑где в окнах роскошных особняков еще виднелся свет, и там, по‑видимому, шло веселье. Хотелось подняться с земли и взглянуть, что происходит за этими зеркальными окнами и спущенными шторами.
Я незаметно подошел к Летнему саду, свернул на набережную Фонтанки, на Сергиевскую улицу, дошел до Воскресенского проспекта и наконец был дома. С удовольствием лег я в кровать. Завтра можно было долго спать, так как после бала нам давали день отдыха.
Глава четвертая
После корпусного праздника жизнь быстро вошла в свою колею и потянулась обычным, строго размеренным темпом, чередуясь уроками, строевыми учениями, едой и сном. Один день походил на другой как две капли воды, и оттого время летело быстро. Мы скоро привыкли к обстановке, перезнакомились друг с другом, сдружились между собой и чувствовали себя в Корпусе, как дома.
Несмотря на распущенность, царившую в Корпусе, нравы воспитанников были совсем негрубые, и никаких избиений новичков и слишком злых издевательств не было и в помине. Впрочем, и начальство строго следило за этим и никогда ничего подобного не допустило бы. Не было у нас и притеснения младших старшими, этого знаменитого «цука» Николаевского кавалерийского училища. Но, конечно, иногда случались единичные драки и общие побоища, когда одна рота шла на другую. Были также и среди кадет такие злополучные личности, которые как бы сами напрашивались на то, чтобы к ним приставали, и иногда эти приставания переходили в систематическое избиение. Но это было редко и всегда вызывалось характером самих же жертв, и за все шесть лет пребывания в Корпусе я наблюдал только два таких случая. В обоих объектами были несимпатичные и в значительной степени испорченные мальчики.
Недоразумения между ротами тоже были редки и обычно происходили из‑за пустяков вроде того, что на дворе не поделят саней для катания с гор или кто‑нибудь из младшей роты позволит себе толкнуть или обругать кадета старшей. Но это случалось только между младшими ротами. Например, когда я был в 3‑й роте, у нас одно время шла война с кадетами 4‑й, и мы устраивали походы на малышей: наибольшие драчуны старались, забравшись в помещение 4‑й роты (что начальством строго воспрещалось), напасть на первых попавшихся маленьких врагов и их отдубасить, быстро скрывшись. При этом, чтобы не быть узнанным, на головы накидывались бушлаты. Такие набеги далеко не всегда благополучно сходили и для самих нападающих, и нередко бывали случаи, что им приходилось встречать сильный отпор и ретироваться очень помятыми, с «фонарями» и синяками.
Почти каждый год в Корпусе свирепствовала эпидемия брюшного тифа, и главный процент больных приходился на вновь поступивших. Отчего появлялась эта эпидемия, кажется, доподлинно начальство не могло доискаться, но говорили, оттого что у нас был свой водопровод и трубы проложены против Корпуса, т. е. в месте, где Нева уже успела пройти весь город. Правда, строго запрещалось пить сырую воду, и всюду стояли специальные баки с кипяченой, но, по‑видимому, этих мер было недостаточно, и следовало поставить более усовершенствованные фильтры. Но борьба с эпидемиями не приводила к полной победе, и тиф ежегодно уносил одну или две жертвы.
Одним из первых заболел я[20], и меня положили в тифозную палату нашего прекрасного лазарета. Кругом были все тяжелые больные. Помню, рядом со мной лежал мой товарищ по фамилии Телегин, который заболел тифом еще в более тяжелой форме, чем я. Он все метался по кровати и бредил. Я сам несколько дней был без памяти и только изредка приходил в себя и с трудом узнавал, где нахожусь. В эти моменты я с удивлением наблюдал моего соседа и никак не мог понять, что он мне говорит, так бессвязны и отрывисты были его слова.
Ночью я проснулся оттого, что кто‑то наклонился надо мной и что‑то шептал. Открыв глаза, я увидел нашего священника в черной рясе, читавшего надо мной молитву. Затем услыхал голос сестры милосердия:
– Не тот, батюшка, а вот который рядом, с другой стороны.
А батюшка на это ответил:
– Ну, ничего, я ошибся.
Потом я узнал, что батюшку пригласили напутствовать Телегина, которому стало очень плохо, и он, не разобрав, где тот лежит, наклонился надо мной и стал напутствовать меня. На следующий день бедный Телегин умер, и, когда я окончательно пришел в себя, его уже рядом со мною не было[21]. Но эта ошибка нисколько не поразила, и мне не стало ни страшно, ни неприятно, так как в тот момент все казалось безразличным, далеким и ко мне не относящимся. В голове появлялись какие‑то обрывочные образы, которые непрерывно мешались между собой, кружились, исчезали и вновь возникали. Все хотелось пить, пить и пить. Иногда виделось что‑то вроде ручья с заманчивой студеной водою; бутылки, из которых разливалась какая‑то вкусная жидкость или целые бочки с водою, но всегда что‑то мешало утолить ужасную, томящую жажду. По‑видимому, я изредка стонал, и в ответ раздавался глухой женский голос: «Чего вам?» «Пить», – просил я, и мне давали что‑то пить, что, однако, освежало лишь на мгновенье. Потом опять начиналось забытье, которое тянулось неизвестно как долго, точно я носился в каком‑то бесформенном пространстве, без начала и конца. Время летело, и я его не замечал. Кругом были мрак и тишина.
Так длилось около десяти дней, и вдруг мне показалось, что я проснулся от какого‑то долгого, кошмарного сна. По‑видимому, было раннее зимнее утро, и свет только чуть‑чуть брезжил через щели опущенных штор. Кругом стояли рядами кровати, на некоторых лежали больные, и было совсем тихо.
Несказанно приятно было сознавать, что я проснулся, ощущать в себе силу и желание жить. Захотелось говорить, есть, вообще что‑то делать. Через некоторое время из‑за ширм вышла сестра милосердия и пошла по палате, и я ее тихо окликнул. Она подошла ко мне и сказала:
– Ну, слава Богу, кажется, у вас кризис благополучно миновал, а то мы боялись за вас, уж очень вам было плохо, но зато теперь дело быстро пойдет на поправку. Хотите пить?
Как приятно было слышать ее голос. Меня только удивило, что я был так сильно болен, а сам этого совсем не ощущал. И, конечно, мне хотелось пить и особенно есть, чего‑нибудь такого вкусного – большую котлету с жареной картошкой, или курицу с рисом, или все равно что, лишь бы побольше. Увы, этим мечтаниям еще не скоро было суждено сбыться, и меня добрых десять дней кормили манной кашей и жидким клюквенным киселем.
После кризиса я действительно быстро пошел на поправку, и уже через две недели мне разрешили встать. Первые дни, с трудом передвигая ноги и шатаясь, я делал несколько шагов от койки к стулу. Все же я не успел окончательно выздороветь к Рождеству, так что этот любимый праздник я провел в лазарете. Помню, мне подарили от Корпуса толстую книгу, в красивом переплете, с описанием народностей, населяющих Балканский полуостров.
Только после Нового года родителям разрешили меня взять на месяц домой, чтобы дать мне окончательно окрепнуть, и я счастливый ехал в карете с замерзшими окнами и скрипящими колесами по мостовым, покрытым снегом.
Быстро промелькнул месяц, и я снова оказался в стенах Корпуса. Меня очень пугала мысль, смогу ли я нагнать то, что было пропущено за столь долгий срок болезни, и не придется ли из‑за этого остаться на второй год. Это было бы тяжело для самолюбия, и потому я никак не мог примириться с такой мыслью. Но опасения оказались напрасными, и я скоро нагнал класс.
Февраль, март и апрель прошли незаметно. Предстояло лето, которое кадеты 4‑й роты проводили дома. Оно было уже последним летом каникул, т. к. со следующей роты, до самого выпуска из Корпуса, каждое лето кадеты плавали на отряде судов Морского корпуса.
В конце занятий нам объявили годовые баллы и сказали, кто перешел без всяких задержек, кто имел переэкзаменовки и кто был оставлен на второй год. Я перешел в следующую роту и мог все лето не думать об учении и спокойно отдыхать. С легким сердцем ехал я домой, забрав ворох казенных вещей, которыми снабдили на лето, как весело и спокойно было на душе.
Четыре месяца полной свободы, четыре месяца можно каждое утро сознавать, что располагаешь своим временем, как вздумается, – какое это счастье, какое удовольствие! Наша семья лето проводила на даче в Финляндии, и я с удовольствием предавался всем несложным, приятным и здоровым летним развлечениям: рыбной ловле, катанию на лодке, купанию, гулянию по лесу и собиранию грибов и ягод.
Время летело незаметно, изредка вспоминался и Корпус, но как‑то в тумане, и к нему пока не тянуло. Любимым нашим занятием было делать из дерева модели различных боевых кораблей – с мачтами, трубами и орудиями, строить из них гавани, выводить на чистую воду, устраивать сражения и маневрирование. За этим занятием время проходило особенно быстро. Какой простор для фантазии! Это было тем более интересно, что товарищем в играх был мой двоюродный брат[22], тоже кадет Морского корпуса.
Но осень приближалась, и стал чаще вспоминаться Корпус. Перспектива опять засесть за учение не очень‑то манила, хотя, с другой стороны, приятно осознавать, что мы уже больше не кадеты младшей роты и в наступающем учебном году получим нашивки на погоны, галуны на рукава и, главное, венец мечтаний каждого из нас, – настоящие палаши.
Короткое финляндское лето быстро пришло к концу, наступила осень, и все понемногу потянулись в город. Мы вернулись в Петербург к половине августа, до начала занятий оставалось еще две недели. Теперь уже все думы вращались вокруг Корпуса.
1 сентября (1899 г. – Примеч. ред.), к 9 часам вечера, забрав казенные вещи, я поехал в Корпус. Являться пришлось уже в новое помещение, в 3‑ю роту, и там сразу охватила знакомая корпусная атмосфера, и стало очень весело. Приятно было встретиться с товарищами, узнать, кто будет ротный командир и какие дежурные офицеры, где отведут конторку для вещей, кровать и т. д. Мне удалось встать во фронт рядом с моим двоюродным братом, и теперь мы могли спать рядом и сидеть за едой на одном конце стола, чему я страшно обрадовался, так как мы были очень дружны.
В этом году все быстро вошли в обычную колею и зажили корпусной жизнью, но в нас самих была заметна некоторая перемена, и мы не казались уж такими маленькими мальчиками, как в прошлом году. Наши взгляды на многое изменились, и к окружающему мы стали относиться более сознательно. В нас, видимо, произошел перелом, и мы перестали быть детьми. В особенности это замечалось у тех, которые по натуре были более серьезными, любили много читать и думать.
Мои думы улетели вперед, и я мечтал о том времени, когда буду офицером и начну плавать на разных броненосцах, крейсерах и миноносцах, которые пока знал только по картинкам. Мерещились заманчивые заграничные плавания, и мечталось, что вдруг вспыхнет война и удастся в ней принять участие, попасть в настоящее морское сражение и «заработать» Георгиевский крест. Столько нового, неиспытанного грезилось впереди, и это скрашивало время в Корпусе.
Скоро наступило 6 ноября, и наш выпуск надел мундиры с золотыми нашивками, галунами и палаши. Последние дни перед 6‑м мы буквально не могли спокойно спать, так как хотелось скорее получить эти заманчивые палаши. И как все беспокоились, чтобы достался обязательно самый длинный и с красивым эфесом.
Выйдя в первый раз с палашом на улицу, мы себя чувствовали необычайно важными, и хотя во время ходьбы они с непривычки и путались между ногами, зато с каким превосходством мы смотрели на других мальчиков, которые оружия не имели. Особенно щегольским считалось, когда палаш, ударяясь о ногу, издавал дребезжание. В ножны опускался серебряный гривенник, и тогда дребезжание приобретало особую мелодичность и становилось очень громким. Да, стать обладателем настоящего оружия, которым можно убить человека, – это уже было нечто!
В этом году мы начали больше интересоваться барышнями, и многие из нас по воскресеньям посещали своих сестер, кузин и просто знакомых в институтах. Нам доставляло большое удовольствие появляться на этих приемах, конечно, главным образом чтобы показать себя. Впрочем, вообще привлекали эти красивые белые залы с колоннами, уставленные вдоль стен красными бархатными диванами и белыми стульями, на которых сидели институтки и их родственники. Любопытно было, как дежурные институтки подходили и спрашивали, кого вызвать, а три грозные классные дамы, как аргусы, наблюдали, чтобы не нарушались все сложные правила приличия. Нравились, конечно, и сами институтки в зеленых, красных и синих платьях, с белыми передниками и пелеринками, так чинно сидевшие и скромно поглядывавшие по сторонам. Среди посетителей находилось много воспитанников военных учебных заведений: сухопутных кадет, пажей и юнкеров, а также лицеистов и правоведов, и перед ними хотелось щегольнуть формой, которую мы считали красивее других.
Этот год для Корпуса сложился неудачно. Опять произошли принявшие огласку инциденты с начальством, и было даже два случая самоубийств. Один из них произошел в нашей роте.
Этот случай всех страшно взволновал. Однажды, рано утром, дневальный, войдя в карцер, в котором сидел кадет С. (Сукман. – Примеч. ред.)[23], нашел его висящим на полотенце, привязанном за решетку, которой кончались стены. Отчего С. покончил с собой, так и не выяснилось. Он оставил записку, что умирает, разочаровавшись в жизни, но какое же может быть разочарование в жизни у мальчика 14–15 лет, который, в сущности, еще не начинал жить.
После этого случая некоторые боялись спать в спальне, которая прилегала к карцерам, и долгое время в них никого не рисковали сажать, пока не произвели полного ремонта. Бедного С. разрешили хоронить по христианскому обряду и даже с воинскими почестями, но рота сопровождала гроб не до самого кладбища, а только полпути и без музыки.
За этим случаем скоро произошел второй – в одной из старших рот застрелился гардемарин[24].
Про Корпус в городе пошли нехорошие слухи. Начали все чаще поступать жалобы от сухопутных офицеров, что морские кадеты распущены, недисциплинированны, плохо отдают честь, а когда им делают замечания, грубят. Многое, как всегда, преувеличивалось и перевиралось.
Эти слухи дошли и до Государя Императора, и он призвал генерал‑адмирала и повелел расследовать, в чем дело, и привести Корпус в порядок. Генерал‑адмирал сам поехал к нам и приказал собрать всех кадет и гардемарин и передал, что Государь Император нами очень недоволен и ждет, что мы исправимся. Причем пока ему не будет доложено о нашем исправлении, он не приедет в Корпус, как это делал ежегодно. Затем Великий Князь отдельно собрал начальствующих лиц и говорил с ними в том же духе. Этим посещением мы были страшно потрясены и, в сущности, плохо понимали, что же особенно худого мы сделали.
Правда, мы много шалили, некоторые плохо учились, действительно, на улицах держались иначе, чем кадеты сухопутных корпусов, но ведь это всегда так происходило, и на то мы и были моряками. Нам наше поведение казалось совершенно естественным, и в головах не укладывалось, что надо вести себя как‑то иначе. Вот это «непонимание» и являлось главным недостатком, который требовал исправления. Однако в этом были виноваты не столько мы, сколько начальство, которое нам потакало и привыкло к нашему виду и отношению к другим.
Нам казалось, что этот год просто несчастливо сложился. На самом деле Корпус требовал коренных реформ воспитательной системы, и для этого, в первую голову, необходимо было произвести перемены в составе воспитателей и преподавателей.
Важно было, чтобы корпусные офицеры не теряли связи с флотом и только временно прикомандировывались к Корпусу, тогда явилась бы возможность привлекать к службе в нем и лучших строевых офицеров. Приходилось признавать, что начальство допустило ошибку, образовав из них изолированную касту и дав им сухопутные чины и несколько измененную форму. Даже в плаваниях Корпус не имел прямого общения с флотом, и воспитанники плавали на особом отряде специальных кораблей, которым обычно командовал директор.
В силу всех этих причин Корпус все больше и больше отходил от флота, и нарастал антагонизм между строевыми офицерами и корпусными. Этому способствовало и то, что туда часто шли офицеры не по призванию к педагогической деятельности, а оттого что им не хотелось плавать и жить вне Петербурга. О существовании этого антагонизма воспитанникам было известно, так как многие происходили из морских семей и их близкие были строевыми офицерами; и у нас поэтому зарождалось неуважение к нашим воспитателям.
К сожалению, приходится признать, что тот период был периодом упадка Корпуса, но это вовремя осознали, и за два года до Японской войны высшее начальство обратило серьезное внимание на него, и новое командование Корпус подтянуло, а после Японской войны он снова достиг рассвета.
Многие воспитатели, хорошо памятные для кадет того времени и носившие такие меткие прозвища, постепенно покинули Корпус, и последующие поколения не знали «Кляпа», «Судака», «Шишку», «Мамая», «Вошь», «Обалдуя», «Лабаза», «Федю» и других. С ними отошло доброе старое время, слишком безмятежное и даже вредное для будущих офицеров флота, но все же своеобразное и милое сердцу.
Глава пятая
Эта зима (1899–1900 гг. – Примеч. ред.) так больше ничем и не ознаменовалась, и Государь Император к нам не приехал, как мы его ни ждали. Весь период, пока он ездил по трем корпусам, у нас на всякий случай шли приготовления: расстилались красные ковры, все тщательно прибиралось и воспитанников одевали в голланки первого срока. Мы, полные надежд, ожидали, что Государь каждую минуту может приехать, сидели на уроках, как на иголках, но проходили часы, когда он мог приехать, и нам приказывали переодеваться убирались ковры. Оказывалось, что Государь опять вернулся во дворец, не заехав в корпус. Так повторялось много раз. Очевидно, он продолжал быть нами недоволен и мы еще не заслужили его прощения, и это было тяжело сознавать.
В следующую роту в этом году мы переводились без экзамена, по среднему баллу. В половине апреля нам объявили, кто прошел беспрепятственно, и отпустили в отпуск. Этим летом предстояло совершить первое плавание или, вернее, пройти первые уроки несения морской службы на кораблях и с жизнью на них. Ввиду этого все «плавание» ограничивалось пребыванием на корабле, который стоял на якоре, на закрытом рейде.
С этой целью для кадет 3‑й роты были приспособлены – парусный клипер[25], или, как его теперь называли, учебное судно «Моряк» и блокшив «Невка», какой‑то бывший пароход со снятыми котлами и машинами. Половина роты жила на «Моряке», а другая на «Невке», и в середине лета происходила смена.
Уход воспитанников Морского корпуса в плавание обычно происходил в начале мая. Рано утром, в назначенный день, все роты приводились фронтом к пристаням Морского министерства, находящегося напротив Корпуса, на другом берегу Невы. Под звуки оркестра мы шли через Николаевский мост, имея на руках различные мелкие пожитки вроде: фотографических аппаратов, биноклей, книжек и т. п.
У пристаней уже собиралась большая толпа народа, среди которой были и наши родственники и знакомые, которые приходили проститься. Кадет рассаживали по мелким пароходикам, которые должны были их доставить на корабли, находившиеся в кронштадтских гаванях. Когда все оказывались на своих местах, начинала играть музыка, и под крики «ура», напутствия родственников и махания платками отваливали от пристаней.
Хотя мы уходили в плавание всего лишь на три месяца, но для тех, кто совершенно не знал моря, уже один факт жизни на кораблях казался опасным, и оттого родители сыновей не из морских семей боялись за них.
Наша рота попала на старенький колесный пароход «Ижора», замечательный тем, что по временам машина одного колеса работала сильнее машины другого, и оттого пароход внезапно бросался то в одну, то в другую сторону, и казалось, неизбежно должна была произойти катастрофа, но рулевые уже так привыкли к этой особенности, что вовремя умели остановить эти шалости машин.
Скоро мы прошли Неву и вышли в море или, как установилось за ним название, «Маркизову лужу», и понемногу стали вырисовываться Кронштадтский собор, форты и город. Во время пути мы получили чай и пятикопеечную французскую булочку с колбасой. Сильно проголодавшиеся на свежем воздухе, мы с аппетитом все съели, и некоторым этого было мало. Вначале путешествие нас очень занимало, в особенности тех, которые его совершали в первый раз. Но пароход шел невероятно медленно, и, приближаясь к Кронштадту, мы с нетерпением уже ждали, когда же пароход подойдет к военной гавани. И вот «Ижора» стала огибать стенки гаваней и пошла в Среднюю гавань, путь был окончен.
Я первый раз в жизни видел военную гавань и военные корабли. Все мое внимание было напряжено. У стенок гавани стояло несколько новых броненосцев, которые заканчивали постройку и готовились к выходу на Дальний Восток. Они показались мне такими грозными гигантами, что я не мог от них оторвать взора. Вскоре увидели мы лес мачт отряда Морского корпуса. Какими архаическими показались, по сравнению с броненосцами и крейсерами, корабли нашего отряда, точно сохранившиеся как красивая и интересная достопримечательность прежних времен.
«Ижора» подошла к «Моряку» и высадила смену, которая должна была плавать на нем в первую половину лета. Затем «Ижора» подошла к «Невке», и на нее погрузились остальные.
На «Невке» нас встретил ее командир лейтенант К. (вероятно, Китаев Сергей Николаевич. – Примеч. ред.)[26]. Так как «Невка» находилась под общим командованием командира «Моряка», то нас тоже переправили туда для общего представления. На «Моряке» всех поставили во фронт на «шканцах». Вышел командир капитан 2‑го ранга А. (Арнаутов Константин Петрович. – Примеч. ред.)[27], поздоровался с нами и напомнил, что мы теперь находимся на палубе военного корабля и этого не должны забывать, так как никаких поблажек делать не будут. Очевидно, он был невысокого о нас мнения и сразу же решил «поставить на точку».
После этого всех распустили, и мы разбрелись по внутренним помещениям и с любопытством все осматривали. В особенности нас привлекали мачты с вантами, марсами и салингами. Казалось таким заманчивым полезть до самой верхушки, где виднелся клотик. Но пока туда не разрешали соваться, и мы побаивались вахтенного начальника, который важно разгуливал по палубе. Около 6 часов наша смена вернулась на «Невку». Предстояло получить первый обед на корабле, причем, по правилам, кормящим был избран один из кадет, который назывался артельщиком.
Каждый получил шкапчик, место для сна на рундуке или для подвешивания койки и место за столом. Раздали парусиновые койки, пробковые матрацы, подушки и одеяла и стали учить их связывать. Поначалу это давалось совсем нелегко, так как все койки должны были быть строго одного размера и толщины, чтобы поместиться в коечные сетки и представлять совершенно ровный, красивый ряд. К тому же на все связывание полагалось всего пять минут, и нам пришлось много потрудиться, пока мы научились мало‑мальски прилично это делать. Впрочем для некоторых связывали койки дневальные, которым за это и за чистку верхнего платья платили кадеты маленькое жалование.
Затем нас распределили по вахтам, а по отделениям, по традиции, нам разрешали распределяться по взаимному соглашению. В каждой вахте было по два отделения, и каждому отделению, в зависимости от того, имело ли оно четный или нечетный номер, отводилось место в жилой палубе – с правого или левого борта.
На следующий день, с рассветом, «Моряка» и «Невку», да и весь остальной отряд, буксиры вывели на Малый рейд, где они стали на якорь. На завтра, перед началом кампании, предполагался смотр отряда главным командиром Кронштадтского порта вице‑адмиралом С.О. Макаровым[28]. Этот смотр был простой формальностью и ограничивался тем, что адмирал обходил фронт кадетов и команды. Но все же на нас, маленьких кадет, он произвел большое впечатление, потому что это было совершенно ново для нас, и, кроме того, мы уже много слышали об адмирале Макарове как об одном из самых выдающихся морских офицеров, и нам хотелось его увидеть.
Вечером того же дня к «Моряку» подошел «Верный» и взял его на буксир. «Невку» взял на буксир «Воин», так как боялись, что, если ветер во время перехода засвежеет, буксиры могут лопнуть и «Невка», не имеющая машин, окажется в опасном положении. Но погода стояла чудная и продержалась такой до следующего дня, когда мы уже стали подходить к рейду Лангекоски у г. Котки. Утром командир «Воина» приказал устроить леерное сообщение между бизань‑мачтой «Воина» и фок‑мачтой «Невки», и кадет переправили этим способом. Нам это доставило огромное удовольствие, хотя мы с опаской посматривали вниз, когда, сидя в спасательном буйке, тащились по воздуху между движущимися судами.
Как только мы пришли в назначенное для стоянки место, было установлено расписание занятий, и с 8 с половиною до 10 с половиною утром и с 2 часов до 5 с половиною после полудня нас заставляли заниматься различными морскими предметами и практикой морского дела. Одним из главных занятий являлось обучение гребле и управлению парусами на шестерках. Этому посвящалось каждый день по несколько часов, не говоря уже о том, что в виде гимнастики, сейчас же после подъема флага, мы должны были обходить под веслами «Моряка» и «Невку», причем все старались прийти первыми к своему кораблю, так что выходило что‑то вроде гонок. Затем мы учили рангоут, лазание по вантам, спуск и подъем брам‑стеньги, брам‑реи, постановку и уборку парусов. Все эти учения происходили на бизань‑мачте «Моряка». Также нас учили такелажным работам и основам штурманского, артиллерийского и машинного дел.
В этих занятиях время проходило незаметно, и мы не успевали скучать. По вечерам и воскресным дням отпускали гулять на берег, и мы компаниями рыскали по прилегающим островам или забирались в кофейную маленького городка Котки и там наедались пирожными. Запомнился мороженщик – высокий толстый старик, с огромной седой бородой, точно пряничный дед. Он специально приезжал из Кронштадта в Котку со своим сыном, чтобы каждый день, в часы отдыха, с 12 до 2 часов дня, продавать мороженое, пряники и другие сласти. Так что мы все свои небольшие карманные деньги спускали ему. Должно быть, торг шел успешно, так как говорили, что он имел несколько приличных домов в Кронштадте и скопил солидный капитал.
Я очень любил ездить на берег и совершать длинные прогулки со своими друзьями. Помню, как‑то раз, в воскресенье, мы пошли гулять втроем, и так как погода была теплая, решили выкупаться. Двое из нас, и в том числе я, умели плавать, а третий не умел. Первым разделся и бросился в воду не умевший плавать и храбро пошел от берега, так как вначале было мелко. Вдруг мы увидели, что он то окунается, то выскакивает из воды и как‑то странно машет руками. Сначала мы подумали, не шалит ли он, и стали ему кричать, чтобы он был осторожнее, но потом заметили, что с ним происходит что‑то неладное. Мы с берега бросились на выручку. Первым доплыл до утопающего не я, а другой кадет, умевший хорошо плавать. Но утопающий схватил его за шею и стал судорожно сжимать, чем лишил всякой возможности двигать руками. Чем больше первый старался освободиться от этих объятий, тем крепче второй сжимал его, и между ними завязалась борьба. В это время подоспел я и увидел, что они погружаются в воду и что в этом месте очень глубоко. Тогда я схватил умевшего плавать за руку и потащил его к берегу. Тонущий держался за него и почти потерял сознание, так как выбился из сил и наглотался воды.
С большим трудом мы достигли мелкого места и облегченно вздохнули, когда почувствовали под ногами дно, но от волнения и напряжения так ослабли, что добрый час пролежали на берегу, набираясь сил. Особенно наволновался и устал наш неудачный купальщик, но мы были счастливы, что все так благополучно кончилось, так как кругом решительно никого не было, и мы могли утонуть, и никто этого не заметил бы. Поругав хорошенько нашего приятеля, мы пришли в самое веселое настроение и решили, что он должен за спасение угостить нас пирожными.
Иногда мы ездили на Кюменский водопад и ходили смотреть на Лангекосские пороги, которые были далеко от рейда. Близко от этих порогов находилась дача покойного Императора Александра III, в которой он жил, когда приезжал ловить рыбу. Это был дом, построенный в местном стиле и просто обставленный. В нем теперь никто не жил, и только сторож показывал посетителям[29].
Часто бродя по пустынным островам и окрестностям Котки, мы натыкались на надгробные гранитные плиты, на которых надписи свидетельствовали, что под ними похоронены офицеры, солдаты и матросы, убитые во время боев в этих местностях в период шведских войн, при Петре и Екатерине. Нас очень интересовали скромные памятники давно забытых воинов, которые напоминали времена упорной борьбы за обладание этими берегами, когда здесь ходили галеры и парусные корабли, которые стреляли из чугунных и медных пушек круглыми ядрами, сваливались на абордаж и сжигали вражеские корабли. Сколько героизма проявили в этой борьбе наши моряки только что созданного гением Петра русского флота, и теперь, всеми забытые, они покоятся здесь. Но их деяния не забылись и принесли России огромную пользу. Благодаря обладанию этим морем, которое они завоевали, Россия стала великой державой, и народ быстро вышел из тьмы веков и увеличил свое благосостояние. С тех пор прошло полтора века, и кругом царит полная тишина. Ничто не напоминает о былых сражениях, и мрачные финны мирно ловят рыбу, да изредка плывут шхуны, нагруженные дровами, и проходят пароходы с досками и бревнами. Целый ряд фортов, построенных тогда с таким трудом, уже совсем развалился, и остались только слабые контуры валов и брустверов…
Время шло монотонно, ничем не нарушая нашей жизни, «по расписанию». Мы начинали привыкать к морской обстановке и втянулись в установленный режим. Совместное житье в тесном корабельном помещении нас очень сблизило, мы лучше узнали друг друга и не скучали. Да и за день так уставали, что вечером, после раздачи коек, быстро ложились спать.
В свободное время на палубе было всегда весело, кто‑нибудь играл на балалайке, пели, читали и т. д. Не обходилось и без шалостей, и часто объектом служил командир «Невки» К. Он только что перешел на службу в Корпус и был по природе ужасный педант, крикун и любитель читать бесконечные нотации и так этим увлекался, что иногда по часу нас держал во фронте. Его громкий голос раздавался по всему рейду, так что даже достигал «Моряка», который стоял довольно далеко от «Невки». Это страшно изводило, и мы его недолюбливали: «Ну недоволен, так выругай, но не выматывай душу скучнейшими наставлениями». За это и мы, в свою очередь, его изводили, «нечаянно» роняя разные вещи в световой люк его каюты, стуча в переборку офицерского помещения, подражая его голосу и т. п.
Но самым любимым «изводом» было раскачать несчастную «Невку», когда К. уезжал по делам на «Моряк». Как только он отваливал, мы начинали, все вместе, бегать по нашему кубрику с одного борта на другой, и так как «Невка» была легкая, без котла и машин, то скоро начинала раскачиваться. Это замечали сигнальщики на «Моряке», потому что, несмотря на совершенно спокойный рейд, она так качалась, что даже выстрела касались воды. Докладывали вахтенному начальнику, который посылал сообщить К., а тот сломя голову несся на шлюпке. Когда мы из иллюминаторов ее замечали, то прекращали беготню и мирно рассаживались за занятиями, а он, взбешенный, выскакивал на трап и уже оттуда кричал: «Кадеты, на верхнюю палубу, во фронт». Начиналось обычное скучнейшее отчитывание, и кое‑кого из самых больших шалунов наказывали, но нас это мало убеждало, и мы старались придумать, чем бы еще поизводить К.
Так подошла осень. На рейд пришел весь отряд, и начались проверочные испытания того, что мы изучали летом. Экзаменационная комиссия состояла из строевых офицеров и корпусных, оттого экзаменов и побаивались: не хотели срамиться перед чужими. Но все предметы были несложными, да и мы понимали, что они действительно необходимы, иначе какими же морскими офицерами мы будем. Провал на этих экзаменах грозил лишением отпуска после плавания, и это тоже служило достаточной угрозой. После экзаменов были отрядные гребные и парусные гонки на призы в виде жетонов, биноклей и кубков, с соответствующими надписями. К ним мы усердно тренировались, но, к сожалению, почти все шлюпки имели разные качества, и оттого успех в значительной степени зависел от того, на какую попадешь. На некоторых, прилагая невероятные усилия, все равно нельзя было прийти первым или вторым, и, наоборот, на других из года в год их составы брали шутя призы.
После окончания гонок отряд возвращался в Кронштадт, и кадет на тех же пароходиках отвозили в Корпус и оттуда отпускали по домам до начала зимних занятий. Это был долгожданный момент, о котором мы мечтали все плавание. Быстро забрав вещи, разъезжались по вокзалам и затем дальше по разным уголкам России.
Впечатление от первого плавания оставалось очень хорошее, но мы отлично сознавали, что пока познакомились с морской службой в слабой степени и далеко еще не стали моряками. Ведь, в сущности, эта первая наша кампания дала только некоторую привычку к жизни на корабле, элементарные знания по морскому делу и опыт в управлении шлюпками, а настоящего моря мы совсем не знали. Два небольших перехода из Кронштадта на Котку и обратно, да еще в совершенно тихую погоду, нельзя было брать в расчет. Еще если бы мы попали в свежую погоду и нас порядком бы потрепало, тогда, пожалуй, мы и получили бы некоторое понятие о море.
Глава шестая
Отпуск, как всегда, пролетел незаметно и показался одним мгновением, но таким дорогим и оставившим столько приятных воспоминаний. В этом году наш выпуск уже перешел в старший общий класс или 2‑ю роту, которая причислялась к старшим, так как входила в состав батальона. В этой роте мы кончали среднее образование и со следующей начиналось специальное, т. е. вроде юнкерского училища.
Наступивший учебный год был особенно знаменательным, так как 14 января 1901 года предстояло празднование 200‑летия Корпуса, ведшего начало от Навигацкой школы в Сухаревой башне, в Москве, основанной Петром Великим в 1701 году. К этому празднеству начальство готовилось крайне тщательно, так как хотелось отпраздновать его пышно, и на торжествах предполагалось присутствие Государя, Государыни и некоторых членов Императорской фамилии и многих почетных гостей. Впрочем это действительно являлось знаменательным торжеством – празднование юбилея единственного в России учебного заведения, подготавливающего офицеров флота.
С самого начала года пошли всякие приготовления и репетиции парадов. Корпус получал новое знамя; ставился памятник Петру Великому в столовой, выбивалась медаль с изображением профилей Императоров Петра Великого и Николая II; все корпусные офицеры и первые три выпуска получали особый нагрудный знак, и издавался альбом с фотографиями гардемарин, кадет, офицеров, преподавателей и всех помещений. Само празднование ознаменовывалось торжественным богослужением, парадом, обедом, спектаклем в Мариинском театре и грандиозным балом.
6 ноября в этом году (1900 г. – Примеч. ред.) не отмечалось и как бы переносилось на празднование юбилея 14 января.
Так до Рождества время и проходило в занятиях и ожидании юбилея, и чем времени оставалось меньше, тем все заражались все большим волнением. Другие интересы и даже учение уходили на второй план.
Наконец подошло и столь долгожданное 14 января. Особая полурота из старших гардемарин ходила в Зимний дворец принимать новое знамя, и сам Государь особым золотым молотком вбил первый гвоздь в древко, и затем оно с музыкой было принесено в Корпус. Торжественно открыли памятник Петру Великому, который очень украсил столовую. Император, во весь гигантский рост, гордо стоял на невысоком пьедестале, в морской форме, с треуголкой на голове. Торжественное богослужение было совершено в столовой о. Иоанном Кронштадтским. На параде присутствовали Их Величества. Впереди маршировали гардемарины, переодетые в форму прежних времен. Государь остался очень доволен. Обед удался на славу, с традиционным гусем и коробками конфет. Кадетам даже дали вина.
Красиво прошел парадный спектакль в Мариинском театре. Давалась опера «Евгений Онегин». Пели Фигнер[30] и Яковлев[31] – бывшие моряки. Зал пестрел почти исключительно морскими мундирами и роскошными туалетами дам. На спектакле присутствовали Государь, Государыня и некоторые члены Императорской фамилии.
Трем младшим ротам места были отведены на галерке, и мы с интересом наблюдали, что делается внизу, тем более что никогда так высоко не сидели. Все люди в партере, а также артисты на сцене казались маленькими, и нам особенно хорошо были видны эполеты и блестящие лысины многих солидных стариков.
Но венцом празднества был бал. Помещения особенно роскошно разукрасили. В столовой бриг «Меркурий» поставил все паруса, реи красиво обрасопил и зажег отличительные, красный и зеленый, огни. Впереди него, несколько сбоку, соорудили маяк, и на нем установили прожектор, который все время светил. Получалась полная иллюзия, что бриг проходит ночью мимо маяка, несясь на всех парусах.
Вся столовая была декорирована щитами, с гербами Корпуса и флагами, и вдоль карниза укреплены непрерывным рядом электрические лампочки. Вместе с люстрами они давали такое яркое освещение, что не было уголка, в котором была бы тень.
Танцы происходили в трех залах. Буфетов и гостиных было бесконечное число, и их красиво убрали. Гостей, несмотря на то что многим отказали, собралось такое количество, что даже обширные помещения с трудом их вмещали, и теснота была невероятная. Вначале все могли только медленно ходить в общем потоке людей и осматривать убранство зал и коридоров, а танцевать не хватало места. Да и неудивительно: с воспитанниками насчитывалось до девяти тысяч человек.
Только когда часть публики, достаточно нагулявшись, насмотревшись и устав от жары, разъехалась, начались настоящие танцы, длившиеся до 4–5 часов утра. Очень красиво устроили котильон. Котильонные украшения, в виде орденов, цветов, вееров, зонтиков и т. д., привезли на особой гигантской раковине‑колеснице, украшенной цветами. Ее везли переодетые в разных рыб и морских животных кадеты.
Моя рота ведала буфетами, и мне пришлось усердно работать в одном из них, устроенном в виде подводного царства – с кораллами, рыбами и морскими растениями. Угощать гостей было далеко не легким занятием, так как сквозь толпу с трудом удавалось протискаться, а все наперебой просили освежительных напитков, фруктов, чаю, тортов и конфет. Хотелось удовлетворить гостей и не слишком заставлять ждать, и потому сбивались с ног, носясь от столов в буфет и обратно.
После окончания всех празднеств нам дали несколько дней отдыха, которым мы с удовольствием воспользовались, так как страшно устали от всех впечатлений.
После Нового года все обычно считали, что время идет быстрее, и второе полугодие любили больше, чем первое, потому что дни постепенно светлели и как‑то становилось веселее. Уже с половины марта начиналось экзаменационное время, и оно всем нравилось, так как регулярные классные, равно и внеклассные занятия прекращались, и в период, предназначенный для подготовки, нас никто не тревожил, и мы всецело могли погружаться в зубрежку. В дни после сдачи экзаменов обыкновенно все отдыхали.
Сами экзамены тоже имели своеобразный интерес, хотя большинство их боялось, и каждый по‑своему к ним готовился: более серьезные просто повторяли весь курс, так что для них являлось безразличным, что их спросят, но остальные повторяли «по билетам» и некоторые билеты знали лучше, а другие хуже. Удача каждого заключалась в том, чтобы вытянуть именно тот билет, который лучше знаешь, тем более что и билеты по содержанию бывали разные: более легкие и более трудные. Для каждого курса имелась подробная программа, вопросы которой распределялись по 15–16 билетам. Кто не помнит эти картонные карточки, на которых с одной стороны ставились номера билетов, а с другой – номера вопросов программы?
Когда экзаменующийся вызывался, ему давалось самому вытягивать билет «на счастье». Все вопросы выписывались на доске, и экзаменатор указывал, какие следует подчеркнуть, т. е. подготовить к ответу. По мере того как несколько человек ответило, число билетов в пачке уменьшалось, а следовательно, и выбор становился все меньше, и только когда оставалось два‑три, тогда экзаменаторы вкладывали их обратно в пачку. Благодаря этому те, которые отвечали не первыми, имели возможность с большей точностью рассчитать, какие именно билеты они могут вытянуть. Оттого все ожидавшие очереди с душевным трепетом следили за номерами вышедших билетов. По их лицам можно было узнать, насколько удачно складывается дело.
Я всегда предпочитал отвечать одним из первых, не потому что хорошо знал курс, но оттого что, по крайней мере, скорее «гора с плеч долой», да и утром голова свежее; а то ожидать иногда приходилось по три‑четыре часа. Но многие любили отвечать последними и строили расчет на том, что экзаменаторы тоже уставали и под конец относились небрежнее и спрашивали более поверхностно. Правда, среди них встречались и такие, которые, уставши, делались раздражительными и придирчивыми и, видя, что экзаменующийся начинает путаться, не старались его наводить и помогать, а просто сажали на место и ставили плохой балл. Всю эту психологию преподавателей кадеты знали хорошо и очень искусно к ней приспосабливались.
Но самыми любопытными были те из кадет, которые совершенно на себя не надеялись и старались вместо того, чтобы вызубрить курс, придумать какую‑либо хитрость и при ее помощи выдержать экзамен. Таких хитростей имелось в запасе много, и они практиковались особенно в младших ротах. Среди них были всякой системы шпаргалки. Например, писались на ногтях формулы. К целой коллекции резинок, закрепленных внутри рукавов, привязывались бумажки с кратким конспектом самых трудных вопросов и формул. Когда экзаменующийся выходил к доске, он старался вытянуть соответствующую бумажку.
Однако, так как там приходилось писать очень мелко, чтобы как можно больше вместить необходимых данных, то зачастую на доске получалась невероятная путаница, да и сам отвечающий нес несуразную чепуху. А то пускались на следующее: мелки для досок, чтобы не пачкать рук, заворачивались в бумажки, и вот на них‑то старались писать формулы, даты, названия и т. д. Но так как всех формул на такой бумажке не напишешь, то заготовляли запасные. Когда же выходили к доске, как бы случайно роняли мелок, и он, конечно, ломался, тогда просили разрешение сходить за другим, и если разрешали, то новый кусок заворачивали в нужную бумажку.
Самой же выгодной, но зато и рискованной операцией было отмечать билеты. Это или делалось заранее, проникнув в кабинет инспектора классов, где они хранились, что, однако, было опасно и грозило серьезными последствиями, или они отмечались через тех, кто отвечал первыми. Для этого раньше чем отдать билет, проводилась ногтем отметка на его лицевой стороне, и об этом сообщалось тем, кто еще не отвечал. Когда такой билет вторично попадал в пачку, его наверняка вытягивал тот кадет, который об этом уславливался с другими. Таким образом, было меньше риску провалиться.
Обычно разрешалось выходить к доске со своею программой, и благодаря этому являлся большой соблазн на ней поставить какие‑нибудь отметочки, которые могли бы помочь вспомнить, что надо. Но экзаменатор мог близко подойти к доске и это легко заметить, и тогда поставил бы единицу.
Некоторые воспитанники столько тратили времени на обдумывание такого рода хитростей, что, кажется, свободно могли бы за это время выучить весь курс и идти на экзамен без всякого риска. Но так велика была их неуверенность в себе и лень что‑либо учить, что они охотнее решались на эти фокусы, чем сидеть за книжками.
Самым неприятным моментом экзамена было ожидание прихода экзаменаторов и затем – когда они войдут, рассядутся, вынут билеты и начнут совещаться, с кого начинать вызывать. Классные списки у нас составлялись по средним баллам, и по ним же мы сидели на скамейках, причем лучшие на задней, а худшие на передних, поближе к преподавателю. Экзаменаторов было двое – преподаватель и ассистент, и каждый из них ставил отдельно свой балл, а окончательный выводился как средний из них. Если отметка выходила с половинкой, то к ней прибавлялась другая в пользу экзаменующегося, поэтому мы ее называли «казенной половиной».
Если ответишь хорошо, то, конечно, спокоен, что, во всяком случае, не провалился, но если ответ сомнителен, то тут начинались муки неизвестности, так как о результатах экзамена объявляли только в конце. Сидящие против преподавательского столика старались обычно подсмотреть поставленную отметку.
Даже для тех, кто учился очень хорошо, экзамены доставляли много волнений, ибо всегда оставался страх понизить свой годовой балл. Средний балл за все предметы у нас играл большое значение, так как от него зависело в гардемаринских ротах производство в унтер‑офицеры и фельдфебеля. Последних было по числу рот, т. е. шесть, и они носили фуражку с козырьком и офицерскую саблю. В фельдфебеля производились лучшие по учению и поведению старшие гардемарины. Унтер‑офицеров было приблизительно по тридцать человек из старшей и младшей гардемаринских рот. Они носили две и три белых нашивки на погонах и распределялись в помощь дежурным офицерам по всем ротам. Фельдфебеля и унтер‑офицеры пользовались известными льготами, которые главным образом выражались в увольнении среди недели.
Начиная с 1‑й роты, по всем заканчивавшимся предметам происходили экзамены, и окончательные отметки входили в выпускной аттестат, и по ним мы получали старшинство в выпусках. Это старшинство имело то преимущество, что первые десять выбирали сами, в какой флот желают выйти, а остальные тянули жребий.
Закончив экзамены, мы были отпущены до плавания по домам, и те, кто их благополучно выдержал, ехали домой с легким сердцем и таким хорошим настроением, как это редко случается в зрелые годы жизни.
Вообще, отпуска перед плаваниями имели особенную прелесть, так как совпадали с ранней весной, которая даже в Петербурге очень приятна. Нева только что вскрывается ото льда, и на ней начинается жизнь: появляется множество барок, снуют буксиры, финляндские пароходики и ялики. Как хорошо памятны эти финляндские пароходики и их пристани с буфетами, из которых аппетитно пахло кулебякой и жареным! С мальчишками, вертящими контрольное колесо у окошечка кассы и кричавшими протяжным голосом: «Ма‑а‑ашков переулок», «В‑а‑а‑силь‑евский остров», «Фин‑н‑ляндский вокзал» и т. д. Рулевыми, мрачными финнами, исправно ударявшими скулами пароходов о пристани так, что те трещали и качались, и тем не менее флегматично командовавшими: «ход перод», «назад» и «стоп» да изредка ругавшими матросов, точно они были в этом виноваты. Мы любили ездить на этих пароходиках. Так приятно вдыхать свежесть Невы, еще только что освободившейся ото льда, и следить, как нос рассекает ее воды. Интересно наблюдать, как пароходик ныряет под арки мостов, опускает трубы и опять их поднимает.
Хорошо в это время прогуляться по Летнему саду, который, почищенный, с освободившимися от зимних покрышек статуями и с чуть зеленеющими склонами пруда, на которых слабо распускаются крокусы и гиацинты, понемногу приобретает праздничный вид.
Начинались белые ночи, эти особенные ночи, столь талантливо воспетые в бесчисленных стихах и романсах. Ночи, создающие настроение, полное чего‑то неизведанного, хорошего, манящего куда‑то в беспредельную даль, настроение, которое гонит сон, возбуждает нервы и вливает бодрость. Таинственные белые ночи! Никогда не забыть их тем, кто жил в Петербурге. В первых числах мая мы, как обычно, стали собираться в Корпус, чтобы оттуда отправиться в Кронштадт на отряд. Это маленькое путешествие теперь уже лишено было всякой новизны.
Очередную кампанию (1901 г. – Примеч. ред.) выпуску предстояло совершить на старом броненосном фрегате «Князь Пожарский», который недавно зачислили в разряд учебных кораблей. В свое время «Князь Пожарский» был украшением флота, как в смысле вооружения, броневой защиты и хода, так и красоты. В данное же время он утратил всякое боевое значение, но красота осталась. Его артиллерия была настолько архаична, что орудия имели деревянные установки, без подъемного и поворотного механизмов и наводились «ганшпугами». Самой большой являлась носовая 6‑дюймовая пушка, из которой стреляли со всякими предосторожностями и за всю кампанию делали один или два выстрела, чтобы показать кадетам, как стреляет такое сложное сооружение. Когда она заряжалась, всех гнали подальше, а комендор отходил на длину шнура, который предусмотрительно надвязывался. Артиллерийский офицер командовал «пли», комендор дергал шнур, и мы все, стоявшие сзади, с замиранием ждали какого‑то ужасающего грохота. Но часто… ничего не следовало, так как происходила осечка, и только после повторения всей церемонии наконец старушка выпаливала, сильно отскочив назад и иногда соскочив с салазок. Весь бак покрывался густым дымом от черного пороха, так что при отсутствии ветра долго ничего нельзя было разобрать, но зато старик артиллерийский офицер[32] ходил с видом именинника – «что, мол, видели, как выстрелила».
Управление этой исторической артиллерией было вверено старому офицеру корпуса морской артиллерии, который плавал на «Пожарском» чуть ли не с его постройки и, казалось, так свыкся с ним, что убери его – он обязательно помрет. За своими пушками он любовно ухаживал и, наверное, в тайниках своей души считал более полезными, чем современные орудия.
Было на «Пожарском» и еще несколько достопримечательных личностей. Среди них два чиновника, выслужившихся из матросов, – шкипер и артиллерийский содержатель[33]. Еще в давно прошедшие времена такие чиновники получали на флоте прозвище «петухов» и жили в особой кают‑компании, которая соответственно и называлась «петушиной ямой». На «Пожарском» она помещалась под офицерской кают‑компанией и, так как была уже за броневым поясом, не имела бортовых иллюминаторов, и свет попадал через узкий и глубокий, как колодец, световой люк. Конечно, среди нас находились озорники, которые не забывали поддразнивать ее обитателей, крича: «Петухи, хорошо ли вам там», или подражая петушиному «ку‑ка‑ре‑ку». Этих двух чиновников никогда не было видно на палубе, и только по праздничным дням, после обедни, во время торжественного поздравления командиром всего экипажа они вылезали на шканцы и становились на левый фланг офицерского фронта. Причем одевались в очень коротенькие сюртучки и какие‑то удивительной формы треуголки, на которые мы всегда заглядывались и находили, что как они, так и сами их обладатели, поросли мохом.
Находилось на «Пожарском» и еще одно замечательное лицо – это боцман по фамилии Рыба[34]. По происхождению он был цыган и, без сомнения, представлял редкий случай, когда человек его национальности так привык к флоту, что остался на сверхсрочную службу и сделался дельным моряком. Он пользовался большим авторитетом как среди офицеров, так и матросов, а следовательно, и мы прониклись к нему большим уважением. Рыба был огромного роста, плечистый, с красивым, смуглым лицом, выдававшим его происхождение. Всегда спокойный и самоуверенный, он знал корабль вдоль и поперек, кажется, каждый винтик и заклепка были ему знакомы, недаром он проплавал на нем лет тридцать. Никто, кроме него, не мог так быстро управиться с уборкой якоря, чрезвычайно сложной на «Пожарском» благодаря таранообразному носу, огромным, адмиральской системы деревянным штокам и ручному шпилю, на который для выхаживания якоря приходилось ставить чуть ли не всю команду. Рыба помнил, как «Пожарский» ходил еще под парусами и совершал заграничные плавания, и оттого отлично знал сложные парусные маневры, которые теперь уже отходили в вечность[35].
Последней достопримечательностью был старший судовой механик[36], тоже старого закала, сохранившийся с тех пор, когда механики еще только вводились на флот с переходом на паровые суда. Офицеры‑парусники их встречали недружелюбно, как первых вестников исчезновения парусного флота. В довершение к этому, механикам не дали офицерских чинов, и они имели чиновничьи погоны. Кроме того, они были не дворянского сословия, как строевые офицеры, и все это ставило их даже ниже другой «черной кости» на флоте – офицеров корпуса штурманов и корпуса артиллерии. Механиков прозвали «сапогами» и «вельзевулами», и эти прозвища дошли и до нас. Мы сейчас же стали изощряться в этом направлении, спуская на веревке в машинный люк сапог или крича туда: «Вельзевул!»
Старший механик был человек раздражительный, по‑видимому, очень обидчивый, и не любивший строевых офицеров, оттого он болезненно реагировал на наши издевательства, а это только подзадоривало. Его тронковая машина, с горизонтальными цилиндрами, нам казалась таким курьезным сооружением, что мы не могли не подтрунивать над ее ходом. Еще бы, раньше чем начать работать, она забавно скрипела и как‑то особенно пыхтела. Вся кадетская палуба наполнялась паром противного запаха, и мы начинали ругать «вельзевула», «портящего» воздух.
Из числа лиц, назначенных на кампанию, особенно отличался судовой священник[37] – иеромонах, так как тогда на флот назначалось только черное духовенство. Неизвестно, по каким соображениям это делалось: оттого ли, что считалось, что служить на флоте небезопасно, или же места на кораблях были недоходными, или, наконец, оттого что в дальние плавания приходилось уходить на долгие сроки. Наш иеромонах, бывший гусарский вахмистр, по возрасту совсем не старый, был весьма компанейским и веселым человеком. Общество офицеров по старой привычке продолжало его смущать, но зато с кадетами он чувствовал себя превосходно и по вечерам приходил на бак беседовать. Мы живо с ним подружились, но подшучивали над его серостью. На корабль он попал первый раз в жизни и всему удивлялся, но в то же время и интересовался. Как‑то мы в шутку ему предложили пробежаться на саллинг, т. е. влезть по вантам до самой верхушки стеньги. Там имелась площадка для удобства работы во время спуска брам‑рей, брам‑стеньги и постановки парусов, и мы любили на ней сидеть и любоваться открывающимся видом. Каково же было наше удивление, когда батюшка, совершенно не смущаясь, поднял полы своего подрясника и пустился вдогонку за нами, долез до саллинга и благополучно спустился вниз. Должно быть, это был редкий случай, что священник отважился на такое путешествие.
Но, к сожалению, наша дружба не ограничивалась беседами, анекдотами и прогулками, и батюшка, пользовавшийся полной свободой съезда на берег, оказался использованным для провоза на корабль спиртных напитков. На это он охотно пошел, так как сам любил выпить, и в больших карманах его рясы удобно помещались бутылки с ромом и коньяком, совершенно не выдавая своего присутствия. Однако в конце концов это его и погубило. Пока «питие» происходило в будние дни, старший офицер[38] терпел несколько легкомысленный вид «бати», но раз тот не рассчитал и слишком приналег в субботу, перед всенощной. Благодаря этому во время служения немного покачивался и даже раз споткнулся с кадилом о какой‑то предательский обух так, что чуть не упал. Этого уже нельзя было не заметить, и все обратили внимание, а командир[39] на следующий день его пригласил и посоветовал как можно скорее списаться с корабля, что он и не замедлил сделать.
В этом году на «Пожарском» плавал не только весь выпуск, но и те кадеты, которые были еще приняты дополнительно в роту, в числе около шестидесяти человек. Такие дополнительные приемы в 1‑ю роту происходили уже третий год, ввиду необходимости увеличить количество выпускаемых офицеров. Это обычно были молодые люди более солидного возраста, чем мы, и положительнее нас, так как поступали они, окончивши уже сухопутные корпуса, гимназии, реальные училища, и даже имелись такие, которые шли с первого или второго курса университетов. Оттого ли, что они приходили с совершенно иным складом мыслей, или потому, что нарушали нашу сплоченность, но как другие выпуски, так и мы встретили их довольно враждебно, и за ними прочно установилось прозвище «нигилистов». Это прозвище так привилось, что даже они сами, желая иногда указать, что поступили в Корпус не в младшую роту, говорили: «Мы из нигилистов». Но, впрочем, эта вражда была скорее наружной и первые месяцы, потом все привыкли друг к другу, и только изредка вспыхивали ссоры, и старые кадеты устраивали потасовку какому‑нибудь новичку, который по наивности вел себя слишком неуважительно с настоящими кадетами. Или какой‑нибудь бывший студентик, штатский до мозга костей, первое время выглядел так несуразно в форме, что невольно возбуждал против себя насмешки, но и к такому скоро привыкали и даже очень любили впоследствии.
Вообще, как я уже упоминал выше, в Морском корпусе совершенно не было жестоких традиций, как это наблюдалось в некоторых сухопутных корпусах и училищах. С узковоенной точки зрения, может быть, это было скорее недостатком, чем достоинством, так как такие традиции способствуют военному воспитанию, но зато из нас не выходили офицеры с узкими взглядами, которые свысока относились ко всем другим профессиям. Смягчению наших нравов также в значительной степени способствовало и то, что в Морском корпусе уделялось больше внимания наукам, чем в сухопутных училищах.
Батарейная палуба, куда нас втиснули, была довольно вместительной, но 140 человек помещались с трудом. В особенности это чувствовалось ночью, когда приходилось пробираться на вахту, через спящих вповалку и висящих в койках. Хорошо еще, что летнее время давало возможность держать ночью открытыми полупортики, иначе воздуха совершенно не хватало бы.
Много неприятностей доставляла все не налаживавшаяся кормежка, которая так все время и оставалась из рук вон плохой. Как мы ни выражали неудовольствия, как ни меняли артельщиков, но ничего не помогало. По‑видимому, весь секрет заключался в поваре, а его заменить во время плавания было трудно. Но как было не злиться, когда после рангоутных или шлюпочных учений мы, голодные как волки, усаживались за столы и вместо нормальной пищи получали отвратительный суп и полусгоревшие котлеты, которых еще часто и не хватало. Конечно, тут поднималась целая буря негодования, и нам хотелось поколотить всех: и повара, и артельщика, и буфетчика, и ни в чем не повинных дневальных.
Само плавание в эту кампанию было настоящим. Отряд все лето совершал совместные переходы по Финскому заливу и Балтийскому морю, так что удалось повидать и осмотреть целый ряд новых портов: Ревель, Гельсингфорс, Либаву и другие. Эти переходы нас очень занимали и стушевали все неудобства, которые приходилось терпеть в отношении жизни на корабле.
Однажды отряд попал в довольно свежую погоду на переходе между Балтийским портом и Либавой. Качка началась ночью, и мы даже не сразу разобрали, что происходит, и только тогда поняли, когда некоторые почувствовали себя плоховато и утром с трудом вылезали из коек. Я пока еще крепился и чувствовал себя довольно бодро, но когда дело дошло до еды, то, увы, аппетита не оказалось. Впрочем, мы винили «вельзевула», который по обыкновению напустил в палубу мятого (отработанного. – Примеч. ред.) пара, и этот запах смешался с противным запахом горелого машинного масла.
Свободные от вахты почти все время проводили на верхней палубе, на свежем воздухе, где было легче переносить морскую болезнь и делать вид, что чувствуешь себя превосходно. Только немногие никакого престижа соблюдать не могли и валялись на палубе, изредка, выражаясь морским языком, «травя канат до жвака галса».
Качка длилась почти до самого входа в аванпорт порта Императора Александра III, а так как наши суда были чрезвычайно тихоходными, то мы плелись добрые сутки. Что и говорить, это для нас оказалось отличным уроком, и мы получили представление и о неприятных сторонах морской службы. Среди вновь поступивших оказался один, который так испугался укачивания, что, когда отряд пришел в Ревель, воспользовался тем, что его отпустили на берег, и без лишних слов укатил в Петербург. Так как в своей план он решительно никого не посвятил, то начальство очень испугалось и подняло на ноги всю полицию в Ревеле, предполагая, что с ним произошел несчастный случай, и только через несколько дней его родители известили, что он благополучно вернулся к ним.
Большинство кадет из кожи лезло, чтобы показать, что не укачиваются, так как считали это позорным для моряков. Последнее имело и хорошие стороны, так как главное условие при качке – не распускать себя и заняться какой‑нибудь работой, тогда гораздо легче с качкой освоиться. Недаром же опытные боцманы парусного флота, чтобы выучить молодых матросов, безжалостно выгоняли их линьками на верхнюю палубу и заставляли ее скоблить, а то и посылали пробежаться на марс. Несчастные жертвы, боясь не исполнить приказание, лезли по вантам, судорожно цепляясь за них, так как на качке легко сорваться и оказаться за бортом. Благодаря такой операции быстро проходила морская болезнь, и они исцеленными спускались на палубу. Конечно, такой способ надо считать самым радикальным, хотя и несколько жестоким, и никакие лимоны, пилюли и т. д. не могут так основательно помочь. Правда, есть исключительные организмы, которые никогда не привыкают, но этим уже приходится выбирать какую‑либо другую карьеру.
За эту кампанию и наше морское образование значительно продвинулось вперед, и мы не только познакомились с морем, но и изучили довольно основательно различные отрасли морского дела и чувствовали себя совсем моряками.
Я с удовольствием замечал, что все неприятности и неудобства, с которыми пришлось встретиться на первых порах, не только меня не расхолаживают к морской службе, но, наоборот, все более увлекают. На «Пожарском» же было от чего разочароваться – неудобства скученной жизни, чрезвычайно примитивные ее условия, отвратительная еда и впридачу пренеприятные командир и старший офицер.
Оба этих главных лица на корабле были невероятные крикуны и ругатели. Их ругань доходила до виртуозности, когда они входили во вкус. Мы, с непривычки, слушали их с раскрытыми ртами и поражались их изобретательности. Старший офицер был добрый человек и только досаждал тем, что отовсюду нас гонял и постоянно кричал, что мы всем мешаем, хотя казалось бы, что и весь‑то отряд существовал только для кадет и что чем больше мы будем «всюду совать нос», тем большему научимся. Кроме того, была у него еще привычка ловить кадет по корабельным закоулкам, куда мы забирались, чтобы избежать занятий или церковных служб.
Командир же был сухой и педантичный господин, необыкновенно придирчивый, особенно на вахтах. Правда, это приносило нам пользу, но хотя бы он это делал немного спокойнее, а то из‑за всякого пустяка поднимался крик, и так долго шло отчитывание, что решительно не хватало терпения. Но с кадетами он все же стеснялся и не позволял себе прибавлять обидных эпитетов, с матросами же было другое дело, и на них сыпалась отборная ругань, от которой не могло не коробить. Особенно доставалось рулевым, которые, по его мнению, не правили, а «играли на балалайке».
Доставалось также и старшему штурману лейтенанту В. (Вагнеру. – Примеч. ред.)[40]. Это был корпусный офицер, прозванный «шишкой», человек спокойный, но относившийся к своим обязанностям довольно‑таки небрежно. Командир во время походов к нему постоянно приставал с вопросом: «Где наше место?», этим делая намек, что тот должен чаще проверять место корабля. Однажды В. находился в штурманской рубке, а командир ходил по верхнему мостику и, по‑видимому, уж очень извел его своими докучливыми вопросами. На вновь повторенное: «Где наше место?» В. раздраженно крикнул: «В рубке». Командир страшно рассердился, и им пришлось расстаться.
Это плавание также закончилось экзаменами, гонками и возвращением в Кронштадт, откуда мы разъехались в обычный отпуск.
Глава седьмая
В начале сентября (1901 г. – Примеч. ред.) мы опять явились в Корпус, теперь уже будучи кадетами 1‑й роты или младшего специального класса. С этого года время засчитывалось даже в действительную службу и шло на выслугу пенсии. Кроме высшей математики, приходилось приниматься серьезнее за морские науки; учение становилось гораздо интереснее.
Этот год ознаменовался тем, что высшее начальство наконец решило энергично взяться за Корпус и привести его, что называется, «в христианский вид». Это действительно было необходимо, так как все продолжалось увеличение флота современными кораблями, и вставал практический вопрос не только о количестве офицеров, но и о их качестве. Если количество офицерских вакансий во флоте нелегко было заполнить по чисто техническим причинам, то их научная подготовка и воспитание и вовсе требовали каких‑то серьезных мер.
Прежний директор Корпуса вице‑адмирал К. получил строевое назначение в Черное море, а вместо него назначили более молодого – капитана 1‑го ранга Д. (Доможиров. – Примеч. ред.)[41], командира крейсера «Россия». Уже одно то, что он командовал «Россией», тогда одним из самых крупных и современных кораблей, доказывало, что новый директор Корпуса был на хорошем счету и выдающийся офицер. Кроме того, было очень важно, что Д. являлся для Корпуса новым человеком, хорошо знавшим требования, предъявляемые к офицерам на современном флоте, и, следовательно, мог легко заметить, что хромало в нашем образовании и воспитании. Главное же – он должен был внести свежую струю, которой так недоставало.
Все воспитанники страшно заинтересовались этим событием и с беспокойством ждали, в каком виде и в какой мере эта перемена отразится теперь на каждом из них. Новый директор явился в Корпус незадолго до конца учебного года и обошел все роты. В каждой он подолгу беседовал с кадетами и гардемаринами, собирая их вокруг себя. Видно было, что он хотел внушить не страх к себе, а доверие. Нам он сказал, что нужно наибольшее внимание обратить на младшие выпуски, которые еще есть время перевоспитать, старшие же должны сами стремиться исправить свои ошибки, на которые он будет указывать. К такому началу мы отнеслись скептически и недоверчиво, но нас успокоили его простота и гуманность.
Весной еще не произошло никаких коренных перемен, и экзамены закончились обычным порядком: по‑видимому, новый директор присматривался ко всему. Во всяком случае, нельзя было бы сказать, что «новая метла по‑новому метет». Начальником отряда, одновременно с производством в контр‑адмиралы, был назначен он же[42].
Наш выпуск плавал на учебных судах «Генерал‑Адмирал» и «Верный». Моя смена попала на «Верный», чему я был рад, так как на «Генерал‑Адмирале» начальник отряда держал свой флаг, и, следовательно, ожидалось больше стеснений.
И в плавании адмирал старался действовать уговорами и внушениями и для этого часто посещал все суда отряда. Но надо сказать, что это мало действовало и скорее наводило скуку. По‑видимому, мы были уже настолько закоренелыми кадетами прежнего режима, что на нас одних слов было совершенно недостаточно.
Неизвестно, какое впечатление оставалось от этих бесед у самого адмирала, но трудно предположить, чтобы и он видел реальные результаты своей системы. Казалось, что она избрана ошибочно, и нас надо не уговаривать и вразумлять, а просто встряхнуть: заставить исполнять службу, не щадить за плохое учение и поведение и не смотреть как на детей и барчуков, а дать понять, что мы достаточно великовозрастные, чтобы сознавать, что от нас требуется. Кроме того, в воспитатели надо было дать новых, энергичных и выдающихся офицеров с флота.
Словом, и это плавание не слишком отличалось от прежних. Отряд совершал обычные плавания по Финскому заливу и Балтийскому морю, мы несли, как и полагалось, вахты уже более ответственные, чем в прежние плавания, изучали штурманское, минное, артиллерийское и машинное дело, и время проходило спокойно и быстро.
На «Верном» гардемарины устроились удобно: помещение было хорошее, удобное и приспособленное. В эту кампанию и с едой наладилось. Наш командир капитан 2‑го ранга В. (Воеводский. – Примеч. ред.)[43] был полной противоположностью командира «Пожарского» – чрезвычайно вежливый и деликатный. Старший же офицер[44] был настоящий морской волк: коренастый, с большим животом и одутловатыми щеками, между которыми сидел нос картошкой, с красным отливом. Рядом с ним всегда важно выступал пес Шарапка, тоже толстый и некрасивый. Так что мы и самого старшего офицера прозвали «Шарапкой». Пес был замечателен тем, что органически не переносил бегущей ноги, в особенности голой, и когда начинались авралы и матросы неслись к вантам, Шарапка с яростью лаял и пытался броситься вдогонку, но не делал этого, наверное, из боязни хозяина.
Будучи псом, так сказать, офицерским, он относился к команде с явным презрением. Это, впрочем, обычно и наблюдается на кораблях: собаки судовой команды сторонятся офицеров и, наоборот, офицерские псы избегают общения с командой.
У кадет с Шарапкой‑старшим были натянутые отношения, и он положительно находил, что мы вредный элемент на корабле и только то и делаем, что всюду вносим беспорядок и пачкаем верхнюю палубу, которую он держал в образцовой чистоте. Мы предпочитали его избегать и уходили, как только он появлялся. Шарапка‑младший был к нам более милостив, но тоже иногда на нас рычал, когда легкомысленно совершал прогулки без хозяина.
Плавание кончилось, и начался новый учебный год. Теперь мы уже стали младшими гардемаринами. На погоны нам дали якоря, и мы чувствовали себя совсем взрослыми. Средний возраст выпуска был 18–19 лет, и лишь как исключение были 17‑летние.
С начала учебного года сразу же почувствовалось, что начальство подтянулось, стало гораздо строже, и наказание за плохое учение и поведение налагалось много суровее. Директор продолжал свою систему внушения, по‑видимому, и он не собирался впредь особенно нянчиться с нами, и в его голосе уже часто слышались угрозы и решение перейти к суровым мерам.
Однако это недолго продолжалось. Он начал прихварывать и скоро совсем слег. Изредка ему становилось лучше, и он пытался выходить из квартиры, но нам редко показывался. Начальствование над Корпусом перешло к его помощнику по строевой и хозяйственной частям генерал‑майору Д. Старик Д. был корпусным старожилом и добрейшим человеком, которого все уважали. Он состарился в стенах Корпуса и с ног до головы пропитался его духом, и, конечно, не ему было вводить какие‑либо нововведения. Впрочем Д. считал себя только гастролером и лишь добросовестно исполнял свои временные обязанности. Таким образом, новые начинания понемногу свелись на нет. Казалось, старый дух Корпуса не поддавался искоренению, и первый человек, который за это взялся, тяжко заболел. Старые традиции держались крепко, недаром они вырабатывались в течение двух столетий.
День ото дня новому начальнику становилось хуже. Наконец его положение было признано безнадежным, и мы каждый день ожидали кончины. Теперь кадеты его жалели, так как находили, что с ним еще можно было ужиться, а вот кого‑то назначат после него.
Когда разнеслась весть, что адмирал умер, мы притихли. Начались ежедневные панихиды, занятия приостановились. Похороны предполагались торжественные на кладбище Александро‑Невской лавры, и, следовательно, предстояло пройти по главным улицам, через весь город, да еще в сильный мороз и с ружьями. Однако и это представляло свой интерес, так как процессия должна была идти по Невскому проспекту.
Перед выносом тела батальон со знаменем и двумя младшими ротами в хвосте выстроился против главного подъезда Корпуса. Когда из дверей показался гроб, несомый офицерами, оркестр заиграл «Коль славен»… и батальон взял «на караул». Гроб поставили на лафет, и процессия медленно двинулась. Впереди несколько офицеров несли подушки с орденами, на особой колеснице везли венки, далее шли близкие покойного, затем весь Корпус и сзади артиллерия. Путь лежал через Николаевский мост, по набережной, мимо Исаакиевского собора, по Морской и вдоль всего Невского проспекта до Лавры. Погода стояла холодная, солнечная, и мороз для января не так велик – всего восемь градусов по Реомюру.
В окнах Аничкова дворца стоял Государь Император с вдовствующей Императрицей. Вдоль тротуаров скопилась гуляющая публика, привлеченная печальной, но импозантной процессией.
Как ни тяжело было идти в такую даль, с ружьем на плече, перед многочисленной толпой мы держались хорошо и сдали только, когда подходили уже к Лавре.
У ворот кладбища батальон остановился. Стали готовиться к салюту. Когда гроб опускали в могилу, было произведено три залпа. Церемония окончилась, музыка заиграла марш, и батальон стал возвращаться. Обратный путь оказался много труднее, и под конец все с трудом тащились, совершенно измучившись.
Началось ожидание назначения нового директора. Но проходил месяц, другой, и, вопреки всем слухам, старик Д. продолжал директорствовать, и все шло мирно и спокойно. В то же время он продолжал быть нашим батальонным командиром и потому на парадах был верхом. Для него и адъютанта приводились лошади из Офицерской кавалерийской школы, и, хотя выбирались самые спокойные, все же иногда старик переживал тяжелые моменты. Однажды, после репетиции майского парада, когда батальон сходил с Николаевского моста и повернул к Корпусу, лошадь вдруг чего‑то испугалась. Д. от неожиданности не успел справиться, и лошадь понесла. Чтобы не упасть, он схватился за шею и исчез с глаз батальона. Вдогонку неслись солдаты, которые приводили лошадей и всегда, на всякий случай, шли за ними.
Публика, привлеченная зрелищем, останавливалась на всем пути, и городовые пытались схватить лошадь, но безуспешно. Как ни жаль было бедного Д., но получилась такая комичная сцена, что мы не могли не улыбнуться. К счастью, Д. удержался в седле и даже как‑то умудрился направить лошадь во двор Корпуса, так что все кончилось вполне благополучно. Уж такая незадача – морякам ездить верхом!
Но Корпус не мог оставаться без настоящего начальника, и до нас дошел слух, что назначается вице‑адмирал Ч. Он вел эскадру с Дальнего Востока в Кронштадт. Этим, по‑видимому, и объяснялось затянувшееся временное директорство Д. Адмирал Ч. был грозой флота, и его назначили с определенной целью – подтянуть. Он всегда славился суровостью и требовательностью, недаром за ним установилось прозвище «Гришка‑каторжный». Его очень боялись, начиная с матросов и кончая командирами кораблей, так как он никому не давал поблажки и был неумолим. Наш флот особенно нуждался в таком адмирале, но жаль, что он был исключением, и оттого зачастую возбуждал недовольство подчиненных, которые невольно его сравнивали с другими.
Когда кадеты узнали эту новость, то сильно опечалились. И не только мы приуныли, а также и многие наши офицеры, которым от этого назначения тоже не приходилось ожидать ничего хорошего. С этого момента мы все время ожидали известия о прибытии адмирала Ч. (Чухнин. – Примеч. ред.)[45]. Наконец дождались. На другой же день он собирался обойти роты. С вечера началось необыкновенное волнение, и в то же время все живо интересовались увидеть нового директора.
Вице‑адмирал Ч. был выше среднего роста, с бесцветным серым лицом, маленькими глазками, жиденькой бородкой. Всегда мрачный. Говорили, что он не только суровый начальник, но и суровый муж и отец. Да, дождались мы настоящего начальника, который, очевидно, сумеет с нами справиться. Прошли вольготные денечки.
Грозный адмирал спокойно прошел вдоль фронта вытянувшейся в струнку роты, мрачно оглядел нас и монотонным отрывистым голосом обратился приблизительно со следующими словами: «Государь Император назначил меня на пост начальника ввиду важности дела и необходимости Корпус подтянуть. Я уже стар для этой должности и никогда воспитанием молодых людей не занимался, но раз этого пожелал Государь, то я приложу все старания, чтобы оправдать его доверие. Я много слышал о вашей распущенности и сам знаю, какие плохие офицеры выходят из Корпуса, но я сумею настоять на своем и заставить всех подтянуться и исполнять свой долг, а кто этому подчиниться не захочет, тому придется уйти. Плохие офицеры флоту не нужны. Я уже более тридцати лет служу на флоте, и никто еще не осмелился ослушаться моих приказаний, и не допускаю даже мысли, что кто‑нибудь из гардемарин посмеет мне не повиноваться»…
Адмирал говорил сурово, тяжело, отчеканивая каждое слово. Все это производило самое тяжелое впечатление, и мы ясно поняли, что шутить он не собирается и действительно сумеет настоять на своем. Даже на самых легкомысленных первое знакомство с адмиралом произвело большое впечатление, и нас успокаивало только то, что осталось провести в Корпусе еще только один год. Кроме того, мы считали, что не станут же выгонять из Корпуса, потратив на нас столько времени и средств, почти готовых офицеров. На наше счастье, тогда еще гардемарины не принимали присяги, и, следовательно, наибольшим наказанием могло быть исключение из Корпуса, а в противном случае угрожало бы разжалование в матросы.
После этого каждый день начали сыпаться приказы с новыми строгостями и угрозами. В них резко отчитывались провинившиеся кадеты и гардемарины, и нередко попадало и начальству.
Под этим впечатлением строгости и новшества быстро подошло время экзаменов, и наш выпуск стал старшим. Весной, перед уходом в плавание, состоялся выпускной акт. Акты эти происходили при очень торжественной обстановке и начинались с приведения к присяге перед корпусным знаменем. Это был серьезный момент в жизни каждого вновь производимого офицера и приобщал его к офицерской касте.
Молодые мичманы являлись на выпуск в парадной форме, первый раз надетой, упоенные своим великолепием. Для большинства этот день был одним из самых счастливых.
После произнесения присяги все шли в столовую, где молодых офицеров ждали родственники. Затем приходило высшее начальство, и директор вызывал по старшинству средних баллов и выдавал свидетельства. Окончивший первым, с круглым средним баллом двенадцать, попадал на мраморную доску. Доски висели в зале, и мы наизусть знали, кто и в каком году кончил первым. При вручении первому свидетельства оркестр играл туш. После него шли остальные и наконец последний, который, как мы говорили, кончал «с союзом», так как в списке окончивших перед его фамилией ставился союз «и». На беднягу обращалось внимание не меньше, чем на первого, но насколько к первому относились с уважением, настолько к последнему – с добродушной насмешливостью. Во всяком случае, он тоже был героем дня.
После окончания церемонии началось общее поздравление и прощание с начальством, а вечером выпускной обед в каком‑нибудь ресторане.
Нашему выпуску в этом году предстояло плавать половину кампании на крейсере «Адмирал Корнилов» и половину на баржах, для прохождения курса астрономических наблюдений и береговой съемки. Это был первый случай, что в Отряд Морского корпуса включили более или менее современный корабль, и на нем начальник отряда адмирал Ч. поднял свой флаг.
Моя смена первую половину лета плавала на баржах, и эта часть кампании была очень приятной. Две специальные баржи, довольно хорошо приспособленные для жизни, пришвартовывались к острову Лангекоски у Котки. На нем устраивался парусиновый шатер, в котором расставлялись столы и скамейки. Там часть гардемарин делала астрономические вычисления, а на прилегающих скалах измеряла высоты солнца, луны и звезд в искусственные горизонты, при помощи секстантов. В это время другие, забрав планшеты, рейки, мензулы и провизию, уезжали на шлюпках на какой‑нибудь соседний островок производить съемки. Вначале с ними ездил офицер‑руководитель, а когда работа наладилась, начали отпускать одних, задав определенный урок.
На баржах жизнь протекала совсем как на даче. В 7 ч. будили, и многие, прямо с коек, бежали на верхнюю палубу и бросались в воду. Выкупавшись, пили чай, и в 8 с половиной начинались занятия. Если погода стояла дождливая, то ни астрономических наблюдений, ни съемки производить было нельзя, и мы могли заниматься, чем хотели. Все очень любили съемку, которая походила на приятный пикник: исполним урок, а затем приготовляем обед, купаемся, собираем ягоды или грибы. Погода чудная. Скромная финляндская природа, с березками, соснами и елями в такие дни кажется приветливой, и мы с удовольствием растягивались на скалах, покрытых мягким серым мхом. Кругом блестела на солнце гладь моря и летали чайки, а над нами возвышался бледно‑голубой свод неба, с высоко несущимися белыми перистыми облачками. Так хорошо и спокойно становилось на душе, и приятно было отдохнуть после хождения с рейкой и планшетом!
Вообще, начальство строго требовало только выполнения заданных уроков. По вечерам и в праздники мы могли делать что вздумается: кататься на шлюпках, ловить рыбу, гулять и ездить в город. Однако Котка совершенно не изменилась с того времени, как мы бывали в ней в первую нашу кампанию – то же кафе и тот же ресторан и больше ровно ничего привлекательного. Поешь пирожных, посидишь в ресторане и дальше не знаешь, куда деваться, разве что кто‑нибудь засядет за пианино, а другие слушают или танцуют друг с другом. Особенно трудно было найти развлечения по воскресеньям, когда город, и так безжизненный, окончательно вымирал, и тоска брала от одного вида пустынных улиц. Такими скучными могут быть лишь финляндские провинциальные города с их мрачными и замкнутыми жителями.
За нами на баржах присматривали только три офицера. Двое из них были женаты, причем их семьи жили тут же, на дачах, и они каждый вечер ездили к себе. Третий, без семьи, всегда жил с нами. Мы его не любили, так как он проявлял слишком большую любознательность в отношении того, что мы говорим между собою и как в свободные часы проводим время. Для этого прибегал, кроме того, к чисто шпионским приемам. Он подслушивал разговоры незаметно из‑за угла, наблюдал за нами и даже прибегал к содействию дневальных. Для чего проявлялось такое усердие – из любви ли к службе или из желания заслужить особое расположение начальства, мы так и не знали.
Впрочем, нас это мало интересовало, а не нравились главным образом «приемы» Б.[46], и мы принимали «контрмеры». Чувствуя, что он где‑нибудь притаился и подслушивает, мы нарочно отпускали по его адресу самые нелестные эпитеты и угрозы, и ему приходилось все выслушивать. Или обманывали дневального, служившего ему шпионом, рассказывая громко о какой‑нибудь якобы предполагавшейся шалости, и когда Б. приготовлялся «налопать» – никого не находил. В таких случаях он затаивал злобу и затем мстил. Этот тип воспитателей, кажется, встречается всюду, но он самый вредный из всех, несмотря на кажущееся усердие. Воспитание молодежи при помощи шпионажа никогда не может дать хороших результатов и внушает ей презрение. Полтора месяца на баржах прошли быстро, и наша смена стала готовиться к переезду на крейсер «Корнилов», прямо в пасть к грозному адмиралу.
В назначенный день (25 июня 1903 г. – Примеч. ред.), под вечер, на горизонте показались дымки и стали вырисовываться мачты и трубы отряда. Через час он вышел на рейд и встал на якорь. Нам приказали переехать на «Корнилов», а «корниловцам» – на баржи. За короткий промежуток встречи с ними мы успели обменяться впечатлениями о проведенной части кампании. То, что удалось узнать о порядках на «Корнилове», всех испугало. Предстояли неприятности. На «Корнилове» мы быстро устроились, осмотрелись и принялись за занятия и несение вахты.
При этом самым неприятным было исполнять обязанности «вахтенного», которого посылали с докладами к адмиралу, командиру[47] и старшему офицеру[48]. С трепетом, бывало, подходишь к двери в адмиральский салон и слегка стучишь. От волнения иногда не расслышишь ответа и повторяешь стук, тогда раздается сердитый и раздраженный голос адмирала: «Что же вы не входите, сколько раз надо отвечать». Входишь в салон и в первый момент ищешь глазами, где находится адмирал, а он уже грозно и вопросительно осматривает вошедшего своим сверлящим взглядом. Становится совсем жутко, и даже язык начинает заплетаться, и того и гляди вместо: «ваше превосходительство», скажешь: «ваше высокоблагородие», или доложишь так неясно, что адмирал заставит пойти переспросить вахтенного начальника, а тот, конечно, тоже будет недоволен. Вообще, при этих докладах выходило много трагикомических сцен, которые мы потом со смехом вспоминали.
Уж очень большой страх нагонял адмирал, и этот страх усиливался главным образом теми рассказами, которые о нем ходили. Во всяком случае, если доклад сходил благополучно, то вылезаешь по трапу с облегченной душой, точно гора с плеч, а ведь и доклад‑то бывал в большинстве случаев самым пустяковым, вроде: «Ваше превосходительство, с моря идет учебное судно “Верный” и показывает свои позывные» или: «Ваше превосходительство, без двух минут подъем флага», а то и просто: «Ваше превосходительство, командир учебного судна “Князь Пожарский” едет» и т. п.
Также много волнения доставляло стояние на вахте «при вахтенном начальнике», когда нам самим приходилось командовать. Наиболее сложными вахтами были те, на которых спускали и поднимали флаг, тем более что это почти всегда происходило «с церемонией», и, следовательно, соответствующие команды отдавались при фронте офицеров, гардемарин и команды. И странное дело, за редким исключением, у большинства как то всегда случалось, что или голос сорвется, или глупейшим образом перепутаются командные слова, несмотря на всю их несложность. Но особенно мы путались с принятием рапорта от караульного начальника и передачей его старшему офицеру.
Также нередко чревато последствиями было несение обязанностей караульного начальника в судовом карауле. Он вызывался «наверх» при спуске и подъеме флага и при приезде на корабль адмиралов и командиров судов 1‑го и 2‑го рангов для отдачи им почестей. На флагманском корабле такие приезды были часты, так что приходилось весь день сидеть, так сказать, на «товсь», и как только заслышится дудка: «караул наверх, четверо фалрепных на правую», лететь сломя голову по трапу, чтобы не опоздать его встретить.
В не менее напряженном состоянии находились и офицеры, не исключая и командиров, ожидая всяких напастей. Командирам, пожалуй, приходилось хуже, чем другим, так как они отвечали за всех, и часто на «Корнилове» поднимался сигнал: «Адмирал приглашает командира такого‑то корабля». Когда адмирал был особенно раздражен, он ждал их на верхней палубе, и даже пока они шли по трапу, слышались уже его сердитые вопросы. Иногда объяснения доходили до криков и угроз, иллюстрируемых весьма нелестными эпитетами. И ничего не поделаешь, приходилось все выслушивать и капитанам 1‑го ранга, убеленным сединами.
Хуже всего было, когда адмиралу приходила охота устраивать общие парусные учения или совместное маневрирование всех судов отряда. Тогда обязательно что‑либо не ладилось и от недостатка практики и просто от сознания, что сам адмирал зорко за всеми следит в свой одноглазый бинокль с кормового мостика «Корнилова». Обычно во время таких учений то тому, то другому кораблю поднимались сигналы с выговором, и все очень удивлялись, если учение проходило без этого.
Но под влиянием строгости адмирала весь отряд сильно подтянулся, и даже кадеты и гардемарины старались вести себя так, чтобы не подводить своего корабля под гнев начальника отряда.
Как‑то раз на одном корабле, зная, что предстоит общее парусное учение, кадеты решили незаметно забраться на марс, чтобы, когда начнется аврал, быть уже на местах. Забрались они туда, воспользовавшись тем, что вахтенный начальник был чем‑то занят и этого не заметил. С палубы своего корабля их не видели, так как этому мешала площадка марса. Кадеты нетерпеливо ждали сигнала о начале учения, и вдруг взвился сигнал с позывными этого корабля. Разобрали, и оказалось, что он означает: «Отчего у вас на марсе находятся люди?» Вышел командир, старший офицер, все смотрят наверх, спрашивают вахтенного начальника и остаются в полной уверенности, что в сигнал вкралась какая‑нибудь ошибка. А адмирал в это время все следит за кадетами на марсе и видит, что они продолжают там оставаться. И поднимается сигнал: «Убрать людей с марса». Злополучных кадет нашли, но не успели еще пробрать как следует, как на «Корнилове» появился новый сигнал: «Прислать адмиралу тех, которые были на марсе».
Бедных «преступников» посадили на паровой катер и с корпусным офицером отправили к начальнику отряда. Тот на них долго кричал, топал ногами, засадил под арест и обещал лишить отпуска после плавания. Попало и бедному офицеру. Учение тогда все же состоялось.
Много нам также доставалось, когда во время шлюпочных учений приказывалось резать корму адмиральскому кораблю. А то и того хуже – приставать под парусами к трапу. При этом сам адмирал наблюдал за учением. Тут выговоры сыпались, как из рога изобилия, и нередко не столько от неумения, сколько от страха, мы перед адмиралом врезались в трап и ломали бушприты и мачты шлюпок. Но в конце концов все же научились прилично управлять под парусами.
На рангоутных кораблях перед спуском флага опускались брам‑реи и брам‑стеньги, а перед подъемом – поднимались. Это делалось на случай, если ночью засвежеет ветер, чтобы мачты не представляли слишком большой площади парусности и корабль не стал бы дрейфовать. Этот маневр сохранился и до наших дней на отряде и проделывался каждый вечер и утро. Благодаря частому повторению и тому, что он происходил одновременно на всех кораблях, команды достигали большой виртуозности и стремились перещеголять друг друга в быстроте выполнения.
Нормально весь маневр занимал 2–3 минуты, но достаточно было какой‑либо снасти заесть или кому‑либо из матросов зазеваться, как сейчас же происходила задержка. При этом иногда в пылу увлечения происходили несчастные случаи, и у тех, кто стоял на саллинге у марса‑фалов, затягивало палец в блок и обрывало. Но так уж велик дух спорта, что, несмотря на это, аврал продолжался без задержки, а несчастную жертву по окончании маневра спускали на палубу и делали перевязку[49].
Адмирал Ч. также строго следил за исполнением этих маневров, и не дай Бог, если на одном из кораблей что‑либо не ладилось: сейчас же выговор и требование повторить. В распоряжение кадет давалась бизань‑мачта, как наиболее короткая, а следовательно, с более легкими парусами, реями и стеньгами. И хотя нам нелегко было тягаться с матросами на фок и грот‑мачтах в быстроте и чистоте работы, мы все же пытались не отставать и к концу кампании почти сравнялись с ними.
Спуск и подъем брам‑реи и брам‑стеньги, вместе со спуском и подъемом флага, был очень красивой церемонией на парусном флоте, на судах же без рангоутов она уже не производила такого впечатления. За пять минут до захода солнца взвивался условный сигнал, и вдруг видно, как по канатам всех кораблей начинают быстро бежать человеческие фигурки. Достигнув своих мест, они останавливаются и ждут. Раздаются команды старших офицеров, и брам‑реи всех мачт как одна поворачиваются и спускаются вниз. Вторая команда – и фигурки бегут вниз. В это время солнце достигает горизонта. Одновременно на всех судах начинают медленно спускать кормовые флаги и гюйсы под звуки горнов, барабанов и оркестра. Оркестр исполняет «Боже царя храни…» и «Коль славен…». На всех кораблях полная тишина, офицеры и команды стоят во фронте со снятыми фуражками. Захватывающие и величественные звуки дивного гимна разносятся по всему рейду, а на горизонте видны последние лучи зашедшего солнца. Зажигаются якорные огни… Отряд засыпает…
После многих волнений наконец плавание подошло к концу, и начались поверочные испытания и гонки. Адмирал не только присутствовал на экзаменах, но часто сам же и экзаменовал. Надо правду сказать, не у многих хватало храбрости толково отвечать. В свою очередь, робкие ответы убеждали адмирала в слабой подготовленности кадет и гардемарин, и он все больше приходил к выводу, что если суровое отношение к нам не будет усилено, из нас выйдут плохие офицеры. Было много провалившихся, их заставляли пересдавать, и тех, кто и вторично проваливался, оставляли без отпуска после окончания кампании.
Глава восьмая
Немного отдохнув в отпуске, мы начали наш последний учебный год (1903–1904 гг. – Примеч. ред.), так как уже в мае следующего года должны были стать офицерами. Приходилось терпеть за грехи прежних лет еще девять месяцев гнет адмирала Ч., которого, наверное, никогда бы не назначили директором Корпуса, если бы этих грехов не было.
Новый учебный год начался, как мы и ожидали, беспощадным преследованием за плохое учение и поведение. Все получившие дурные баллы за неделю, т. е. при двенадцатибалльной системе четыре и ниже, или замеченные в каких‑либо проступках в субботу, после завтрака, приводились в картинную галерею. Когда фронт выстраивался, дежурный по Корпусу ротный командир докладывал начальнику, и тот обходил проштрафившихся кадет и гардемарин, выслушивал доклады о вине каждого. Далее шло их отчитывание и утверждение или изменение наложенного взыскания, конечно, всегда в сторону увеличения. Эти «парады» действовали на нас больше, чем аресты и сидение без отпуска, и мы их боялись как огня. Впрочем, они не менее неприятны были и ротным командирам, так как им тоже приходилось нередко выслушивать по своему адресу не очень лестные замечания.
Адмирал сильно невзлюбил нашу роту и относился к нам особенно строго. Объяснял он это тем, что мы старшие и до производства осталось всего несколько месяцев, за которые нас надо еще многому научить. Но между нами имелось несколько забубенных головушек, которые никак не могли себя взять в руки и проникнуться сознанием, что с адмиралом шутки плохи. Таким приходилось половину времени проводить под арестом и без отпуска. Двое даже ходили не то что без якорей, а даже без погон, что уже считалось самым тяжелым наказанием и означало лишение гардемаринского звания. Адмирал их предупредил, что пока они не заслужат погон и якорей, до тех пор не будут произведены в мичманы.
Наш ротный командир полковник М. (Мешков. – Примеч. ред.)[50], обладавший, несмотря на огромный рост и могучее телосложение, мягким характером и слабой волей, сильно побаивался адмирала. Впрочем, мало кто из корпусных офицеров не боялся Ч. У нас и разыгрался крупный скандал.
Дежурных офицеров в старшей гардемаринской роте не полагалось, и за ней присматривал офицер соседней младшей гардемаринской роты. Нам оказывалось некоторое доверие, и мы им гордились, но не всегда его оправдывали, и изредка в роте устраивались пирушки и карточная игра. Правда, и то и другое случалось и в других ротах, но под большим риском и оттого реже. Для игры в карты и попоек избирались укромные уголки спален, которые слабо освещались электрическими лампочками под темными колпаками. Чтобы не попасться внезапно в руки начальства, на «махалку» становились по очереди сами участники предприятия. По первой тревоге карты, вино и закуски быстро исчезали, а сами игроки и просто пирующие оказывались в разных концах спальни, под кроватями, или благополучно выбирались в помещение роты и с невинным видом засаживались за книжки. Конечно, бывали случаи, что эти затеи и не так легко сходили с рук, и по оплошности «махальных» начальство внезапно появлялось в спальне. Тогда все вещественные доказательства преступления бросались на месте, и веселящиеся господа спасались «по способностям», а некоторые попадались в руки правосудия. Но, правда, ни картами, ни вином у нас не злоупотребляли, и большинство этим и вовсе не грешили.
Под влиянием всех строгостей, идущих со стороны директора, один из дежурных офицеров младшей гардемаринской роты В., вопреки установившемуся обычаю – старших гардемарин оставлять в покое в их помещении, стал все чаще и чаще к нам наведываться и придирался ко всяким мелким непорядкам, которые прежде всегда терпелись. Это нас все больше обижало, так как в этом усматривали, что В. учел нелюбовь к нам начальника и хочет нас подводить еще больше под его гнев.
Когда однажды В. спустился к нам в роту и стал кому‑то делать замечание, кругом поднялся страшный крик, все повскакали со стульев, обступили его и чуть не вытолкали из помещения роты. Во всяком случае, он, увидя такое возбуждение, счел более благоразумным сделать вид, что ничего особенного не заметил, и ушел к себе. Но в то же время это ему не помешало сейчас же подать пространный рапорт о происшедшем и все представить в достаточно ярком освещении, так что ротному командиру пришлось устроить разбирательство и о происшедшем донести директору. Однако мы категорически заявили, что зачинщиков нет и все одинаково виноваты. Да это и было правильно, так как скандал возник внезапно, без какого‑либо приготовления, под влиянием общего негодования.
Ротный командир доложил обо всем адмиралу, и тот совершенно логично решил: раз виноваты все, пусть вся рота и сидит без отпуска. Такое решение нельзя было не признать справедливым, но нам оно не понравилось. Впрочем, с этим не считались, и в субботу, когда все другие роты ушли в отпуск, старшие гардемарины остались в Корпусе. Это особенно неприятно поразило тех, которые были отличного поведения и учения и никогда без отпуска еще не оставались. Положение к тому же ухудшилось тем, что адмирал прибавил, что мы будем лишены отпуска до тех пор, пока все же виноватые не найдутся. Следовательно, в перспективе предстояло долгое сидение, так как никого выдавать мы не собирались из чувства солидарности.
Сначала все надеялись, что все же вечером нас отпустят по домам, так как лишение отпуска всей роты отражалось на корпусном бюджете, ибо приходилось субботу и воскресенье кормить на сто человек больше обычного. Но на это расчет оказался напрасен, и уже дело шло к обеду, а нас никто и не собирался отпускать. Убедившись, что решение адмирала непреклонно, мы начали волноваться, и нервное настроение начало быстро расти. Многие стали изобретать способы, как бы выйти из создавшегося положения, но, разумеется, отнюдь не ценой выдачи кого‑либо.
Когда ротный командир узнал, что мы проявляем признаки волнения, он пришел в роту и вместо того, чтобы прикрикнуть и припугнуть, принялся успокаивать и упрашивать не делать шума. Эти уговоры подействовали как раз обратно, и мы в них усмотрели слабость начальства и его боязнь нового скандала. Как только он ушел, у нас появился новый задор, и после доброго часа обсуждения «создавшегося положения», долгих криков и спора мы решили просить самого начальника прийти в роту для объяснения.
Передать это приглашение, по нашему мнению, должен был ротный командир. Послали за ним. Как ни старался М. от этой миссии уклониться, но, чтобы успокоить нас, все же должен был согласиться и пошел к директору. Рота так обнаглела, что угрожала в случае, если он не пойдет, сделать это самим. Как и надо было ожидать, адмирал накричал на М. и приказал передать, что если гардемарины не успокоятся, им будет еще хуже. М. это передал нам и посоветовал лечь спать, после чего ушел домой.
Этот ответ нас не удовлетворил, и мы уже были так взвинчены, что недолго думая решили угрозу привести в исполнение, и почти вся рота побежала к парадной лестнице, с которой был ход в квартиру директора. Дежурный офицер младшей гардемаринской роты, который тоже все время нас успокаивал, впал в полную панику и решительно не знал, что ему предпринять, так как понимал, что дело действительно становится серьезным.
Прибежав в швейцарскую, мы увидели, что дверь заперта, и начали звонить, испуганный швейцар, выскочив, сказал, что «его превосходительство изволили уехать». Такого случая никто не ожидал, и он нас сразу отрезвил. Весь пыл пропал, и мы поняли, что зашли слишком далеко и вся история для многих может, конечно, кончиться печально. Еще слава Богу, что адмирал уехал, а то он, конечно, нас бы не принял, а мы, пожалуй, вломились бы насильно к нему, и тогда вышел бы полный скандал.
Вернувшись в роту, после перенесенного волнения все быстро улеглись по койкам в ожидании развязки нашего «выступления». Вся история на следующее же утро была доложена ротным командиром начальнику, и он пришел в ярость. Теперь уж он сам сказал, что придет в роту, но только в понедельник, а воскресенье мы должны просидеть в Корпусе.
В понедельник, в назначенный час, роту выстроили во фронт. У всех были лица довольно вытянутые. Пришел адмирал. Не поздоровавшись, мрачный, спокойный и грозный, прошел вдоль фронта, сверля нас бесцветными глазами, и начал говорить.
Он сказал, что, очевидно, старшие гардемарины забыли, что они военные люди, и то, что они собирались сделать, называется бунтом. Матросов за это стали бы расстреливать, да и нам бы не поздоровилось, если бы мы уже приняли присягу. Теперь же он не собирается производить следствие и искать виновных, а приказывает отсчитать каждого десятого по фронту, и они будут немедленно исключены из Корпуса. Впрочем, если среди отсчитанных окажутся невиновные и действительно виновные не захотят прятаться за их спины, то они могут заменить первых.
Адмирал говорил отрывисто, отчеканивая каждое слово, точно нанося удар, и мы не на шутку струсили. До этого момента все как‑то надеялись, что дело кончится не так печально.
Ротный командир отсчитал каждого десятого, и их оказалось десять человек. Злополучных жертв переписали, и адмирал, не попрощавшись, ушел. «Десятые» стояли бледные и растерянные, но и все другие чувствовали себя подавленными. И неудивительно, ведь из‑за ничтожного случая разыгрался крупный скандал, и у десяти молодых людей накануне выхода на определенный жизненный путь все летело вверх ногами, и будущая жизнь ломалась. Кроме того, как назло, все десять оказались совершенно невиновными в инициативе происшествия, а главный зачинщик X. и еще несколько человек, которые подали мысль идти к директору и ее энергично защищали, в это число не попали.
Х. был способным гардемарином, отлично учившимся и хорошего поведения, но он особого призвания к флоту не чувствовал, так что для него неожиданное изменение карьеры не было бы большой драмой. Как только нас распустили, он сам сказал, что не может допустить, чтобы за него страдали совершенно невинные товарищи, и потому немедленно доложит ротному командиру. Когда это услыхали другие зачинщики, то, ни секунды не колеблясь, заявили то же самое, и все пошли к полковнику М., а он доложил директору.
Для окончательного решения по этому делу адмирал собрал особую конференцию из старших корпусных офицеров, которые не решились, однако, высказаться за увольнение сразу десяти старших гардемарин: ведь на нас было потрачено почти шесть лет и немало средств, в данный же момент флот особенно нуждался в офицерах. Таким образом, основываясь на том, что виновные сами сознались, конференция нашла возможным смягчить наказание и решила: исключить только одного, главного зачинщика; четырех, которые и так находились на плохом счету, лишили погон и отставили на четыре месяца от производства, а остальных засадили на семь суток под арест и лишили на долгий срок отпуска. Начальник это постановление утвердил и с остальной роты снял наказание; в положенные дни нас опять начали отпускать в город. Так закончилась история, которая в значительной степени сократила нашу распущенность.
Результаты строгих мер все больше и больше сказывались, и Корпус сильно подтянулся, но адмирал или считал себя временно на этом посту, или воспитание понимал по‑своему, но не предпринимал никаких реформ по существу. Он все продолжал издавать громоносные приказы, которые читались перед ротами и, по правде сказать, ужасно надоедали. В своих приказах адмирал учил, как мы должны себя вести. Наставления кончались неизменно угрозами. Часто доставалось и начальству, не забывались даже и родители, которым тоже давались полезные советы, как надо воспитывать детей, чтобы из них выходили молодые люди, покорные воле начальства.
За повседневными заботами время шло быстро. Скоро настало и 6 ноября, и наш выпуск должен был устраивать свой последний бал. Нам хотелось, чтобы он вышел как можно лучше, а для этого было необходимо добыть дополнительные средства, так как отпускаемых не хватало. Единственным выходом являлось собрать деньги с каждого старшего гардемарина, что и делалось обычно, но адмирал Ч. заявил, что он не допускает никаких частных сборов. Мы немного поколебались и решили все же тайно собрать по десяти рублей с человека. Эта сумма для многих была довольно высокой, и кто не мог бы ее выплатить, с того и не требовали, но большинство все же внесли. Кроме того, собрали еще и с других рот, и вышло более тысячи рублей, что уже хватало, чтобы устроить все очень хорошо.
Благодаря этим деньгам удалось красиво декорировать помещения и улучшить буфеты. Адмирал не узнал о сборах, а начальство сделало вид, что не знает, и все сошло благополучно. Бал удался на славу и выделялся из ряда предшествующих, нам же и подавно казался веселее и более блестящим, чем в прежние годы, недаром мы были на нем вроде хозяев. В последний раз наш выпуск отпраздновал корпусный праздник в роли воспитанников: прошли церемониальным маршем, пообедали и потанцевали. Это было как бы первым напоминанием, что мы скоро покидаем Корпус.
Выпускные экзамены начинались в самом конце февраля, и, следовательно, учиться оставалось не так много, приходилось серьезно приналечь на занятия, чтобы, по возможности, иметь в резерве баллы за год.
Перед Рождеством по вечерам в роту стали появляться вестники приближающегося выпуска: агенты разных военных портных, сапожников и магазинов офицерских вещей. Они приносили образцы обмундирования, сабель, кортиков, треуголок, фуражек и других принадлежностей. Все это раскладывалось по конторкам, и мы с увлечением рассматривали каждую вещь и очень всем интересовались. Эти господа, среди которых немало было евреев, распинались за свой товар и убеждали делать заказы.
Особенно памятен еврей Итиксон, умевший очень ловко уговаривать, причем он соблазнял тем, что предлагал немедленно сделать брюки, которые можно носить еще будучи гардемарином. Но мало того, что портные были готовы отпускать товар в кредит, они даже ссужали деньгами, с тем что долг припишут к счету за обмундирование, по которому придется платить родителям. По‑видимому, шить на выпускных гардемарин было выгодным делом, потому что фирмы между собою сильно конкурировали и нас всячески заманивали, что им, конечно, легко и удавалось.
В этот период гардемарины были не лучше барышень, увлекающихся модами, и вели нескончаемые разговоры: что и где надо заказывать и покупать и что и как носить. Всех особенно интересовал мундир, и мы считали, что он обязательно должен быть «в обтяжку» и иметь высокий воротник, чтобы поместилось много шитья. Мы совершенно забывали, что мундир употреблялся только на торжествах служебного характера, и оттого часто страдали от этих высоких воротников и узких талий на длинных церковных службах, парадах и смотрах. Та же история была с саблями и кортиками: все находили, что красиво иметь длинные и тяжелые кортики и сабли, что‑то вроде средневековых мечей. Длинные же кортики под пальто мешали ходить и оттягивали портупею, а тяжелая сабля при обнажении утомляла руку. Но практические соображения в ту пору нас мало занимали, и главным являлось, чтобы все соответствовало нашим понятиям о красоте.
В старшей гардемаринской роте была традиция: перед самыми экзаменами устраивать «похороны альманаха».
Альманахом называлась толстая английская справочная книга, в которой помещались данные, необходимые при морских астрономических вычислениях, и она была чрезвычайно важным справочником для кораблей, плавающих в океанах и дальних морях. Отчего повелась такая традиция и отчего объектом «похорон» стал именно альманах – не знаю. Впрочем, наверное, оттого что при решении астрономических задач он был необходим и потому от частого употребления очень надоедал.
«Похороны» обставлялись весьма торжественно. За несколько дней начинали выпускаться бюллетени, гласящие, что альманах сильно заболел, здоровье его ухудшается, врачи находят положение безнадежное, и наконец он умирал. Конечно, в заранее назначенный срок. Дальнейшая церемония уже, до известной степени, была кощунственной, так как служились панихиды, шло отпевание и наконец происходило погребение: альманах тащился в курилку и сжигался в камине. Для исполнения церемонии выбирались все необходимые лица: священник, дьякон, певчие, могильщики и т. д., среди провожающих можно было видеть загримированных: директором, ротными командирами, преподавателями‑астрономами и другими офицерами. За катафалком, который несли несколько человек в черном, тянулись рыдающие близкие.
В курилке говорились надгробные речи и, конечно, вышучивалось начальство. Надо отдать справедливость, эти речи часто бывали остроумны и смешны. После этого начинались поминки, заканчивавшиеся изрядным пьянством, в котором принимала участие вся рота. Кончались они иногда и скандалами, но начальство смотрело на это сквозь пальцы, и если все происходило без особого шума, то оно не мешало. Да это и было самым мудрым, так как все равно запрещение устраивать похороны влекло за собой устройство их с большими предосторожностями и только разжигало общий интерес. Но в результате получалось уже определенное нарушение приказания и необходимость наложений серьезных взысканий накануне самого производства.
Наш выпуск не хотел отставать от других, и уже перед Рождеством началось обсуждение вопроса о «похоронах», так как при командовании адмирала Ч. всякое выполнение «корпусной традиции» приобретало особое значение. Для нашего выпуска это было особенно опасно, потому что несколько выпускных гардемарин и так висело на волоске, и, попадись они в новом скандале, не миновать им исключения из Корпуса. Но все же большинство стояло за устройство «похорон альманаха» и надеялись, что и начальство отнесется снисходительно.
Глава девятая
Рождественские праздники в отпуске прошли весело. Для многих они были последними в кругу родных. Неизвестно, куда и на какой срок забросит судьба в будущем году. Некоторые, очевидно, попадут на эскадру Тихого океана, а это разлука не меньше, чем на три года.
Когда мы явились в Корпус после Нового года, то все были настроены серьезно и старались усердно учиться: экзамены все приближались.
Газеты хотя до нас и доходили, но политикой мы интересовались мало и оттого не замечали, как сгущаются тучи на Дальнем Востоке и уже носятся призраки приближающейся войны. Однако в двадцатых числах января угроза войны стала столь ощутимой, что разговоры о ней в обществе захватили и нас. Мы начали усердно следить за событиями на Дальнем Востоке, но как‑то мало верили, что война действительно может вспыхнуть.
Вдруг 27 января пришли телеграммы из Порт‑Артура о нападении японских миноносцев на нашу эскадру еще до официального объявления войны. Мы все страшно взволновались и сразу бросили учение. Стало ясно, что война началась. В тот же вечер нам объявили, что на следующий день Корпус посетит Государь Император.
Мы ломали голову, строя всякие предположения и желая объяснить, чем вызвано это посещение. Но меньше всего думали, что Государь может нас произвести в офицеры.
Ночь накануне 28 января мы провели тревожно и, увлекшись обсуждением происходящего, заснули только под утро. Поздно вечером в этот день из отпуска вернулся один гардемарин, который виделся с кем‑то из чинов Главного Морского штаба, и от него узнали, что Государь Император завтра нас произведет в офицеры. Но и к этому известию все отнеслись с большим недоверием. Мы считали еще возможным, что раньше обычного назначат экзамены и этим ускорят выпуск, но никак не могли себе представить, что уже завтра мы можем оказаться офицерами.
Наконец наступил и памятный день для каждого из нас, день 28 января 1904 года. Все занятия были отменены, и мы готовились к встрече Государя. Обычно это сопровождалось переодеванием в голланки и брюки так называемого первого срока, то есть совершенно новые, которые нам должны были быть выданы для ношения в следующем году. По коридорам расстилался красный ковер, и главный швейцар надевал парадную красную ливрею. Помещения еще тщательнее прибирались, хотя надо отдать справедливость, что все содержалось и так настолько чисто, что если бы Государь приехал невзначай, он, наверное, остался бы доволен.
Соответственно и офицеры, преподаватели и низший служебный персонал надевали все новое. Все эти приготовления делались не для того, чтобы ввести в заблуждение высокого гостя, а только по случаю его посещения. Мы это отлично понимали, и сами строго следили, чтобы все было в полном порядке.
Не знаю, как начальство устраивало, чтобы заблаговременно знать о приближении царских саней или кареты, но кем‑то и как‑то об этом вовремя сообщалось, и по всему Корпусу раздавались тревожные звонки. Если Государь приказывал нас не отрывать от уроков, то мы продолжали оставаться в классах до тех пор, пока он обойдет их. Иногда нас собирали по ротам. В классах Государь всегда расспрашивал преподавателей о наших успехах и, если кто‑либо отвечал, некоторое время слушал его. Некоторых он сам спрашивал о занятиях и жизни в Корпусе, и мы после этих смотров всегда бывали в полном восторге и от приветливости Государя, и от внешнего его облика, и, вообще, от чего‑то такого, чего и сами не могли толком объяснить.
На этот раз все было несколько иначе, и приезд заранее был точно назначен в 2 часа дня. К этому времени гардемарины и кадеты, а также начальство были собраны в столовой. Мы, старшие гардемарины, очень нервничали в ожидании прибытия Государя, так как были убеждены: то, что он скажет, должно коснуться главным образом нас, но начальство продолжало хранить молчание. Наконец по телефону из Зимнего дворца дали знать, что Государь с Государыней выехали. Через четверть часа раздался предупредительный звонок, который означал, что Их Величества подъезжают к Корпусу.
Все замерли. Раздалась команда: «Смирно, г‑да офицеры», и в дверях появились Государь, Государыня и дежурный флигель‑адъютант Великий Князь Кирилл Владимирович. За ними следовали: директор Корпуса, управляющий Морским министерством, начальник Главного Морского штаба и ряд других начальствующих лиц.
Государь вышел на середину фронта и поздоровался со всеми. Это мы еще сознавали и понимали. Но с того момента, как он приказал старшим гардемаринам выйти вперед и приблизиться к нему, все последующие события ощущались и переживались, как во сне.
Его теплые и приветливые слова, обращенные к нам, поздравление с производством в офицеры и затем неистовый восторг, охвативший нас, – все это слилось в одно неизгладимое ощущение. Нас с трудом удержали во фронте, чтобы дать возможность Государю попрощаться. Но когда он и Государыня повернулись, чтобы направиться к выходу, то мы не выдержали и бросились за ними. Часть побежала через музей, а другие через картинную галерею, чтобы скорее попасть в швейцарскую и там встретить Их Величества. За ними бросились и младшие роты, которых тоже не успели сдержать дежурные офицеры.
В швейцарской мы обступили Государя и Государыню и стали умолять всех нас сейчас же отправить в Порт‑Артур на эскадру. На это Государь возразил, что кто же тогда будет служить на кораблях в Балтийском и Черном морях. Но все же, так как по положению десять первых могли выбирать вакансии сами, то Государь разрешил отправить их в Порт‑Артур. Остальные были разочарованы, но понимали, что иначе и быть не может. Затем мы стали упрашивать Их Величества дать нам что‑нибудь на память, и, не удержи нас окружающее начальство, мы готовы были разорвать шубу Государыни и пальто Государя. Все же царские пуговицы, носовые платки и перчатки исчезли в одну секунду, разодранные на куски.
Наконец Их Величества оделись и, еще раз попрощавшись со всеми, стали выходить. Мы бросились за ними и облепили карету. Несколько человек взобрались даже наверх и к кучеру на козлы, но их оттуда согнали. Мороз был около 10 градусов, а мы выскочили без фуражек и в одних голланках. Однако это нам не помешало, когда карета тронулась, с криками «ура» броситься за нею. Как начальство ни останавливало, но порыв был так велик, что, казалось, и сам Государь не мог бы воспрепятствовать бежать за ним. И мы неслись все дальше и дальше, не отдавая себе ясного отчета, куда. Около Николаевского моста уже стали уставать, но и не думали прекращать проводы. Когда же Государь остановил карету и взял к себе ближайших, испугавшись, что они могут простудиться, то остальные гардемарины бросились на извозчиков, а некоторых взяли лица свиты.
Так мы и продолжали сопровождать царскую карету и все время кричали «ура». Публика в удивлении останавливалась, но, поняв, в чем дело, тоже кричала и снимала шапки. Вид получался совершенно необычайный, и, наверное, полиция была очень смущена и не знала, что и предпринять.
Наконец царская карета остановилась у подъезда Зимнего дворца на набережной, а за ней подкатили и наши извозчики. Их Величества, видя нас, стали ласково упрекать за то, что мы по морозу, без всякой верхней одежды, совершили это путешествие, и приказали в таком виде назад не возвращаться. В ожидании же присылки наших шинелей из Корпуса Государь велел войти во дворец и отдал распоряжение, чтобы нас напоили горячим чаем и вином. Мы страшно обрадовались и скромно вошли во дворец. Потом нас провели в какое‑то помещение и скоро подали чай и вино. Вскоре доставили шинели, и мы отправились восвояси.
В Корпусе нас ожидал ротный командир и другие офицеры, чтобы поздравить. Мы начали быстро одеваться, чтобы поскорее поехать по домам и там рассказать о выпавшем на нашу долю счастье. Чрезвычайно было досадно, что офицерская форма еще не готова и нельзя ни домой явиться, ни по улице пройтись в соответствующем виде.
Мы придумали все‑таки одеться не по форме: не надели палашей, засунули концы башлыков за борт шинели и т. п. Ну и, конечно, не отдавали первые честь обер‑офицерам – уже на правах равных, и если кто‑либо пытался останавливать и делать нам замечание, то в ответ получал гордое заявление, что мы тоже офицеры.
В этот день на улицах Петербурга гардемарины были своего рода героями дня: весть о посещении Государем Корпуса и о нашем производстве уже успела облететь город, и многие вступали с нами в разговоры и расспрашивали, как все произошло.
Когда я наконец добрался до дома, где жили мои родители, и вошел в парадную, меня удивленно встретил старик‑швейцар вопросом, отчего это сегодня, в неурочный день, нас отпустили. Я сейчас же с гордостью объяснил, что Государь произвел нас в офицеры, по случаю начала войны.
– Вот оно что, – ответил пораженный старик и начал рассыпаться в поздравлениях и расспросах.
С большим трудом отделавшись от него, я понесся по лестнице и громко позвонил. Горничная открыла дверь. Не снимая шинели, я бросился в столовую, где в это время находилась вся наша семья, и там только и мог выговорить: «Я произведен в офицеры». Сначала никто даже не понял, что случилось, и мне пришлось все объяснить по порядку, после чего все бросились поздравлять меня и обнимать.
Вскоре из Корпуса пришел и мой младший брат, так как после посещения его Государем все гардемарины и кадеты обычно увольнялись в отпуск на три дня. И весь вечер не было конца рассказам и расспросам о том, как все произошло. Мы с братом старались припомнить решительно все мелкие подробности: что говорил Государь, в какой форме был одет, как выглядела Государыня, кто их сопровождал и т. д. и т. д.
После производства самым серьезным стал вопрос обмундирования. Приказано было торопиться насколько возможно, и уже через неделю назначили присягу. Правда, на ней разрешили присутствовать и не в офицерской форме, чего не хотелось.
Поэтому уже со следующего дня мы начали носиться по магазинам, портным и сапожникам. Работа нелегкая, так как приходилось одеваться, что называется, с ног до головы, ведь в Корпусе мы носили все казенное. Сначала даже трудно было сообразить, чего и сколько надо купить, но первым делом приобрели сабли, кортики, фуражки и погоны. Причем сразу же их и надели… Так хотелось скорее появиться на улицах офицером, чтобы кадеты и нижние чины отдавали честь. Это казалось таким занимательным, что старались лишний раз пройтись по людным местам, лишь бы чаще их встретить.
Каждый день на короткое время нам приходилось ездить в Корпус узнавать, нет ли каких‑либо новых распоряжений. Выяснилось, что вытягивание жребия, кто в какой флот выйдет, произойдет за два дня до принесения присяги. Это был серьезный момент для тех, кто имел определенное желание служить в том или другом флоте.
В назначенный день все собрались в роте. Завернутые в трубочку билетики были брошены в фуражку, и в присутствии теперь уже бывшего ротного командира полковника М. началось «вытягивание судьбы». На каждом билетике стояли буквы: «Б» – Балтийский флот или «Ч» – Черноморский флот и, наконец, «К» – Каспийский. Билетиков для Дальнего Востока не было, так как вакансии были уже разобраны окончившими в первом десятке. Больше всего вакансий предоставлялось в Балтийский флот, и именно туда я и мечтал получить назначение. Особенно я боялся попасть в Черноморский, к которому имел какое‑то предубеждение из‑за того, что служившие в нем офицеры редко попадали в заграничные плавания и вообще мало плавали. Теперь же это обстоятельство еще усугублялось тем, что, пожалуй, из Черного моря никак не выберешься на войну, а я во что бы то ни стало решил воевать.
Я с замиранием сердца подошел к шапке, протянул руку и взял подвернувшийся билетик. При этом так волновался, что с трудом мог его развернуть. Судьба была милостива: на билетике стояла желанная буква «Б». Я был в восторге.
Когда мы на следующий день зашли в Корпус, все начальство находилось в большом смятении и каждого инквизиторски расспрашивали, не брал ли он серебряных ложек из Зимнего дворца, когда нас там поили чаем. Все мы были страшно удивлены и обижены таким странным подозрением, но оказалось, что гофмаршальская часть дворца сообщила в Корпус, что после того как гардемарины пили чай, пропало несколько серебряных чайных ложек и их никак не могут отыскать. Это обстоятельство одинаково было неприятно и нашему начальству и нам, так как не хотелось и мысли допустить, что кто‑либо из нас мог украсть вообще, – а из дворца Государя тем более, – какие‑то серебряные ложки.
В тот день кроме нас во дворец попало несколько кадет младших рот, и потому были опрошены и они, и тогда выяснилось, что действительно ложки были взяты: видя, как старшие просили на память у Их Величеств то, что было под рукою, эти юнцы решили, уже самовольно, конечно, и себе что‑нибудь взять и выбрали ложки как особенно напоминавшие дворец. Злого умысла или корысти здесь, разумеется, не было, и всех очень обрадовало разъяснение этой истории.
Дни перед принесением присяги пролетели. К девяти часам утра мы уже должны были явиться в Корпус, а у многих мундиры могли поспеть только к утру того же дня. Злополучные портные работали напролет все ночи, но раньше приготовить не брались. Мой мундир, который я заказал у известного в наших кругах Дмитриева на Литейном, тоже должен был поспеть к утру. Ни свет ни заря я забрался к нему и там уже застал нескольких молодых мичманов.
Наконец портной принес мой мундир, я поспешно стал одеваться, а другие в ожидании страшно нервничать. Было 8 часов, и мы свободно могли успеть еще в Корпус. Правда, процедура одевания тоже заняла немало времени, так как у портного имелось лишь одно зеркало, а нам всем хотелось видеть себя в полном великолепии. Мундир меня вполне удовлетворил, но… был все же дефект: к нему временно пришили какой‑то старый воротник, так как настоящий еще не был готов, и шитье выглядело сильно потертым. Наконец мы нацепили сабли, надели пальто и треуголки и отправились в Корпус, не чуя под собою ног.
В Корпусе, в помещении нашей бывшей роты, было уже большое оживление. В новом одеянии мы не сразу узнавали друг друга. Все сияли счастьем, и только полковник М. страшно волновался, так как часы показывали почти девять, а некоторые еще не приехали. Наконец нас пригласили в аванзал, где должна была происходить присяга, хотя не все еще были налицо. Пришлось доложить директору. Он страшно рассердился и приказал опоздавших арестовать домашним арестом на пять суток. Вскоре прибыли и они. Оказалось, что задержка произошла из‑за портных. Адмирал, совершенно не считаясь с тем, что тут же находились посторонние лица, сделал опоздавшим строгий выговор и объявил об аресте. Эта сцена произвела очень неприятное впечатление и омрачила наше торжество…
Внесли знамя, пришел священник. Сказал коротенькое поучение, затем мы подняли руки со сложенными пальцами, как для крестного знамения, и повторили за ним слова присяги и в заключение поцеловали Крест и Евангелие. Адмирал Ч. обратился к нам с напутственным словом. Поздравил довольно кисло: сказал, чтобы мы не думали, что стали настоящими офицерами, что нам необходимо еще серьезно поучиться и самим пройти то, чего не успели пройти в Корпусе, и что вообще надо все время думать о необходимости пополнять знания. В заключение он прибавил, что принужден сознаться, что ему все же не удалось окончательно нас переделать, и он советовал нам поработать над собой, чтобы сделаться дисциплинированными и образцовыми офицерами.
Сдержанно поблагодарив его за добрые советы, мы стали просить адмирала простить опоздавших к присяге. Но адмирал был неумолим, и тут же у них отобрали сабли, и им пришлось остаться в Корпусе. На следующий день, впрочем, их отпустили по домам.
Вернувшись в роту, мы начали дружески прощаться с ротным командиром и другими офицерами. Хотя с ними у нас и происходили часто недоразумения, но ведь иначе и быть не могло, так как, с одной стороны, и они должны были следить, чтобы кадеты исполняли все свои обязанности, а с другой – и мы часто старались сделать все, чтобы уклониться от этого. Прощались мы и между собою после стольких лет совместного житья, после всего перечувствованного и пережитого вместе. Правда, расставание было далеко не таким, как в других учебных заведениях, питомцы которых разлетаются по всему необъятному пространству России и часто больше уже не встречаются. Наоборот, во флоте было почти невероятным, чтобы мы друг с другом больше уже не увиделись. Только то, что мы начинали свою службу под звуки орудийной стрельбы и что неизбежно большинству из нас предстояло принять участие в войне, делало это расставание более серьезным.
Прощались мы и с Корпусом, в котором провели шесть лет и где из мальчиков превратились во взрослых молодых людей. Нам теперь предстояла самостоятельная жизнь, а ведь до сих пор нас так опекали, что мы чувствовали себя застрахованными от всяких житейских забот, которых не лишены молодые люди, учащиеся в гражданских высших учебных заведениях и которым иногда приходится одновременно учиться и вести борьбу за существование. Мы всегда были прекрасно одеты, хорошо накормлены, жили в чистых, здоровых и теплых помещениях. Нас учили, как мы должны себя вести, и заботились о нашем здоровье. О многих ли так заботятся даже родители? Да, мы с любовью покидали вековые стены Корпуса, которые навсегда останутся родными и которые мы всю жизнь будем вспоминать с теплым чувством.
Наш выпуск стал особенным выпуском, потому что нам объявил о производстве в мичманы лично сам Государь. Гордясь этим, мы называли свой выпуск «царским».
После принесения присяги, которая делала нас настоящими офицерами, все чувствовали себя особенно счастливыми. Мечты детских лет наконец осуществились, и мы достигли того, к чему так долго стремились.
К предстоящей деятельности мы были подготовлены только теоретически и никакого опыта не имели. Оттого и волновало ясное сознание, что судьба может каждого из нас и вскоре же поставить перед сложными случаями из морской практики и вверить жизни многих людей – сумеем ли мы с этим справиться!?
Теперь оставалось только подождать выхода приказа Главного Морского штаба с распределением нас по экипажам. В те времена на зиму все корабли разоружались, и офицеры и команды списывались на берег, то есть в экипажи, в которых жили до весны, когда начиналось вооружение. Так как мы были произведены в конце января, то нам предстояло до начала кампаний прослужить в казармах не менее трех месяцев.
В ожидании приказа молодые мичманы сновали по Петербургу и занимались посещением знакомых по случаю производства в офицеры. Хотелось побывать у всех и показать себя в новой форме. Теперь уже перед молодежью мы чувствовали себя как бы старшими. Главным же образом, мы чувствовали себя героями перед знакомыми дамами и барышнями, тем более что начавшаяся война и возможность участия в ней привлекали к нам сердца прекрасного пола особенными симпатиями и уважением.
Впрочем, ожидание приказа длилось не слишком долго. Уже через три дня я узнал не весьма приятную для себя новость, что меня отправят в Ревельский полуэкипаж. Следовательно, предстояло ехать в Ревель, который для меня, всю жизнь прожившего в Петербурге, был совершенно чужим городом. Провинцию я вообще не знал, и меня пугала перспектива провести несколько месяцев в глубоко провинциальной обстановке. Кроме того, это назначение не соответствовало моим планам и надеждам, так как я мечтал о службе на боевых кораблях, а к Ревельскому порту были приписаны только маленькие военные транспорты. Они составляли флотилию, обслуживающую собственно лоцмейстерскую часть южного побережья Балтийского моря до германской границы, и никакого военного значения не имели.
Но этого назначения теперь уже нельзя было изменить, и оставалось, подчинившись судьбе, ехать в Ревель. Однако я взял слово с родных, что они приложат все старания, чтобы меня как можно скорее вытащить в Кронштадт. Меня очень беспокоило это назначение еще и тем, что уже начали ходить слухи о походе особой эскадры из Балтийского моря в Тихий океан, а мне во что бы то ни стало хотелось на нее попасть, чтобы принять участие в войне.
Глава десятая
За два дня до назначенного срока явки по экипажам я вечером на 11– часовом поезде собрался уезжать из Петербурга. Когда поезд отошел от Балтийского вокзала и из виду скрылись провожавшие меня родители, я грустно вошел в свое купе. Кроме меня в нем помещалось еще трое пассажиров, по‑видимому, из балтийских немцев. Какими чужими и несимпатичными они показались, – отчего, я и сам не знал.
Улегшись на свое место, я почувствовал себя оторванным от прежней жизни и одиноким. На душе стало тяжело. Поезд, глухо стуча и качаясь на рессорах, нес меня к началу новой жизни, а в голове бродили мысли о том, как‑то она сложится. Смущало и огорчало назначение в Ревель.
Чуть забрезжил свет, я встал и начал одеваться. В окно глянул унылый зимний день. Поля, покрытые снегом, леса и случайные домики. Виды такие же мрачные, как и зимнее однотонное утро. Около 9‑ти часов поезд стал подходить к Ревелю, потянулись скучные предместья с заводами и рабочими домиками, и наконец, замедляя ход, мы остановились у неказистого вокзала.
Поручив вещи носильщику, я поехал в лучшую местную гостиницу с громким названием «Золотой Лев». Типичный ревельский «фурман», на санках с бубенчиками, в меховой шапке и воротнике, бодро покатил меня по кривым улицам города. После Петербурга все казалось мизерным: улицы, маленькие старинные домики, узкие тротуары, окошки магазинов и сами жители. В противоположность этому представлялись улицы с высокими домами, красивыми магазинами, со снующими извозчиками, конками и ломовиками и вечно торопящимися куда‑то пешеходами. Здесь же темп жизни был совершенно другим. Правда, город был интересен своей древностью и историей, но это меня мало трогало.
Хотя «Золотой Лев» и считался лучшей гостиницей, но он также поразил меня своей старомодностью, относительной чистотой и чрезвычайной банальностью обстановки. На всем лежал отпечаток типичной провинциальности гостиницы для «солидной» публики.
Расположившись в номере и позавтракав в ресторане, я отправился гулять по городу и искать меблированную комнату, так как жить в гостинице было и неприятно, и дорого. Найти помещение оказалось делом нетрудным, и скоро на Нарвской улице, на маленьком деревянном домике, выкрашенном в зеленый цвет, я увидел билетик с объявлением о сдаче комнаты. Позвонил. Хозяйка, вдова с маленькой дочерью, любила иметь жильцами офицеров и оттого мне очень обрадовалась.
Так как комната была чистенькой и прилично обставленной, а хозяйка производила хорошее впечатление, то я, недолго думая, ее и нанял. Таким образом, первое неотложное дело выполнил, и дальше оставалось только ждать следующего дня и приезда еще двух мичманов моего выпуска, чтобы с ними явиться по начальству. Вообще нас попало в Ревель четверо, и один уже несколько дней как приехал, так как его назначили по собственному желанию.
Встретившись в гостинице, мы решили явиться вместе. В полной парадной форме, весьма довольные собою, отправились мы искать полуэкипаж. При помощи извозчиков это оказалось несложной задачей, и через десять минут мы уже были у подъезда. Однако оказалось, что командир полуэкипажа капитан 1‑го ранга В. (Вильгельмс. – Примеч. ред.)[51], уже ушел к себе. Нам посоветовали пройти туда. Этим советом мы не преминули воспользоваться, благо командирская квартира находилась тут же, в доме брандвахты.
Нас провели в гостиную. Почти сейчас же вышел к нам и сам В. Это был уже немолодой офицер, кончивший свою не слишком блестящую карьеру. Встретил он нас любезно, без всяких официальностей, и сейчас же перешел на дружескую беседу, позвал жену и приказал подать вина, чтобы поздравить нас с производством. Такой прием, конечно, нас очень подбодрил, и мы перестали стесняться. Сын В., мичман, на один год старше нас по выпуску, в данное время находился в Порт‑Артуре. Родители, конечно, страшно беспокоились и все нас расспрашивали, что нового слышали в Петербурге о нашей эскадре. К сожалению, мы могли рассказать не много, но, видимо, подбодрили стариков, когда единодушно заявили, что завидуем их сыну: он уже, мол, на войне, а мы еще неизвестно, попадем ли. Через несколько времени было получено известие о гибели молодого В.[52].
На прощание командир приказал завтра утром явиться в канцелярию, чтобы узнать, по каким ротам мы расписаны, и объяснил, что до начала кампании наши обязанности ограничатся дежурством по экипажу. Кроме того, он приказал явиться командиру порта контр‑адмиралу В. (Вульф. – Примеч. ред.)[53] и дал совет, кому еще полезно сделать визиты.
Так безобидно прошел наш первый служебный шаг. Он оказался много проще, чем мы могли предполагать, но зато дальнейшая перспектива службы в Ревеле вгоняла нас в полную грусть. Чем же мы будем занимать время? И как оно нудно и тоскливо потянется в этом мирном городке! А в это время наши товарищи, служа в Кронштадте, ездят в Петербург, веселятся. Мы твердо решили нажимать на все кнопки, чтобы как можно скорее вырваться отсюда, хотя здесь, по‑видимому, и очень милые люди.
В тот же день решили проехать в Морское собрание пообедать. В этом собрании нам предстояло столоваться, благодаря дешевизне и отсутствию в городе хороших ресторанов. Познакомились с дежурным, штурманским полковником П. (Петров. – Примеч. ред.)[54], который тоже нас встретил очень сердечно, показал помещение, объяснил все правила и даже отобедал с нами. Ревельское Морское собрание, как и почти все собрания, было хорошо обставлено и занимало целый дом, с большой залой для танцев и концертов, несколькими гостиными, читальной, бильярдной и рестораном. Все содержалось чисто и аккуратно, обставлено красивой мебелью; было и несколько отличных картин. Имелась также очень хорошая библиотека.
Когда мы на следующий день побывали в экипаже и там познакомились с другими офицерами, то стало совершенно ясно, что действительно, кроме дежурств, раз в десять дней, никакой другой работы не предстояло. Разве что изредка поручать произвести дознание, что было тоже далеко не интересно. В экипаж можно было ходить не каждый день, и часто ходили туда просто чтобы убить время и встретиться с другими офицерами. В зимнее время весь личный состав Ревельской флотилии предавался отдыху после летних трудов, которые были, правда, довольно обременительны, особенно весной и осенью. С началом навигации шла установка вех и баканов, а по окончании – их уборка.
В ближайшие дни мы отправились к командиру порта и были приняты в его частном доме. Он встретил нас отечески, как и командир полуэкипажа, и тут же представил своей супруге[55] – типичной «адмиральше», игравшей не последнюю роль в порту и пользовавшейся большой популярностью во всем местном обществе. Милая, несколько чопорная мать‑командирша считала своим долгом опекать молодых мичманов, чтобы они не сходили с пути праведного. Она обычно брала под свое покровительство вновь выпущенных офицеров, и они обязательно должны были присутствовать на всех развлечениях, ею устраиваемых, и, вообще, вращаться в местном бомонде. Но она действительно по‑матерински относилась к молодежи, и часто, запутавшись в долгах или напроказив по службе, молодые офицеры прибегали к ней за советом и помощью и неоднократно благодаря ей спасались от неприятностей.
Нам адмиральша выразила большое сожаление, что мы попали в такое печальное время, как война, из‑за которой были отменены все общественные увеселения. У бедных стариков было тоже тяжело на душе, так как их единственный сын[56], лейтенант, находился на Артурской эскадре на «Петропавловске», на котором адмирал Макаров поднял флаг. На нем он и погиб вместе с адмиралом.
Командир порта – старичок небольшого роста, по виду мрачный и суровый, на самом деле был добрый и покладистый начальник. Адмирал не разлучался со своим мопсом и, когда ездил на дрожках в свое управление, неизменно сажал его рядом с собой. Они даже как будто походили друг на друга, как это иногда бывает с любимыми псами. И так этот мопс привык каждое утро ездить на службу, что, когда однажды адмирала вызвали в Петербург, он в обычный час самостоятельно отправился в управление, пролез в подъезд и направился в кабинет. Дежурный, увидя его, подумал, что адмирал идет сзади, и широко раскрыл двери. Мопс спокойно и важно вошел в кабинет и, как часто бывало, вскочил на кресло у письменного стола и на нем расселся. Однако, когда увидели, что больше никто не идет, и выяснилось, что командир порта уехал, бедного пса вежливо выставили. Этот случай быстро распространился по всему порту и, несомненно, послужил к прославлению адмиральского любимца.
Скоро мы вошли в колею новой жизни и еще убедились, что к службе никакой энергии прилагать не стоило и даже вредно, так как будет встречено недружелюбно, как нарушение с испокон веков установившихся добрых патриархальных обычаев.
Наши дежурства протекали до чрезвычайности однообразно и скучно. Приходилось проводить круглые сутки в экипаже в вице‑мундире, спать одетыми на диване и есть подогретый обед и завтрак из собрания. Обязанности были несложны: принимать сменные рапорты дежурных по помещениям унтер‑офицеров, встречать и провожать командира экипажа и изредка обходить помещения, следя за порядком. Хорошо налаженный распорядок жизни не нарушался, и все делалось совершенно автоматически. Наверное, в экипаже существовала и закулисная сторона, но в нее нам проникать не удавалось. Да и была ли в этом надобность? Если иногда матросы удирали в город, может быть, играли в карты и пьянствовали, то это делалось так шито‑крыто, по‑семейному, что наружно ничего не замечалось и особенного худа не происходило.
Кроме нас, четырех молодых мичманов, в экипаже имелись еще трое строевых офицеров, несколькими годами старше нас. Один из них был довольно мрачный господин, не расстававшийся со своим пуделем и, по‑видимому, чувствовавший себя в его обществе вполне удовлетворительно. Он неохотно с кем‑либо знакомился и избегал приглашать к себе, и мы им совсем не интересовались. Но двое других оказались веселыми молодыми людьми, уже давно известными всему Ревелю по своему громкому поведению. В особенности отличался мичман X. (Хижинский. – Примеч. ред.)[57]. Он обладал недурным голосом и прекрасно пел цыганские романсы, благодаря чему везде являлся желанным гостем и за что ему прощались многие проделки.
Его беспечность не имела границ, и насколько он был желанным гостем у дам, настолько командиры кораблей не знали, как от него избавиться. В море его еще можно было терпеть, но стоило кораблю войти в порт, как X. исчезал или начинал пьянствовать. Когда он исчезал, найти его никто не мог, тем более что и сам X. никогда не знал, куда его занесет судьба.
Раз он попал в Либаву и, съехав на берег, пошел в известную «Петербургскую гостиницу», а затем исчез. Транспорту пришлось даже на сутки отложить свой уход в море, так как X. три дня не появлялся и его нигде не могли отыскать. Командир уже стал опасаться, не случилось ли что‑нибудь с ним. На четвертый день он наконец появился в весьма растрепанных чувствах. Оказалось, что в «Петербургской гостинице» он познакомился с какими‑то местными коммерсантами, с ними изрядно выпил и быстро подружился. Новые друзья уговорили после закрытия гостиницы пойти к ним допивать, и X. с большим удовольствием согласился. Там они провели всю ночь. X. много пел, и дружба окончательно закрепилась.
Наутро одному из купцов понадобилось ехать в какое‑то местечко, за несколько верст от Либавы, и он уговорил всю компанию ехать вместе, обещая, что будет очень весело и, главное, на славу удастся выпить и поесть. Друзья с восторгом приняли приглашение и в каких‑то экипажах двинулись в путь.
Приехав на место, они продолжали кутеж, и к ним присоединился еще какой‑то местный купец‑еврей, ради которого они и приехали. X. уже давно, что называется, «лыка не вязал», и ему было решительно все равно, из кого состояла компания. Скоро выяснилось, что в семье еврея должна состояться свадьба, и он убедил все общество принять в ней участие. Особенно он упрашивал X., так как ему казалось лестным, что среди гостей окажется настоящий морской офицер. X. был на все согласен: «свадьба так свадьба», «евреи так евреи» – лишь бы было вино.
На следующий день состоялось торжество, затем обед с фаршированной щукой, после танцы. X. пил, ел, ухаживал за барышнями и всех очаровал романсами. Веселье затянулось далеко за полночь, и X. уложили где‑то спать. Только на другой день, проснувшись уже под вечер, он пришел окончательно в себя и чрезвычайно удивился обществу, в котором оказался. Однако уезжать уже было поздно, да и пришлось опохмелиться. Только на следующее утро X. доставили благополучно на транспорт, и там командир немедленно посадил его под арест.
X. всегда ходил без денег и решительно всем задолжал, так что ему перед многими приходилось выворачиваться самыми невероятными способами, но за приветливость и покладистость ему и это прощалось. Только иногда сердились друзья, когда он заходил к ним в их отсутствие, выбирал что‑либо из одежды и оставлял любезную записку с перечислением взятых вещей. Может быть, это уже и не так сердило бы (все знали, что X. взял что‑нибудь по крайней нужде), но вещи возвращались впоследствии в таком виде, что их уже носить было невозможно.
Теперь X. командовал 2‑й ротой полуэкипажа, которая помещалась в отдельной казарме, в расстоянии 10 минут ходьбы от главного корпуса. Как часто бывает из‑за близости, начальство к X. в роту заглядывало редко, и этим он пользовался. Незаметно командование ротой перешло к фельдфебелю, и X. только подписывал необходимые бумаги, показываясь в роте в экстренных случаях. К этому все уже как‑то привыкли: и начальство, и его подчиненные: «Такой уж, мол, безнадежный человек». Да и он, будучи весьма снисходительным к себе, считал справедливым так же снисходительно относиться к своим матросам, которые его очень любили и не обижались за небрежное отношение к себе. Например, случалось, что он опаздывал на несколько дней с раздачей жалованья, забывал подавать в свое время требования на одежду и т. д. Часто фельдфебель носился по городу в его поисках и находил, совершенно случайно, у кого‑нибудь из знакомых или в ресторане. Тогда тут же происходил доклад и подписание нужных бумаг. Однако всему бывает конец, наступил конец и долготерпению командира экипажа, и он отрешил его от командования ротой и арестовал на семь суток.
Арестованных на гауптвахте офицеров полагалось отвозить под арест в сопровождении офицера же и там передавать караульному начальнику. Эту не слишком приятную обязанность командир экипажа поручил мне, и, взяв необходимое предписание и расспросив адъютанта, как надо действовать, я отправился ловить X.
На мое счастье, он оказался на квартире, но в обычном для него веселом состоянии. Сообщив ему о своей миссии, я попросил скорее одеться, забрать вещи и ехать со мною. Весть об аресте X. принял благодушно, но заявил, что торопиться отнюдь не собирается и всегда туда успеет. Меня, по неопытности, такой ответ озадачил, и я, в сущности, не знал, что предпринять. На все уговоры он отделывался шутками и советовал не беспокоиться, угрозы не действовали. Прямо хоть вяжи и тащи силой. Наконец, после доброго часа упрашивания, перебранки и сборов, мне удалось заставить его собраться, но с одним условием, что по пути мы зайдем в один маленький ресторанчик, где у него была приятельница, хорошенькая буфетчица, и выпьем по рюмке водки. Скрепя сердце я на это согласился, так как предвидел, что оттуда его опять нелегко будет извлечь, но он так настаивал, что другого выхода я не видел. Да мне и не хотелось устраивать скандал и подчеркивать, что в данном случае я имею над ним известную власть, тем более что он был старше меня по выпуску.
Усевшись на извозчика, мы поехали в ресторанчик, который находился по пути. Знакомая буфетчица X. оказалась очень хорошенькой и милой девицей и встретила нас весьма любезно. В этот утренний час в ресторане никого не было, и X. мог без стеснения, между водкой и закусыванием, изливаться в комплиментах. Вдруг я с ужасом стал замечать, что после третьей рюмки он совершенно размяк. Тогда пришлось ему напомнить о данном мне обещании, но X. только махал руками и заплетающимся языком заявил, что никуда не поедет. Положение мое сильно усложнялось: вместо гауптвахты я привез арестованного в ресторан и допустил напиться. Нечего сказать, блестяще исполнил первое поручение по службе!
Неожиданно мне пришла на помощь буфетчица, которой, по‑видимому, надоели приставания пьяного X., и ей захотелось от него отделаться. Возможно и то, что она, видя мое затруднительное положение, пожалела меня. Так или иначе, узнав в чем дело, она категорически заявила, что X. должен ехать со мною. Он пробовал возражать, но она ему ответила, что если он сейчас же не уйдет, то она его и знать не хочет. Ее решительное заявление подействовало гораздо лучше моих угроз и просьб, мы наконец выбрались на улицу и нашли извозчика.
На гауптвахте караульным начальником оказался старинный приятель X., и потому дальше он двигался уже охотнее, предвкушая веселое времяпрепровождение в дружеской компании. Потом я узнал, что они так веселились, что и его приятель попал под арест.
Сдав X. на гауптвахту, я свободно вздохнул и весьма довольный, что благополучно все исполнил, поехал в экипаж об этом доложить. Однако я отлично сознавал, что меня выручила буфетчица; без нее еще неизвестно, удалось ли бы мне доставить X. на гауптвахту.
Скоро мне пришлось сделать первый выход в местный свет, так как получил приглашение от одного знакомого аборигена Ревеля. Его семья состояла из родителей и двух сестер уже не первой молодости. Встретили меня с чисто русским провинциальным гостеприимством, и я сразу же окунулся в интересы ревельского общества. Мне было в точности объяснено: кто достоин уважения и кто нет, с кем стоит вести знакомство и от кого следует бежать, чьи жены добродетельны и чьи находятся на подозрении. Одним словом, я теперь уже все знал и мог смело войти в это общество, будучи спокоен, что не попаду впросак, имея таких надежных советчиц. По молодости и неопытности, меня эти сведения даже испугали, и я решил не рисковать добродетелью и не пускаться в свет. Но через несколько дней опять получил приглашение и, постеснявшись отказаться, пошел. На этот раз был званый вечер, и я нашел довольно много гостей: сухопутных офицеров и чиновников порта. Все отнеслись ко мне любезно, просто и гостеприимно, их предупредительность доходила до трогательности, но чувствовалось, что большинство считало меня все‑таки не своим и мое присутствие их даже стесняло. Я же был далек от мысли считать себя выше их, но должен признать, что и я чувствовал какую‑то отчужденность. Они не знали, как подойти ко мне, а я к ним, так что из этого объединения ничего не вышло, и потом я посещал любезных хозяев только в официальных случаях – с визитами.
Самым тоскливым временем в Ревеле бывали вечера, и часто я не знал, как убить это время. Сидеть дома и читать – надоело, а выйти – некуда. Правда, в городе был русский театр, в котором давались оперетки, драмы и комедии, но, Боже мой, какое это было убожество. Представления происходили ежедневно, и репертуар менялся часто: целый калейдоскоп пьес был разыгран бедными артистами за три месяца моего нахождения в Ревеле, и все‑таки публика посещала театр неохотно. Нередко случалось, что кроме меня в театре сидело два‑три человека, да и то неизвестно, были ли они платными или занимали места по контрмаркам.
Особенно памятен мне «бенефис» оркестра. Однажды, случайно проходя мимо театра, я заинтересовался афишей, взял билет первого ряда (морские офицеры считали, что в провинциальных театрах недопустимо сидеть ниже) и вошел. Театр представлял «Аравийскую пустыню», я оказался единственным зрителем и хотел уже уйти, но почему‑то раздумал и занял свое место. Шла какая‑то оперетта, и вышло, что бедные артисты ее разыгрывали только передо мною, и оттого я чувствовал себя неловко. Когда же в последнем действии внесли медный самовар с надетым на трубу лавровым венком и поднесли капельмейстеру, а он обернулся к пустому залу и стал раскланиваться и жестами благодарить, то я встал и ушел. Получилось так, точно я поднес капельмейстеру этот самовар. Впрочем, я бы, пожалуй, это и сделал с удовольствием, так как уж очень было жалко всю труппу.
В Морское собрание по вечерам никто не приходил. Балы и концерты по случаю войны отменили, и решительно некуда было деться. Оставалось изредка присоединяться к нашему легкомысленному элементу, увлекающемуся женщинами, вином и картами. В обществе установился взгляд, что Морской корпус выпускает молодых офицеров в нравственном отношении в значительной степени испорченных. Но это не совсем так. Среди моих товарищей многие вышли в офицеры совершенно чистыми, и не только в половом отношении, но и в смысле питья спиртных напитков и игры в карты. Я могу сказать даже больше: среди моих сверстников особенно «искушенных» был вообще незначительный процент. Например, я не только женщин не знал, но и водку попробовал первый раз, уже будучи мичманом. Далеко не все офицеры любили кутежи, а тем более нельзя сказать, что кутежам «предавались». Но, конечно, были такие, которые по молодости грешили.
Я, сделавшись офицером 18‑ти лет, ровно ничего не видел и не знал из мира соблазнов и, должен сказать по совести, не оттого, что к этому имел определенное отвращение, а потому, что меня удерживали родители и корпусная дисциплина. Теперь же я стал сам себе господином, в кармане водились кой‑какие деньги, и никто не сдерживал, а, наоборот, зазывали. Ну и, конечно, мы шли и знакомились с «этими» женщинами, с местами злачными, учились пить вино, и кто имел пристрастие к азартным играм, начинал играть. Только не все же и тогда увлекались этим. Да и средства не очень позволяли, так как мы, за малым исключением, были люди небогатые, жившие исключительно на жалованье. И то частенько числа десятого уже сидели без гроша и приходили к экипажному казначею «загибаться до двадцатого числа».
Наши вечера «на скромных началах» начинались с ужина в отдельном кабинете ресторана или чьей‑либо холостой квартире. Вначале все шло непринужденно и весело: пили водку «под балычок» и «под селедочку», не забывали грибки и огурчики. Настроение быстро повышалось, а с ним оживлялся и разговор. Главная дань отдавалась закускам, уже к последующему меню относились довольно безразлично и только продолжали пить «под пирожки» да «под жаркое». Когда ужин кончался и дело подходило к кофе с коньяком, то все чувствовали себя вполне удовлетворенными, и хотелось не то спать, не то танцевать. На сцену являлись пианино, балалайки или гитары, и вот с этого момента мичман X. становился незаменимым – никто не умел с таким чувством спеть «Хризантемы» или «Тройку», никто не мог создать такого веселого настроения. Все предавались «кайфу» и благодушно покуривали. Время шло незаметно, но результаты выпитого сказывались: часто все говорили разом, неизвестно о чем спорили, вдруг кто‑то начинал обижаться, а другой объясняться в любви, и все сливалось в бессмысленную, но понятную и интересную для участников пира беседу. Однако и от нее уставали, и когда дело подходило к полуночи, всех тянуло куда‑то дальше. В сущности, чего именно хотелось – большинство не понимало: не то переменить обстановку, не то шума, света и толпы, а главное, тянуло к женщинам. Да и куда можно ехать ночью в Ревеле, как не к милым, но погибающим созданиям. Нет нужды, что там крайне пошлая обстановка, что дамы – весьма сомнительного свойства, а хозяйки стремятся, насколько возможно, обобрать гостей.
Заказывался традиционный кофе с бенедиктом, играли какие‑то танцы, начиналось новое веселье. Это был уже последний этап. Компания понемногу таяла, кто‑то исчезал и опять возвращался, и так длилось до рассвета, когда заспанные фурманы везли полуспящих господ по домам. Ночь, полная дурмана, ночь беспутная кончилась, на душе был неприятный осадок, голова болела, хотелось хорошенько вымыться и выспаться.
Так однообразно и скучно тянулись наши дни в Ревеле, а мне все не удавалось пока из него вырваться. Очевидно, приходилось ждать лета, когда начнутся назначения на суда уходящей на Дальний Восток эскадры.
Однажды монотонность службы была нарушена маленьким происшествием, которое, однако, произвело довольно неприятное впечатление. Меня назначили дежурным по экипажу в Святую ночь. Не знаю, приходилось ли это по очереди или просто решили, что мне, как холостому, безразлично, где провести этот праздник, но, во всяком случае, я получил повестку и вступил в дежурство.
Когда матросы вернулись из церкви, то начальство с ними похристосовалось, и они разговелись, а я после этого ушел в дежурную комнату и прилег на диване. Вдруг, около 5‑ти часов утра, ко мне вбежал дежурный боцман и взволнованно доложил, что в роте происходит драка и в ход пущены ножи. Я вскочил и моментально бросился туда. Там представилась довольно неприглядная картина: между беспорядочно раздвинутыми кроватями и поваленными табуретками дралась большая толпа матросов. В воздухе мелькали кулаки, слышалась отборная брань и пьяные крики. Когда я подошел ближе, то действительно увидел, что у некоторых в руках были ножи.
Недолго думая, я стал расталкивать толпу и крикнул, чтобы все немедленно расходились. Те, что были менее пьяны, увидя меня и услышав окрик, сразу же разошлись, но остальные вошли в такой азарт, что никто ничего не слышал и не понимал. Пришлось при помощи караульных и дежурных их растаскивать и отнимать ножи, что в конце концов и удалось.
Вид у них был отвратительный: бледные, вздутые и злобные лица, бессмысленно блуждающие глаза, выдернутые из брюк форменки, во многих местах разорванные, многие же вообще полуголые. К тому же от всех несло отвратительным запахом сивухи и перегара. Скверное и неприятное зрелище. Слишком разошедшихся буянов я распорядился рассадить по карцерам и предупредить, что если они еще попробуют скандалить, то их свяжут. Другим приказал немедленно привести в порядок помещение и лечь спать. Когда через полчаса я обошел спальни, все лежали в койках и, кажется, спали.
Эта драка после разговения и грубость матросских нравов с непривычки меня неприятно поразила. Я долго не мог успокоиться, но в то же время понимал, что нельзя их слишком строго судить и надо войти и в их положение. Семь лет быть оторванным от семьи и всего родного, семь лет быть запертым в непривычной для них обстановке – на кораблях и в казармах, это не так‑то легко перенести для простых деревенских парней.
Сразу после Пасхи начались приготовления к плаванию флотилии. Нас распределили по кораблям. Меня назначили на самый большой транспорт под весьма непоэтичным названием «Артельщик». Это было очень старое судно, которому перевалило за пятьдесят лет, и оно считалось чуть ли не первым винтовым кораблем Балтийского флота. В начале своего существования «Артельщик» был украшением флота, теперь же он казался неуклюжим, архаичным пароходом, с высокой трубой и яхточным носом. Он с трудом давал 9 узлов, и в очень свежую погоду на нем не рекомендовалось выходить в открытое море.
Приготовления к летней кампании заключались в окраске транспортов снаружи и внутри, погрузке на них запасов корабельных материалов, приемке угля, машинного масла и вех. Все эти работы совершались по давно заведенному порядку опытными боцманами и унтер‑офицерами и, в сущности, офицерского надзора не требовали.
Пошли солнечные весенние дни, когда, кажется, вся природа набирается новой энергией. Мне хотелось скорее перебраться на «Артельщик», так как жизнь на берегу очень надоела и после зимней спячки так хотелось работать, куда‑то ехать, на что‑то надеяться.
Через неделю «вооружение» флотилии закончилось. Ко дню начала кампании команда и офицеры перебрались на транспорт.
Глава одиннадцатая
Командиром «Артельщика» был капитан 2‑го ранга Г. (Григорьев. – Примеч. ред.)[58] – офицер средних лет, но моряк старого поколения, так называемой «парусной школы». За время своей долголетней службы он совершил много дальних плаваний на клиперах, приобрел большой морской опыт и сделался отличным моряком и командиром, но, как и многие офицеры того времени, слишком пристрастился к спиртным напиткам и этим испортил себе карьеру. На походе он был отличным командиром, но, когда «Артельщик» входил в порт, по‑видимому, считал свои обязанности законченными, и полным хозяином становился боцман. На стоянках Г. почти не видели. Нас, молодых офицеров, он как‑то в расчет не брал и требовал только несения вахты на ходу и дежурства на якоре. Команды никто из нас не касался и в ее внутреннюю жизнь не вмешивался: там, безусловно, всем распоряжался тот же боцман. Как человек, командир был очень приятен и к нам относился прекрасно.
Из офицеров кроме меня на «Артельщик» назначили: штурманов – поручика флота X. (Хаджи‑Паниотов. – Примеч. ред.)[59], из коммерческих моряков, и мичмана Щ. (Щербицкий. – Примеч. ред.)[60], старше меня по выпуску на несколько месяцев, произведенного из юнкеров флота. К офицерскому составу также причислялся чиновник, заведующий хозяйством, выслужившийся из матросов коллежский асессор Ф. (Федоров. – Примеч. ред.)[61]. Штурман был скромный и спокойный человек; он недавно женился и весь ушел в семью. Милый и симпатичный мичман Щ. всем быстро увлекался и так же быстро во всем разочаровывался; это был тип безалаберного российского человека.
Окончивший гимназию, а затем университет, он вдруг почувствовал влечение к флоту, хотя никогда даже и не видал ни моря, ни военных кораблей. Однако, попав на флот, он уже через три месяца разочаровался и чувствовал себя не в своей тарелке. Это и понятно: он был в душе глубоко штатским человеком, и все, что, по его представлению, подходило под понятие «военщина», казалось ему скучным и ненужным. Щ. был большим идеалистом и фантазером, и благодаря этим качествам из него не мог, полагаю, выработаться дельный и способный морской офицер. Он постоянно занимался и что‑то изучал, а насущные и простые вопросы жизни ему казались скучными и пошлыми.
Самым ярким типом являлся, несомненно, чиновник Ф. Это был хозяйственный, умный и хитрый мужик, который сумел пробить себе дорогу во флоте и отлично приспособился. Отбыв положенное время матросом, он сдал экзамен на чиновника и «медленно, но верно» дошел до чина коллежского асессора, что для него было большой карьерой. Угождая начальству, проявляя рвение к службе и обладая природной сметкой, он сделался полезным человеком, которого ценили и награждали. Теперь, уже в преклонном возрасте, он мнил себя «штаб‑офицером» и с гордостью носил ордена, которых имел до Станислава 2‑й ст. включительно. Зимою всегда гулял в николаевской шинели, с высоким бобровым воротником. Эта шинель, а также вообще внушительная осанка вводили иногда нижних чинов, особенно в темноте, в заблуждение, и они не только отдавали честь, но и становились во фронт, что он принимал не без явного удовольствия.
Это была наружная сторона, но была еще и другая, не менее важная, материальная, которую он всегда помнил и в которой достиг больших успехов. За всю тридцатипятилетнюю службу, получая всегда весьма скромное жалование, он тем не менее превратился в довольно состоятельного человека. Все тут было, и «безобидное» использование казны, и финансовые обороты и торговые операции. Незаметно появился капиталец, домик, затем другой[62] и дачка; правда, все это только «на всякий случай». Он стал полнеть, хорошо одеваться, завел лошадку и был не прочь покутить, даже усы и волосы подкрашивал, чтобы казаться моложе. Своего единственного сына вывел в армейские кавалерийские офицеры и поощрял в держании «фасона». Но тут‑то, кажется, ошибся, так как тот стал перебарщивать и всегда был в долгах. Бедный папаша, которому это вначале даже льстило: «Мол, выходит, совсем как у настоящих господских сынков», потом хватался за голову, так как сыночку грозило увольнение из полка или отцу приходилось порастрясти свои капиталы.
Ф. знал Ревель вдоль и поперек; также и его все знали и если не очень уважали в душе, то, во всяком случае, относились благосклонно, тем более что у него всегда можно было «призанять». На «Артельщике» он плавал не первый десяток лет и обычно выбирался заведующим столом кают‑компании, так как и сам любил и умел хорошо поесть, да к тому же и делал это дешево. Своим кормлением он преследовал определенную цель – нравиться командирам. Однако и тут без «но» не обходилось, и мы часто были недовольны его столом. Дело в том, что действительно еда давалась отличная в походах, но, когда мы возвращались в Ревель и командир и Ф. столовались у себя, про нас решительно забывалось. Очевидно, в эти периоды наверстывалось все то, что перерасходовалось в другое время, нам же оставалось ворчать, поругивать Ф. и ездить на берег подкармливаться.
Немедленно с началом кампании «Артельщику» приказали приступить к ограждению опасностей Балтийского моря – от выхода из Финского залива, начиная с Дагерортской мели, внешних сторон островов Даго и Эзеля, Церельского пролива и дальше от Виндавы до Либавы. Все это побережье было открыто с моря, и быстрота работы зависела исключительно от погоды и ветров и даже при удаче затягивалась на добрый месяц.
Приятно выходить ранней весной в море, точно и оно к весне как‑то выглядит свежее и радостнее. Так легко дышится морским воздухом после зимнего сидения на берегу и так приятно греться на солнышке. Кругом весело летают чайки, с пронзительными криками ныряя за добычей, а у берегов несутся стаи пугливых нырков и, завидя корабль, исчезают под водою. Весь экипаж настроен по‑праздничному, и матросы, и офицеры толпятся на верхней палубе, слышен веселый смех и шутки. Да и сам корабль, только что выкрашенный, вымытый и с блестящей на солнце медяшкой, кажется красивее и новее.
Вначале погода благоприятствовала. Это было особенно важно, так как первой предстояло оградить трудную Дагерортскую мель. Эта работа, казавшаяся такой простой, на самом деле требовала большого опыта, тем более что была очень ответственной: транспорт становился на якорь и спускались шлюпки, которые обставляли мель временными вешками. При этом иногда приходилось долго пересекать место мели, все время бросая лот, прежде чем удавалось обнаружить нужную глубину. Когда шлюпки заканчивали работу, транспорт снимался с якоря, приготовлял к постановке настоящие вехи и шел по линии временных. Вехи сбрасывались по команде с мостика и, чтобы не происходило запаздывания, заранее подвешивались по наружному борту транспорта с кормы, а груз на носу, и все одновременно летело в воду. При опытности командира и команды это происходило быстро, но стоило кому‑либо прозевать, веха попадала не на свое место, и тогда ее приходилось вытаскивать и переставлять.
Самым неприятным для офицеров являлось отыскивание нужных глубин на шлюпках, так как командир начинал сердиться, если работа затягивалась. С Дагерортской мелью мы справились быстро, хотя на ней пришлось поставить более двадцати вех, но, на наше счастье, море не колыхнулось.
Кончили работу и пошли передавать какие‑то запасы на маяк Ристну. Подошли близко, насколько было возможно, но все же пришлось спустить шлюпку, и командир послал меня вести ее среди камней и осторожно пристать к каменной пристани. Для обитателей маяков, находящихся сравнительно далеко от населенных мест и на которые трудно добраться, такое посещение являлось целым событием, так как они иногда помногу месяцев не видят чужого лица.
Ристна как раз принадлежала к такого рода маякам, и приход «Артельщика» для смотрителя и других служащих представлял большой интерес. Когда же смотритель увидел, что на шлюпке находится офицер, то живо переоделся в парадную форму и встретил меня на пристани с рапортом о состоянии маяка. Этим он меня страшно сконфузил, так как я никакого служебного поручения к нему не имел и собственно на маяк вышел только из любопытства. После первого приветствия смотритель пригласил меня зайти к нему, и там меня ожидала его жена, которая уже успела одеться по‑праздничному. Пришлось у них выпить чаю и побеседовать, что, по‑видимому, доставило им большое удовольствие, и они не замедлили выложить мне все свои семейные невзгоды.
Семья оказалась чрезвычайно многодетной. Получая скромное жалованье, родители не могли сами давать детям нужное образование, и приходилось их рассовывать по разным казенным учебным заведениям. Уже пятеро или шестеро устроились, но еще трое дожидались своей очереди, и вопрос, куда их девать, волновал отца и мать. Я их искренне жалел и вполне понимал, что при однообразной и одинокой жизни на маяке все интересы сосредоточивались на детях, однако помочь никак не мог.
Прощаясь с гостеприимными хозяевами, я попросил смотрителя показать мне маяк, и мы полезли на башню. Какой дивный вид на море! Можно себе представить, как красиво оттуда наблюдать восход и заход солнца, когда горизонт начинает освещаться или темнеть и окрашиваться в нежные тона. Какая чудная панорама, наверное, открывается в лунную ночь, когда море как зеркало, а небо покрыто бесчисленными звездами. Но и как должно быть жутко на маяке, когда глухой осенней ночью завоет ветер и огромные валы начнут разбиваться о прибрежные скалы.
Транспорт побывал вскоре и на Верхнем Дагерортском маяке, и там я познакомился тоже с весьма многодетным смотрителем. Затем командир пошел к бухте Таггалах на о. Эзель, но только что мы приступили к привешиванию подходов к ней, как погода стала портиться, задул сильный ветер и поднялась большая волна. Пришлось работы прекратить. Слава Богу, ветер вскоре переменился и задул с восточной стороны. Командир этим воспользовался и немедленно вышел на работу. Однако волна еще далеко не улеглась, и тут я впервые узнал, что такое настоящая качка: бедный «Артельщик» стал выплясывать такие фигуры, что внутри все пошло вверх дном. Мне в это время пришлось стоять на мостике и наблюдать, как умело справлялся Г. с управлением корабля, а команда – с вехами, и, несмотря ни на что, работа хорошо спорилась.
Когда я сменился с вахты и спустился в кают‑компанию, то застал забавную картину: мичман Щ., бледный, судорожно ухватившись за пианино, пытался во время размахов качки не дать ему ползти по полу. Это ему с большим трудом удавалось, но он рисковал каждую минуту, что сам не удержится и вместе с пианино, совершив замысловатый танец, упадет. Положение Щ. было очень смешным, но в то же время и критическим: пианино могло его сильно придавить, само разбиться и попортить переборки. Увидя эту сцену, я не мог не захохотать, тем более что Щ. к тому же еще страдал морской болезнью и его все время тянуло «травить канат». Конечно, я сейчас же бросился на помощь, и мы дружными усилиями поставили ножки пианино в башмаки и привязали к пиллерсам.
Благодаря большой опытности командира, нам удалось все же закончить работу и опять укрыться в бухту. В этой скучнейшей бухте нам пришлось простоять пять суток.
После этой вынужденной передышки «Артельщик» медленно продвигался вперед, ограждая попутные опасности, и только Церельский проход командир решил обставить на обратном пути, так как боялся, что из Рижского залива еще могут выплыть льдины и снести наши вехи. Так мы наконец и добрались до Либавы, после трехнедельной работы, которая порядочно утомила экипаж. Пока предстояло уладить лоцмейстерские дела, Г. решил дать всем отдых.
По случаю успешного окончания доброй половины самой трудной части нашей работы Ф. устроил в кают‑компании великолепное пиршество. При этом он действительно доказал, что при желании может отлично кормить. Стол ломился от закусок: тут были и свежая икорка, и балычок, и жирная селедочка, и нарвские миноги, и нежинские огурцы, не забыты были и горячие закуски: биточки в сметане, сосиски в томате, гречневая каша с луком и яйцами и т. п. Затем шла кулебяка с визигой и свежей рыбой, бульон, знаменитая в Либаве дикая коза и трубочки со сливками из известной кондитерской Боница. Само собой, что к этому подавались: водка, рябиновка и зубровка, мадера, херес, а после виски и коньяк. Это ли не великолепие, это ли не пир! Мы с трудом дождались времени, когда можно было сесть за стол.
Все находились в самом благодушном настроении и предвкушали удовольствие поглотить все расставленные яства. Я сидел рядом с командиром, и ему захотелось меня учить пить, ибо, объяснил он, на морской службе и это надо знать. И впрямь, мне еще даже очень надо было поучиться этому искусству, которое заключалось главным образом в том, чтобы уметь много выпить и не «лечь костьми».
Как обычно, закуску начали с водки, причем мне советовали пить только простую и не мешать с рябиновкой и другими. Вообще, в ту пору только «белая головка» считалась приличным напитком, а остальные не заслуживали уважения. За обедом благородным напитком считался сухой херес или сухая марсала.
После обеда – коньяк и виски. Конечно, каждый сорт вина повторялся по многу раз, и к концу еды я чувствовал себя весьма неуверенно. Но вот подали виски. Г. взял мой бокал, налил его до половины, долил содовой водой и стал меня уверять, что после сытного обеда ничего не может быть приятнее этого напитка.
Как мне уже ни казались противными все напитки, я все же, чтобы «не ударить лицом в грязь», отхлебнул немного из своего стакана и невольно сделал гримасу. Напиток был отвратителен: какая‑то смесь керосина со спиртом, да еще слегка подслащенная. Я не мог скрыть отвращения, и это привело моего учителя в восторг. Посмеявшись, он спросил, нравится ли мне виски. Я покривил душой и ответил, что, хотя и не особенно нравится, но пить можно. И стал делать вид, что пью. В голове сильно шумело, и временами все начинало качаться и застилаться туманом. Я ждал только ухода командира и собирался тотчас же добраться до своей каюты, благо, она была тут же рядом.
Этот практический урок выпивки прошел для меня не без пользы. Кроме того, я обогатился еще целым рядом полезных познаний: о сортах и качествах вин, и когда, в каких случаях и какое именно вино надо пить. Не без пользы остались и практические советы опытных людей вроде того, что перед выходом в море отнюдь не следует пить много сладких ликеров, и что, наоборот, сухие вина вреда принести не могут и т. п. Все это иллюстрировалось примерами и эпизодами из прежних плаваний, вспоминалось, где и сколько вина было выпито, и с большим уважением отзывались об офицерах, некоторые из которых в этой области составили себе почти легендарное имя.
Проспал тяжелым глубоким сном более четырех часов, но и после этого сна голова болела ужасно, и вообще чувствовал себя довольно плохо.
Вечером мы решили идти в шантан, известный тогда в Либаве под названием «Гамбургский сад». Это далеко не первоклассное заведение. В такие места я тоже попал в первый раз в жизни и оттого с большим интересом туда отправился. Но все выступления певиц были очень посредственными, только одна оказалась значительно лучше других. Это была хорошенькая девица, мило спевшая несколько банальных шансонеток. Командир спросил, понравилась ли мне эта певица, и я должен был сознаться, что понравилась, и даже очень.
– Ну и отлично, – сказал он, – тогда ее и пригласим к нам, да перейдем, кстати, в кабинет. – Мы охотно согласились, и лакей получил соответствующие распоряжения.
Вскоре пришла приглашенная артистка и была радушно встречена всей компанией. Она оказалась чрезвычайно веселой и, болтая всякий вздор, быстро всех развеселила. Между прочим, командир ей указал на меня и сказал, что вот молодой мичман, который первый раз в жизни в кафе‑шантане и также первый раз находится в обществе такой очаровательной дамы, как она. От такой рекомендации я очень смутился и пробовал себя выгораживать. Однако ничего не вышло, и я почувствовал, что еще сильнее покраснел, чем доставил своим компаньонам огромное удовольствие. Однако командирская рекомендация заинтересовала нашу даму, и она энергично принялась за меня. Вообще, она всех очаровала, так что скоро мы наперебой целовали ей ручки, подносили цветы и, к великому удовольствию хозяина и лакея, поили без меры шампанским. Когда же она стала петь шансонетки и кое‑что протанцевала, то нашему восторгу не было границ. Уж была ли она в действительности так прелестна и такой хорошей певицей – я сейчас сказать не решусь, но бесспорно, что вино сильно подогревало наше восторженное настроение. Совсем незаметно мы досидели до того момента, как за окном забрезжил свет. Приходилось отправляться по домам. При прощании наша дама игриво спросила:
– А кто же пойдет меня провожать? – и, взглянув на меня, шутливо прибавила: – Надеюсь, это не откажется сделать мичман. – Страшно польщенный, я моментально изъявил полное согласие, но совершенно неожиданно командир категорически заявил, что не разрешает этого и, чтобы никому не было обидно, провожать пойдет сам. Я уже собирался было серьезно обидеться, но все начали смеяться, и мне пришлось покориться.
Как ни весело прошло время в «Гамбургском саду», тем не менее мы с удовольствием вышли на свежий воздух. Было чудное майское утро, и кругом так хорошо, что спать совершенно не хотелось, и все незаметно повернули на взморье. После легкомысленных разговоров мы перешли на философские темы, до которых был такой охотник мичман Щ. Да и как не увлечься высокими материями, когда весеннее утро наполняет воздух такой бодрящей свежестью и вливает в кровь столько энергии. Только около шести часов мы добрались до транспорта и разошлись по каютам.
Через два дня, достаточно пресытившись Либавой, «Артельщик» вышел продолжать работу. Он должен был зайти в Виндаву, обставить вехами вход в Рижский залив, который командир не обставил по пути в Либаву, и наконец пойти в Ригу. В Виндаве мы простояли всего несколько часов, так как командир боялся упустить хорошую погоду, и пошли к Церельскому проливу. Этот пролив изобилует мелями, особенно с западной стороны, так что работа предстояла сложная, и здесь пришлось провозиться добрых пять дней. Еще, на счастье, все время стояла прекрасная погода при слабом ветре.
Обставлением входа в Рижский залив заканчивалась и вся порученная нам задача по ограждению опасностей, и я не мог не сознаться, что она дала мне много полезных морских знаний и познакомила с постановкой навигационной части, которая отлично была у нас организована. Мне также удалось ознакомиться с устройством целого ряда маяков и с жизнью на них. Таким образом, назначение в Ревель принесло немало пользы, и плавание было много интереснее, чем на каких‑нибудь учебных кораблях Артиллерийского отряда, на которых служило много моих товарищей.
Пройдя Рижский залив, мы рано утром стали подыматься к Риге, где ошвартовались у таможенной набережной. Выпив чаю, я и мичман Щ. привели себя в порядок и пошли гулять по городу.
Ранней весной, когда деревья и газоны еще только покрываются зеленью, Рига, со своими бульварами и парками, очень красива, и мы долго гуляли и даже обедали не на корабле. Вечером же решили пойти на музыку в Вормский парк, где играл хороший оркестр и было много публики. Я заметил одну красивую молодую даму или барышню, которая шла с другой, более солидного возраста. Так как ходить одним порядочно надоело, то мы решили, если представится случай, познакомиться с ними. Такой случай и не замедлил представиться: они уселись за столик, а кругом все места были заняты, и мы тем самым получили право просить разрешение присесть за тот же столик. Разрешение мы получили, и дальше уже стало нетрудным завязать разговор. Начались расспросы о морской жизни и выражались симпатии к морским офицерам.
К нашему удовольствию, новые знакомые оказались дамами разговорчивыми и милыми, так что незаметно почувствовалось, точно мы с ними знакомы уже с давних пор. Мы даже позволили себе предложить им поужинать с нами, и беседа затянулась до полуночи, когда публика уже начала расходиться. Но все не хотелось расставаться, и мы решили прокатиться за город, чтобы насладиться красотой весенней ночи. Настроение у компании создалось прекрасное, и все оживленно делились впечатлениями.
Уже было около двух часов, когда извозчик привез нас обратно в город, и дамы попросили на одном из углов их выпустить. С огромным сожалением мы стали прощаться, без надежды еще когда‑либо встретиться. Они не знали наших фамилий, а мы не знали, кто они. Наше знакомство и так приятно проведенный вечер уже становились воспоминаниями. Продолжения не предвиделось. Зато на душе оставалось хорошее впечатление, без всякого осадка.
Возвращаясь на корабль, разговорились и пришли к заключению, что именно такие случайные знакомства и приятны и бывают они чаще всего у моряков: сегодня мы в одном городе, завтра уходим в море и через несколько дней в другом, а там новые люди, новые встречи, и жизнь течет весело и разнообразно. Так бы, кажется, всю жизнь и путешествовать по морям и океанам, люди и обстановка будут непрерывно меняться, как в калейдоскопе, и никогда не соскучишься. Приятны эти знакомства тем, что знакомишься с людьми только поверхностно, и они стараются себя показать лишь с хорошей и приятной стороны, и кажется, что у них отрицательных сторон и нет.
Еще четыре дня «Артельщик» простоял в Риге и затем Моонзундом прошел в Ревель. Итого, первого плавания было уже более шести недель.
В Ревеле меня ожидала большая неожиданность: командир порта получил телеграмму из Главного Морского штаба о срочном командировании меня в распоряжение этого штаба. Это означало, что я буду назначен на один из кораблей эскадры, идущей на Дальний Восток под началом вице‑адмирала Рожественского[63]. Конечно, я ног под собой не чувствовал, узнав про это, и стал быстро укладываться.
Ревель мы застали значительно ожившим после зимней спячки. Летом Ревель оживлял главным образом Артиллерийский отряд, состоявший из большого числа кораблей. Отряд стоял до сентября на Ревельском рейде и почти ежедневно выходил на стрельбы.
На улицах города можно было встретить много офицеров и матросов, особенно по праздничным дням и вечерам. Вообще, в это время Ревель нельзя было узнать, и из тихого и скучного он превращался в оживленный и даже веселый военный порт. Центром сосредоточения летней жизни являлся известный Екатериненталь. Великолепный парк, с аллеями, обсаженными дубами екатерининских времен. Кругом парка ютились дачи, нанимаемые семьями морских офицеров. Посреди парка стоял летний губернаторский дворец и рядом с ним летнее Морское собрание.
Холостая молодежь уделяла большое внимание «Горке», то есть кафе‑шантану на Вышгороде. По вечерам там можно было встретить представителей со всех кораблей отряда. Этот шантан давно уже приобрел характер заведения, специально приспособленного для морских офицеров, и местные жители там встречались редко. Но, конечно, на «Горке» не обходилось без скандалов, благодаря чему начальство отряда смотрело несколько косо на его посещение офицерами. Однако начальство и понимало, что какой‑то клапан для молодежи нужен и одного Морского собрания недостаточно. Как ни весело проводили там время на вечерах, но все же молодежь тянуло и в другую обстановку.
Сделав днем прощальные визиты немногочисленным ревельским знакомым, я вечером отправился на «Горку» в большой компании мичманов моего выпуска, плававших на Артиллерийском отряде. Нас собралось так много, что мы заняли даже несколько столиков и чувствовали себя, как дома. Не столько нас интересовало то, что делается на сцене, сколько собственные разговоры о своих кораблях, службе и, главное, планы – как устроиться на эскадру Рожественского. Многие завидовали мне, что я уже получил на нее назначение, и в результате этот вечер превратился в мои проводы, которые продолжались до утра и с «Горки» были перенесены в Общественное собрание, а оттуда в какое‑то подозрительное кафе и дальше. Конец программы мы уже с трудом могли вспомнить, и большинство вернулось на корабли к подъему флага. В будущем оказалось, что не только я, но и все мои друзья, проведшие вместе этот вечер, попали на ту же эскадру, и тот вечер был как бы нашими взаимными проводами, тем более что многие из его участников погибли в бою.
На следующий день[64] я распрощался с «Артельщиком», его командиром, мичманом Щ., подпоручиком X. и великолепным Ф. – со всеми своими первыми соплавателями. Я с ними прослужил всего около двух месяцев, но как они все, так и самое плавание оставили во мне хорошее воспоминание. Покидал я «Артельщик» с удовольствием, но не оттого, что его не любил, а оттого что стремился на войну и желал плавать на боевых кораблях.
Вечером, как почти пять месяцев тому назад, опять фурман меня вез с моими вещами, но теперь уже на вокзал. Ревель не казался мне уже больше таким противным, как тогда, когда меня судьба впервые сюда закинула, но, не скрою, я все же с удовольствием его покидал.
На следующий день утром я был уже в Петербурге. В тот же день я побывал в Главном Морском штабе, чтобы получить предписание и узнать, на какой корабль назначен. Но там меня ждало большое разочарование: выяснилось, что я назначался на какой‑то вновь купленный пароход по названию «Иртыш», который приспосабливался под военный транспорт и войдет в состав эскадры. Значит, опять предстояло плавать на транспорте.
Что за непонятный рок судьбы: я все время стремлюсь на боевые корабли, а попадаю на транспорты! Это казалось ужасно обидным, и хотелось идти к начальнику штаба и просить изменить назначение. Только какой‑то страх перед большим начальством и неуверенность, что я смогу объяснить, почему я недоволен этим назначением, удержали меня в ту пору от этого шага и, может быть, спасли мою жизнь, так как если бы я плавал на одном из броненосцев, то, наверное, погиб, как многие из моих друзей. С тех пор я усвоил себе за правило не напрашиваться и не отказываться ни от каких назначений и никогда в этом не раскаивался. Я вверялся судьбе, указанной нам свыше.
«Иртыш» стоял в Порту Императора Александра III, то есть в Либаве, в которой я еще так недавно веселился. Либава оставила во мне все‑таки лучшее впечатление, чем Ревель, и туда я ехал теперь с удовольствием. Простившись с родителями, которых перед уходом эскадры на Дальний Восток я больше не рассчитывал видеть, я отправился на Варшавский вокзал. Предстояло ехать около 22 часов с пересадкой в Риге.
– Итак, еду на войну! – твердило что‑то внутри меня, возбуждало и неудержимо готово было прорваться всякую минуту наружу.
Глава двенадцатая
В Либаве, на знаменитом либавском «осьминоге», я с вокзала до порта ехал добрый час. Эти «осьминоги» – как называют в Либаве извозчиков – положительно, составляли местную достопримечательность: прежде всего, пара удивительных кляч, затем допотопный рыдван, отделанный красным бархатом, от времени давно утерявшим всякую яркость цвета; достаточно только присесть, чтобы убедиться, что пружины давно отказались служить, а при езде на ухабах и рытвинах так подбрасывало, что опасно было разговаривать. Зато «осьминоги» были очень вместительны, и по ночам, после пирушек, мы «вклинивались» в них по шесть и более человек.
В порту я увидел несколько огромных пароходов, которые только что пришли из Германии, где они были куплены (четыре на добровольные пожертвования) и переделывались сейчас во вспомогательные крейсера. Эти океанские пассажирские пароходы имели водоизмещение в 14–15 тысяч тонн и назывались: «Урал», «Терек», «Кубань» и «Дон». «Урал» был совсем новый, а три последних – довольно старые. Кроме этих пароходов было еще два грузовых, купленных Морским министерством, – «Иртыш» и «Анадырь». На них уже началась перестройка помещений, установка орудий; они спешно готовились к походу.
«Иртыш» стоял ошвартовавшись у стенки, так что извозчик мог подъехать почти к самому трапу, и я начал взбираться по нему, точно на пятиэтажный дом. На палубе меня встретил вахтенный начальник, прапорщик запаса флота, и посоветовал пойти в кают‑компанию, где в этот момент находились командир[65], старший офицер и все офицеры. Командир стал меня расспрашивать, какого я выпуска, и, узнав, что последнего, громко сказал: «Удивляюсь, что таких молодых и неопытных офицеров назначают на корабли, предназначенные в такое трудное плавание».
Хотя он и был до известной степени прав, так как я действительно был молод и неопытен, но все же его слова меня достаточно обидели и обескуражили. Этот прием остался у меня в памяти во все время моей службы на «Иртыше», и я напомнил его командиру, когда он несколько месяцев спустя, разочаровавшись в «опытных» офицерах из запаса, призванных с торгового флота, стал на меня возлагать последовательно самые ответственные обязанности. Очевидно, не всегда лета и годы службы могут служить мерилом пригодности и дельности офицера.
Старшим офицером «Иртыша» был лейтенант запаса Петр Петрович Шмидт[66]. Он до этого назначения командовал пароходом Русского общества пароходства и торговли «Дианой» и уже много лет не служил на военном флоте. Кроме него, был лейтенант запаса Ч. (Черепанов. – Примеч. ред.)[67] и мичман Ч. (Чис. – Примеч. ред.)[68], годом старше меня по выпуску. Все остальные офицеры были с торгового флота. Они, безусловно, являлись опытными моряками, проплававшими по многу лет на коммерческих судах, но имели слабое понятие о службе на военных, а между тем вся команда на «Иртыше» была военная, и транспорт предназначался для плавания в составе боевой эскадры. Поэтому было, конечно, крайне необходимо иметь на транспорте хоть часть офицеров строевых, для поддержания и укрепления внутреннего распорядка и для правильной постановки ходовой вахтенной службы, имеющей такое первостепенное значение для боеспособности всей эскадры.
С офицерами я быстро сошелся, хотя они принадлежали в большинстве случаев к другому слою общества, чем мы, строевые офицеры, да и, кроме того, на коммерческом флоте существовали иные нравы и обычаи, не такие, как на военном. Но все‑таки мы были, прежде всего, моряками, а служба на море сглаживает различия не только кастовые, но и национальные, и потому даже моряки разных стран находят между собою общий язык.
«Иртыш» оказался еще далеко не готовым, и на нем шли работы: заканчивались приспособления помещений для команды и кают офицеров, устанавливались орудия, устраивались бомбовые погреба и производились различные мелкие переделки. Из этого было ясно, что уход может состояться еще только через два‑три месяца, и, следовательно, все это время мне предстоит провести в Либаве.
Первый раз в жизни я был на таком большом корабле, как «Иртыш». Его водоизмещение равнялось приблизительно 18 тысячам тонн, а в те времена это считалось много. Не без некоторого изумления заглядывал я с верхней палубы в глубину пяти огромных трюмов, каждый вместимостью около 2 тысяч тонн. Снаружи транспорт имел вид сравнительно красивый, насколько может быть красивым грузовой пароход. Во всяком случае, имел стройные обводы, а четыре мачты и одна высокая труба производили даже внушительное впечатление. Ход имел теоретически одиннадцать узлов, но, нагруженный, больше девяти не давал.
Жилые помещения располагались, как обычно на таких пароходах, посередине. Кают‑компания – под командным мостиком. Каюты командира – рядом с ним, офицерские – на спардеке, над машинными и котельными отделениями. Для команды устроили помещение под спардеком, так как теперь команда была гораздо многочисленнее, чем когда «Иртыш» плавал под коммерческим флагом. По нашей табели числилось около 250 человек, да и то с трудом хватало их для несения службы, согласно правилам Морского устава. Кроме того, надо было иметь в виду, что впереди были многие месяцы похода и, следовательно, команде предстояло нести непрерывно ходовые вахты.
Командовал «Иртышом» капитан 2‑го ранга Е., когда‑то выдающийся офицер, подававший большие надежды, но сгубивший свою карьеру вином. Он был неплохим человеком, но все же сильно опустившимся и под влиянием винных паров (а это случалось часто) становился неприятным. За это его на корабле не очень любили. Кроме того, он в самом начале стал несколько фамильярно относиться к офицерам с коммерческого флота, среди них же оказались люди простые, не обладающие тактом, которые стали отвечать тем же. В результате у Е. начались недоразумения. Также вначале хорошие отношения со старшим офицером Шмидтом скоро переменились к худшему, особенно оттого, что он всегда держал себя независимо.
Это был тот самый лейтенант Шмидт, с именем которого связана история Черноморского бунта 1905 года. Этот бунт унес много невинных жертв, наложив на флот позорную печать революционности, и стоил жизни самому Шмидту. Мне пришлось прослужить с ним семь месяцев, и, конечно, в то время я себе и представить не мог, какая роковая роль предназначена судьбою этому лейтенанту запаса. У нас он считался, по справедливости, симпатичным человеком, и почти все офицеры «Иртыша» его любили.
Его образ запомнился мне хорошо. Лет около сорока от роду, с виду некрасивый, но с приятными чертами лица, среднего роста, темноволосый с проседью и всегда с грустными глазами. Бывают люди, которым не везет с первых же шагов жизни, и из‑за этого они озлобляются и начинают искать каких‑то особых для себя путей. К таким людям принадлежал, по‑моему, и Шмидт. Окончив Морской корпус и выйдя в офицеры, он попал на Дальний Восток, рано влюбился и женился, но семейная жизнь сложилась неудачно. Виноват ли в этом был он сам или нет – неизвестно, но на нем эта семейная неурядица сильно отозвалась.
Одновременно начались неприятности по службе, так как он не мог как‑то к ней приспособиться. Шмидт покинул военную службу. Поскитавшись по России, он поступил на коммерческий флот. Там у него тоже выходило много недоразумений, и это его все больше озлобляло и разочаровывало. В конце концов он все же достиг должности сравнительно самостоятельной, капитана грузового парохода.
Он происходил из хорошей дворянской семьи, умел красиво говорить, великолепно играл на виолончели и был мечтателем и фантазером, истинным сыном своего века и продуктом русской либеральной интеллигенции. Пока были только планы, предложения и добрые намерения, все шло отлично, но когда дело доходило до выполнения замыслов, они оказывались гибельными фантазиями, а сами исполнители – тупыми теоретиками. Когда же практика жизни показывала им, к чему ведут их сумасбродные идеи, они нередко и сами ужасались, да сделанного не вернешь. Зная хорошо Шмидта по времени совместной службы, я убежден, что, удайся его замысел в 1905 году и восторжествуй во всей России революция, которая тоже неизбежно перешла бы в большевизм, он первый бы ужаснулся от результатов им содеянного и стал бы заклятым врагом большевиков.
Повторяю, я тогда и не подозревал, что Шмидт является участником какого‑то «революционного движения», в особенности во время войны, и, хотя он меня любил и всецело доверял, ни разу, даже намеком, не давал понять о своих «подпольных» интересах. Только один раз мне показалось его поведение немного странным: он позвал к себе лейтенанта Ч. и мичмана Е. (Емельянов. – Примеч. ред.)[69], а меня, вопреки обыкновению, не пригласил; видя же мое недоумение, бросил мне фразу:
– Ты еще так молод, что многое тебе рано знать, и я не хочу тебя смущать.
Тогда я, конечно, не мог догадываться, в чем дело. Шмидт был хорошим моряком, любил море и морскую службу, но не на военном флоте. Ему всегда хотелось быть хозяином своих действий, что на военной службе в полной мере никогда невозможно. Кроме того, он хронически не ладил с начальством, от этого страдал по службе и считал себя борцом за угнетенных. Он часто заступался, как ему казалось, за обиженных и этим создавал себе неприятности.
Как всегда на военных кораблях, весь распорядок внутренней службы ложился на старших офицеров. Так и на «Иртыше» командир возложил на Шмидта всю тяжесть устройства внутренней жизни и ведения работ по переделкам. Первое время он всецело отдался этой деятельности, но вскоре она ему надоела, так как вообще был склонен работать порывами, а не систематически.
Наша команда в своей главной части, как и офицеры, была призвана из запаса, и понятно, что матросы, которые только что отслужили семь лет, очень тяготились внезапным возвращением на службу. Они только что успели осесть на земле и начали втягиваться в близкую их душе жизнь, как грянула непонятная для них Японская война, и им опять пришлось все бросить и ехать служить. В довершение ко всему, эта новая служба не ограничивалась простым выполнением обязанностей, а грозила опасностями, угрожала самой жизни.
Такой личный состав как боевой материал, конечно, не был особенно высокого качества, и с ним неприятно и трудно было иметь дело. Кроме того, по обычаю того времени к нам из экипажа сплавили много штрафованного элемента, который вел себя и совсем плохо. Шмидт энергично боролся со всеми отрицательными сторонами команды и действовал решительно. Я сам видел, как он несколько раз, выведенный из терпения недисциплинированностью и грубыми ответами некоторых матросов, их тут же бил. Вообще, Шмидт никогда не заискивал у команды и относился к ней так же, как относились и другие офицеры, но всегда старался быть справедливым.
Шмидт был незаменимым членом кают‑компании: веселым собеседником, хорошим товарищем и приятным компаньоном при съездах на берег, и мы, молодежь, за это его очень любили. Но и его общительность и веселость отличались порывистостью, и часто на него находили периоды хандры и апатии, тогда разговорчивость пропадала, и он ходил мрачный и нелюдимый.
Близко он сошелся только с кадровыми морскими офицерами, а с офицерами торгового флота хотя у него и были хорошие отношения, но не близкие. Что мы особенно в нем ценили, это игру на виолончели. Когда он по вечерам имел настроение, то садился у двери своей каюты и начинал играть… Нежные, задушевные звуки лились так красиво, сливаясь с шепотом морских волн, и исчезали где‑то вдали, в темноте сгустившихся сумерек. Он долго играл, а мы, как очарованные, сидели кругом и с напряжением слушали. Много приятных вечеров он доставил нам своей игрой. В игре Шмидта выливалась вся его душа – мятежная, неудовлетворенная, уносящаяся за химерами, и всегда несчастная, но гордая.
Он, несомненно, был поэтической натурой и сам себя не понимал и, во всяком случае, меньше всего походил на революционера‑фанатика. Ни холодного расчета, ни честолюбия и цинизма в нем не было. Увлекаясь желанием сделать России что‑то хорошее, он попал на ложный путь и заблудился.
Шмидт горячо любил своего сына. Я смутно помню маленького гимназиста, кажется, Одесской гимназии, который с матерью изредка приезжал на «Иртыш», радостно встречаемый отцом. После его отъезда Шмидт много о нем говорил, и его слова всегда звучали горячей любовью. Как и все, он и сына окутывал каким‑то особенным ореолом страданий, и ему все казалось, что ему скоро придется с ним навеки расстаться.
Кроме Шмидта у нас был еще один хороший музыкант, старший механик П. (Порадовский. – Примеч. ред.)[70], прекрасно игравший на рояле. Иногда составлялись такие дуэты, что и на берег не хотелось ехать. П. все очень любили, так как, несмотря на свои сорок лет, он обладал молодой душой и был незаменимым при «больших» и «малых» выходах на берег.
«Иртыш» продолжал готовиться к походу, как и все остальные пароходы, находившиеся в Порту Императора Александра III. К этому моменту туда еще пришли два вспомогательных крейсера: «Рион» и «Днепр», которые должны были скоро уйти на поиски контрабанды в Индийский океан. Благодаря такому большому скоплению кораблей и порт, и город оживились. Улицы пестрели морскими офицерами и матросами, и, кажется, никогда еще магазины, рестораны и увеселительные места так не процветали.
Нашей излюбленной гостиницей была «Петербургская», имевшая две половины – черную и чистую. Черная находилась в старом доме и имела только ресторан, в который мы ходили пить пиво и закусывать у стойки. Эта стойка всегда изобиловала отличными закусками самых разнообразных сортов, и, когда по делам службы приходилось утром бывать в городе, сюда охотно забегали «выпить». На этой половине также давали отличное пиво в огромных немецких кружках, да и вся обстановка напоминала средневековые пивные.
Среди кельнеров был один, не то Фриц, не то Фридрих, который мог поглощать бесконечное количество пива и охотно это демонстрировал перед зрителями, которым приходила фантазия этим забавляться. Чистая половина помещалась в новом здании, примыкавшем к старому, и имела комнаты для приезжающих, в которых всегда останавливались морские офицеры. Эта половина, кроме того, имела приличное помещение для ресторана и летом садик, где можно было обедать.
Также большими симпатиями пользовалась кондитерская Боница, где продавались прекрасные пирожные, особенно трубочки со сливками, и отличный шоколад. Впрочем, главной приманкой были здесь и хорошенькие продавщицы, за которыми многие мичманы ухаживали. Однажды с одним офицером даже приключилась пренеприятная история. Он расплачивался у стойки и так увлекся, любезничая с одной из продавщиц, что незаметно сел на табуретку, которая стояла тут же. Он, конечно, не заметил, что на табуретке находилась большая корзина, покрытая бумагой, и с ужасом вскочил, когда услышал сильный треск ломающихся яиц и неприятную скользкость сиденья. Но было уже поздно: все его пальто оказалось вымазанным разбитыми яйцами. Шум привлек внимание публики, поднялся невольный общий хохот, а виновник происшествия не знал, куда деться от конфуза.
В то время в Либаве жизнь создалась такая, как всегда бывает в тылу действующих армий. Офицерство веселилось в предвидении ухода на войну, и оттого это веселье приобретало бесшабашный характер. Все как бы оправдывались предстоящим длительным походом, полным всяких лишений и опасностей, целью которого была встреча с японским флотом в бою.
На берег разрешалось съезжать только после работ, которые кончались в пять с половиною часов вечера, но большинство оставались на корабле ужинать и попадали в город часов около восьми. Тогда мост через канал еще не был готов, и приходилось переезжать на пароме или идти на шлюпках к пристани на противоположной стороне, или, наконец, в объезд всего порта на извозчике.
Один такой съезд с корабля занимал много времени. Но далее, до города, еще надо было ехать добрых полчаса на трамвае. Обратно в порт мы почти всегда возвращались после полуночи, когда трамваи уже не ходили; доставлял нас «осьминог», в котором обычно целой компанией и дремали мы весь путь. Особенно неприятна была переправа ночью на пароме, который, как назло, всегда оказывался на противоположной стороне. Приходилось невероятно долго его вызывать и потом нудно и медленно переползать через канал. Холодный и сырой ветер пронизывал насквозь, и мы не раз давали обещание больше не ездить в город. Разумеется, на следующий день повторялась та же история.
Самым оживленным и фешенебельным местом сбора летом был кургауз на берегу моря. Здесь вечерами собиралось все общество и заводились знакомства. В этом году съезд был особенно большой. Были приехавшие и из очень отдаленных краев России. Появилось много дам «с сомнительным прошлым» и просто дам, искавших приключений. Морские офицеры пользовались большим успехом и были нарасхват. С кем только ни приходилось знакомиться, гулять по берегу моря, сидеть по ночам на скамейках парка, ездить кататься и танцевать на вечерах. Вообще, время шло оживленно, и казалось, что каждый день – праздник. Молодежь веселилась от души, искала разнообразий и жила только настоящим.
После закрытия кургауза особенно веселые компании перекочевали или в «Гамбургский» или в «Семейный» сады. Оба этих учреждения были совсем не сады и еще менее семейные. «Семейный» сад находился в глухом месте, на пути между портом и городом, и это обстоятельство, по‑видимому, и было причиною того, что все его антрепренеры прогорали. Помню, как‑то раз с несколькими приятелями мы случайно туда попали и узнали, что выступавший цыганский хор совершенно прогорел. Хористам даже не могли заплатить, и на следующий день они покидали Либаву в самом бедственном положении. С горя в эту ночь они решили устроить свой собственный кутеж и стали нас упрашивать, чтобы и мы тоже приняли в нем участие. Кроме нас и хора, в шантане никого не было; июльская ночь обещала быть теплой и красивой, среди хористок мы заметили несколько хорошеньких цыганок и потому охотно согласились. Конечно, на наше решение повлияло главным образом последнее обстоятельство, а не хорошая погода, и мы не раскаялись.
Хор расселся с нами за столиками, и началось пение. Грустные и страстные романсы чередовались с веселыми и удалыми песнями. Настроение, подогретое вином, все поднималось, все казались такими милыми и хорошими. Мы быстро подружились с хористами, и они беспрестанно пели «чарочки» в нашу честь. Затем пение сменилось танцами, а потом даже перешло в горелки. Когда все устали, то начались нескончаемые беседы, недаром вино располагало к откровенности. Мы угощали их, и шампанское лилось рекой. Хорошенькие цыганки давно уже покорили наши сердца, но мы не переходили границ, не желая испортить отношений с остальными.
Чем дальше шло время, тем больше «дым шел коромыслом» и становилось веселее. Надо отдать справедливость, что хор вел себя безукоризненно и нам оказывал полное уважение, не допуская никаких фамильярностей. Действительно, ночь выдалась «безумная» и «бессонная», как поется в одном цыганском романсе, и мы стали приходить в себя только, когда забрезжил восход. Пора было кончать. Извозчиков не оказалось, и приходилось идти до парома пешком. Это, впрочем, было не особенно далеко. Хор предлагал нас проводить. Мы с удовольствием согласились, благо в такую раннюю пору никого не рассчитывали встретить, и вся компания двинулась в путь.
Шествие вышло не совсем подобающим для офицеров, но все так были полны впечатлениями проведенного времени и цыгане так трогательно отнеслись к нам, что мы позабыли все условности. Дойдя до пристани, наши друзья пропели прощальную песнь, и мы, совсем поэтично, уплыли от них на неуклюжем пароме. Этот случайный вечер оставил какое‑то хорошее, трогательное воспоминание и надолго запечатлелся в памяти. Как‑то выбрался наш хор из Либавы? Впрочем, мы им кое‑как помогли.
На нашем корабле комплект офицеров все больше пополнялся и немного менялся: ушел ревизор, мичман Ч., его заменил лейтенант Ч., появились вновь назначенные мичманы Е. (Емельянов. – Примеч. ред.) и К. (Корссаковский. – Примеч. ред.)[71], и несколько офицеров запаса. Назначение Е. и К. для меня оказалось большой радостью, так как они оба были симпатичные люди и мы сразу подружились, и дружба продолжалась долгие годы.
Появились также, совсем неожиданно, две прекомичные личности – прапорщики по механической части Н. (Новиков. – Примеч. ред.)[72] и П. (Потапенко. – Примеч. ред.)[73], солидного возраста, лет под пятьдесят. Совершенно неинтеллигентные, с типичным одесским говором и примитивными взглядами. До призыва они служили в одном пароходном обществе и даже плавали на одних и тех же пароходах. Это их сближало, но они – на беду – завидовали друг другу и оспаривали старшинство. На этой почве их поссорить ничего не стоило, и молодежь этим часто пользовалась, на потеху всей кают‑компании. Н. в приказе о производстве в прапорщики попал выше П., и мы его уверили, что он, таким образом, начальство для П. и тот должен перед ним вставать. При первом же удобном случае он не замедлил попробовать использовать свое мнимое право и потребовал, чтобы П. встал. Разыгралась такая сцена, что чуть дело не дошло до драки.
Как ни странно, Н. был неграмотен и даже вместо подписи ставил крест, а П. умел прилично писать, и вот тут он старался ставить Н. в глупые положения перед ним. Когда в Одессе Н. и П. узнали о своем производстве в прапорщики, они немедленно купили форму и отправились к фотографу. Первый снялся в мундире, треуголке и с обнаженной саблей в руках, а второй, как более скромный, сабли не обнажил, а мечтательно облокотился на какую‑то тумбу. Фотографии заказали самого большого размера и страшно ими гордились, но как‑то имели неосторожность показать нам. После этого, конечно, мы их так «разыграли», что они, бедные, не знали куда деваться и закаялись когда‑либо вытаскивать эти злополучные фотографии.
Слабостью обоих были женщины легкого поведения или, по‑одесски, «душки». Это им не мешало иметь жен и, по‑видимому, довольно строгих, которых они боялись. В Либаве Н. и П. очутились на холостом положении, и им сразу же захотелось в этом направлении развернуться, но тут неожиданно встало большое препятствие: оба втайне боялись, что один на другого донесет жене, и те немедленно приедут. Как только эти старые механики ни старались друг от друга скрывать свои похождения и каких только фокусов для этого они ни придумывали, к нашей величайшей потехе!
Но Либава была слишком маленьким городом, и однажды вечерком они встретились: оба восседали на извозчиках и каждый имел с собой даму. Желая схитрить, оба сделали вид, что этого не заметили. Однако после первой же ссоры П. не утерпел и написал об этой встрече жене Н. Та, недолго думая и не предупредив мужа, прикатила в Либаву. Н. очутился под строгим контролем. Однако и П. недолго после этого пользовался свободой: его жена скоро тоже была поставлена в известность о подвигах ее благоверного, и через несколько дней можно было наблюдать, как П. степенно шествовал под руку со своей дражайшей половиной.
Получение офицерского звания ничем не изменило примитивность натур Н. и П., и оба они понятия не имели, как должно офицеру себя держать. На «Иртыше» к командиру и старшему офицеру обращались они не иначе, как «ваше высокоблагородие» и с трудом могли понять, что этого не следует делать. К нам, строевым офицерам, чувствовали они бесконечное почтение и считали за величайшее счастье, если мы позволяли им вместе съезжать на берег, что, впрочем, нами допускалось в исключительных случаях. Прилично есть за столом Н. и П. совершенно не умели, и им пришлось пройти суровую школу под градом наших насмешек, и только через несколько месяцев наши механики приблизительно приняли «христианский вид».
Все приготовления к походу были закончены, и нас переставили в канал. Началась осень, а с нею и свежие погоды. Особенно памятен один шторм, который дул с невероятной силой от норд‑оста и чуть не повлек за собою аварию «Иртыша». Стоя в канале, приходилось швартоваться за якоря, закопанные в песок на берегу. При огромной величине борта наш корабль представлял большую площадь парусности, и поэтому, когда начался шторм, швартовы натянулись, как струны, и якоря, не выдержав, стали ползти. Положение становилось достаточно угрожающим, т. к. ветер мог или нанести нас на другой берег, или поставить поперек канала. И в том и в другом случае «Иртыш» с силой приткнулся бы к мели и, наверное, погнул бы днище и лопасти винтов. Дополнительных швартовов не за что было занести, буксиры в такой ветер не могли бы вывести нас из канала, а своими машинами, при малой глубине, мы не могли управиться. Наше положение казалось безвыходным.
Дело происходило ночью. Я стоял на вахте с 12 до 4 часов утра, так называемую «собаку». Ветер все крепчал, якоря все заметнее ползли, и швартовы угрожали лопнуть в любой момент. Мне пришлось послать доложить старшему офицеру об угрожающем положении, тот немедленно выскочил из каюты, послал меня на ют, а сам побежал на бак. При большой длине «Иртыша» да еще свисте ветра передать приказание с носа на корму голосом было невозможно, и оставалось только посылать распоряжения через матросов; однако при почти полной темноте на это уходило добрых пять минут. Таким образом, предстояло распоряжаться самостоятельно, и я не мог рассчитывать на помощь старшего офицера. Пока мне было ясно, что немедленно надо что‑то предпринять, но что именно… вот тут‑то и было испытание для моей находчивости и решительности.
Осмотрев швартовы у клюзов и поняв, что они достигли наибольшего натяжения, я приказал их немедленно потравливать, хотя и сознавал всю опасность этого, так как достаточно было начать раскреплять швартовы, чтобы сильным напором корпуса корабля их начало сучить. К счастью, у меня оказался опытный квартирмейстер, который проделал эту операцию очень умело, и корабль стал медленно катиться к другому берегу. Когда на баке старший офицер увидел, что корма покатилась, он сейчас же приказал травить и носовые швартовы, и нос тоже покатился. Так мы и приткнулись к другому берегу и, легонько ударившись, остановились. Теперь уже опасность миновала, и у этого берега можно было отстояться до тех пор, пока шторм стихнет. Правда, наши швартовы заградили весь канал, и всякое движение стало невозможным, да что поделаешь. К полудню ветер стих, и мы перетянулись на прежнее место.
Заканчивались работы и на других кораблях. Вспоминаю один очень интересный случай, который произошел на «Доне». Его ввели в сухой док для окраски подводной части и исправления кингстонов. Когда работы окончились и в док стали напускать воду, «Дон» неожиданно упал на борт и наполнился водой. Оказалось, что на нем не задраили иллюминаторы нижней жилой палубы и бортовые горловины угольных ям, которые отстояли близко от воды. Переполох поднялся невероятный: к месту катастрофы с соседних кораблей сбежались офицеры и посланные команды. Но не так‑то просто оказалось помочь – пришлось спускать водолазов, которые задраили горловины и иллюминаторы, и только тогда стали медленно напускать воду в док, и «Дон» всплыл. К счастью, он мало помял борт, и никакого дополнительного ремонта не понадобилось.
Вся эта история длилась изрядное число часов и испортила много крови корабельным инженерам и судовому начальству, впрочем, за дело. Во время падения корабля во внутренних помещениях все посыпалось на палубу, и много посуды и других вещей побилось и было попорчено водой.
Перед уходом из Либавы у нас разыгралась неприятная история. Лейтенант Шмидт, старший офицер «Иртыша», вместе со старшим механиком П. пошли на берег и попали на танцевальный вечер в кургауз. Шмидт здесь увидел лейтенанта Д. (Дмитриев. – Примеч. ред.)[74], который в дни их молодости был причиной его семейной драмы. С тех пор он Д. не встречал, но и не забывал своего обещания «посчитаться» при первой встрече. В этот злополучный вечер, спустя много лет, произошла эта встреча, и, когда танцы закончились и почти вся публика разошлась, Шмидт подошел к Д. и, без долгих разговоров, ударил его по лицу.
Произошло общее смятение, и приятели немедленно увели Шмидта и Д., но скандал принял огласку, и им обоим пришлось донести обо всем начальству. Наш командир, который и так не любил Шмидта, был страшно недоволен инцидентом и немедленно донес о нем в штаб адмирала Рожественского. Оттуда последовало распоряжение: «Во время войны никаких дуэлей не допускать, а лейтенанта Шмидта арестовать на десять суток в каюте с приставлением часового»[75].
Мы, офицеры «Иртыша», стояли за Шмидта и искренно его жалели, а Д. презирали[76], так что это даже отразилось на наших отношениях с кораблем, на котором плавал последний. По всему было видно, что Шмидт очень болезненно переживал этот случай и был мрачно настроен во время своего ареста в каюте.
Глава тринадцатая
Наконец, в начале сентября, пришло приказание адмирала Рожественского: «Иртышу» идти в Ревель. Там собралась вся эскадра на царский смотр перед уходом на Дальний Восток. Быстро окончив расчеты с берегом, к назначенному числу «Иртыш» вышел из Порта Императора Александра III в Финский залив.
Перед уходом мы успели побывать у всех знакомых, чтобы проститься, если не навсегда, то на долгое время. Кое у кого уже успели завестись привязанности, и потому прощание было сердечное и довольно грустное. Но, по правде сказать, из Либавы надо было уже давно уходить, так как береговая жизнь начинала слишком многих затягивать, и это вредило службе.
До входа на Ревельский рейд мы дошли благополучно. У о. Нарген нас встретил на портовом буксире флагманский штурман полковник Ф. (Филипповский. – Примеч. ред.)[77], который передал приказание идти на рейд Суропским проходом. Этим проходом прежде глубокосидящие корабли никогда не ходили, и командир выразил сомнение, насколько такое решение правильно и не лучше ли обойти о. Нарген. Но Ф. ответил, что проход недавно промерен и что даже с осадкой большей, чем наша, можно без риска идти. Пришлось подчиниться. Пошли Суропским проливом по указаниям самого Ф. Сначала все шло благополучно, как вдруг мы ощутили легкие толчки, точно корабль через что‑то перескочил, стало ясно, что он коснулся мели. Скоро на мостик пришел старший механик и доложил, что в трюме показалась вода и необходимо принимать меры.
Так как вода все прибывала, то, став на якорь, командир сейчас же поехал с докладом к адмиралу. Тот страшно рассердился и приказал ввести «Иртыш» в гавань и начать разгружать. К нам подошли буксиры и начали буксировать, но, так как они были слабосильны, ворота в гавань узкие и глубины только‑только хватало для нашей осадки, дело шло очень медленно. По‑видимому, адмирал наблюдал за нами и наконец, не выдержав, сел на катер и прибыл на «Иртыш». Он быстро поднялся на мостик и стал сам распоряжаться, но от этого дело не пошло скорее. Я как раз был на вахте. Раздраженный адмирал вдруг обратился ко мне:
– Мичман, вы видите красный огонь на брекватере у входа в гавань?
Я ответил:
– Так точно, ваше превосходительство.
– Так вот, – продолжал он, – когда этот огонь состворится с белым, который находится за ним, вы мне доложите.
Красный огонь я действительно хорошо видел, но какой именно белый имел в виду адмирал, я не мог разобрать, а переспросить побоялся. Чувствовал себя очень неловко и уже предвкушал здоровенный нагоняй. На мое счастье, командир тоже следил за этими огнями и сам доложил адмиралу, что мы подходим к их створу.
Чем втягивание шло медленнее, тем адмирал все больше выходил из терпения и сильнее выражал недовольство: то и дело слышалась ругань и проклятия, и это всех терроризировало. Только к 12 часам ночи «Иртыш» окончательно втянули в гавань, и адмирал уехал, а мы, измученные и подавленные, спустились в кают‑компанию. С утра предстояла спешная разгрузка угля, чтобы как можно скорее войти в док.
Уже с раннего утра офицеры и команда были на работе, которая кипела. От угольной пыли мы все превратились в негров, а в это время другие корабли эскадры готовились к царскому смотру. Скоро и мы получили сообщение из штаба, что Государь Император на следующий день, к пяти часам вечера, прибудет на стенку гавани, где должны быть выстроены офицеры и команды транспортов. На следующий день, к указанному часу, все мы были на своих местах на стенке, во всем чистом, но с подведенными от угля глазами и бровями.
Государь обходил фронт вместе с Государыней и почти с каждым офицером отдельно говорил. Меня он спросил, какого я выпуска, и когда узнал, что последнего, сказал: «А, вы моего выпуска». Это мне доставило несказанное удовольствие. Еще бы, из уст самого Государя я услыхал, что он считает наш выпуск «своим». Затем он обратился с несколькими теплыми словами к команде и, пожелав всем счастливого плавания, успеха и благополучия в предстоящих тяжелых условиях, сел с Государыней в коляску и уехал. Мы же вернулись на корабль, чтобы продолжать без перерыва, день и ночь, выгружать уголь.
Когда эта работа закончилась, немедленно спустили водолазов, которые сообщили, что днище сильно сгофрировано на большом пространстве. Окончательно выяснилось, что без дока не обойтись, и адмирал приказал немедленно идти в Либаву, починить днище и присоединиться к эскадре. Вот тебе и повоевали! Вместо похода за границу – опять в Либаву, где предстояло задержаться неизвестно как долго.
Все с нетерпением ждали, когда выкачают воду, чтобы узнать, насколько серьезно повреждение и как много времени понадобится на его исправление. Наконец вода была выкачена, и корабельные инженеры, а за ними и мы спустились в док. Водолазы оказались правы: днище действительно было помято на большом пространстве. Много листов при этом дали трещины. Одни листы надо было заменить, другие выпрямить. Также пришлось выпрямлять и некоторые шпангоуты.
Корабельные инженеры нас «утешили»: при работе и днем и ночью они не брались выполнить починку ранее двух месяцев. Таким образом, мы в лучшем случае могли быть готовы только к самому концу ноября. Кроме того, предстояла еще погрузка угля, так что не было и надежды ранее половины декабря выбраться из Либавы.
Скоро в Либаву пришла вся эскадра и простояла здесь несколько дней. 1 октября она ушла из аванпорта, и теперь возле нас почти никого не осталось. О том, как дальше двигалась эскадра, до нас доходили только отрывочные сведения. Нас очень взволновал знаменитый Гулльский инцидент. После этого вести об эскадре адмирала Рожественского прекратились. Заходил еще в Либаву отряд адмирала Фелькерзама[78], состоящий из запоздавших своею готовностью судов, но их стоянка в порту продолжалась всего несколько дней. Наша покинутость нас очень мучила, и мы с нетерпением ожидали окончания доковых работ и каждый день приставали к корабельным инженерам все с тем же вопросом: «Скоро ли?»
Наше появление в Либаве после неудачного похода в Ревель произвело сенсацию. Мы снова стали всюду бывать. Но уже наступила глухая осень, кургауз и вообще летние развлечения давно закончились, и начался зимний сезон. Незаметно для себя мы как‑то остепенились и стали вращаться преимущественно в самом солидном обществе. Нас, холостую молодежь, всюду принимали радушно. Ведь мы как‑никак, в понятии маменек, имевших взрослых дочерей, были подходящими женихами, и, следовательно, на нас полагалось обращать самое серьезное внимание.
Особенно хорошо нас, мичманов, принимали в семье командира местного пехотного полка, у которого были две славные дочки. Хотя среди своих офицеров командир и славился суровостью, но к нам благоволил и многое прощал из того, что никогда не простил бы, наверное, своим офицерам. Мы, по юности и неопытности, радушие и любезность хозяев принимали за совершенно естественные к нам чувства и ни минуты не задумывались над тем, что, ухаживая за барышнями, можем им и их родителям дать основание к кое‑каким надеждам. Никто из нас не был настолько увлечен барышнями, чтобы сделать им предложение, и мы просто веселились на всех бесконечных вечеринках, ужинах и выездах на общественные вечера. Но когда стало известно, что «Иртыш» скоро и уже окончательно покидает Либаву, то мы невольно почувствовали, что окружающие от нас чего‑то ждут, и это нас даже удивило.
Незадолго до ухода мы устроили большой прием на корабле, чтобы отблагодарить знакомых за гостеприимство. К нам съехались мамаши, папаши с дочками, и вечер протекал очень оживленно. После веселого ужина мы, чтобы как‑нибудь развлечь молодых гостей, стали показывать им наши каюты, а гости посолиднее остались в кают‑компании пить кофе. Может быть, мы этим некоторым образом и нарушали правила приличий, но нас благосклонно все же отпустили, и вся молодая компания, шаля и дурачась, бродила из каюты в каюту, совершенно забыв о мамашах, пока старший офицер не послал сказать, что пора и возвращаться. Наверное, некоторые родители в этот вечер пережили большое разочарование и нас сильно ругали, так как, увы, мы положительно оказались ничего не понимающими или слишком хитрыми. Но, надо отдать справедливость, что часто мамаши немало портили жизнь своим дочкам, слишком открыто преследуя расчет во всех знакомствах с молодыми людьми и тем самым не давая девицам возможности хоть в молодости от души повеселиться.
Когда определенно был назначен день ухода «Иртыша», мы уговорили Шмидта сделать с мичманами, старшим механиком П. и еще несколькими офицерами прощальный «большой выход» в Либаву. Первоначально отправились в семью одного дьякона, к дочери которого питали большую симпатию. Там нас чрезвычайно радушно приняли: накормили, напоили и отпускать не хотели. Затем поехали в другую милую семью, состоявшую из матери с дочерью. Опять Шмидт очаровал мамашу, и здесь тоже уговаривали остаться, однако времени было не слишком много, и мы, пригласив ехать с нами барышню, отправились дальше.
Следующим этапом оказалась семья командира полка, так сказать, местный центр. Нагрянув туда в таком большом обществе, мы всех переполошили: начались танцы, игры и вообще безумное веселье, которое заразило даже мрачного полковника, и он пустился с нами плясать. Затем подали ужин, и вино еще прибавило резвости, так что все расшалились, как дети. Достаточно напрыгавшись, стали прощаться. Затем развезли по домам барышень, но возвращаться на корабль, конечно, не хотелось. Веселиться так веселиться, до утра!
Решили направиться в «Петербургскую гостиницу». Там опять ужин, кофе и ликеры. П. сел за пианино, и началось «прощание» в холостой компании. Кстати, откуда‑то присоединилось еще несколько человек с «Иртыша», которых мы в семейные дома не взяли. Чтобы никого не обидеть и уже попрощаться действительно на совесть, решили пригласить дам, с которыми многие были близко знакомы. Кто‑то быстро за ними съездил, и не прошло четверти часа, как они пополнили наше общество. Ведь в Либаве все близко и все известно; хороший был город. Что началось потом, это уже нелегко определить: пели, танцевали, спорили, ссорились и мирились, обижались и обнимались. Мысли и языки запутывались, говорилось много глупого, которое казалось умным, и наконец все перемешалось и начался пьяный хаос.
Только случайно кто‑то посмотрел на часы и заметил, что почти семь часов, а в девять надо было быть на корабле. Расплатились, заказали двух «осьминогов» и честь честью поехали домой. Наружно хмеля как не бывало, но внутри он еще далеко не прошел. Вдруг Шмидт увидел, что мы проезжаем базаром и какая‑то баба продает цветы. У него возникла мысль купить корзину и поднести цветы командиру. Остальные восторженно ее поддержали, и немедленно у нас на коленях оказалась корзина с какими‑то довольно жалкими цветами. Все так растрогались при мысли о бедном командире, который не принимал участия в нашем «прощании» и одиноко сидел на корабле, что считали прямо необходимым оказать ему внимание.
На «Иртыш» мы поспели точно к 9 часам, когда по зимнему времени подъем флага. Довольно бодро отбыв эту недолгую церемонию, все пошли в кают‑компанию пить кофе, и Шмидт попросил командира пойти с нами. Его, конечно, несколько удивило такое необычное приглашение, но он пошел. Когда все собрались, Шмидт взял корзину с цветами и обратился с весьма прочувствованной и длинной речью к командиру, который от неожиданности даже не понял, чего от него хотят. Мы же с торжественным видом стояли вокруг. Вглядевшись хорошенько в наши лица, он наконец понял, в чем дело, дослушал путаную речь и, приняв корзину, посоветовал хорошенько выспаться. В полдень, собравшись к обеду и вспоминая не без конфуза утреннюю комическую сцену с цветами, мы помирали со смеху и оценили добродушие командира.
Как было назначено, за несколько дней до Сочельника «Иртыш» вышел из Порта Императора Александра III на присоединение ко 2‑й Тихоокеанской эскадре. Командир получил предписание, никуда не заходя, идти в Порт‑Саид, пройти Суэцкий канал и зайти в порт Джибути, откуда послать адмиралу Рожественскому телеграмму и ожидать от него приказаний.
«Иртыш» шел в поход сравнительно с небольшим грузом угля и партией сапог для команды эскадры, и, таким образом, наши огромные трюмы были лишь частью использованы. Отчего Морское министерство не нагрузило нас еще чем‑либо, было непонятно, так как, наверное, эскадра нуждалась в различных материалах.
Глава четырнадцатая
Утром буксиры вытянули «Иртыш» в аванпорт, причем предупрежденные о часе выхода наши знакомые стояли у пристани и махали платками. Там командир отпустил буксиры, и «Иртыш», медленно развернувшись, вышел из ворот, лег на створ и пошел в море, мимо плавучего маяка.
Когда за горизонтом скрылась Либава, все почувствовали какое‑то особенно бодрое настроение, точно вырвались на свободу. Слишком долго мы в ней застоялись, и сознание, что уже вся эскадра давно находится в пути, мучило совесть. Как ни мило нас принимали в Либаве, как порой мы ни веселились там, но с каждой пройденной милей чувствовалось, что впечатление разлуки начинает тускнеть.
На следующее утро уже было заметно, что мы находимся в заграничных водах. Становилось все теплее, встречались рыбаки на ботах нерусского типа, и виднелись пароходы под германскими, шведскими и датскими флагами.
На тех из нас, которые в первый раз уходили в заграничное плавание, все это производило особенно сильное впечатление и доставляло большой интерес. В кают‑компании еще слышались разговоры об оставленных близких людях, и, конечно, женатые очень грустили о семьях, тем более что покидали их не просто для плавания, а уходили на войну. Холостые же всецело были поглощены новыми впечатлениями.
В Балтийском море было совсем тихо, стояла серая зимняя с легким туманом погода. «Иртыш» шел на юг со скоростью 9‑ти узлов. Хотя все обстояло благополучно, но командира беспокоил старший штурман, которым он назначил прапорщика К. (Картерфельд. – Примеч. ред.), командовавшего несколько лет грузовым пароходом. Казалось бы, этот стаж мог гарантировать его опытность в кораблевождении, тем более что он был человеком серьезным и положительным. Это так и было, только К. совершенно не был знаком с приемами и правилами штурманского дела на военном флоте. Он привык место корабля определять грубо, «на глазок», проверял его редко и, вообще, к прокладке относился довольно небрежно и только внимательно следил за открывающимися маяками, знаками и приметными местами на берегах.
У нас же полагалось, в особенности для таких больших и глубокосидящих кораблей, вести прокладку педантично, аккуратно, пользоваться каждым случаем для проверки места корабля и тщательно следить за лагом и курсом. Требовалось самым строгим образом придерживаться навигационных и лоцманских правил для плавания по данному морю и тщательнейшим образом вести вахтенный журнал. Вообще, штурманская часть на нашем военном флоте была доведена до высокой степени надежности.
К. со всем этим справиться не мог, и командир все мрачнее смотрел на его штурманские приемы. Наконец он не вытерпел и попросил К. не обижаться, если он будет сделан младшим штурманом, а младший штурман мичман Е. (Емельянов. – Примеч. ред.) старшим. Е. был второй год офицером и совершил плавание на маленьком миноносце из Кронштадта до Пирея. Он, конечно, плавал во много раз меньше К., но, имея хорошую теоретическую подготовку в Морском корпусе, уже отлично освоился со штурманским делом. Таким образом, командир опять потерпел фиаско в своем чрезмерном преклонении перед «опытными» коммерческими моряками и недоверии перед «неопытными» мичманами.
Так мы благополучно добрались до Бельта и там взяли лоцмана, который и провел нас до выхода в Каттегат. Воспользовавшись его приездом, все засели писать письма, чтобы их передать для отправки на родину. Это была последняя оказия до прихода в Порт‑Саид, и мы старались ее использовать. Лоцман, типичный добродушный датчанин, оставшись довольным платой, едой с чаркой водки, охотно взялся отправить почту.
Теперь уже «Иртыш» вступал в Немецкое море, и мы ожидали, что попадем в свежие погоды. Время на корабле проходило однообразно и сводилось главным образом к несению вахтенной службы – наружной и в машинных отделениях. Офицеры стояли по пять вахт, и, следовательно, каждому приходилось ежедневно по четыре часа и через четыре дня в пятый по восьми проводить на мостике. Вся команда тоже несла исключительно вахты, и ни о каких занятиях и учениях не могло быть речи: с трудом удавалось держать корабль в чистоте и порядке.
В зимние месяцы в Немецком море бурно и часто дуют сильные штормы. Хотя «Иртыш» и имел большое водоизмещение, но, так как шел с неполным грузом, его могло сильно качать. Уже с самого входа в Немецкое море ветер засвежел и чем дальше, тем все усиливался. Я стоял на вахте с 8 до 12 часов ночи, когда «Иртыш» начало покачивать. Сменившись, я спустился вниз и лег спать, но около 4 часов ночи проснулся от сильной качки и ударов волн о стенки каюты. Легко было догадаться, что за эти часы погода сильно засвежела, так как наши каюты находились высоко от воды, на спардеке, и тем не менее волны их достигали. Размахи качки увеличились до 30 градусов на борт. Весь корпус скрипел и дрожал. В койках приходилось держаться, чтобы не упасть на палубу. Теперь можно было воочию убедиться, что и такая махина, как «Иртыш», может оказаться игрушкой рассвирепевшего моря. Из‑за сильного ветра и волны ход сбавился и был всего 3–4 узла.
В моей «практике» это был первый настоящий шторм. Качка, то килевая, то бортовая, временами переходящая в сложное движение в виде восьмерки, живо привела в невеселое настроение, и я стал чувствовать себя довольно скверно. Хотя пока «каната не травил», как выражаются на морском языке, но это скорее было нехорошо, так как после «травления» обычно наступает временное облегчение. Я был рад, что моя вахта уже прошла, а до следующей еще далеко. Утром ко мне пришел мичман Е., который совсем не укачивался, и уговаривал выйти на палубу и подышать свежим воздухом, но, увы, я совсем не чувствовал себя на это способным. Как Е. ни описывал красоту моря и полезность проявить некоторую энергию, я только махал руками и говорил, что ничего не могу делать. Так и остался лежать в койке, изредка забываясь сном, а потом просыпаясь и стараясь так примоститься, чтобы из нее не вылететь или не удариться головой о переборки. Шторм все ревел, и качка не только не уменьшалась, но, наоборот, усиливалась, так что, когда «Иртыш» ложился на борт, становилось жутко.
К 4‑м часам дня, напрягши всю силу воли, я вылез из койки, одел пальто и пошел на мостик, чтобы вступить на вахту. Пройти на мостик было нелегко, я временами падал духом и думал, не сказаться ли больным, то есть укачавшимся, но потом самолюбие брало верх, и я шел дальше. Наконец, весь мокрый, добрался до мостика и принял вахту. Свежий воздух и сильнейшие порывы ветра подействовали прекрасно, я почувствовал себя вполне хорошо, мог спокойно следить за горизонтом, за рулевым и за компасом.
Шторм дошел до высшего напряжения. Огромные валы подбрасывали «Иртыш», точно маленькое суденышко. Гребни волн легко достигали мостика, хотя до него было метров 12. То и дело приходилось держаться обеими руками за поручни, чтобы не упасть. Носовая палуба, до спардека, почти непрерывно покрывалась водой, и из якорных клюзов вырывались высокие фонтаны. «Иртыш» с трудом продвигался вперед, и казалось, что он качается на одном месте.
Четыре часа на вахте прошли быстро, и я даже пожалел, когда меня пришел сменить следующий вахтенный начальник: перспектива снова попасть в каюту и валяться там до следующей вахты представлялась далеко не заманчивой.
Так пришлось штормовать в Немецком море восемь суток. Но последние три дня уже стало немного легче, и небо начало временами расчищаться, выглядывало солнце, появилось много чаек. На пятые сутки я настолько подбодрился, что уже больше не хотелось валяться в койке. Я вышел на палубу, почувствовал, что голоден, и с аппетитом пообедал. В кают‑компании на столе были укреплены так называемые «борта», которые удерживают посуду от сползания на пол. Есть приходилось очень умело, чтобы еда достигала рта, а не терялась по пути. Все находились в отличном настроении и делились впечатлениями о пережитых днях шторма. Оказалось, что не один я чувствовал себя плохо, но и некоторые «опытные» моряки тоже теряли аппетит. Дни, хотя шторм еще и не прошел окончательно, потекли незаметно, и мы или сидели на верхней палубе, греясь на солнышке, или играли в кают‑компании в шашки и шахматы.
На девятый день вечером «Иртыш» вошел в Ла‑Манш и качка совсем прекратилась. В проливе было большое движение, так что на вахтах приходилось крайне внимательно следить, чтобы не случилось столкновения, тем более что суда шли по всем направлениям.
В эту ночь, в канун Нового года, мы ровно в двенадцать часов проходили параллель Дувра и ясно видели его огни. В кают‑компании устроили ужин: все офицеры с командиром во главе собрались за бокалом шампанского. На мостике остался лишь вахтенный начальник прапорщик Г. (Гильбих. – Примеч. ред.)[79]. Кое‑чем закусили, поздравили друг друга и продолжали беседовать, как вдруг почувствовали легкий толчок, послышались крики и все смолкло. Зазвенел машинный телеграф, и «Иртыш» стал останавливаться. Все моментально выскочили на верхнюю палубу, а командир побежал на мостик. Оказалось, что мы ударились скулой о какую‑то рыбачью шхуну, которая шла без огней. Рыбаки, из экономии, часто держат слабое пламя в фонарях, а случается, что идут и совсем без огней, и только когда увидят встречный корабль, зажигают.
Хотя, в сущности, вахтенный начальник не был виноват в этом столкновении, но все же командир сделал ему строгий выговор за недостаточную внимательность. Г. страшно обиделся и, сменившись с вахты, долго объяснял, что он не виноват и много лет уже плавал и знает, как стоять на вахте. Далее все шло благополучно, и «Иртыш» вышел в Бискайское море, которое встретило тоже нелюбезно, и мы прокачались еще пять суток, но уже не так сильно, как в Немецком море.
В один из последующих дней на корабле произошел очень глупый случай. На вахте в кочегарке два кочегара так сильно поссорились, что один у другого откусил палец на руке. Пострадавший неистово взвыл от боли; сбежались люди и драчунов разняли. Но спасти палец было уже поздно, так как он висел на одной ниточке, и доктору[80] пришлось заняться ампутацией. Это бы его еще мало встревожило, но у раненого поднялась температура, и появилось опасение, что начнется заражение крови, а произвести более серьезную операцию на корабле он не считал возможным. Следовательно, возник вопрос, что, пожалуй, придется зайти в какой‑либо ближайший порт. К большому удовольствию командира, на следующий день жар спал, и доктор сказал, что опасность миновала. Однако рана так плохо заживала, что в Порт‑Саиде кочегара пришлось списать в госпиталь, и он так на «Иртыш» и не вернулся.
На четырнадцатые сутки мы обогнули испанские и португальские берега и вошли в Гибралтар. Его величественные горы всегда производят сильное впечатление, в особенности в хорошую погоду, когда видны оба берега. «Иртыш» шел днем, при чудной погоде, так что мы могли наслаждаться его красотами.
Средиземное море было совсем спокойно. Как красиво это море, когда необъятную неподвижную ширь его разрезает корабль и от него разбегаются по сторонам небольшие волны, как бы ломая зеркальную поверхность воды. Кругом безмолвная тишина, только веселые дельфины гонятся за кораблем и то ныряют под его носом, выскакивая на другой стороне, то с огромной скоростью обгоняют и исчезают в лазурной дали. Не менее прекрасно море и ночью. Поверхность становится совсем черной, и только луна, купая лучи в его водах, в некоторых местах окрашивает их серебром, которое, как расплавленный металл, тяжело колышется и светит.
Мы часто просиживали на верхней палубе чуть не круглые сутки, любуясь морем и цепью Атласских гор, синеющих на горизонте, или дивным звездным небом в безмолвии ночи. Даже на вахте было одно удовольствие стоять: спокойно гулять по мостику, наслаждаться окружающей картиной и вдыхать свежий морской воздух.
На корабле все шло своим чередом, и мы отдыхали после бурных переходов по Немецкому и Бискайскому морям. Только однажды нарушился покой на долготе порта Бизерта: произошло самовозгорание старого немецкого угля в запасной угольной яме. Начался пожар. Немедленно приняли все меры, чтобы его потушить, но работа сильно затруднялась тем, что в яме находилось много угля и доступ в нее был труден. Специальных же средств для ее затопления не имелось, и оттого приходилось вытаскивать еще не загоревшийся уголь наверх, а горящий заливать водой, подаваемой шлангами пожарной системы. Механики и машинная команда работали, рискуя жизнью, но вначале тушение шло медленно, и мы не могли определить, удастся ли справиться с огнем.
Осторожный старший механик посоветовал командиру на всякий случай зайти в Бизерту, благо до нее было недалеко. Командир согласился и немедленно изменил курс. С пожаром окончательно еще не справились, но уже успели вытащить много угля. «Иртыш» вошел на внутренний рейд и встал на якорь. Сейчас же к нам направился буксир; очевидно, портовые власти желали знать, зачем мы пришли. Когда буксир был уже близок, старший механик доложил командиру, что больше никакой опасности нет. Так что французам ответили, что произошла авария, с которой удалось справиться, и одновременно снялись с якоря.
Далее до Порт‑Саида «Иртыш» шел без приключений, и после более чем трехнедельного перехода мы наконец увидели дамбу с памятником талантливому строителю Суэцкого канала инженеру Лэсепсу, а затем скоро подошли и к самому порту. К нам сейчас же вышла шлюпка под русским флагом, в которой оказался драгоман консульства Д. и грек Роидис, постоянный поставщик провизии на русские военные корабли. Драгоман привез почту из России и извинился, что консул, по болезни, не мог сам приехать на корабль.
Роидис являлся своеобразным типом международного авантюриста. Каких только видов он ни видывал на своем веку и не раз от нищенства поднимался до богатства, а потом опять все терял, чтобы через некоторое время снова нажить состояние. Роидис облюбовал русские военные корабли, которые в те годы часто проходили через Саид, на пути из России на Дальний Восток и обратно. Каждый такой приход давал ему большие барыши, так как на русском флоте все было поставлено широко и поставки, соответственно, делались на широкую ногу.
Роидис имел славу мага и чародея по своей части, и, кажется, не было такой вещи, которой он не мог бы поставить. Все, конечно, отлично знали, что он продувная бестия, но без него не могли обойтись, да и другие поставщики были не лучше, но зато не были так надежны и аккуратны. Роидис же умел держать слово и делал все добросовестно. Особую деятельность ему пришлось проявить при проходе отряда адмирала Штакельберга[81], который им настолько остался доволен, что согласился исполнить его заветную мечту – выхлопотать орден Св. Станислава 3‑й ст. Роидис чрезвычайно гордился этой наградой и всегда носил орденскую ленточку в петличке пиджака. Знакомясь, он тыкал в нее пальцем и объяснял, какого ордена он кавалер.
Первой заботой в Порт‑Саиде было погрузить уголь для дальнейшего плавания. Свободные от службы офицеры стремились поскорее съехать на берег и только ждали разрешения командира, строя планы, как бы лучше провести время. Прежде всего хотелось хорошенько пообедать в приличном ресторане, так как еда в кают‑компании изрядно надоела. Потом предполагалось осмотреть город и где‑нибудь провести вечер. От драгомана были получены все необходимые сведения, заодно пригласили и его самого.
Так как за границей офицеры должны съезжать на берег в штатском платье, а не все из нас им запаслись, то возникло затруднение, во что одеться, и пришлось по‑братски поделить наличный гардероб.
Я тоже уже приготовился было ехать на берег, как вдруг меня потребовали к командиру. Когда я явился, он приказал мне немедленно принять ревизорство от лейтенанта Ч. Менее всего я ожидал такого сюрприза, тем более что о заведовании корабельным хозяйством имел слабое понятие. Придя в себя, я стал объяснять, что едва ли сумею справиться с этим сложным делом, но командир ответил, что это пустяки и Ч. всему, чему надо, научит. При этом пришлось выслушать много лестных похвал, и невольно припомнилось, как восемь месяцев назад, когда я впервые являлся на корабль, ко мне презрительно отнеслись. За это время неопытному мичману доверяли ходовые вахты и ротное командирство, а теперь предлагалось принять и самую сложную отрасль на транспорте – ревизорство. Отчего же неопытному мичману последнего выпуска оказывалось такое доверие, когда на корабле было хоть отбавляй офицеров запаса, умудренных опытом долголетних плаваний на коммерческом флоте?
На военной службе много рассуждать не приходится, да я и сам не привык долго колебаться в тех случаях, когда судьба меня куда‑либо толкала. Я ответил командиру: «Есть» и вместо веселого вечера на берегу пошел в каюту Ч. принимать ревизорство. От Ч. я узнал, что командир получил приказание из Главного Морского штаба списать старшего офицера, кажется, по его же ходатайству, как офицера запаса, перешедшего известный возраст. Это распоряжение только случайно нас не застало в Либаве, и потому Шмидт совершил переход в Саид. Вместо него пришлось назначить старшего из офицеров – Ч., а вместо Ч. ревизором меня.
Узнав о том, что Шмидт нас покидает, все офицеры страшно опечалились, так как за переход еще больше с ним сжились и оценили в нем опытного моряка и доброго человека. Как часто от мелких обстоятельств могут происходить крупные события: если бы распоряжение Главного штаба нас не застало в Саиде и пришло только тогда, кода мы уже присоединились к эскадре, то Шмидт не попал бы в Россию, не опозорил бы своего имени печальной славой «красного лейтенанта» и не погиб бы смертью казненного.
В тот вечер мне не удалось попасть на берег, а наша компания так увлеклась, что вернулась только часов в 10 утра. Механический же прапорщик Н. (Новиков. – Примеч. ред.), хотя и приехал к подъему флага, но не один, а с огромным рыжим котом, которого поймал где‑то на берегу. Этот кот, по его мнению, питал любовь к морю, так как бродил по набережной и жалобно мяукал. Оттого Н. сжалился над ним и взял с собою. Командир страшно рассердился, так как, имея предписание идти в Джибути не задерживаясь, он боялся оставаться в Саиде даже лишний час, позднее же возвращение офицеров могло задержать погрузку угля. Он чуть с места не отправил всю опоздавшую компанию под арест, и только то обстоятельство, что среди них оказался старший механик, удержало его от этого.
С утра мне уже пришлось действовать как ревизору, и я не имел свободной минуты. Все время и со всех сторон меня тормошили: артельщики, комиссар, содержатели, поставщики различных фирм и, наконец, Роидис. Он не давал покою со своими ценами, доказывая, что они ниже городских и справочных консульских. Хотя было ясно, что он на всем страшно наживается и эти пресловутые «справочные» цены совсем не могут служить мерилом, так как искусственно повышены. С непривычки у меня от всех вопросов и предложений голова шла кругом. Я с ужасом думал: как‑то разберусь со всем, и не на шутку опасался, что наделаю глупостей.
Как курьез нельзя не упомянуть, что наш консул в Сайде был настоящий немец, германский подданный, который одновременно являлся и японским консулом, то есть двух воюющих сторон. От этого ли или действительно от старости и хворости, но он так к нам на корабль и не появился, и мне пришлось несколько раз его посещать для различных справок. Очевидно, приход «Иртыша» доставлял ему много докучливых хлопот, и он все время убеждал скорее уйти.
Как ни торопил командир, но баржи с углем подвели только после полудня, и, следовательно, уход немного задержался. По местному обычаю команде помогали грузить чернокожие от фирмы, поставляющей уголь, и оттого погрузка облегчалась и шла быстро, но все же была окончена только ночью.
Вечером другой группе офицеров разрешили съехать на берег. Меня тоже отпустили, но нам удалось съехать после ужина, когда стало темно, так что, собственно, от города почти никакого впечатления не осталось. Поели мы на корабле основательно и больше есть не хотелось, гулять по плохо освещенным улицам скучно, так что ничего больше и не могли придумать, как пойти в кафе‑шантан, на набережной же. В этом примитивном заведении, кроме доброго вина, ничего хорошего не имелось, но все же играл оркестр и на сцене были какие‑то выступления.
Запомнилась красивая француженка‑шансоньетка. Скитаясь по разным портам Средиземного моря, она часто встречала русских морских офицеров Средиземноморской эскадры, которые, по ее словам, ей очень нравились. В искренность ее можно было верить, потому что русских офицеров за границей любили, во‑первых, как наиболее щедрых, а во‑вторых, веселых и добродушных. Нам она показалась красивой, да и кроме нее других женщин не было, так что все принялись ухаживать, и, не будь тут при ней какого‑то молодого человека, которого она называла братом, наверное, с ней долго бы не расстались. Но он незадолго до того, как ресторанчик закрылся, ее увел, и нам пришлось думать о новых развлечениях. К счастью, местный старожил драгоман Д. предложил нам поехать дальше, чтобы познакомиться с тем, что в Саиде было еще интересного. В сущности, там ничего интересного не было, но не возвращаться же так рано, и совершенно неизвестно, когда опять удастся побывать на берегу. Во всяком случае, хотелось использовать вечер насколько возможно. То, что показал Д., было то же самое, что можно видеть в каждом порту всего земного шара и где за деньги получают женщин и вино.
К подъему флага мы уже все стояли на своих местах, к большому удовольствию командира, который, по‑видимому, побаивался, как бы и мы тоже не оказались «нетчиками». В этот день мы могли закончить расчеты с берегом, которые главным образом производил я как ревизор, и двинуться дальше. Пришлось еще раз съездить к консулу, расплатиться за уголь, так как он же его и поставлял.
На корабле с раннего утра толкались самые разнообразные личности: торговцы страусовыми перьями, цветными шалями, драгоценными камнями, фруктами и т. п., прачки, поставщики провизии и, конечно, вездесущий Роидис. Наконец приехал лоцман. Я со всеми расплатился, и мы начали сниматься с якоря. Плыть по Суэцкому каналу было так интересно, что не хотелось уходить с верхней палубы. Отсутствием растительности, песчаной равниной и встречающимися караванами верблюдов берега напоминали о близости пустыни.
Шмидт решил покинуть «Иртыш» в Суэце, чтобы продлить с нами прощание, тем более что пароход на Константинополь уходил только через несколько дней. Ему тоже было тяжело расставаться с нами. Прощались тепло и сердечно, и, так как кают‑компания сдружилась и сжилась, было, как всегда в таких случаях, грустно, точно теряли члена родной семьи. Вечер провели вместе за бокалами вина, вспоминая прожитое и не заглядывая в будущее, которое казалось полным неизвестности и предвещало много опасностей.
На следующее утро «Иртыш» пришел в Суэц, и после прощального обеда, на котором присутствовал и командир, все вышли на палубу проводить Шмидта. Команду поставили во фронт, и Шмидт сказал ей несколько слов, затем началось расставание с нами. Стало так тяжело, в горле появились спазмы, и было совсем недалеко до слез. Шмидт спустился в катер, а «Иртыш» снялся с якоря. Когда дали ход машинам, матросы закричали «ура» и офицеры замахали фуражками. Расстояние все увеличивалось, и наконец виднелся только катер, который все еще ждал, пока «Иртыш» скроется. Так мы и расстались с лейтенантом Шмидтом, чтобы больше уже никогда не увидеться. Но услышать о нем пришлось много.
Глава пятнадцатая
Красное море проходили при полном штиле и ясной погоде. При приближении к выходу стали встречаться скалистые островки, и на некоторых из них виднелись маяки. Эти маяки невольно привлекали внимание своей одинокостью, так как все окружающие островки были необитаемы да и находились сравнительно далеко друг от друга. А ведь на них всегда жили люди: смотрители и несколько служителей. К ним, наверное, не чаще одного‑двух раз в год заходили лоцманские пароходы, чтобы доставить необходимые материалы и провизию. Месяцами, а может быть, и годами, жили эти люди на скалах, окруженные морем. Как они жили, что думали в таком одиночестве? Мне рассказывали, что в смотрители таких маяков идут обычно престарелые одинокие моряки, которые уже не могут больше плавать и здесь доживают свой век. Часто среди них встречаются безнадежные пьяницы, коротающие одиночество за рюмкой вина и окончательно спивающиеся. Из‑за этого на маяках разыгрывались драмы: обитатели, обезумев от беспрерывного пьянства, затевали кровавые ссоры.
Однажды даже произошел такой случай: маяк вдруг перестал светить, и когда послали пароход узнать, в чем дело, то нашли там одного сумасшедшего, а других зарезанными. Но, конечно, не все же пьяницы, и, наверное, среди обитателей маяков встречаются своеобразные типы, которые в одиночестве дошли до высокого понимания природы моря, во всех его проявлениях: от нежного и ласкового, как котенок, до бурного и жестокого, как дикий зверь. Для лиц, перенесших много горя, страданий и разочарований, для тех, кто утерял веру в хорошее будущее и ищет уединения, должно быть приятным найти приют на такой скале.
Пройдя Красное море, «Иртыш» вошел в бухту Джибути и встал на якорь. Сомали – французская колония – дикое и пустынное место, населенное чернокожими. В Джибути жило несколько десятков французских колонистов, державших в своих руках всю местную торговлю, да несколько захудалых правительственных чиновников.
Пароходы сюда заходили редко. Из этого порта лежит путь в Абиссинию, но важного торгового значения Джибути не имел. Портовый поселок – кучка маленьких беленьких домиков, расположенных несколькими перекрещивающимися улочками – был очень привлекателен. Пески прилегающей пустыни уже накладывали на всю местность характерный отпечаток, и все имело сонный и безмолвный вид. Только когда на рейд приходил какой‑нибудь корабль, жизнь поселка пробуждалась. Какой бы час дня или ночи ни был, население появлялось на улицах, открывались лавки и кафе, и все стремились на пристань, а то даже на шлюпках подплывали к пароходу. Каждый предлагал, что мог: фрукты, мелкие товары, провизию и т. п. Уходил пароход, и немедленно все погружалось в спячку. Впрочем, такой жизнью жил не один Джибути, а большинство маленьких портовых городков, заброшенных в дикой местности.
Командир «Иртыша» послал телеграмму адмиралу Рожественскому на Мадагаскар и получил ответ: «Ожидать приказаний». Как долго могло затянуться это ожидание, мы, конечно, понятия не имели, и приходилось вооружиться терпением. Было невесело. Но местное население этому обстоятельству обрадовалось чрезвычайно.
Благодаря сильным приливам и отливам корабли в Джибути становились на якорь довольно далеко от берега, и на переезд до берега, даже на паровом катере, нужно было потратить добрых три четверти часа. Тем не менее кругом «Иртыша» вечно сновали шлюпки местных жителей с различными поставщиками, предлагающими услуги и жестоко конкурирующими друг с другом. Каждый совал пачки аттестаций с кораблей, на которые он что‑нибудь поставлял; у некоторых даже были рекомендации, написанные по‑русски.
Помню забавный случай: ко мне упорно лез один субъект, уверяя, что его русские всегда высоко ценили, и в доказательство показывал какую‑то бумажку. Чтобы отвязаться, я взял ее и прочел. Оказалось, что ревизор одного нашего корабля предупреждал, что этот господин самый настоящий жулик и обманщик и с ним отнюдь не советовал иметь дело. Очевидно, он слишком приставал к ревизору с просьбой написать рекомендацию, что тот и сделал по заслугам. Я ему вернул этот документ и посоветовал никому не показывать.
Часто к кораблю приплывали и чернокожие на узких, выдолбленных из одного ствола лодках. Они поднимали неистовый крик, упрашивая бросить монету в воду. Ныряли они с пронзительными криками, проделывая это с большим искусством. Иногда офицеры шутили и вместо денег кидали блестящие пуговицы, черные на эти шутки ужасно обижались. Ныряльщики, кроме тряпочек кругом бедер, ничего на себе не имели и монеты прятали за щеку, что, однако, не мешало им продолжать горланить.
На следующий же день после прихода в Джибути мы снова начали принимать уголь. Низкорослые и худые чернокожие, казавшиеся слабосильными, поражали нас своей выносливостью. Подрядчики‑французы обращались с ними грубо и бесцеремонно, и нас удивляло, как им мало давали есть. Проработав с раннего утра до позднего вечера, каждый грузчик получал лишь три финика и половину трехкопеечной булки. Затем, после часового отдыха, продолжалась погрузка до шести‑семи часов вечера, то есть всего десять часов. Солнце палило все время немилосердно.
Разумеется, мы воспользовались первой же возможностью и съехали на берег, чтобы ознакомиться с местечком. Для этого оказалось достаточным и одного часа, тем более что гулять при страшной жаре было слишком утомительно, да и негде, так как француз‑консул не рекомендовал выходить за черту города из боязни, что на нас могут напасть бродячие черные. В самом городе никаких развлечений не нашлось, и оставалось только пообедать в скромной гостинице да немного посидеть в кафе за прохладительными напитками. Было довольно интересно посмотреть на жизнь чернокожих, которые жили отдельно от белых, но и на это не требовалось много времени.
В общем, мы даже не могли убить и тех двух‑трех часов, которые оставались до прихода шлюпки и от нечего делать зашли в лавочку толстой француженки, которая торговала различными местными безделушками. Накупив открыток, когтей пантер, камешков и еще каких‑то пустяков, мы занялись живой пантерой, которая лежала у двери и мирно спала на солнце. Француженка уверяла, что она совершенно ручная, но этому плохо верилось, так как животное не слишком ласково на нас посматривало.
Было ясно, что на берегу интересного мало, и, чтобы не было уж очень скучно, надо поискать развлечений в другом направлении. Решили воспользоваться отливом, чтобы набрать кораллов. Их можно было видеть через прозрачную воду на рифах у берега. Кораллы нас восхищали своими причудливыми формами и цветами, и хотелось их ближе рассмотреть. В экспедицию на небольшой шлюпке отправилось шесть офицеров. Достигнув рифов, разделись и полезли в воду.
Так увлеклись доставанием кораллов, что не заметили, как шлюпка, которая была вытащена на мелкое место, благодаря начавшемуся приливу всплыла и начала отплывать. Долго раздумывать не приходилось, и вся наша компания бросилась за нею вплавь. Когда мы уже подплывали, то вдруг увидели огромную приближающуюся к нам тень рыбы. К счастью, в этот момент подпоручик Ф. (Фролов. – Примеч. ред.)[82] уже влез в шлюпку и закричал: «Акула!», схватил весло и стал им бить по воде. Поднялся общий крик. Мы, как сумасшедшие, поплыли к шлюпке и стали в нее карабкаться. По‑видимому, необычайный шум испугал хищника, и, повернув, акула стала уплывать. Таким образом, все обошлось благополучно и ограничилось большим испугом, но нам это послужило предостережением от купания на рейде.
Вообще, здесь оказалось много акул, и скоро мы стали их постоянно замечать вокруг корабля. Они охотились за камбузными отбросами и кусками хлеба, которые в изобилии команда выбрасывала после обедов и ужинов. Где уж тут купаться, когда смотреть в воду страшно. Лишь чернокожие не боялись акул, которые их почему‑то не трогали. Нам объяснили, что благодаря черноте они невидимы, да и их запах неприятен. Правда это или нет, трудно разобрать, так как акулы преисправно глотали различные темные предметы, и не верилось, что они могли быть слишком щепетильными к плохому запаху черных, поскольку с аппетитом пожирали гнилое мясо.
Обилие акул натолкнуло на мысль попробовать их ловить. Мы заставили Ваньку, механического прапорщика Н., смастерить большой железный крюк, который привязали к концу тонкого стального троса, и, нацепив на эту «акулину удочку» большой кусок испорченной солонины, бросили ее в воду. Крюк с солониной был отлично виден с палубы. Офицеры и команда столпились на юте и с напряжением следили за ним. Огромная акула не заставила себя долго ждать: сначала появился «лоцман» – рыба с аршин длины, наводящая акулу на добычу, а за ним и она сама. Завидя солонину, акула перевернулась на спину и проглотила ее. Мы все сразу вошли в такой азарт, что бросились вытягивать крюк. Но, оказавшись в воздухе, акула стала так биться, что трос оборвался, и она полетела обратно в воду.
Тогда заставили Ваньку, который больше всех суетился и уверял, что он специалист по ловле акул, сделать крюк понадежнее и привязать его к более солидному тросу. Он живо все смастерил, и «удочку» с куском солонины опять опустили за борт. Однако акула попалась только на следующий день. Послышался дикий вопль Ваньки, все время торчащего на юте. Все бросились к нему. Огромная акула бешено носилась из стороны в сторону. На этот раз ее стали осторожно подтягивать к борту. Мичман Е. приготовил револьвер и стоял наготове, чтобы выстрелить в голову. Скоро рыбина стала показываться из воды и повисла, не шевелясь, под кормой. Ванька был вне себя: носился с места на место, кричал и всеми командовал. Теперь оставалось самое главное – втащить ее на палубу. Е. решил, что с убитой будет легче справиться, и выстрелил. Спокойно болтавшаяся рыба вдруг стала бить хвостом и извиваться.
При таких условиях дальше тащить было нельзя, и пришлось ожидать, пока она успокоится, но трос снова не выдержал, и акула всей своей тяжестью шлепнулась в воду и как ни пострадала, а все же у нее хватило сил уплыть. Только поверхность окрасилась в красный цвет. Таким образом, и на этот раз нас постигла неудача, и Ванька громко жаловался, что его не слушались, и вот, дескать, оттого ничего и не вышло. Мы же его дразнили, уверяя, что именно он своей суетливостью все испортил и что акула не выстрела испугалась, а его крика.
Бедняге опять пришлось налаживать крюк, но акулы, наученные горьким опытом, поняли наши хитрости и даже вблизи кормы перестали появляться. Через несколько дней, однако, одна снова попалась, но и ее упустили. После этого интерес к этой охоте пропал.
На корабле мы проводили время, как на даче, и если бы не ужасающая жара, то ожидание вызова на Мадагаскар было бы вполне приятно. Но жара нас совсем доконала, даже пришлось покинуть каюты и переселиться на верхнюю палубу, где и спали и ели. Днем размаривало так, что с трудом ходили, и все устраивались где‑нибудь в тени, стараясь поменьше двигаться. Зато, когда заходило солнце, все оживали и просиживали вместе вечера, наслаждаясь их прохладой.
Из‑за акул купаться было запрещено, и это было большим лишением для всех. Устроили импровизированные души из решетчатых лыков, подвязанных к штангам, на которые лили брансбойтами забортную воду. Эти обливания доставляли офицерам и команде огромное удовольствие и проделывались раза по три в день. Толку было все‑таки мало, и, хотя мы носили только белые кители и брюки, тем не менее даже еще при одевании эти легкие костюмы становились опять совсем мокрыми.
Уже больше недели «Иртыш» стоял в Джибути и пока никаких новостей не получал. Всю команду, по очереди, свезли на берег, чтобы дать ей хоть немного проветриться. Не обошлось при этом без маленьких скандалов, когда наши матросы попробовали полюбить какую‑то негритянку. За нее вступились черные, и чуть‑чуть не вышла серьезная драка. К счастью, вовремя подоспели местные власти, и скандал уладили.
Как‑то раз мы надумали вечером съездить на берег, чтобы посмотреть, какой вид имеет городок в темноте. Нас съехало человек пять. Ничего особенного не увидели, кроме того, что все население мирно устраивалось на ночь и наслаждалось прохладой. Тропическая ночь быстро входила в свои права: улицы стали совершенно темными, в некоторых домиках через открытые двери виднелся свет, и в кафе сидели группы жителей за стаканами вина.
Зашли в кафе и мы. Кому‑то пришла мысль выпить абсент. Мичман Е. уверял, что он очень приятен и, главное, приводит в хорошее настроение. Лакей подал большие стаканы и воду. Мы с опаской налили немного мутно‑белой жидкости и долили водой. С не меньшей осторожностью начали пробовать этот знаменитый абсент, столь талантливо воспетый авторами многих французских романов. Мне, да, кажется, и другим из нашей компании он совсем не понравился, но все же допили стаканы и тут действительно почувствовали, что это замечательный напиток. Настроение сразу повысилось, чувствовалось, точно огонь разливается по телу, и захотелось говорить много, без умолку. На душе стало как‑то особенно легко и весело. В кафе показалось душно и неуютно, хотелось простора, красоты и воздуха.
Все пошли на берег моря. Тропическая ночь, небесный свод, усыпанный звездами, льющийся холодный свет луны и чернеющая гладь моря усиливали настроение и действовали на воображение. О чем мы тогда говорили, трудно, конечно, вспомнить. Но о чем могут говорить в таком настроении молодые люди, полные надежд и веры в жизнь, как не о любви, о Боге и назначении человека. Любовь считали единственным сильным чувством, которое всегда двигало и будет двигать человечество по пути и к прекрасному, и к преступному. Только любовь может дать душе самые красивые переживания, дать ей сознание полного счастья. Разве тот, кто не испытал сильной любви, не пил ее жадными устами из переполненной чаши, может утверждать, что он действительно пережил минуты счастья? Конечно, нет!
Долго и горячо мы рассуждали, гуляя по берегу. Таково было первое знакомство с абсентом! Наконец мы увидели, что за нами к пристани идет паровой катер.
Через несколько дней из Порт‑Саида пришел очередной пассажирский пароход и привез почту. Радость была большая, получили письма от близких и родных, повеяло далекой родиной, по которой уже успели соскучиться. Между почтой оказались и приказы, из них узнали, что лейтенант Ч. уволен в запас как слушатель высшего учебного заведения[83]. Таким образом, мы лишились последнего старшего офицера, и в эту должность пришлось вступить мичману Е.
С Ч. было тоже тяжело расставаться, так как все его очень любили. Начались сборы и проводы. Торопиться было некуда, так как пароход в Саид шел еще не скоро. Но неожиданно в Джибути пришла «Малайя», тащившая на буксире миноносец «Резвый», у которого произошла какая‑то серьезная поломка в машине, и он должен был возвратиться в Россию. «Малайю» тоже отчислили, как слишком тихоходный пароход, задерживавший эскадру. В Джибути они предполагали простоять дня два‑три и идти далее в Саид, следовательно, этой оказией можно было воспользоваться.
Офицеры «Резвого» и один списанный с эскадры лейтенант много рассказывали о строгостях и беспощадности адмирала Рожественского в вопросах дисциплины и исполнения приказов. Нас эти рассказы очень смутили, и мы с тревогой думали, что скоро кончатся вольготные дни в отдельном плавании.
Из разговоров с командиром «Резвого» наш командир выяснил, что эскадра на Мадагаскаре может простоять еще долго и что она, по политическим причинам, выбирает стоянки только в самых глухих местах. Из‑за этого снабжение свежей провизией трудно, и ее приходится доставать из самых случайных источников, платя наличными деньгами. Вот тут‑то и возник вопрос, откуда их доставать, так как командир не разменял судового кредитива, рассчитывая это делать по мере надобности или брать валюту от флагманского интенданта. Но поскольку стоянки предполагались только в глухих местах, то ни о каком размене кредитива там не могло быть и речи; на флагманского интенданта тоже не приходилось рассчитывать, и каждому кораблю полагалось иметь свои деньги. Благодаря этому «Иртыш» попадал в глупое положение и, имея кредитив на крупную сумму, не мог им воспользоваться. Посоветовавшись с командиром «Резвого» и лейтенантом Ч., командир решил рискнуть и послать меня, ревизора, в Саид достать из банка деньги: авось «Иртыш» еще простоит недели две в Джибути, и я успею вернуться.
Он вызвал меня и приказал заготовить необходимые документы. Надо было торопиться, так как на следующее утро «Малайя» уже уходила. Я страшно обрадовался неожиданному интересному путешествию, хотя и побаивался, как бы «Иртыш» не ушел без меня.
Хорошо, что Ч., опытный ревизор, еще не уехал, а то я понятия не имел ни о каких банковских операциях. Однако даже снятие денег от кредитива требовало выполнения известных формальностей и «выправления» документов, которые заготовлялись на корабле и подписывались командиром. Если бы я пришел в банк, не имея их, или они оказались бы неправильно составленными, то, естественно, денег не выдали и пришлось бы с позором вернуться на корабль. С помощью Ч. и моего помощника, старика‑комиссара[84], мы изготовили все нужное, но изрядно с этим провозились.
Наш комиссар был один из немногих еще оставшихся на кораблях чиновников. Он всю жизнь только и возился со всякого рода «ведомостями», «требованиями» и «отчетностями» и все же немилосердно путался сам и путал меня и баталеров. Казалось, у кого, как не у него, мне, неопытному ревизору, следовало бы поучиться, а на деле выходило, что его же приходилось учить и проверять. Часто и было жаль сердиться на старика, и его бестолковость доводила до бешенства, в особенности, когда он делал безнадежный вид и глупое лицо, как бы говоря: «Воля ваша, а я ничего сделать не могу, и мне на роду написано ошибаться».
Закончив с документами и выслушав поучительные наставления Ч., что и как мне надо сделать в Порт‑Саиде, я несколько воспрянул духом, так как в первый момент думал, что непременно запутаюсь. Долго командир, Ч. и я прикидывали, сколько снять с кредитива, чтобы было и не слишком мало и деньги зря не лежали в судовом денежном сундуке. Наконец остановились на цифре в восемь тысяч английских фунтов. Эта сумма не являлась уж очень страшной, но все же достаточно неудобной, чтобы ее долго таскать при себе.
Утром, после сердечных проводов Ч., которые длились всю ночь, напутствуемые добрыми пожеланиями друзей, мы отправились на «Малайю». Одновременно командир протелеграфировал в Главный Морской штаб о моей командировке.
Глава шестнадцатая
Скоро «Малайя» снялась с якоря с «Резвым» на буксире. Ее парадный ход не превышал восьми узлов, а с буксиром она с трудом давала 5–6. Этот пароход был самым простым «купцом» и, даже несмотря на то что входил в состав эскадры, плавал под торговым флагом. Весь командный персонал состоял из коммерческих моряков, по‑смешному воинственно настроенных и потому чрезвычайно обиженных, что адмирал отказался от «Малайи» и отослал ее в Россию. Им хотелось идти до самого конца и геройски разделить общую участь.
Меня и Ч. устроили в одной каюте, так как свободных мест больше не имелось. Было, конечно, приятно оказаться в роли пассажиров, всегда располагать временем и спокойно спать ночами, но время тянулось чрезвычайно медленно, и иногда становилось нестерпимо скучно. «Малайя» медленно ползла по Красному морю, и я опять мог наблюдать те же островки, которые меня так заинтересовали. Первые три дня море стояло тихое, а потом задул свежий ветер, поднявший легкую волну. К счастью для «Резвого», погода все же держалась сравнительно хорошая.
Я часами просиживал в кресле на юте «Малайи», наблюдая, как тащится миноносец. Белые и серые чайки огромными стаями носились над ним и с дикими криками ныряли за кормой. Их привлекали остатки еды, выбрасываемой с кораблей, и они все время сопровождали нас.
Получалась живописная картина: узенький длинный миноносец, сверху сам похожий на большую рыбу, и над ним бесчисленные стаи птиц, которые кружатся, взлетая, опускаясь, ныряя и пронзительно перекликаясь. Ночью при луне картина становилась еще красивее: из‑за сильной фосфоресценции струи, идущей от судов, образовывалась как бы широкая серебряная дорога, и по ней, освещенный луной, покачиваясь, точно сказочный корабль плыл «Резвый». Это действительно было очень красиво.
Пять суток шла «Малайя» из Джибути до Порт‑Саида. По прибытии я немедленно отправился в консульство и узнал, что обратный пароход будет только через десять дней. Следовательно, все это время придется жить без всякого дела в гостинице. Взять деньги из банка имело смысл лишь в день отъезда, чтобы их не держать при себе, тем более что город славился темными элементами.
Первый вечер в Саиде я провел еще с Ч. и офицерами «Резвого»; на следующий день они отправлялись дальше. В обществе любезного, все того же драгомана Д. мы опять побывали в кафе и проделали обычную программу, которую, очевидно, проделывают все моряки, съезжающие в Саиде на берег. Но после ухода «Малайи» я остался совершенно один и сразу же почувствовал одиночество. Было очень трудно придумывать, чем бы заполнить время: обойдешь, бывало, город вдоль и поперек и вернешься в гостиницу. Если в городе царит тишина, значит, в порту никого нет, заметно оживление, откуда‑то вылезают торговцы, слышится громкий говор, значит, пришел пассажирский пароход или военный корабль.
Единственное лицо, с которым я мог проводить время, был драгоман консульства, но он целые дни работал, и только по вечерам мы с ним встречались. Увидя, что я скучаю, он посоветовал съездить осмотреть Каир. Эта мысль мне понравилась. Ведь неизвестно, забросит ли меня еще когда‑нибудь в эти края, а они так интересны. Это не банальная, «прилизанная» цивилизацией Европа, а колоритная Африка.
Расспросив Д., как ехать, где остановиться и что осмотреть, я забрал чемоданчик и отправился в путешествие. По железной дороге до Каира было всего 4–5 часов, и шли прекрасные поезда. Д. любезно меня проводил и усадил в вагон первого класса. Когда поезд тронулся, я с наслаждением стал наблюдать открывающиеся виды. Мы неслись по краешку пустыни. Изредка попадались верблюды, нагруженные товарами, мелькали оазисы с группами пальм, и на редких полях виднелись пашущие крестьяне, погоняющие запряженных в один плуг верблюда и вола.
Поезд останавливался на нескольких маленьких станциях, переполненных пестрыми толпами горланящих жителей и торговцев фруктами. Все было так ярко и типично, что в уме невольно всплывали известные картинки из сказок и романов о жизни этой когда‑то великой и сказочной страны. Путешествие было занимательным. Но в таких случаях особенно всегда ощущается, что не с кем делиться своими впечатлениями. Кругом сидели англичане‑туристы и флегматично курили, отнюдь не располагая к знакомству с ними. Впрочем, я и английского языка почти не знал и потому все равно с ними разговориться не мог.
Из‑за незнания языка и обычаев в таких поездах я даже остался без обеда: в пути в вагон вошел какой‑то господин в форменной фуражке, быстро проговорил какие‑то слова и стал предлагать билетики; видя, что некоторые пассажиры от них отказываются, и я тоже не взял. Через некоторое время он опять прошел, ударяя в гонг: стало ясно, что приглашают завтракать; как и другие, я спокойно пошел в ресторан, но у входа мне преградил путь лакей и попросил показать именно тот предательский билетик, от которого я так легкомысленно отказался. Увидя, что у меня его нет, он вежливо заявил, что все места заняты. Несолоно хлебавши пришлось вернуться на место, досадуя на свою неопытность и утешаясь, что следующий уж раз впросак не попаду.
В Каир поезд пришел в семь часов вечера. Я вышел из вагона и направился к выходу с вокзала, где был сразу же окружен целой толпой комиссионеров местных гостинец. Хорошо, что Д. указал, где лучше остановиться, не то, наверное, попал бы я Бог знает куда. В этой толпе был и человек из нужного мне отеля, и, вручив ему вещи, я сел в маленький дилижанс, и мы поехали по темнеющим уже улицам знаменитого города.
В первый момент я даже немного разочаровался: дома да и улицы были чисто европейские, а я ожидал увидеть что‑то особенное – восточное. Правда, по ним двигалась пестрая толпа, одетая в разнообразные одежды, и это оживляло картину, но я ожидал все же чего‑то большего от этого города. На мои расспросы кучер меня утешил, сказав, что это только европейская часть и имеется другая – туземная, которая сохранила прежний вид.
Скоро мы подъехали к огромному шестиэтажному дому, меня быстро водворили в чистенькой комнатке пятого этажа. Почистившись и вымывшись, я спустился вниз и, так как был голоден, справился, где ресторан. Мне указали на красивое помещение и сказали, что обед будет подан через четверть часа. Я очень обрадовался и вошел в зал. Столики были еще пусты, но вскоре появились обитатели гостиницы и все места оказались занятыми. При этом я обратил внимание, что дамы одеты в вечерние туалеты, а мужчины в смокинги. Это обстоятельство неприятно на меня подействовало, так как на мне был светлосерый костюм, который резко выделялся среди черных смокингов. Скоро и за мой столик уселись великолепный джентльмен с не менее великолепной леди, и я окончательно смутился. Они вежливо поклонились и делали вид, что ничего особенного во мне не замечают, но в душе, очевидно, глубоко презирали за совершенно неприличный, с их точки зрения, вид.
После такого начала и аппетит пропал, и мне казалось, что вся публика и лакеи только на меня и смотрят. С тоскою я ждал, чтобы поскорее кончился бесконечно длинный обед, отлично, впрочем, сервированный. Таким образом, я получил еще урок путешествия «по заграницам» и теперь уже знал, что смокинг положительно необходим, чтобы считаться приличным человеком, а без него и за деньги не всюду пустят. Для меня это было совсем новым открытием, так как я никогда штатской одежды не носил и вообще ею не интересовался, наивно полагая, что важно иметь чистую и нерваную одежду, а ее цвет и покрой значения не имеют.
Наконец обед кончился, и я один из первых вышел из ресторана и пошел к портье, чтобы сговориться насчет гида, который показал бы мне город и все, что полагается. Весь Каир переполнен туристами, и это там прекрасно налажено: в любое время можно получить гида, говорящего на нужном языке, коляску, верблюдов и т. д. С гидом я условился с раннего утра начать осмотр всех достопримечательностей.
Он добросовестно исполнял свои обязанности, а я не менее добросовестно всем интересовался и в поте лица смотрел, ходил и лазал. Самое сильное впечатление осталось у меня от пирамид, но способ взбираться на них тоже незабываем. Только мы подъехали, как подскочили три араба, быстро переговорили с гидом и, не спрашивая моего согласия, схватили меня под руки и поволокли на самую высокую пирамиду. Ее стены представляют ступени высотой около метра, так что все время приходилось страшно высоко задирать ноги, и от этого они, конечно, быстро устали.
Вся операция восхождения происходила чрезвычайно быстро, так как арабы дошли до большого совершенства в этом искусстве. Двое ловко тащили меня за руки, а третий усердно подсаживал сзади. На половине подъема я чувствовал, что ноги у меня подкашиваются и дальше я ими двигать ни в коем случае не могу. Но не тут‑то было: черные ни на что не обращали внимания и тащили меня все выше, а я только машинально передвигал ногами. Все объяснения, что я устал и хочу отдохнуть, на них не действовали. Может быть, они меня плохо понимали, но, видимо, туриста просто полагалось дотащить до определенной высоты, и только тогда они могли считать, что добросовестно выполнили задачу и заслужили полную плату. Наконец мы, должно быть, достигли цели, потому что я был предоставлен самому себе и в изнеможении мог опуститься на камни.
Немного придя в себя, я стал осматриваться. Вид открывался действительно замечательный: море желтого песка, вдали ряд пирамид, с другой стороны живописно раскинувшийся Каир, а у подножия узкой лентой вьется вечный Нил. Я его представлял гораздо «поэтичнее». Всюду открывается широкий горизонт, точно безбрежное песчаное море сходилось с небосклоном. Пустыня казалась такой загадочной и манящей в свою даль.
Этот вид настолько увлек меня, что и спускаться не хотелось. Находясь наверху, легко было представить прежнюю жизнь этой страны, за тысячелетия до нас, внизу же меня ожидали бесконечно скучные лица англичан с бедекерами в руках, и все напоминало, что великое и величественное прошлое кануло в лету, и остались только «достопримечательности» для туристов.
В Каире я незаметно провел шесть дней и наконец решил, что пора и обратно ехать. До парохода, правда, оставалось еще три дня, но я боялся, что в мое отсутствие могли прийти телеграммы с поручениями. Распрощался с гидом‑арабом, который оказался милым приличным человеком, и с неподражаемо важным портье гостиницы и в прежнем дилижансе поехал на вокзал. Поезд быстро домчал до Саида, который представлялся уже чем‑то вроде родного города.
В Порт‑Саиде для меня телеграмм не оказалось. Посетил нашего матроса с откушенным пальцем, который оставался во французском госпитале. Он был вполне доволен случившимся с ним несчастьем: без одного пальца он мог отлично существовать, но зато освободился от участия в войне, которой страшно боялся.
Я отправился с Д. в банк и предъявил свои бумаги. Все оказалось в порядке, и деньги могли быть немедленно выданы. Мне представлялось, что я получу изрядное количество кредитных билетов, которые займут не так уже много места. Все же, по совету Д., я купил хороший кожаный чемодан небольших размеров. Я и в мыслях не имел, что он будет почти полон деньгами. Но каково же было мое удивление, когда в банке меня подвели к огромным медным весам и на них начали отвешивать груды золотых монет фунтового достоинства, а затем пересыпать в маленькие парусиновые мешочки. Таким способом отмеривание восьми тысяч фунтов окончилось быстро, и мне оставалось их принять.
Однако я с большим недоверием отнесся к такому способу подсчета денег. Как Д. ни доказывал мне, что он безошибочен, но я все же счел необходимым проверить несколько мешочков: сумма каждого была, разумеется, совершенно правильной. Банковские чиновники почтительно улыбались, видя мои сомнения, и выражали полную готовность присутствовать при проверке их всех. Вот эта‑то их готовность мне и показалась лучшим доказательством того, что меня не обманывают, и я удовольствовался уже произведенной проверкой на выбор.
Мешочки, уложенные мною в чемодан, совершенно заполнили его. Чемодан оказался таким тяжелым, что я еле‑еле мог его поднять, и при этом он чрезвычайно подозрительно прогибался и отвисал. Нечего сказать, приятное предстояло путешествие с этаким багажом! На ночь я не решился деньги взять в гостиницу, и банк любезно предложил сохранить чемодан в своем сейфе.
На следующий день, как только пришел пароход, я пошел в банк с рассыльным из консульства, который перенес чемодан в мою каюту. Заперев ее на ключ, весьма довольный успешно исполненным поручением, я вышел на верхнюю палубу. Когда до отхода парохода оставалось всего несколько минут, вдруг прибежал служащий из консульства и передал телеграмму. Она была от командира, и в ней он сообщал, что получил срочное предписание выйти на присоединение к эскадре, а мне приказывал ехать в Джибути и получить у консула пакет с распоряжениями, что делать дальше. Это известие меня сильно взволновало: я оказался брошенным с чемоданом, полным золота, и без надежды догнать свой корабль. Немножко успокоившись, я стал обдумывать положение. Меня не покидала все‑таки надежда, что, может быть, командир и не сразу уйдет из Джибути и я еще застану «Иртыш».
Пароход наш был по тому времени хотя и не очень новый, но все же достаточно комфортабельный. Я‑то вообще первый раз в жизни шел на пассажирском пароходе, и меня все привлекало. Пассажиров оказалось немного, и среди них несколько французских офицеров колониальных войск, возвращающихся со своими семействами из отпуска.
Салон, в котором собирались для еды, имел восемь довольно больших столов. Кормили, как на всех французских пароходах, прекрасно. За столом меня посадили рядом с одним господином, крупным немецким коммерсантом по фамилии Нагель. Он ехал для закупки партий каучука на Мадагаскар и оказался милым и увлекательным собеседником, так что с ним приятно было проводить время. Узнав, что я русский, он мною особенно заинтересовался и все расспрашивал о России. На своем веку ему удалось объездить почти весь земной шар, но в России он еще не бывал. Его также интересовала война, и он выражал полную симпатию русским и уверенность, что они победят. Он не скрывал, что в Европе не очень‑то склонны допустить усиление России на Дальнем Востоке, и потому, в особенности Англия, наверное, приложат все старания, чтобы не дать России там утвердиться.
Тогда я мало разбирался в политике, и оттого такая враждебность к России со стороны других европейских государств меня поразила, но я высказывал полное убеждение, что мы все же окажемся победителями. Я горячо доказывал своему собеседнику, что никакие неудачи не могут помешать довести войну до победного конца.
Вообще же мы с ним войной и политикой не слишком увлекались, и наши разговоры больше касались его бесконечных путешествий по Южной Африке, Америке и Австралии. Меня зависть брала, слушая его рассказы: еще бы, столько путешествовать, видеть все самое интересное – это ли не жизнь. Мы с ним так сдружились, что под конец плавания он стал меня убеждать бросить флот и поступить на службу в его фирму, чтобы всюду разъезжать. Как ни заманчиво было это предложение, но, конечно, я сейчас же отказался, так как одна мысль – снять морской мундир, который мне был так дорог, показалась чудовищной.
Путешествие проходило незаметно: утром все вставали сравнительно поздно, пользуясь обычаем французов подавать утренний кофе в каюту. Приятно не спеша пить огромную чашку вкусного кофе с поджаренными сухариками, лежа в койке и нежась под пока еще прохладными струями воздуха, идущими из открытого иллюминатора. Впрочем, рано вставать было бы нелегко, так как из‑за утомительной жары мы днем валялись в плетеных креслах и только вечером оживали и потому поздно шли спать. Первый день перехода стояла чудная погода и пароход не шелохнулся, на второй же ветер засвежел и началась легкая качка. Это сейчас же отразилось на аппетитах некоторых пассажиров, и в кают‑компании много место пустовало.
Как ни приятен был переход, но меня все время беспокоила мысль о чемодане, и я нет‑нет да и забегал в каюту его проведать. Быстро прошли эти три дня, и мы вошли на рейд Джибути. Увы, мои надежды, что, может быть, «Иртыш» задержался, не оправдались: ни одного корабля не было видно. Как только пароход встал на якорь, к нему подошел катер агента пароходного общества, который в то же время исполнял обязанности русского вице‑консула. Он мне любезно передал письмо от командира и предложил для съезда на берег свой катер, чем я охотно и воспользовался.
Прочитав письмо, я узнал, что, во‑первых, обязан расплатиться со всеми поставщиками, которым «Иртыш» остался должен и которые уже предупреждены об этом. После этого на очередном пароходе я должен был отправиться в Сайгон и там явиться командиру крейсера «Диана». Такого приказания я никак не ожидал, и меня удручала мысль, что не могу попасть на свой корабль и что придется с золотом путешествовать через весь Индийский океан. Но делать было нечего, и я, съехав на берег, водворился в единственной приличной гостинице Джибути. Эта гостиница была приспособлена для тропического климата: вместо оконных рам имелись ставни с жалюзи, и двери были без замков. Таким образом, когда я выходил из комнаты, золото оставалось на произвол судьбы. Такое положение меня очень беспокоило. Далеко не все население Джибути внушало мне доверие, и положение мое было, без сомнения, не из легких. Мне пришлось провести пренеприятную ночь. Утром, захватив чемодан, я поехал к консулу с твердым намерением оставить ему деньги на хранение.
Там я прежде всего справился, когда идет пароход в Сайгон; оказалось – только через две недели. Тогда я стал просить консула принять чемодан на сохранение. Узнав, какая у меня сумма, он замахал руками и заявил, что ни за что не возьмет на себя такой ответственности, и стал доказывать, что хранить деньги опасно, так как у него всего лишь простой железный шкаф, а охрана состоит из двух стражников. На это я возразил, что у меня и того нет и если он считается русским консулом, то обязан содействовать офицеру, выполняющему казенное поручение. Но это на него не подействовало, и он продолжал махать руками и утверждать, что не виноват, что я попал в такое трудное положение, и потому не желает рисковать чужими деньгами, а может быть, и своею жизнью.
Весь этот разговор меня страшно рассердил, и, не попрощавшись, я взял злополучный чемодан и вернулся в гостиницу. В довершение всего на «Иртыше» забыли положить с моими вещами патроны к револьверу, и, следовательно, из него нельзя было стрелять.
В гостинице уже ждали поставщики со счетами, и меня это даже обрадовало, так как уменьшало сумму золотого запаса. Но и после этого мой злополучный чемодан не стал легче. Я решительно не знал, чем занять две недели в ожидании парохода. Единственным делом было, по существу, питание, которое, однако, при моем одиночестве отнимало слишком мало времени. Затем оставалось спать, валяться на шезлонгах и гулять, но до бесконечности здоровому человеку нельзя, конечно, спать и валяться, а для гулянья надо покидать комнату, что опасно.
В первое время я не рисковал далеко отходить от своей комнаты и лишь позже иногда отваживался на маленькие прогулки. Спать старался днем, так как жара все равно располагала к сидению в комнате, добрую же половину ночи бодрствовал. В верхнем этаже гостиницы, где помещалась моя комната, я жил совершенно один, и было приятно, сидя на балконе, наблюдать темную тропическую ночь, мирно спящий городок, слабо плещущееся море, вдыхать свежесть воздуха и прислушиваться к тишине. По вечерам ходил в кафе, которое помещалось напротив, чтобы доставить себе маленькое разнообразие.
Так, под невольным арестом, прошло десять дней, и за это время я во всех деталях ознакомился с местной жизнью. Знал, кто и где живет, чем занимается, когда ложится спать и встает, одним словом, стал старожилом. Дни тянулись бесконечно медленно, и я с ужасом думал, что еще четыре дня придется так провести, но неожиданно консул сообщил, что в Джибути на следующий день зайдет пароход, идущий в Сайгон. Этот пароход был зафрактован французскими властями для офицеров и солдат, тем не менее он мог бы меня взять. Можно себе представить, как я обрадовался. Я поспешил выразить полное согласие, к большому удовольствию консула, которому хотелось меня сплавить и тем самым избавиться от возможных неприятностей.
Собрав вещи, заказав шлюпку и расплатившись с хозяином, я следил за горизонтом, когда покажется мой избавитель. Ждать пришлось до следующего вечера, и только за час до захода солнца пароход вошел на рейд. До парохода приходилось идти более часа, так как на веслах сидело всего два гребца. В море была легкая волна, мешавшая ходу, но вначале черные гребли сильно. Проработав полчаса, они стали о чем‑то между собой переговариваться и вдруг прекратили греблю. Это мне показалось подозрительным, в особенности после того как их спокойная речь стала крикливой и можно было думать, что они ссорятся.
Под влиянием опасения за деньги у меня возникла мысль, что, может быть, черные желают здесь со мною разделаться. Уж очень подходящая обстановка складывалась: быстро темнело, с берега и парохода нас едва ли видели, и я был один против двоих. Им ничего не стоило выбросить меня в воду и «помочь» утонуть. Тем более что они мало чем и рисковали, так как на берегу думали бы, что я уехал, а на пароходе – что отложил отъезд, и, конечно, не стали бы проверять и из‑за меня задерживаться. На «Диане» же хватились бы разве через несколько месяцев, а за это время убийцы давно бы скрылись. Эти соображения быстро промелькнули в голове, и я приготовился защищаться, насколько было в моих силах.
Прошло несколько минут, черные все еще горланили, мне наконец это надоело, и я на них как можно строже прикрикнул. Если бы они действительно что‑либо замышляли, то после этого должны были начать приводить в исполнение свой план, и вдруг я увидел, что ближайший встает. Ну, думаю, начинается, и сердце екнуло, но оказалось, что он лишь переменился местом с другим, и они опять начали быстро грести.
Я облегченно вздохнул, значит, страхи были напрасны, и постоянное беспокойство за золото зря навело меня на такие мысли. Очевидно, гребцы просто устали, хотели отдохнуть и поменяться местами, да в чем‑то не поладили, вот и вышла руготня. Ужасно глупо, но надо было понять мое состояние, и потом ведь черные по‑французски знали только несколько слов, так что объясниться с ними было трудно.
Когда шлюпка добралась, стало уже совсем темно. Мне помогли вытащить вещи, и я, щедро расплатившись с гребцами в награду за то, что так плохо о них подумал, взобрался по трапу на пароход. Через несколько минут он снялся с якоря и ушел в море.
Глава семнадцатая
Пароход оказался переполненным, так что меня поместили четвертым в маленькой каюте. Уже не говоря о том, что так скученно жить с чужими людьми вообще неприятно, но из‑за золотого груза эти сожители были особенно нежелательны. Кто они такие, я понятия не имел, тем более что все так же случайно попали на пароход и не принадлежали к офицерскому составу. Значит, снова предстояли беспокойства, и все это надоело, так как длилось третью неделю.
Путешествовать до Сайгона предстояло восемнадцать дней, с заходом на о. Цейлон, в Коломбо, лежавшее ровно на полпути. Поэтому я решил на следующее же утро пойти к капитану парохода с просьбой взять на сохранение деньги, авось он окажется сговорчивее, чем консул в Джибути.
Капитан знал, что я русский офицер, и был чрезвычайно любезен. Когда же выяснилось, что у меня в чемодане большая сумма денег, то он пришел в ужас и в первый момент, кажется, тоже желал отказаться их сберечь. Но не так‑то легко было отмахнуться, потому что в случае кражи на пароходе ему все равно не миновать бы неприятностей, в особенности после того как я сделал официальное заявление.
Немного подумав, он ответил, что посоветуется с заведующим хозяйством и сообщит результаты. Оставалось только встать и раскланяться. Капитан проводил меня хотя и не менее любезно, но очень озабоченно. Скоро пришел ревизор и от имени капитана выразил согласие взять деньги на сохранение за полпроцента со всей суммы. Я охотно принял это предложение, хотя и находил несколько странным, что за такую услугу они требуют плату. Зато уже через полчаса я уже гулял по палубе, имея в кармане расписку о принятии денег на хранение, и чувствовал себя прекрасно.
Среди ехавших на пароходе офицеров был один полковник, который считался начальником эшелона, и капитан не замедлил ему рассказать, кто я такой. Тот этим заинтересовался, и скоро ко мне подошел молодой офицер с приглашением. Полковник, как истый француз, оказался чрезвычайно любезным человеком, рассыпался в симпатиях к России, расспрашивал о войне и куда и зачем я еду.
В это время как раз весь мир потерял следы эскадры адмирала Рожественского, и никто не знал, какими путями она идет. Оттого полковника это страшно интриговало, и ему хотелось допытаться, знаю ли я, где она находится, и плохо верил, что мне это неизвестно.
Потом он попросил меня надеть форму, назначил офицера, чтобы тот, в случае нужды, помогал мне, и пригласил на обед, устраиваемый в мою честь. Такому повороту дела я мало обрадовался и, хотя благодарил за внимание, искренно сожалел, что инкогнито раскрыто и что меня сделали предметом всеобщего внимания. Особенно было неприятно во время еды в кают‑компании, и я часто не знал, куда деваться от любопытных взоров.
На следующий день состоялся обед, и в нем приняли участие старшие офицеры эшелона. Обстановка была очень торжественной, французы были даже при орденах. Когда все собрались, «состоящий» при мне офицер пригласил меня в салон. Сам полковник представил присутствующим и усадил рядом с собою. Все это приводило меня в большое смущение, и я, правду сказать, даже стеснялся говорить.
На мое счастье, полковник оказался таким разговорчивым, что весь обед проговорил один, и мне только изредка приходилось подавать реплики. Но самый трудный момент настал, когда дело дошло до шампанского и в мою честь был провозглашен тост.
Никогда в жизни я не говорил речей, да еще на французском языке, на котором изъяснялся плохо. Однако что‑то ответить было необходимо, и я, собравшись с духом, встал, извинился за плохое произношение и, поблагодарив за оказанное внимание, выпил за Францию и ее доблестных офицеров. Таким образом, кое‑как сошло. После этого подали кофе с ликерами, и сразу стало проще и веселее.
В разговоре со мною некоторые выражали удивление, что в России таким молодым офицерам дают столь «ответственные поручения», в особенности же удивлялись, узнав, что мне 19 лет. Как я ни старался уверить, что никаких «чрезвычайных миссий» не имею, но, по‑видимому, разговоры на корабле так преувеличили сумму, которую я вез, что они не хотели верить. Впрочем, под конец мне надоело опровергать, и я решил, что, коли им так хочется меня считать «особо доверенным лицом», пусть считают.
Пароход оказался далеко не первоклассным, и помещения на нем были маленькие и неудобные. Днем с большим трудом удавалось находить на палубе местечко в тени, на солнечной же стороне и в каютах стояла нестерпимая жара. Оживление наступало только после обеда, когда солнце заходило и спускалась прохладная ночь. Все восемнадцать дней пути был полный штиль. Океан как зеркало, на небе ни облачка, а ночью горели яркие звезды, широко белел Млечный Путь, и светила луна.
Такое спокойствие и приятное путешествие располагали общество к хорошему настроению и желанию веселиться, тем более что среди пассажиров было несколько молодых дам. Поэтому по вечерам устраивались танцы и импровизированные концерты, даже солдаты раз устроили кабаре и пригласили пассажиров. Кабаре понравилось, и особенно поразило искусство некоторых артистов‑солдат гримироваться женщинами и их изображать. Время проходило оживленно, недаром это был французский пароход и на нем ехали исключительно французы.
Через девять дней добрались до Коломбо. Здесь должны были простоять восемь часов, и, следовательно, появилась возможность съехать на берег. Я отправился в компании с моим приятелем, французским офицером. Мы объехали город и осмотрели все достопримечательности, которых имелось не так много. Главный интерес представляла природа… Она действительно была великолепна. В глубине острова, говорят, еще красивее, но, к сожалению, мы не имели возможности туда съездить. Даже сам народ, в особенности мужчины, очень своеобразны и красивы, и их правильные черты лица и длинные волосы напоминают библейские типы. Невольно бросалось в глаза, как они любят за собою ухаживать: сплошь и рядом встречались сидящие на земле туземцы и работающие над их прической странствующие парикмахеры.
В одной лавчонке, куда мы зашли, я услыхал, что продавцы говорят по‑русски, и это меня, понятно, поразило. На мои расспросы они охотно сообщили, что приехали из Одессы, что здесь им удалось хорошо устроиться и что обратно они не собираются. При прощании они в свою очередь задали мне вопрос: «Ну а как у нас в России? Как поживает наш Царь?» Выговор моих собеседниц, конечно, выдавал их истинную национальность, и когда мой спутник поинтересовался, русские ли это, я ответил, что не совсем.
В 6 часов вечера пароход двинулся дальше. Все пассажиры набрались новых впечатлений, и оттого за обедом царило сильное оживление. Особенно многих поразили туземные шлюпки: страшно узкие и имеющие сбоку поплавок, чтобы не опрокидываться. Сооружение весьма неудобное, но под большим треугольным парусом довольно быстроходное.
Во время этого перехода ничего особенного не произошло, и только раз общее спокойствие нарушилось маленьким происшествием: один солдат, сидя на бортовых поручнях, шалил со своими приятелями и упал за борт. Дело было днем, при полном штиле, немедленно подняли тревогу, и пароход застопорил машины. Спустили шлюпку, и невольного купальщика благополучно вытащили из воды. Все пассажиры высыпали на палубу и встретили его дружным смехом, а полковник сделал строгий выговор.
Эта часть пути оказалась более интересной, так как приходилось идти Малаккским проливом, который очень узок, и потому иногда видны берега и встречается много кораблей. Пройдя его, повернули на север и Китайским морем пошли к берегам Тонкина, где вошли в устье Меконга и по реке стали подниматься к порту Сайгон. В этом месте река широкая, с низкими некрасивыми берегами и мутно‑коричневой водой. Из этой мути часто высовывались хищные пасти крокодилов. Часа через четыре пароход подошел к пристаням города, и недалеко от них, посередине реки, я увидел «Диану». Таким образом, путь благополучно закончился, и спустя четверть часа я на сампане подходил к трапу крейсера. Оказалось, что Главный Морской штаб уже предупредил, и меня ждали. Первым делом я узнал, не слышно ли чего‑нибудь об эскадре, но никаких сведений не было, хотя ее и поджидали. На следующий день я получил из конторы пароходного общества деньги, которые затем с большим удовольствием сдал на хранение ревизору «Дианы».
Теперь оставалось ждать известий о приближении эскадры и спокойно жить на «Диане». Крейсер стоял разоруженным с малым числом офицеров и неполным комплектом команды. Чтобы занять время, я стал знакомиться с Сайгоном, который довольно интересен характерным обликом французского колониального города: не слишком благоустроенного и чистого. Днем, из‑за жары, мы прятались на корабле, но зато вечером все съезжали на берег. У многих появились знакомства, и даже у меня оказались знакомые в лице нашего доктора и его семьи. На их вилле было приятно проводить вечера за чашкою чая, точно в Ревеле.
Однажды я и мичман С. (Савич. – Примеч ред.)[85] поехали осмотреть туземную часть города и притоны курильщиков опиума. С. научился уже его курить и уверял, что это приятно. Мы оказались в очень подозрительном квартале, где‑то на берегу реки, и вошли в анамитский домик сомнительной чистоты. В маленьких комнатках на циновках валялись анамиты и анамитки с тонкими трубочками в зубах. Наше появление ни в ком не возбудило никакого внимания, и все продолжали заниматься своим делом. Какая‑то анамитка подала С. трубочку, и он улегся на циновке и стал уговаривать и меня последовать его примеру, но я предпочел выбраться оттуда и вернуться на крейсер.
Довольно приятное впечатление производил зоологический сад, который помещался в большом парке с тропической растительностью. Видеть львов, тигров, леопардов и вообще диких зверей в клетках, устроенных среди пальм, кактусов и других растений, было действительно интересно. Лазающие по деревьям обезьяны и сидящие на ветвях попугаи создавали иллюзию девственных тропических лесов. Вот только бедный наш мишка, привезенный из сибирских лесов, имел жалкий вид, так как немилосердно страдал от жары. Я попробовал покормить земляка, но он и на это реагировал вяло.
На крейсере развилась сильная эпидемия тропической лихорадки, и буквально три четверти всего личного состава лежали больными. Все палубы были сплошным лазаретом. Трое матросов со слабым сердцем умерли. Вскоре и я почувствовал себя плохо: тело покрылось мелкой сыпью и поднялся сильный жар. Переносить эту болезнь на корабле было очень мучительно: приходилось лежать в маленькой каюте, стенки которой за день невероятно накалялись. От одного жара в теле становилось тяжело, а к этому прибавлялась духота и высокая температура в помещении. Иногда казалось, что не выдержишь и задохнешься, и постоянно хотелось пить. При этом все тело ужасно чесалось. Подчас было нестерпимо мучительно, и только после захода солнца и до утра чувствовалось облегчение и свободнее дышалось.
Промучившись добрую неделю, я стал понемногу поправляться. В это время из Главного штаба по телеграфу было получено распоряжение меня «срочно командировать в Батавию, в распоряжение агента капитана 2‑го ранга П.». Такое путешествие, конечно, могло быть очень занятным, но я боялся пропустить приход эскадры и не попасть на свой «Иртыш». Выручила болезнь: командир «Дианы» разрешил отложить поездку до моего полного выздоровления, а на это требовалось еще не менее десяти дней. Сообщение о месте нахождения эскадры за это время могло и выясниться.
Мой расчет оказался совершенно правильным: через несколько дней пришла телеграмма о проходе Малаккским проливом русской эскадры в составе 40 вымпелов. Я сразу воспрянул духом, даже вся слабость прошла, и, конечно, теперь не могло быть и разговоров о поездке в Батавию.
Скоро в Сайгон пришел французский пароход, который подобрал у выхода из Малаккского пролива, в открытом море, русского матроса, плававшего на койке. Его привели на «Диану», и командир стал расспрашивать, как он очутился в воде. Выяснилось, что этот матрос так боялся попасть в бой, что решил бежать с корабля. Это ему долго не удавалось, да и в открытом океане было бы безумием. Оттого в проливе, где виднелись берега и встречались пароходы, он и решился осуществить свою мысль.
План был таков: вечером, после молитвы, незаметно с койкой прыгнул за борт, и, держась за нее, он решил плыть, пока его не подберет какой‑либо случайный пароход или не удастся достигнуть берега. Будучи трусом, боясь погибнуть в бою, он проделал замечательный трюк, на который рискнул бы не каждый храбрый человек: ведь, прыгая с борта, можно было попасть под винты корабля или своего, или нескольких, идущих за ним в кильватер, так как «Нахимов», с которого он бросился, шел не концевым. Далее он рисковал тем, что может не выдержать пребывания в воде до рассвета, то есть в течение 7–8 часов, и пароходы пройдут настолько далеко, что не заметят. В довершение и акулы могли съесть, так как их в этих водах очень много. Отчаянному дезертиру и повезло и не повезло: его подобрал пароход, идущий не на запад, а на восток, да еще в Сайгон. Так беднягу и доставили на «Диану» и потом водворили обратно на «Нахимов».
Первым вестником эскадры было госпитальное судно «Орел», которое адмирал Рожественский послал в Сайгон запастись нужными медицинскими материалами. Оно также привезло приказание командиру «Дианы» нанять пароход и отправить на нем свежую провизию в бухту Камранг. Это оказалось удобным случаем для меня, и командир мне разрешил им воспользоваться. Как только 2 апреля пароход «Еридан» был готов, лейтенанты К. (Кедров. – Примеч ред.)[86], М. (Мисников. – Примеч. ред.)[87], я и еще один инструктор по воздухоплаванию, пользуясь темнотой, прибыли на него. Со мной находился и мой неизменный спутник – чемодан с золотом.
«Еридан» – старое судно каботажного плавания, по‑видимому, последнее время стоял без дела, и его экипаж набрали только для этого похода. Экипаж этот казался очень подозрительным. Капитан, помощник и матросы были самых разнообразных рас – белой, черной и желтой – и говорили на каком‑то непонятном наречии. Вообще, эта компания имела чисто пиратский вид, и я все время с большой опаской присматривал за своим чемоданом.
С темнотою мы, точно пираты, таинственно выбрались из порта, имея потушенными огни, и далее стали пробираться вдоль самого берега. Впрочем, дело тут было не в пиратстве, а в том, что существовало предположение, что в Сайгоне имеются японские шпионы, которые могли сообщить о выходе парохода, и его бы на пути задержали неприятельские военные суда, по слухам, находившиеся в этих водах.
Все обошлось благополучно: погода была дивная, команда нас не зарезала и японцы не перехватили. Утром 3 апреля «Еридан» вошел в бухту Камранг, где стояла вся эскадра, и среди транспортов я заметил свой «Иртыш». Скоро к нам подошел катер с флагманским интендантом[88], и через него я просил сообщить о моем приезде. Ждать пришлось изрядное время. Наконец я увидел идущую за мной шлюпку. С великой радостью я взял чемодан и отправился на корабль и через несколько минут находился «дома».
Глава восемнадцатая
На «Иртыше» за это время произошло много перемен в офицерском составе. Оказалось, что меня больше не рассчитывали увидеть и на мое место назначили мичмана П. (Петухова. – Примеч. ред.)[89]; впрочем, он искренне обрадовался возможности от ревизорства избавиться. Так как после списания Ш. (Шмидта. – Примеч. ред.) и Ч. (Черепанова. – Примеч. ред.) у нас никого из более старых офицеров не осталось, то, по просьбе командира, назначили П. (речь идет о В.П. Родзянко; автор либо ошибся, либо пожелал еще более «замаскировать» фамилию, т. к. далее речь пойдет о пьяных выходках этого офицера. – Примеч. ред.)[90] и М. (Мюнстер. – Примеч. ред.)[91], причем первый, как старший, вступил во временное исполнение должности старшего офицера до прибытия капитана 2‑го ранга М. (Магарицкий. – Примеч. ред.)[92], который был назначен из России и догонял нас на кораблях адмирала Небогатова[93].
Назначение новых офицеров в худшую сторону изменило дух нашей кают‑компании, но все же для меня явилось большой радостью вновь очутиться на «Иртыше».
Командир был очень доволен моему возвращению, сейчас же пригласил к себе и долго расспрашивал о моих злоключениях. Он тоже уже не думал, что я догоню «Иртыш», и мой приезд вышел приятным сюрпризом, в особенности потому, что теперь на корабле появились деньги, в которых ощущалась большая нужда.
В кают‑компании я сразу узнал все новости и события, происшедшие в мое отсутствие.
Из Джибути «Иртыш» вызвали на Мадагаскар, в Носи‑бэ, всего за несколько дней до ухода эскадры к аннамским берегам. Переход до Мадагаскара прошел не очень благополучно. В первую же ночь «Иртыш» встретил сильную грозу со страшным ливнем. Во время нее, когда на вахте стоял подпоручик Ф. (Фролов. – Примеч. ред.), вдруг все ощутили довольно сильный толчок. За ним послышался треск ломающегося дерева и слабые крики. Из‑за полной темноты и сильного дождя решительно ничего не было видно. Вбежавший на мостик командир немедленно застопорил ход и приказал прожекторами обыскать кругом все пространство. Одновременно стали готовить к спуску шлюпки. Гроза все бушевала, и яркие молнии освещали горизонт. Однако прожекторы ничего не могли нащупать, и тогда спустили шлюпки. Шлюпки продержались на воде несколько часов, но нашли лишь какие‑то плавающие доски и ничего больше. «Иртыш» держался на месте до рассвета и еще раз обошел весь район, но опять безрезультатно. После этого оставалось только продолжать путь…
По‑видимому, он наскочил на какой‑то небольшой парусный барк, который шел без огней, не рассчитывая, что в таком глухом месте можно кого‑либо встретить. Из‑за безлунной ночи, темных туч и ливня «Иртыш» не увидели даже вблизи, так же как и он не заметил их, и столкновение произошло внезапно для обеих сторон. Кроме рулевого, возможно, на верхней палубе никого и не было, и экипаж мирно спал. Наскочив с большого хода огромной своей массой, «Иртыш» разрезал судно, и оно моментально пошло ко дну, увлекая за собою и всех людей.
Эта катастрофа произвела тяжелое впечатление, но наши опытные коммерческие моряки утешали, что из‑за небрежности капитана маленьких парусных судов такие случаи нередки.
Как только «Иртыш» пришел в Носибэ, его сейчас же охватила деловая атмосфера, царившая на эскадре. Пришлось хорошенько изучить приказы и инструкции, очень внимательно следить за сигналами и приспосабливаться к установленным строгостям. Адмирал был чрезвычайно разочарован тем, что «Иртыш» не привез снаряды для практической стрельбы, и от полной немилости спасло только то, что мы все же доставили нужные двенадцать тысяч пар сапог. «Иртыш» заставили запастись свежей провизией на предстоящий переход. Пришлось посылать на берег целую экспедицию для закупки быков и всего, что только можно достать. За моим отсутствием был послан старик‑комиссар, который в необычайной для него обстановке совершенно растерялся, и вышла путаница с расплатой. В результате на корабль доставили меньшее число быков, чем было куплено, да и за них порядочно переплатили. Командир рвал и метал. Старик только глазами хлопал и оправдывался, что он не чернокожий и их языка не понимает. Корабль не имел ни одного пенса своих денег, и пришлось просить у флагманского интенданта, который давал очень неохотно. Вообще, тревог и беспокойств оказалось много.
Несколько офицеров отправилось с закупочной экспедицией в Носибэ. Вернулись они на корабль с целым зверинцем: маленькая макака, прозванная Яшкой, пара хамелеонов и две обезьяны мадагаскарской породы «манго» с длинными хвостами.
3 марта эскадра вышла в море. Ей предстояло пересечь Индийский океан, но какими путями и куда именно она зайдет, никто не знал. Известно стало только, что переход будет очень длителен и не менее месяца‑полутора. Теперь уже соединенная эскадра имела около сорока вымпелов самых разнообразных типов судов, и вести ее являлось сложной задачей. Личному составу пришлось напрячь всю энергию, внимание и знание дела. На каждом корабле должны были внимательно следить, чтобы не сдали машины и котлы и не выйти из строя. Кроме того, следовало все время находиться в полной готовности к отражению нападения.
Адмирал время от времени маневрировал. Это многим доставляло немало неприятных минут, т. к. далеко не всё и не у всех выходило, как следует. Вначале даже в строю не умели, как полагается, держаться, в особенности транспорты: все время то один, то другой оттягивался или отставал из‑за недоразумений в машинах, и приходилось стопорить ход всей эскадры. Желая сберечь механизмы миноносцев, Рожественский приказал транспортам взять их на буксиры, и с этого момента пошли новые задержки: лопались и путались тросы, много времени тратилось на их заводку, и ход уменьшался. Это все сильно замедляло общее движение. На «Иртыше» с буксированием сравнительно легко справились, но и у нас не обошлось без выговоров адмирала, которого страшно боялись. Это обстоятельство, надо полагать, и способствовало увеличению всяких злоключений, потому что нервность командира передавалась офицерам, а от них команде, и дело не спорилось. Ко всему, жара ужасно размаривала, и все ходили злые и недовольные.
Скоро в океане начались погрузки угля с транспортов на боевые корабли. Это происходило при помощи баркасов и паровых катеров, которые принимали с транспортов мешки с углем и перевозили их на корабли. Адмирал требовал очень быстрой работы, так как не хотел задерживаться. Вначале и эта работа не ладилась, но потом с ней научились справляться, и началось даже соревнование: кто в кратчайший срок закончит погрузку. Дошли до большой виртуозности.
Так, в упорном труде и полном напряжении от офицеров до последнего матроса, продолжался этот исторический поход, и адмиралу удалось благополучно довести эскадру до аннамских берегов. За этот переход мои соплаватели страшно устали и завидовали мне, что я с таким комфортом добрался до Камранга. Да я и сам понимал, что мне в этом отношении повезло, но в душе все же предпочел бы быть с ними и переносить все лишения, чем ехать на пассажирских пароходах.
Адмирал решил понемногу отпустить часть транспортов, и все, что имело боевое значение, перегружалось на «Иртыш» и «Анадырь». Таким образом, у нас появились 800 мин заграждения и большое количество бутылей с соляной кислотой. Кроме того, непрерывно пришлось грузиться углем с германских угольщиков пароходной компании «Гамбург‑Америка» и в то же время передавать его на боевые корабли и миноносцы.
Тут я постиг весь ужас многодневной угольной погрузки при невыносимо жаркой погоде, когда на раскаленной солнцем железной палубе даже больно стоять в сапогах. Угольная пыль проникала всюду, и, так как приходилось жить на верхней палубе, мы всегда ходили черными. Наш комплект команды был крайне ограничен и сильно переутомлен, потому для погрузок присылали матросов с боевых кораблей. Они приезжали с расчетом как‑нибудь уклониться от работы: прятались по палубам и грузили только в присутствии офицеров, но зачастую грубили и не повиновались. Да и неудивительно: на своих кораблях им приходилось тяжело, а тут заставляли еще трудиться и на чужом. Все сознавали, что это не пустая прихоть адмирала, а чрезвычайно важно для всей эскадры, но в то же время так были измучены, что никакие убеждения не действовали, и приходилось применять самые строгие меры.
Под влиянием тяжелых условий смертность на эскадре сильно увеличилась, и почти каждый день в море «на похороны» выходил дежурный миноносец с печально приспущенным флагом, имея на корме одного или двух покойников. Было и несколько, правда, незначительных, случаев возмущения команд. Самый серьезный был на «Бородино», так что даже сам адмирал туда поехал и живо водворил порядок.
В это время нас начали беспокоить французы, и командующий французскими морскими силами контр‑адмирал Жонкьер от имени правительства просил адмирала покинуть бухту Камранг и вообще берега Аннама. Поэтому 9 апреля все боевые корабли вышли в крейсерство, но транспорты оставили в бухте заниматься погрузками. Вместе с тем ходили слухи, что Рожественскому приказано ждать отряд адмирала Небогатова и без него дальше не идти.
Наконец 13 апреля эскадру окончательно изгнали из Камранга, и она перешла к северу в еще более уединенную бухту Ван‑Фонг. Тут французы нас не сразу обнаружили, и пока шла волокита с передачей требований ее покинуть, мы успели дотянуть до 20 апреля. Когда на крейсере «Гишен» опять пришел адмирал Жонкьер и предъявил новое требование уйти, эскадра вышла в море, но в тот же день вернулась, так как получила предупреждение о надвигающемся тайфуне и, таким образом, имела право укрыться в бухте. Хотя этот тайфун так до нас и не дошел, тем не менее мы на законном основании оставались до 26 апреля. В этот день быль получено первое известие о приближении отряда адмирала Небогатова, и вся эскадра вышла ему навстречу.
За время стоянки в Ван‑Фонге мы не прекращали грузиться углем и наконец довели свой запас до предела. Было очень важно, чтобы «Иртыш» и «Анадырь» имели его в возможно большом количестве, так как после отделения от эскадры остальных транспортов мы оставались единственным источником снабжения топливом до Владивостока.
Много забот пришлось положить и на заготовку на предстоящий переход свежей провизии. «Иртышу» приказали закупить на берегу сто быков и держать их живыми. Другого выхода не было, так как на многих судах не имелось холодильников, и мясо могло испортиться. Это распоряжение приказали выполнить мне, для чего снабдили десятью моряками из команды, дали паровой катер с тремя баркасами и отправили в бухту.
На берегу виднелось только два домика, которые имели маленькие пристани, и мы направились к одной из них. Француз‑колонист встретил нас очень любезно, но оказалось, что он только недавно продал большую партию быков и оттого не мог набрать необходимого количества. Пришлось обратиться к его соседу. Этот француз тоже обрадовался увидеть в своем уединении цивилизованных людей. Он жил в обществе жены‑анамитки и двух слуг, тоже анамитов. Пригласив войти в домик, угостил нас пивом и стал расспрашивать, что делается на белом свете, так как не имел уже много месяцев никакой связи с другими людьми.
Времени у нас было мало, и мы перешли к делу. Оказалось, что он с большой охотой готов продать нужное количество быков, но назначил довольно основательную цену. Начали торговаться, но безуспешно, и ввиду безысходности положения я должен был пойти на его условия и просил только как можно скорее доставить быков на пристань. Француз улыбнулся и ответил, что охотно предоставляет нам самим выбрать в стаде понравившихся животных, но доставить на баркасы не может, так как имеет всего двух слуг. Кроме того, предупредил, что это дикие быки и пасутся они в большом загоне, который находится рядом с домиком. При этом ворота надо все время держать крепко закрытыми, чтобы они не могли выбраться.
Перспектива ловить диких быков нас несколько озадачила, но делать было нечего и следовало торопиться закончить все к темноте. Забрав людей, в сопровождении хозяина и его слуг я отправился на ловлю. В загоне на большом, огороженном высоким забором пространстве паслось стадо не менее, чем в пятьсот голов. Француз открыл ворота, и мы вошли вовнутрь. Стадо, завидя нас, бросилось в другую сторону, поднимая клубы пыли. Мы стояли в нерешительности, как начать дело, так как никому никогда не приходилось заниматься такого рода охотой. Видя нашу нерешительность, хозяин посоветовал сделать из веревки петлю и накидывать ее на выбранного быка.
Среди матросов сейчас же нашелся охотник накидывать петлю, и ловля началась. Несколько человек побежали к стаду, чтобы его спугнуть. Быки, задрав хвосты, понеслись мимо места, где мы стояли. Когда они проносились мимо, бросили петлю, и она попала удачно на голову одного животного. Бык страшно испугался, ринулся за другими и увлек за собою матроса, который не в силах был его удержать, споткнулся и упал. Бык поволок его по земле. Завидя это, все бросились общими усилиями выручать неопытного «ковбоя». Первый бык был пойман. Пять человек его обступили и повели к воротам. Однако, как только бык заметил, что он на свободном месте, то начал с невероятной силой вырываться, и матросы, не выдержав, выпустили его, и в один миг быка и след простыл.
Хотя все труды и пропали даром, но зато появился опыт и желание доказать, что в конце концов мы не так неловки, что не можем поймать быка. Теперь на конец веревки встали шесть человек, и, когда петля схватила быка, он не мог уже сдвинуться с места. Чтобы не повторилась предыдущая неудача, веревку сняли только тогда, когда быка втащили на баркас. Дело пошло быстрее, и скоро мы так наловчились, что ловили без ошибки и даже увлеклись: всем захотелось накидывать петлю, так что мне пришлось установить очередь, не пропустив в числе прочих и себя.
Стадо утомилось, и с ним стало легче справляться. Двух быков мы все же еще упустили. Проработав так более пяти часов, мы наконец набрали нужное количество и, расплатившись, стали прощаться с владельцем. Француз был очень доволен продажей, за выпущенных быков платы не взял и звал нас назавтра продолжать охоту.
Погрузка нашей добычи на «Иртыш» сначала не ладилась. Мы заводили петлю кругом животных и лебедкой поднимали их на палубу. Но, по‑видимому, им было неприятно и страшно, и они, того и гляди, могли выпасть. К счастью, это увидел один из наших прапорщиков, знавший, как полагается грузить скот, и посоветовал надевать петлю на рога и так поднимать. Такой способ показался нам настолько варварским, что мы не хотели его даже испробовать. Но оказалось, что лучшего и придумать нельзя: бык весь путь – с баркаса до палубы корабля – совершал не шевельнувшись, и когда с него снимали петлю, продолжал спокойно стоять. После этого погрузка пошла быстро, и через полчаса все благополучно закончилось.
Чем дольше мы стояли у берегов Аннама, тем стоянка делалась все больше невыносимой. Непрерывные погрузки и перегрузки, грязь, жара и постоянная боязнь попасть под гнев адмирала всех очень нервировали.
Назначенные к нам два лейтенанта (Родзянко и Мюнстер. – Примеч. ред.) усугубляли тяжесть положения, так как оба слишком много пили. Один, исполнявший к тому же обязанности старшего офицера, имел пренеприятный характер; от него всегда можно было ожидать грубость, надменность и невыдержанность, и оттого офицеры и команда его невзлюбили. Не менее неприятные отношения создались у него и с командиром, и часто доходило до столкновений. Вскоре от пьянства у него обнаружились признаки белой горячки, и однажды мы оказались свидетелями очень печального случая: проведя всю ночь за бутылкой, он к утру пришел в совершенно невменяемое состояние, вышел наверх без кителя с обнаженной саблей и, сев на палубу, стал ее рубить. Другой лейтенант с трудом его увел в кают‑компанию. В 8 часов утра, когда происходила церемония подъема флага, из офицерского помещения доносились бессвязные крики и ругань. Это услыхал командир и сам пошел узнать, в чем дело.
Увидя своего старшего офицера в таком ужасном виде, он приказал ему немедленно сесть в каюту и считать себя арестованным, но тот отказался это исполнить. Тогда был вызван караул, чтобы силой заставить его подчиниться. Пьяный лейтенант выхватил револьвер и кричал, что будет стрелять. Положение опять спас другой лейтенант и увел буяна. Командир больше не хотел терпеть такого неслыханного безобразия и поехал на «Суворов». Адмирал Рожественский только оттого, что теперь готовился к бою, ограничился тем, что отрешил его от должности, приказал арестовать в каюте с приставлением часового и не давать вина, а по приходе в Россию отдать под суд.
Мы остались довольны и этим: по крайней мере, неприятный соплаватель был изолирован от нас и буйства прекратились. Надо отметить, что такой офицер явился единственным примером на всей эскадре и еще раньше славился «громким поведением». Несколько лет тому назад ему пришлось даже выйти в запас, и только по мобилизации он опять очутился на флоте.
Находясь в море, эскадре по беспроволочному телеграфу удалось установить связь с адмиралом Небогатовым. В тот же день, 26 апреля, в три часа дня на горизонте показались дымки, а затем стали вырисовываться силуэты всех кораблей отряда. Странное впечатление производили в этих водах броненосцы «Император Николай I», «Адмирал Сенявин», «Адмирал Ушаков», «Генерал‑Адмирал Апраксин» и крейсер «Владимир Мономах».
Трудно было поверить, что такие старые корабли, часть которых к тому же была приспособлена для береговой обороны, совершили в столь трудное время этот переход[94]. А ведь им еще предстояло и, может быть, через несколько дней, вступить в бой с современными судами противника.
Мы очень обрадовались отряду, но не оттого, что рассчитывали на его помощь, а потому что благодаря его приходу можно было наконец идти дальше. Отряд покинул Россию значительно позже нас, и на нем было много наших друзей. Хотелось поскорее расспросить, как они совершили без всяких аварий переход на своих «самотопах». Казалось удивительным, как такое напряжение выдержали механизмы этих старых кораблей и как они способны служить дальше. По числу судов мы действительно теперь представляли грандиозное зрелище. Едва ли когда‑либо столько разнотипных кораблей шло в бой в составе одной эскадры.
Так как адмирал Небогатов попросил дать своим кораблям хоть несколько дней на отдых и приведение в порядок механизмов, то ему разрешили войти в бухту «Порт‑Дайотт» и туда же послали все транспорты. Опять начались срочные перегрузки боевых запасов на «Иртыш» и «Анадырь», и нам пришлось принять в носовой трюм весь запасной комплект 10‑дюймовых зарядов и снарядов броненосцев береговой обороны. Выходило, что наше приготовление к бою заключалось в том, что мы все больше начинялись взрывчатыми веществами: снарядами, зарядами, влажным и сухим пироксилинами, соляной и серной кислотами, то есть всем для получения более эффективного взрыва.
На отряде адмирала Небогатова или, как он официально назывался, 3‑м броненосном отряде прибыл и наш старший офицер капитан 2‑го ранга М. Нельзя сказать, чтобы он произвел хорошее впечатление, главным образом тем, что принадлежал к типу морских офицеров, которые мало плавали и всю свою службу провели в 8‑м флотском экипаже, находившемся в Петербурге.
В этом экипаже до введения закона о цензе устраивались офицеры, которые стремились жить в столице и совсем не плавать, так что в конце концов они только по форме оставались моряками. Введение закона об обязательных плаваниях для производства в следующие чины выгнало их на флот, но, конечно, не могло вдохнуть любви к морю. Поэтому мы, молодежь, таких моряков «поневоле» не уважали, и никаким авторитетом они у нас не пользовались.
1 мая адмирал назначил выход от аннамских берегов во Владивосток. Все отряды соединились, выстроились в походный порядок, транспорты взяли на буксир миноносцы, и поход начался. Теперь каждый новый день должен был приближать нас к роковой встрече с противником. Хотелось как можно скорее встретить этих загадочных японцев, которых пока знали только понаслышке. Итак, жребий брошен, эскадра шла на север, навстречу неумолимому року, готовая сразиться с неприятелем за Россию и своего Государя.
Глава девятнадцатая
В походе на кораблях сразу же установилась обычная обстановка: регулярно стояли вахты, собирались для еды в кают‑компании и старались спать в свободное время. Вообще же отдыхали от стоянок у аннамских берегов.
С нами плыли и наши бессловесные соплаватели: обезьянка, попугайчики, кошки, быки, хамелеоны. Волей‑неволей им приходилось разделять нашу судьбу. Особенно вспоминается наш общий маленький друг Яшка, обезьянка, купленная на Мадагаскаре.
Попав на корабль, Яшка быстро освоился и стал себя чувствовать, наверное, не хуже, чем в девственных лесах родины. Мы его держали в полной свободе, и это давало ему возможность всюду поспевать и принимать участие во всех событиях корабельной жизни. Его замечательная изобретательность, сообразительность и ловкость в тяжелые минуты доставляли нам много развлечений, и мы к нему скоро очень привыкли и полюбили его.
Но он сам строго разбирался в своих симпатиях и различно относился к каждому из нас: например, невзлюбил штурмана мичмана Е. за то, что тот не давал поиграть с предметами, которые его соблазняли, – секстантом, барометром, часами и т. д. Е. всегда тщательно запирал штурманскую рубку, и Яшке никак не удавалось проникнуть к заветным вещам. Но чем тщательнее запиралась рубка, тем настойчивее Яшка следил за нею. Наконец однажды, когда Е. забыл закрыть иллюминатор рубки, Яшка этим воспользовался, юркнул в отверстие и стал хозяйничать. Е. случайно вскоре вернулся и с позором его изгнал. Это макаку еще больше раззадорило, и она опять выследила незакрытый иллюминатор и вторично проникла в рубку.
На этот раз никто не помешал, и Яшка произвел полный осмотр всему, что там было, и даже влез лапками в чернильницу, отпечатал на страницах вахтенного журнала свои грязные пальчики и разорвал одну из них. Насладившись вдоволь, проказник выскочил на палубу, быстро вскарабкался по штагам на стрелу и стал наблюдать, каковы будут результаты. Е., войдя в каюту, сразу заметил беспорядок: разорванную страницу и отпечатанные пятерни лапок. Ругаясь и грозясь, выскочил он из каюты и стал искать виновника, а Яшка, сидя наверху, от восторга визжал и строил рожи. Яшка долго оставался на мачте, очевидно, рассчитывая, что за это время гнев Е. остынет, и оказался совершенно прав.
Подъем флага, когда офицеры и команда стоят во фронте, он тоже не упускал случая использовать. Можно было определенно сказать, что в самый торжественный момент Яшка прыгнет кому‑нибудь на голову или на плечо и измажет чистый чехол фуражки или китель, так как всегда был в саже.
Во время еды он неизменно находился в кают‑компании и по очереди перелезал с плеча на плечо обедающих офицеров, самым бесцеремонным образом рассаживался и нередко таскал еду с вилки или ложки. Проделывалось это поразительно ловко, так что часто зазевавшийся, разговорившись, замечал только тогда, когда пустая вилка попадала в рот. Не прочь был Яшка забраться и на буфет, где ставились принесенные из камбуза блюда, чтобы с них взять что повкуснее, но вестовые его немилосердно гнали. Впрочем, после того как он несколько раз обжегся, он и сам туда не рисковал залезать.
Яшка был большой охотник выпить: однажды, в какой‑то торжественный день, когда подавалось шампанское, ему дали попробовать, и оно так ему понравилось, что он просил все больше. Нас это забавляло, и скоро бедняга стал совсем пьян. Интересно было то, что при этом обезьянка вела себя точь‑в‑точь, как человек: лезла ко всем обниматься, пробовала лазать, падала и подымалась, бросала со стола вещи и корчила уморительные рожицы. Затем свернулась клубочком на диване и заснула.
Для сна ночью Яшка избрал каюту прапорщика Ш. (Шишкин. – Примеч. ред.)[95] и обычно располагался у него на койке да еще норовил залезть на подушку. Если хозяин старался его сгонять, раздавалось недовольное ворчание, и в лучшем случае он отодвигался в сторону, а чаще оставался на том же месте. Проснувшись рано утром, через иллюминатор выскакивал на палубу. При каких‑то обстоятельствах ему раздавило два пальчика. Доктор их залил коллодиумом, перевязал и вложил лапку в косынку, одетую через плечо. В таком виде Яшка и ходил весь день. С самым страдальческим видом он давал за собою ухаживать, все больше лежал и совсем не шалил. Точно как ребенок, ему хотелось разыгрывать больного и заставлять с ним нянчиться.
Главными его жертвами являлись два попугайчика, японский соловей и рыжий кот. Соловей был злой птицей и сидел в клетке, привязанной за штангу на палубе. Неизвестно, почему называлась она соловьем, так как, кроме неприятного писка, никаких других звуков издавать не умела. Яшка любил спускаться на крышу клетки, просовывать лапу между спицами и таскать птицу за хвост. Та страшно злилась и пребольно его клевала. Два зеленых попугайчика‑двойничка, скромные птички, никому не мешали, но Яшка никак не мог их оставить в покое и всегда старался им досаждать: таскал еду и воду, пугал своим шипением и дергал за перья. Однажды один из них исчез, и мы сильно подозревали нашего проказника.
С рыжим котом из Порт‑Саида Яшка свел тесную дружбу, и тот ему доставлял много развлечений. Чего только они ни выделывали: как бешеные носились по палубе, лазали на мачты и залезали в каюты. Во время возни Яшка все старался кота схватить за хвост или вскочить ему на спину. В жаркие дни Яшке ставили ведро с водою, и он с удовольствием в нем купался, а кот наблюдал, но иногда и сам получал непрошеную ванну, когда ведро опрокидывалось расшалившимся приятелем. Несмотря на систематическое приставание Яшки к своему другу, это, несомненно, были большие друзья. Кот каждый день приходил к нему, и часто они мирно спали, один подле другого. Особенно их дружба проявлялась, когда мы, выведенные из терпения, сажали Яшку на веревку, и кот сейчас же являлся его развлекать.
Однажды шла погрузка угля с пришвартовавшегося к борту «Иртыша» германского парохода. Яшка немедленно этим воспользовался и перепрыгнул на него. У немцев были две славные собачки породы «чау‑чау», желтые с длинной шерстью, которые всюду бегали вместе. Наш проказник сейчас же заметил и стал изводить: подкрадется то к одной, то к другой, дернет за хвост или просто за шерсть, да и поминай как звали. Собачки лают и носятся по палубе, а Яшка прыгает над ними, шипит и кривляется. Наконец он изловчился и схватил обеих сразу за хвосты и стал тянуть, те же со страху неистово завизжали. Как ни забавно было это зрелище, но капитан пожалел своих собак, и Яшку прогнали с парохода.
Раз обезьянка заметила у одного офицера кошелек, в котором находились золотые монеты. Он привлек внимание Яшки, и тот проследил, куда их прячут, проник в каюту, увидел незапертый ящик стола, схватил кошелек и влез на мачту. В это время вернулся хозяин каюты, заметил открытый ящик, проверил, на месте ли кошелек, и, обнаружив пропажу, быстро выскочил на палубу. Здесь он случайно заметил Яшку и у него в лапах кошелек. Начали обезьяну всеми способами соблазнять слезть и отдать похищенное, но та не обращала на эти усилия никакого внимания и старалась добраться до содержимого. Попробовали пугать: авось с испугу выронит, но она только выше забралась.
Вдруг заметили, что старания Яшки увенчались успехом, и он добрался до золота: вынул одну монету, внимательно осмотрел и засунул за щеку. Затем вынул другую, опять осмотрел и, к ужасу стоящих на палубе, бросил в море. По‑видимому, ему очень понравилось, как она, летя, сверкает на солнце. Яшка начал методично, одну за другой, выбрасывать монеты за борт, и только пустой кошелек упал на палубу. Никакие крики, угрозы и бросание палок не помогли, и бедный владелец денег остался без своего капитала. Яшка же, как ни в чем не бывало, прыгал и резвился, но на этот раз слишком рано спустился вниз: его изловили, высекли и посадили на веревку, чего он очень не любил.
Когда мы уже находились в походе, он как‑то умудрился залезть в каюту, в которой помещалась аптека. Она находилась в корме, а Яшка обычно имел доступ в каюты, помещающиеся на спардеке, иллюминаторы которых выходили на палубу. Забравшись в аптеку и увлекшись всякими стеклянками и банками, он вдруг заметил входившего фельдшера, со страху выпрыгнул в иллюминатор и оказался за бортом. Корабль был на ходу, шел в составе эскадры – где уж тут поднимать тревогу ради спасения маленькой обезьянки. Да и фельдшер от испуга, что его могут обвинить в умышленном покушении на жизнь Яшки, не сразу рассказал о его гибели. Таким образом нашего друга не стало.
Под конец похода на «Иртыше» зверинец сильно разросся, и огромная грузовая палуба служила обиталищем для всякого рода зверей: быков, коров, козла, кошек, кур, хамелеонов и, конечно, крыс. Все эти пассажиры расположились, где кто и как мог, кроме быков и коров, которым устроили стойла. Некоторые из них редко показывались на верхней палубе, так что мы их совершенно не видели.
Помню, однажды я стоял ночью на вахте во время похода, как вдруг увидел, что в темноте мелькнула тень и какой‑то зверь прыгнул на мостик и уставился на меня горящими, как огоньки, глазами. Один момент мне показалось, что я брежу и передо мною сидит пантера или леопард, даже страшно стало. И только когда страшный зверь замяукал и приблизился ко мне, я мог рассмотреть, что это огромных размеров черная кошка, о существовании которой на корабле я никогда не подозревал.
Теперь курс эскадры шел прямо на север, и все ощутимее становилась прохлада. Мы с наслаждением вдыхали свежий воздух после тропической жары, которая всех замучила. Явилась возможность перебраться в каюты и устроиться с большим комфортом, чем на верхней палубе: огромным наслаждением было опять спать на хорошем матраце и работать, сидя в мягком кресле за письменным столом.
Впрочем, в тропиках не только жара мешала жить в каютах, но и чудовищно расплодившиеся тараканы. Трудно себе представить, какое количество их появилось, благодаря высокой температуре. При этом коричневые превратились в каких‑то белых. Достаточно было на несколько минут присесть в каюте, и отвратительные насекомые бесстрашно заползали под брюки, в рукава и за шиворот, приходилось вскакивать и уходить. Справиться с ними не было никакой возможности, тем более что у нас не оказалось для этого специальных средств. Тараканы портили все, что приходилось им по вкусу, и в особенности страдали кожаные вещи: сапоги, корешки книг, портфели и чемоданы. Но чем становилось холоднее, тем скорее они исчезали: по‑видимому, родившись в жаре, насекомые совершенно не переносили холода.
2 мая эскадра пересекала торговые пути между Шанхаем, Гонконгом и Америкой, так что стали встречаться коммерческие суда. Крейсера посылались их осматривать, но, очевидно, ничего подозрительного не находили, так как им беспрепятственно разрешалось продолжать путь.
5 мая адмирал отпустил два транспорта – «Тамбов» и «Меркурий» – в Сайгон, и в этот же день был задержан английский пароход «Ольдгамия», на котором обнаружили контрабанду. На следующий день на него посадили русскую команду и отправили во Владивосток, в обход Японии. Этот случай нас очень заинтересовал и служил предметом различных догадок и предположений, так как мы на «Иртыше» никаких подробностей не могли знать.
До 7 мая стояла прекрасная погода, при полном штиле, но с этого дня стало свежеть, и на следующий день разразилась сильная гроза с дождем.
8 мая мы увидели, как вспомогательные крейсера «Трек» и «Кубань» отделились от эскадры и адмирал сигналом пожелал им успешного и благополучного плавания. Так как мы понятия не имели, куда их посылают, то строили всякие предположения, и некоторые завидовали предстоящему им интересному плаванию. Я был рад, что «Иртыш» не находится в их положении, потому что во что бы то ни стало хотелось принять участие в бою.
10 мая оказалось страдным днем для эстрады. Адмирал, воспользовавшись штилем, устроил общую погрузку угля. Впрочем, «Иртыш» в ней не принимал участия: корабли брали уголь с транспортов, которые в ближайшие дни отделялись.
Каким‑то путем на нашем корабле распространилась весть, что умер адмирал Фелькерзам – начальник 2‑го броненосного отряда. Адмирала любили и уважали как выдающегося моряка. Он заболел в походе, и за его жизнь давно уже беспокоились, и вот теперь его не стало. Командующий боялся, что накануне решительного столкновения с неприятелем эта смерть может произвести плохое впечатление на экипажи, и приказал ее скрыть. Оттого‑то на «Ослябе» и не был спущен адмиральский флаг, хотя сам Фелькерзам уже лежал в гробу.
11 мая опять погода начала портиться и задул свежий ветер. Эскадра приближалась к неприятельским берегам, хотя их близость пока не ощущалась. 12‑го числа от нас отделились все транспорты: кроме «Иртыша», остались лишь «Анадырь», «Корея», мастерская «Камчатка» и два сильных буксира – «Русь» и «Свирь». Отделившись, транспорты под конвоем вспомогательных крейсеров «Рион» и «Днепр» уходили в Шанхай. Опять произошел обмен сигналами.
Эскадра растянулась на несколько миль, так что разведчики плохо видели концевые корабли. Впереди, установив разведочную цепь, шел отряд капитана 1‑го ранга Шеина[96] (командира крейсера «Светлана») в составе трех крейсеров. Под прикрытием этого отряда шли три колонны: правая – 1‑й броненосный отряд, флаг вице‑адмирала Рожественского на «Суворове», за ним в кильватере – 2‑й броненосный отряд, флаг покойного контр‑адмирала Фелькерзама на «Ослябе»; средняя – все транспорты и левая – 3‑й броненосный отряд, флаг контр‑адмирала Небогатова на «Императоре Николае I», за ним в кильватер крейсерский отряд, флаг контр‑адмирала Энквиста на «Олеге». Легкие крейсера «Жемчуг» и «Изумруд» держались на флангах, миноносцы пока еще шли на буксирах у транспортов. Сзади эскадры, милях в десяти, – госпитальные суда «Орел» и «Кострома». Ночью мы хорошо видели их ходовые огни, а сами шли с закрытыми.
С каждым днем положение становилось серьезнее, так как решительный час близился. До этого момента мы не знали окончательного решения адмирала: собирается ли он вести эскадру кругом Японии или прямо – Корейским проливом, и только теперь стало ясно, что он решил идти прямо. Таким образом, мы поняли, что если вообще предстояла встреча с врагом, она, наверное, произойдет дня через два, где‑нибудь в районе Корейского пролива.
13 мая небо покрылось тучами, и лишь изредка выглядывало солнце. Адмирал не торопился и этот день посвятил маневрированию и перестроениям по боевой диспозиции. Эта диспозиция заключалась в том, что разведывательный отряд присоединялся к крейсерскому, оба должны были отконвоировать транспорты с места боя и оставаться при них для охраны; 1‑й и 2‑й броненосные отряды прибавляли ход, ворочали влево, чтобы прийти в голову 3‑го броненосного отряда и образовать боевую линию в двенадцать кораблей; крейсера «Жемчуг» и «Изумруд», каждый с миноносцами, держались: первый – на линии головного броненосца, а второй – на линии заднего.
Этот маневр эскадра выполняла удачно, но другие перестроения удавались не совсем гладко. Хуже всех маневрировал 3‑й броненосный отряд, что было вполне понятно, так как он только несколько дней как присоединился.
Настроение на «Иртыше» продолжало оставаться самым бодрым, все спокойно ждали следующего дня и хотели встречи с неприятелем. Конечно, в молодых офицерах было много юношеского задора, веры в свои силы, в опыт и знания адмирала Рожественского. Мы плохо отдавали себе отчет в слабых сторонах его эскадры или, вернее, не задумывались над этими вопросами и мечтали о победе.
Наш беспроволочный телеграф начал принимать телеграммы от неизвестных станций: это означало, что противник недалеко. Некоторые телеграммы были не зашифрованы, мы усердно пробовали их разбирать и все бегали в телеграфную рубку за новостями. К сожалению, наша станция была слабо налажена и потому плохо принимала чужую работу.
Ночь с 13‑го на 14‑е вся эскадра провела в полной боевой готовности: прислуга спала у орудий и прожекторов, команда и офицеры не раздевались. Адмирал принял все предосторожности на случай внезапных минных атак, что являлось особенно важным, потому что ночь наступила темная и луна вышла только после двух часов. На рассвете 14‑го числа госпитальное судно «Орел» донесло по телеграфу, что видело какой‑то пароход, который быстро скрылся (потом оказалось, что это был японский разведчик – вспомогательный крейсер «Шинано‑Мару», наткнувшийся случайно на наши госпитальные суда и по ним открывший всю эскадру). С этого момента характер неприятельского телеграфирования резко изменился: казалось, что поднялась тревога и отдаются приказания.
Скоро после этого командующий распорядился, чтобы разведывательный отряд присоединился к крейсерскому, так как из‑за мглистого горизонта можно было ожидать внезапного появления крупных сил противника. Около 6 часов утра вспомогательный крейсер «Урал» полным ходом подошел к «Суворову» и что‑то передал; затем вернулся на свое место. К 7 часам с левой стороны все больше начало разъясняться, и на «Иртыше» увидели силуэты какого‑то японского крейсера (потом выяснилось, что это «Идзуми»), который быстро скрылся. Так как до него расстояние было сравнительно невелико, то офицеры очень волновались, отчего адмирал не приказывает открывать огня.
В 8 часов с правого борта, почти на параллельном курсе, из тумана выскочил отряд крейсеров, состоявший из четырех судов («Чин‑Иен», «Матсушима», «Итсукушима» и «Хашидате»). Некоторое время он двигался с эскадрой, но понемногу прибавил ход и скрылся во мгле. Около 10 часов, тоже с правого борта, открылся другой отряд легких крейсеров («Читозе», «Касаги», «Ниитаки» и «Отова»).
По‑видимому, адмирал уже считал положение настолько угрожающим, что сигналом приказал 1‑му и 2‑му броненосным отрядам увеличить скорость и встать в голову 3‑му отряду и перестраивал главные силы в боевой порядок. Транспортам и крейсерам велено отстать и держаться несколько сзади. Справа нас охранял крейсерский отряд, а слева – один «Владимир Мономах». К 11 час. 20 мин. расстояние между нами и неприятелем было всего пять миль. В этот момент раздался выстрел с одного из наших кораблей, и за ним почти все суда открыли огонь. Но на «Суворове» появился сигнал: «снарядов не бросать», и стрельба прекратилась. Очевидно, на нашей эскадре создалось такое напряженное настроение и все так стремились скорее начать бой, что как только услышали первый выстрел (оказавшийся случайным), приняли его за условный. Японцы увеличили ход и отошли на большое расстояние.
После этого на «Суворове» поднялся сигнал: «команда имеет время обедать». Тогда и офицеры пошли в кают‑компанию и страшно торопились есть, так как каждую минуту ожидали новой тревоги. Ровно в полдень эскадра достигла высоты южной оконечности острова Цусима и легла на курс NO 23°, прямо на Владивосток. Цель казалась уже близкой, но предстояло преодолеть главное препятствие, которое оказалось роковым.
Обед в кают‑компании уже окончился, и все выпили по бокалу шампанского по случаю коронования Их Величества, когда снова пробили тревогу. Все мигом выбежали на палубу, готовые к бою. Оказалось, что открылись неприятельские крейсера с правой стороны, но уже не одни – при них были флотилии миноносцев.
В это время наш 1‑й броненосный отряд повернул «последовательно» влево на 8 румбов, и, пройдя немного, «все вдруг» повернули на прежний курс. Должно быть, адмирал принял эту предосторожность, боясь минной атаки. Тогда неприятель быстро увеличил расстояние и опять скрылся из виду, а 1‑й броненосный отряд вступил на свое место.
До 1 ч. 20 мин. дня противник не показывался, и мы оживленно делились впечатлениями о встрече с крейсерами и в то же время напряженно вглядывались в горизонт: не видно ли главных сил японцев. Скоро действительно в тумане стали вырисовываться очертания каких‑то кораблей. Через несколько минут стало ясно, что это японские броненосцы с «Миказой» во главе, на котором адмирал Того держал флаг.
Броненосцев насчитывалось шесть, значит, все налицо, и шли они на пересечение курса эскадры – слева направо. Подойдя ближе к нашим главным силам, повернули на юг, и тогда за ними стали появляться еще силуэты шести кораблей. Не было сомнения, что это броненосные крейсера адмирала Камимуры. Таким образом, японцы выступили против нас со всей своей мощью, и в их боевую линию вошло двенадцать кораблей.
Оглядевшись вокруг, мы заметили, что и с других сторон виднеются дымки и силуэты. Наша эскадра оказалась заключенной в железное кольцо, через которое ей предстояло пробиваться. Транспорты с крейсерами находились позади главных сил, с левой стороны. Хотя это и было довольно далеко от их головы, но все‑таки картина разворачивающегося боя нам представилась ясно, и все внимание сосредоточилось на маневрировании неприятеля. Напряжение обеих вражеских сторон достигло апогея: точно насыщенная до последнего предела грозовая туча ждет, чтобы всей массой от малейшего толчка обрушиться на землю и все затопить. В этой картине было что‑то гипнотизирующее. От нее никто не мог оторваться, и все с замиранием сердца ждали, которая из сторон первая нарушит ужасное молчание. Казалось, что оно длится уже вечность, и странной представлялась медлительность. На самом же деле ожидание продолжалось лишь несколько минут.
В 1 ч. 50 мин. неприятель неожиданно повернул на обратный курс, чтобы с головным кораблем опять оказаться впереди эскадры. Этот маневр казался невыгодным, так как во время маневрирования могли стрелять только корабли, вышедшие на курс. Но, очевидно, у адмирала Того имелись особые соображения. Когда два неприятельских броненосца были на курсе, «Суворов» наконец открыл огонь из больших орудий, а за ним, почти мгновенно, – и все остальные суда нашей боевой линии. Видимо, люди у орудий только и ждали этого момента.
Грохот, блеск и дым выстрелов создавали увлекательное, но жуткое зрелище. Теперь очередь была за врагом, который не заставил себя долго ждать: через каких‑нибудь две минуты, когда на курсе находилось уже четыре корабля, он, не менее энергично, начал отвечать. Гул орудий слился в один сплошной грохот, и обе стороны опоясались огненными лентами вспышек. Бой разгорался. Около «Суворова» и «Осляби» тесным кругом возникали, росли и падали водяные всплески.
По‑видимому, японцы весь огонь сосредоточили по двум нашим флагманским кораблям. Скоро неприятельская линия окончательно выстроилась, и японцы шли параллельным курсом с нашей эскадрой. Все развили наибольшее напряжение – бой был в полном разгаре! Но кто больше страдал, пока не представлялось возможным разобрать.
В 2 ч. 5 мин., пользуясь преимуществом хода, противник стал понемногу обгонять наши силы и склоняться вправо, стремясь охватить голову. Ввиду этого и наши суда медленно склонялись вправо. Увы, в бинокль уже было видно, что на «Суворове» и «Ослябе» возникли пожары, но мы надеялись, что у неприятеля дела обстоят не лучше.
Уклон вправо поставил крейсера с транспортами в необходимость самостоятельно маневрировать, чтобы не оказаться в центре боя. Крейсера вел адмирал Энквист[97], а транспорты следовали за ними, и казалось, что он в нерешительности, что предпринять. Впрочем, неудивительно, так как впереди шел бой, а с других частей горизонта надвигались легкие силы противника, которые пока оставались вдали, наверное, не желая мешать маневрированию своих главных сил. Поэтому было важно держаться поближе к своим, иначе японцы сейчас же напали бы на нас, и адмирал Энквист стал переходить на другую сторону нашей эскадры, стараясь не отрываться от нее.
В 2 ч. 20 мин. у нас на палубе раздался общий крик ужаса, так как увидели, что «Ослябя» стал медленно крениться. Фок‑мачта и труба были сбиты, крен все быстрее увеличивался… Броненосец лег на борт и стал погружаться в море. Кое‑где плавали люди, схватившись за обломки… «Осляби» не стало… Свершилось погребение адмирала Фелькерзама. Склепом на дне морском ему будет флагманский корабль, и с ним, погребенные в братской могиле, оказались многие его соплаватели. К месту катастрофы полным ходом подошел миноносец «Буйный» и начал спасать людей.
Эта ужасная картина первой потери на всех подействовала удручающе, и у меня впервые на душе что‑то заскребло. Пока еще мы являлись свидетелями этого гигантского сражения и казались изолированными от него, но теперь почувствовалось, что в любой момент можем попасть в такое же положение.
Вдруг послышались крики, что и «Суворов» тонет. Было 2 ч. 30 мин. Он, весь в огне и дыму, со сбитой на половину фок‑мачтой, без труб, как‑то беспомощно вышел в сторону и остановился. Казалось, что он тонет, но нет – он еще держался на поверхности! Во всяком случае, второй броненосец вышел из строя. Вне всякого сомнения, японцы побеждали, и наши силы попадали во все более критическое положение. Наша эскадра повернула на юг, и ее вел следующий по порядку броненосец «Император Александр III», укомплектованный гвардейским экипажем и считавшийся образцовым кораблем. Его командир капитан 1‑го ранга Бухвостов[98] был выдающимся и лихим моряком. Теперь всю силу своего огня неприятель сосредоточил на нем и на броненосце «Орел».
Глава двадцатая
В это время, благодаря нескольким поворотам главных сил на юг, север и опять на юг, крейсера и транспорты с ними разошлись и из‑за мглы потеряли друг друга из виду. Одновременно крейсерские силы неприятеля начали нас обстреливать. Японские снаряды ложились близко от «Иртыша». Часть из них со страшным свистом и жужжанием проносилась над нашими головами. И хотя всеми сознавалось, что именно такой‑то снаряд и не опасен, многие не выдерживали и «кланялись». Другие снаряды ложились, не долетев, подымая высокие столбы воды вокруг корабля. Каждый момент можно было ожидать, что следующий снаряд попадет в цель. Жуткое ожидание! Тяжело находиться в положении расстреливаемого и до отчаяния сознавать свое бессилие.
Пять маленьких 57‑мм пушек, которыми вооружили «Иртыш», молчали, так как было еще далеко до неприятеля, уже не говоря о том, что и вред бы они могли нанести противнику ничтожный. Он же нас расстреливал, как хотел: медленно двигающаяся огромная цель была легкой добычей. Каждый снаряд мог нанести нам, простому грузовому пароходу, внезапную гибель. 3200 пудов пироксилина и несколько сот десятидюймовых снарядов и зарядов ускорили бы ее.
Большая опасность тяжело переносится, если во время ее нет дела, которое бы всецело поглощало внимание. Оттого нелегко оказалось и нам выдерживать этот обстрел и ожидать рокового исхода. Часто задается вопрос: было ли страшно в бою? На это можно определенно ответить, что, конечно, каждому человеку страшно в момент большой опасности, так как в нем начинает говорить инстинкт самосохранения. Но быть храбрым не значит не ощущать страха, а значит – не терять самообладания, т. е. не терять способности рассуждать и действовать. Истинно храбрым и является такой человек, а не тот, кто кричит, что он ничего не боится.
Град снарядов все увеличивался и неумолимо приближался к нам. «Иртыш» вздрогнул, и раздался сильный взрыв. Первый снаряд – боевое крещение. Снаряд попал во второй трюм с правого борта у ватерлинии, совсем близко от того места, где я стоял. В борту образовалась большая пробоина, через которую вливалась вода. Корабль сразу сел носом и несколько накренился. Никто из людей не пострадал.
Не успели мы очнуться, как другой снаряд крупного калибра попал в спардек: разорвался, сделал огромную дыру в палубе, и его осколками оторвало ноги у кочегара, который только что вылез полюбоваться, что происходит наверху. От боли он начал пронзительно кричать, что угнетающе подействовало на всех. Это был первый раненый «Иртыша», и никто не привык к такому зрелищу. Сейчас же подбежали санитары с носилками и унесли несчастного на перевязочный пункт в командную палубу.
Третий снаряд попал в носовое орудие и сбил его. Через минуту мы увидели на баке три страшно изуродованных, далеко отброшенных трупа матросов, а двух других нельзя было найти. Пять человек погибло сразу. Вся палуба кругом была забрызгана кровью, валялись куски тела и внутренностей. «Иртыш» оказался, выражаясь языком артиллеристов, «под накрытием», и не было возможности уследить, куда попадают снаряды: непрерывно слышались взрывы в носу, середине и корме. В воздухе стоял сплошной стон. На спардеке то и дело возникали пожары, которые старались тушить.
Казалось, целая вечность прошла в каком‑то оцепенении, а на самом деле – всего несколько минут. Наконец поток снарядов стал ослабевать, а затем и совсем прекратился. Надолго ли? Может быть, они опять сейчас загудят, зажужжат и начнут взрываться? Но нет, как будто бы все тихо. Мы удивленно и не веря своим глазам стали осматриваться. Всюду стоны раненых, тела убитых, кровь, следы разрушения и кое‑где тлеет огонь. Бросились подбирать раненых, чтобы скорее перевязать. Тушили пожары. Ужасное сознание своей беспомощности. У всех невыносимая тяжесть на душе в ожидании – когда же начнется новый обстрел и наступит конец. Уже скорее бы! Но «Иртыш» больше не трогали, и он продолжал идти в кильватер «Анадырю», который описывал какие‑то циркуляции.
В этот момент боцман доложил старшему офицеру, что поврежденный трюм все больше наполняется водою и переборки начинают выпучиваться и того и гляди лопнут. Действительно, крен увеличивался, и транспорт глубже садился носом. Было такое впечатление, что мы медленно тонем. Но что можно предпринять: пробоина такая большая, что ее заделать нет возможности. Да и как на ходу выполнить такую работу, а остановишься – отстанешь и попадешь под новый обстрел. Оставалось только попытаться укрепить переборки бревнами.
Известие, что «Иртыш» в опасном положении, быстро распространилось по всем палубам и вызвало среди части команды панику. Офицеры бросились успокаивать, и на всякий случай было приказано изготовить шлюпки к спуску, но, кроме одного баркаса, остальные оказались поврежденными. На стреле лебедкой попробовали его приподнять, чтобы вывалить за борт, но лебедка не действовала, и пришлось починить сначала паропроводную трубу, пробитую осколками. Справились и с этим и баркас вывалили.
Только что успели это сделать, как в него самовольно прыгнули двое матросов. От их ли тяжести или от слабого давления пара, но тормоз лебедки не выдержал, и баркас полетел за борт, ударился об воду и от хода корабля встал поперек курса; трос лопнул, и он беспомощно закачался на волнах. Все произошло так быстро, что я и оглянуться не успел, как баркас остался далеко позади корабля с двумя случайными пассажирами. О том, чтобы остановить судно, не могло быть и речи, да и слишком трудно без помощи другой шлюпки его поймать. К тому же на баркасе, служившем для перевозки угля, не было весел, а один из прыгнувших в него матросов был ранен в руку.
«Иртыш» шел дальше, изредка осыпаемый снарядами, которые, однако, ложились в стороне. Очевидно, неприятель избрал другую жертву, и таковой оказалась несчастная «Камчатка». Что привлекло к ней его внимание – неизвестно, разве ее удивительно несуразный вид. Во всяком случае, японцы ее энергично обстреливали, и она, вся объятая пламенем, еле держалась в строю и начинала отставать.
Наше же положение немного улучшилось: крен перестал увеличиваться и переборки выдержали. По‑видимому, опасения, что «Иртыш» погибает, были преждевременны, он еще мог держаться на воде. Во время волнения, которое так остро восприняли некоторые из экипажа, я стоял вместе с другими офицерами на спардеке. Отчего‑то на душе было совсем спокойно, и я чувствовал, что мы не погибнем. Вместе с тем появилось ощущение ужасной лени: не страшным казалось попасть в воду, а надоедливо скучным. Одно представление, что придется прилагать усилия, держаться на воде, ощущать холод и мокроту и пытаться спастись, было отвратительно. Вместо этого хотелось лечь в койку, закрыться с головой, заснуть и все позабыть. Неужели сейчас придется наглотаться этой противной соленой воды!
Только мы успокоились насчет грозившей опасности от пробоины, как из машинного отделения прибежали сказать, что там невозможно работать из‑за удушливых испарений серной и соляной кислот. Эта новая опасность тоже грозила серьезными последствиями: остановкой корабля и лишением защиты крейсеров.
Свободные офицеры бросились в помещение на спардек, где хранились бутыли с кислотами. Оно оказалось совершенно разрушенным, и все бутыли разбиты. Разлившиеся кислоты стали просачиваться в машинное отделение, находящееся под ним. Недолго думая, мы стали вытаскивать половинки бутылей с оставшейся в них жидкостью, а потом и вычерпывать разлитую жидкость. Работа шла так энергично, что никто не замечал, как крепкие кислоты обжигали руки и ноги, а газы мешали дышать. Наши усилия увенчались успехом, и внизу сразу же стало легче дышать. Машинная команда понемногу начала спускаться к себе. Это оказалось своевременно, так как еще немного, и машины остановились бы из‑за отсутствия пара.
Благополучно миновала и эта опасность. Старший механик П. и несколько машинистов и кочегаров вели себя при этом в высшей степени самоотверженно: засунув паклю в рот и нос, они не оставляли своих мест до тех пор, пока не начали терять сознание. Однако же раненого кочегара не успели вынести, и он пролежал все время на кочегарной площадке. Его нашли буквально почерневшим и тяжело и прерывисто дышащим. Быстро вынесли его на свежий воздух, но ничто ему уже не могло помочь, и он умер.
Наконец удалось разобраться в полученных повреждениях. Картина разрушений была печальна: насчитывалось пятнадцать крупных попаданий, но имелись большие пространства на палубах, совершенно исковерканные, в которые, по‑видимому, попало по несколько снарядов. На наше счастье, кроме одного крупного попадания в ватерлинию, остальные были в надводный борт и верхние надстройки, так что жизненные части и, главное, трюмы со взрывчатыми веществами, не пострадали. Пока судьба нас хранила.
Бой все продолжался… Шедшая за нами «Камчатка» держалась уже на воде в виде какой‑то бесформенной массы: без мачт и труб. Высокое пламя и дым окутывали всю ее поверхность. Казалось, что на ней не могло уцелеть ни одного живого существа. Но неожиданно от ее борта отвалила шлюпка, наполненная людьми, и один из наших буксиров их подобрал.
Родной брат нашего судового врача Д. как раз плавал на «Камчатке», и бедный доктор был в отчаянии[99]. Несколько раз он бегал на корму смотреть на гибель «Камчатки», но ничего рассмотреть, конечно, не мог и снова возвращался к своим раненым. Только огромная работа, которая выпала на его долю, поддерживала в нем дух. Весь в крови, с взъерошенными волосами и совершенно усталый, он был неутомим и доблестно выполнял свой долг: резал, извлекал осколки и делал перевязки.
Неприятель же с какой‑то особенной злостью, несмотря на то что несчастная «Камчатка» уже тонула, продолжал осыпать ее снарядами. Зачем это было делать, отчего не дать спастись тем немногим, которые, может быть, еще уцелели? Как потом выяснилось, наши крейсера и транспорты обстреливались крейсерами адмиралов Катаоки, Дева и Того Младшего. Когда же адмирал Камиура с шестью бронированными крейсерами потерял в дыму и мгле наши главные силы, то он тоже не погнушался, так сказать, бить лежачего. Около 5 часов вечера горизонт разъяснился, главные силы увидели друг друга, и мы были оставлены в покое.
Русская эскадра в этот момент, сильно растянувшись, проходила мимо пылавшего неподвижного «Суворова», которого японцы продолжали упорно обстреливать. Наши крейсера и за ними транспорты присоединились к главным силам и шли у них в хвосте. Во время одного из поворотов «Иртыш» чуть не столкнулся со «Светланой» и остановился в расстоянии каких‑нибудь двух‑трех сажен. Это дало возможность заметить, что у нее в носу огромная пробоина. Вслед за ней вдоль нашего борта прошел «Дмитрий Донской», и на нем тоже виднелось несколько попаданий. Так как «Иртыш» теперь был сравнительно близко от броненосцев, то мы могли хорошо рассмотреть, что на них происходит: «Александр» находился уже в состоянии, близком «Суворову», «Бородино» еще держался, но тоже имел крупные повреждения. «Наварин» шел с огромным креном и горел между труб. Другие корабли с виду пострадали мало, и только «Орел» был серьезно поврежден. Меньше всех досталось отряду адмирала Небогатова; до него неприятель еще не добрался или, может быть, оставил напоследок.
Но вот «Александр», накренившись на правый борт, вышел из строя. Он сильно уменьшил ход и скоро совсем остановился, продолжая энергично отстреливаться из уцелевших орудий. Вдруг его крен стал быстро увеличиваться. Неприятель, вероятно, это заметил и еще энергичнее начал обсыпать снарядами. Неужели и он погибнет?!. Да, несомненно, положение его становится все более угрожающим и угрожающим… его минуты сочтены… еще больше лег на борт… на нем заметались люди… бросаются в воду… совсем лег на борт… и… и перевернулся. У нас дух захватило, не хотелось верить глазам. Одну минуту виднелась красная подводная часть, на которую влезло несколько человек, отчаянно махавших руками. Но напрасно – их никто больше не может спасти. Беспощадный неприятель осыпает снарядами даже и это тонущее днище, а с ним и несчастных уцелевших матросов. Наконец исчезло и это красное пятно, только кое‑где виднелись плавающие люди. Но и их некому спасти, все миноносцы далеко. Так с «Александра» никто и не спасся.
В 5 ч. 30 мин. «Иртыш» прошел место гибели «Александра», и тогда на поверхности больше никого и ничего не было видно. Все внимание неприятеля обратилось на «Бородино». Скоро после этого мимо нас пронесся миноносец «Буйный», держа поднятым сигнал: «Командование передается адмиралу Небогатову. Курс Норд‑Ост 23°». Из этого мы заключили, что адмирал Рожественский, если не убит, то во всяком случае тяжело ранен. Вообще же, этот сигнал казался уже ненужным: чем и как было командовать? Этими разрозненными и деморализованными кораблями, которые чувствовали, что больше не могут нанести вреда неприятелю, и сами только ожидали участи, постигшей их собратьев!
Русская эскадра хотя и была разрозненна, но все корабли инстинктивно старались держаться вместе и идти туда, куда идет головной. Бой еще продолжался, и крейсера с транспортами медленно двигались на север, вслед за главными силами. В 7 ч. вечера «Бородино», разбитый, горящий и неспособный уже двигаться, вышел из строя. В 7 ч. 10 мин. он перевернулся. Скованные ужасом от зрелища этой новой жертвы, мы окончательно потеряли способность здраво оценивать создающееся положение. Для одного дня было слишком много впечатлений и ужасов; дальше все казалось безразличным – даже и участь, которая ожидала нас самих. Оглянувшись назад, мы уже не увидели «Суворова». Его не стало.
Глава двадцать первая
Солнце близилось к закату, начинало темнеть. Главные силы неприятеля прекратили стрельбу и стали уходить. Все легче вздохнули, но, увы, напрасно: кончился дневной бой – начинался ночной. С севера, юга, востока и запада показались дымы миноносцев. Значит, большие неприятельские корабли ушли только, чтобы очистить им место и предоставить покончить с уцелевшими русскими судами. Миноносцы неслись полным ходом на остатки нашей эскадры. Густые клубы дыма застилали темнеющий небосклон, и то тут, то там вспыхивали факелы из труб. Японцы выпустили в атаку сто пять миноносцев – все, что они имели, и миноносцы всю ночь охотились за нами.
К этому времени крейсера и транспорты опять отстали от броненосцев, и, когда началась атака, мы увидели, что адмирал Энквист поворачивает и полным ходом уводит за собою часть крейсеров на юг. Остальные продолжали идти на север за отрядом адмирала Небогатова. Наш головной транспорт «Анадырь», совершенно не пострадавший в бою, тоже повернул на юг, дал полный ход и стал скрываться на горизонте. Таким образом, «Иртыш» был брошен на произвол судьбы. Да и неудивительно, ведь он теперь давал не более 5–6 узлов, где же с ним возиться, когда у всех опасность на носу.
Видя, что уже больше не на кого рассчитывать, кроме как на самих себя, наш командир решил продолжать путь на север и стремиться достичь Владивостока. С «Буйного» нам указали курс NO 23°, и мы подчинялись этому последнему распоряжению адмирала Рожественского. Но, так как состояние корабля было очень ненадежное и не исключалась возможность катастрофы, командир решил придерживаться ближайшего к нам японского берега, чтобы, в случае чего, дать возможность на него спастись. Но мы меньше всего думали о завтрашнем дне, потому что отлично сознавали, что нам едва ли удастся избежать минной атаки. Ведь не могли же миноносцы не заметить «Иртыш», который представлял такую большую цель и полз, как черепаха! Даже в полной темноте это было невозможно, в особенности при таком большом количестве атакующих миноносцев.
Никаких мер для защиты мы не могли принять: отбить атаку пятью маленькими пушками затруднительно. Но пушки наши, кроме того, были повреждены. Помню, как мичман К., я и несколько матросов разобрали винтовки, сели рядышком на палубе и стали следить за разворачивающейся картиной. Говорить не хотелось. На душе скверно. События дня ужасны. Впереди ожидалось самое худшее – о чем же делиться мнениями? Оставалось только ждать и уповать на Божью волю.
На наше счастье, темнота наступала быстро, а только в ней и могло быть наше спасение или, вернее, некоторый шанс на него. Поэтому командир приказал, чтобы нигде – ни на палубе, ни в каютах – не было огня. Никогда ни одно распоряжение не исполнялось с такой готовностью, как это, и можно с уверенностью сказать, что все с охотою следили, чтобы нигде не было света. Вдруг приблизительно в расстоянии 8–10 кабельтовых мы заметили, что навстречу идут какие‑то корабли. По стлавшемуся дыму и изредка вылетающим из труб искрам стало ясно, что они движутся полным ходом. Низкие слабые очертания доказывали, что это флотилия миноносцев, несущаяся, очевидно, в поисках русских судов.
На сердце заскребло – начинается…
Заметят или нет?! Эта мысль сверлила мозг. Когда все внимание сосредоточилось на неприятеле, один из офицеров случайно заметил, что на спардеке кто‑то зажег лампочку. Он, а за ним и еще несколько человек бросились ее, тушить. Оказалось, что кто‑то вылез из машины и зажег ее, не зная о приказании. Благодаря этому все были убеждены, что миноносцы нас заметили и сейчас же изменят курс и осветят прожекторами. Секунды казались вечностью, и только тогда, когда миноносцы проскочили мимо и мы убедились, что они скрылись в темноте, все вздохнули облегченно. Так непонятным и осталось, как это целая флотилия могла нас прозевать: может быть, от того что в этот момент заметили что‑либо другое и все на мостиках смотрели туда. Бог спас.
В 7 ч. 10 мин. начались атаки миноносцев. Последнее действие драмы Цусимского боя разыгралось перед нашими глазами. В различных направлениях темноту прорезывали лучи прожекторов. Раздавался глухой гул ожесточенной стрельбы. Видны были вспышки выстрелов и разрывы снарядов.
Дневной морской бой ужасен, но тогда все же происходящее не скрыто от взоров, а при ночном оно окутано мраком и оттого кажется жутким и таинственным. Становилось страшно за тех, кто теперь там подвергается нападению, да и самим было не особенно приятно. Нервы после дневных переживаний и ужасной физической усталости начинали сдавать.
Но какая картина! Поистине достойная великого художника. Необычайно трудно ее передать, ибо можно еще верно уловить лучи прожекторов, вспышки выстрелов и другие видимые проявления боя, но как передать тем, кто этого не переживал, зловещий мрак и ужас водной стихии. Как передать холодную бледность лучей прожекторов, как щупальцы гигантского спрута, ищущих жертвы, мрачную яркость взрывов, уничтожающих за несколько секунд громадные корабли; наконец, напряженное внимание и непоколебимую настойчивость командира атакующего миноносца, во что бы то ни стало, несмотря на дождь сыплющихся на него снарядов, достичь требуемой дистанции, чтобы не выпустить мину впустую. А напряженность и внимание личного состава атакуемого корабля, когда атакующие миноносцы замечены и по ним открыли огонь все орудия; лихорадочная работа комендоров и прислуги этих орудий, наконец, тот ужас, который переживают на корабле, видя, что мина выпущена и неизбежно через несколько секунд достигнет борта.
Неожиданно все даже привскочили: огромный столб пламени осветил море и раздался сильный глухой взрыв. Прошло мгновение, и все исчезло, стало темно и жутко тихо, точно сама природа была ошеломлена потрясающим зрелищем… По‑видимому, взорвался один из больших кораблей. Потом выяснилось, что это погиб «Наварин». Его одновременно атаковали с обеих сторон две флотилии. Они выпустили несколько мин, и две или три попали в цель. От их страшного взрыва и, наверное, детонировавших бомбовых погребов броненосец приподнялся и мгновенно погрузился в море, увлекая за собою уцелевший экипаж. Только трое матросов спаслись каким‑то чудом. Их высоко подбросило в воздух, и, упав в воду, они схватились за какие‑то обломки. Наутро их подобрали японские миноносцы.
Мы видели и слышали еще несколько менее сильных взрывов. Еще долго раздавался гул орудийных выстрелов и бегали лучи прожекторов. Затем все прекратилось: должно быть, «Иртыш» слишком далеко отошел от района атак. Только тогда понемногу стали приходить в себя, и захотелось есть, а главное – спать, спать и спать. Чувство усталости было ужасно, но это была не здоровая усталость после тяжелой работы, а следствие пережитого нравственного надлома, от крушения, в такое короткое время, всех надежд и мечтаний. Если физически мы и остались невредимы, то морально нас тяжело ранило, и эти раны причиняли страдание.
В кают‑компании был полный разгром: попавшим снарядом разрушило одну стену и часть потолка, так что виднелось небо. Почти вся посуда в буфете и зеркало над ним были разбиты. Закусив «корнет‑бифом», офицеры примостились полулежа на диванах и стали дремать, так как многие каюты отдали для раненых, да и в случае тревоги из кают‑компании было удобнее выскочить на палубу. Скоро все забылись тяжелым сном, полным кошмаров и видений: то и дело кто‑нибудь вскакивал, кричал, просыпался и будил других.
Командир, штурман Е. и по очереди кто‑нибудь из нас находились на мостике и напряженно вглядывались в темноту. Опасность ожидалась со всех сторон и отовсюду одинаково была страшна из‑за нашего малого хода и неповоротливости. Несколько раз чудились какие‑то силуэты: справа, слева, спереди и сзади. Стремясь от них уйти, командир поспешно поворачивал, а потом снова ложился на тот же курс и продолжал упорно идти на север. Но, наверное, «Иртыш» ни с кем ночью и не встречался, а все силуэты и огни являлись плодом нашего больного воображения: нервы сдавали, глаза устали.
Далеко не всем удалось спать эту ночь, и в первую очередь доктору, который продолжал выполнять свою тяжелую работу по спасению раненых: нескольким пришлось отрезать ноги и руки, многим произвести сложные операции по извлечению осколков, а с другими ничего уже нельзя было сделать – они находились на краю могилы. Ночью же пришлось похоронить убитых, всего четырнадцать человек. Их перенесли на корму, завернули в чистые койки, к ногам привязали в виде груза колосники и после краткой молитвы по доскам скатили за борт. Тяжелую картину представляли эти похороны в темноте, после боя. Нелегко отдавать последний долг убитым соплавателям, когда и так на душе мрачно и тоскливо.
Наконец начало светать. Этого момента командир особенно боялся, так как могло случиться, что близко окажется какое‑нибудь неприятельское судно, и, так как сражаться было нечем, то оставалось бы погибнуть.
У нас ни у кого даже не возникло мысли о сдаче, хотя «Иртыш» был только транспорт. Все офицеры отлично понимали, что раз на корме развевается Андреевский флаг, то он перед неприятелем не может быть спущен. Поэтому впоследствии нас особенно поразило известие о сдаче адмиралом Небогатовым своих кораблей. Ведь эта мысль в тяжелую минуту не возникла у офицеров «Иртыша», отчего же она возникла у них? По воспитанию и понятиям мы все являлись офицерами одной школы, и никогда бы и те не сделали этого, если бы не роковой случай: среди чинов штаба адмирала, очевидно, оказался кто‑то слабонервным и трусливым; он, дрожа за свою жизнь, и подал мысль о сдаче. Это была мысль «благоразумия», брошенная в момент наибольшей опасности, после суток страшного, нечеловеческого напряжения нервов. Она подействовала соблазнительно, и на нее поддались. Ведь она казалась так до очевидности благоразумной и логически оправданной: разве могли несколько жалких кораблей, окруженных со всех сторон неприятелем, успешно сражаться с флотом, обладающим более современной дальнобойной артиллерией, значительно большим ходом и личным составом, упоенным, наконец, недавней победой? Это логика – штатская логика.
Но адмирал Небогатов забыл, что на всякой эскадре или отдельном военном корабле лежит также и обязанность: если даже нет никаких шансов победить и нельзя вовсе избежать сражения, то все же вступить в бой и погибнуть, а не сдаться. Это не логика, а воинский долг, и этот долг не только красивый жест: выполнение его до конца не менее важно, чем и победа, потому что в основе его лежит чувство национальной гордости. Как бы сдача ни оправдывалась обстоятельствами, это всегда будет оскорблением.
Рассветало и горизонт был чист: ни дымков, ни подозрительных точек. Утром стало заметно, что крен «Иртыша» на правый борт и на нос начал опять увеличиваться. Старший офицер с несколькими другими офицерами и боцманом исследовали состояние переборок и обнаружили, что за ночь их сильно выпучило. Через швы во многих местах просачивалась вода. Это было серьезное открытие, так как, лопни переборка в соседний трюм, водоизмещением около 2‑х тысяч тонн, корабль глубоко сел бы носом, а корма настолько вышла бы из воды, что руль и винты оказались бы почти на поверхности и «Иртыш» потерял бы возможность управляться и двигаться.
Как ни очевидно, что такую пробоину судовыми средствами заделать нельзя, все же командир приказал попробовать. Для этого пришлось застопорить ход и приготовить пластырь. Когда его подвели к пробоине, она оказалась настолько большой, что он не мог ее перекрыть. Попробовали под пластырь завести большой брезент, однако и это не помогло. Провозившись около часу и убедившись в бесцельности стараний, решили понапрасну не терять времени и продолжать путь, чтобы засветло пройти как можно далее на север и с темнотою прорваться через опасную зону.
«Иртыш» дал ход, а крен все продолжал, хоть и медленно, увеличиваться. По‑видимому, переборки сдали еще больше и в любой момент могли совсем лопнуть. Ввиду серьезности положения, согласно Морскому уставу, командир собрал совещание из всех офицеров, чтобы выслушать их мнение, что предпринять дальше. Все быстро собрались в кают‑компании. На обсуждение было поставлено два вопроса: первый – продолжать идти тем же курсом и не покидать корабль до его гибели – и второй – идти ли тем же курсом до тех пор, пока, по всем признакам, не станет ясным, что гибель близка, после чего спустить шлюпки и на них спасаться.
Все придерживались такого мнения, что следует продолжать путь во Владивосток, пока «Иртыш» будет способен держаться на поверхности, и только тогда начать спасаться, когда не останется никакой надежды. Выслушав общее мнение, командир окончательно решил так: идти на север, придерживаясь японского берега, если положение станет критическим, подойти к нему еще ближе, спустить шлюпки, погрузить на них раненых и команду и высадиться.
Это решение в первой своей половине всех удовлетворило, но высадка на японский берег, т. е. добровольная сдача в плен, многим казалась чем‑то чудовищным и неприемлемым. С другой же стороны, никто, конечно, не мог предположить иного серьезного решения. Или следовало предоставить кораблю тонуть со всем экипажем? Но ведь тогда мало кто спасется, и уже, наверное, погибнут пятьдесят три наших раненых.
Был ли в этом хоть какой‑нибудь смысл, даже рассматривая вопрос с точки зрения воинской чести: «Иртыш» не боевой корабль, он покидается не оттого, что мы отчаялись добраться до русского порта, а потому что полученные повреждения привели его к гибели. Наконец, имеет ли право командир бесцельно рисковать жизнью более чем двухсот человек экипажа только из боязни возможных обвинений.
Мысль, что можно, а пожалуй, даже при данных условиях и должно, не дожидаясь окончательной гибели «Иртыша», его покинуть, казалась правильной. Но предстояло ведь высадиться на неприятельский берег. Тут опять возникал тяжкий вопрос. Ну а как поступить иначе? Продолжать путь к русским берегам в шлюпках? Но ведь и шлюпок недостаточно, и они, наскоро и едва починенные от полученных в бою повреждений, будут совершенно перегружены; среди спасающихся окажутся и раненые; где уж тут совершить переход в несколько дней по открытому морю. Следовательно, командиру оставалось только выбрать ближайший берег – к несчастью, неприятельский.
Все же мы, мичманы, решили просить дать нам шлюпку, чтобы на ней попробовать прорваться к русскому берегу. Перспектива совершить такое путешествие, да еще, наверное, с массой приключений очень увлекла молодежь, и Е., как старший, пошел к командиру. Тот, хотя и неохотно, но согласился на нашу просьбу, однако при условии, что найдется такая шлюпка, которая будет в состоянии выдержать предстоящее плавание и если она окажется не нужной для спасения других. Оставалось только поблагодарить командира и согласиться, что он совершенно прав.
Мы отправились к старшему офицеру, который как раз был занят осмотром шлюпок. Детальный осмотр дал довольно печальные результаты: кое‑как можно было еще приготовить пять шлюпок, но никак не больше. Починка подразумевалась условная, на живую руку, так как мелкие осколки так изрешетили наши шлюпки, что над ними пришлось бы работать несколько дней, а в нашем распоряжении могло быть два‑три часа. Таким образом, план молодежи рушился, и мичманы были страшно разочарованы.
Впрочем, если бы мы тогда знали сложившуюся после боя обстановку, то не стали бы так волноваться – ведь неприятель всем своим флотом установил завесу севернее о‑ва Дажелет, и, следовательно, «Иртыш» и, наверное, шлюпка оказались бы перехвачены. Во всяком случае, при огромных размерах транспорта и малом ходе рассчитывать на незамеченный проход опасной зоны шансов не было никаких.
После всех пережитых волнений по поводу принятого решения прошло еще томительных шесть – семь часов. Горизонт оставался чистым, и за все время даже ни один дымок не показался. Это особенно подзадоривало идти дальше, и все волновались, начнет ли «Иртыш» тонуть и его придется покинуть или еще протянет. Эти часы тянулись страшно медленно, и никто не знал, чем заняться: имело ли смысл приводить корабль в порядок, начать починки и налаживать обычную жизнь, когда в любой момент может произойти катастрофа. Мрачно мы сидели за обедом, в полуразрушенной кают‑компании не было слышно обычных шуток и споров, точно кого‑то оплакивали, да, впрочем, и действительно впору было оплакивать гибель русского флота.
Чем дальше шло время, тем роковая стрелка кренометра все больше наклонялась. Наконец в 5 ч. дня 15 мая пришлось прийти к убеждению, что минуты «Иртыша» сочтены и он каждый момент может начать тонуть. Поэтому дальше ждать становилось рискованным, и настало время готовить шлюпки к спуску. Как было решено, командир повернул к берегу и на расстоянии около 10 миль от него на глубине 55 сажен стал на якорь. Началось сложное спускание шлюпок с корабля с предельным креном и поврежденными приспособлениями. Только после упорной работы в течение часа наконец они были на воде, и началась погрузка раненых. Потом рассадили команду, затем сели офицеры и последними спустились командир и старший офицер. Незабываемые моменты!
Невероятно тяжело покидать корабль, на котором совершен такой трудный переход и пережиты ужасы боя. Какую печальную картину теперь представлял наш «Иртыш»: всюду следы разрушений, разбросанные вещи, грязь и запустение. Транспорт сразу принял нежилой и покинутый вид, и он на наших глазах как бы превращался в труп.
Вообще, каждый корабль, на котором пришлось прослужить долгое время, бывает жалко покидать, потому что к нему привыкаешь и с ним как‑то сживаешься. Он уже кажется не бездушной железной коробкой, а существом, как‑то духовно связанным с экипажем. Мы покидали сегодня «Иртыш», обреченный на неизбежную гибель, а ведь вчера он нас спас, вынеся из опасного положения. Бедный, бедный «Иртыш», недолго ты послужил в русском флоте, недолго на твоей корме развевался славный Андреевский флаг.
Но кроме людей на корабле были еще живые существа; их пришлось предоставить самим себе. Соловья, которого покойный Яшка таскал за хвост, выпустили на свободу; быков отвязали от стойл. Одна кошка отправилась с нами, остальные куда‑то запрятались, так что их найти не могли. Потом японцы рассказывали, что одна из коров доплыла до берега и, вроде нас, попала в плен. Говорят, что крысы чуют заранее гибель судна, но, должно быть, у нас они были малочувствительны и не учуяли судьбы «Иртыша». Во всяком случае, мы не заметили, чтобы они его покидали.
Пока плыли, никто не спускал глаз с «Иртыша», ожидая его «последнего вздоха», но он пока продолжал печально стоять, уткнувшись носом в воду. Лишь Андреевский флаг слабо колыхался на корме. Когда шлюпки подходили к берегу, мы увидели в некоторых местах буруны, но никто даже не подумал искать удобного места для высадки, и стали приставать там, где пришлось. Оттого несколько шлюпок перевернуло, и они затем разбились на камнях.
На берегу нас встретили какие‑то люди с угрожающим видом и вооруженные палками, вилами и лопатами, но державшиеся на приличном расстоянии. В это время команда успела вытащить раненых и положить на песок. Затем привязали к веслу флаг с красным крестом и стали жестами показывать японцам, что оружия у нас нет. Убедившись, что мы имеем мирные намерения, они успокоились, однако подходить не решались и только показывали руками по направлению деревни. Мы поняли, что они кого‑то ждут, и, следовательно, нам приходилось делать то же самое.
Действительно, скоро появились три полицейских с веревками. Не обращая на нас никакого внимания, они быстро вбили колья кругом места, где мы расположились, и между ними протянули веревку. Таким образом, наш лагерь оказался оцепленным, и они сами остались сторожить, объясняя жестами, что никто не должен за него выходить. Тут впервые почувствовалось, что мы уже не свободные люди, а пленники.
Время клонилось к закату. Все офицеры и матросы сидели на берегу и грустно всматривались в очертания «Иртыша». Издали трудно было сказать, что с ним происходит, но вдруг мы заметили, что он как бы стал уменьшаться в размерах: первым под воду ушел нос, виднелись только спардек и корма, а затем и они стали быстро погружаться. Несколько секунд торчали верхушки мачт и труба, и – все исчезло. «Иртыша» не стало. Как это зрелище ни было тяжело, но оно нас успокоило, ибо оставалось какое‑то опасение: а вдруг мы ошиблись и «Иртыш» без хода еще долго продержится на воде; тогда японцы успели бы прислать какое‑нибудь судно и отбуксировать покинутый транспорт в ближайший порт. Теперь это беспокойство окончательно отпало: никто не достанет его с такой глубины!
Глава двадцать вторая
Наконец появилась группа каких‑то новых японцев, которые оказались местными властями. Они кое‑как говорили по‑английски и кратко задали командиру несколько вопросов о причинах нашей высадки. В свою очередь командир попросил их как можно скорее устроить раненых и облегчить нашему доктору его работу. Из разговора с ними мы узнали, что высадились у маленькой деревушки, в 25 километрах от города Хамада. Ее жители еще никогда не видели европейцев, так как в этот район им не было доступа. Вот почему, оказывается, крестьяне в первый момент с таким опасением и недоброжелательностью на нас посматривали.
После переговоров японцы начали распоряжаться: при помощи матросов раненых перенесли в сельскую школу, команду разместили в храме, а для офицеров наскоро очистили несколько домиков. Затем предупредили, что, как только из города придет конвой, нас туда отправят, а пока мы должны сидеть в определенных помещениях и без разрешения никуда не выходить. Когда наконец мы попали в определенный нам домик и были предоставлены самим себе, то почувствовали, как невероятно устали после всего пережитого, нестерпимо захотелось спать. Располагаться на ночь приходилось по‑японски: просто на полу, покрытом циновками, подкладывая под голову круглые валики. Через несколько минут все уже спали. Но впечатления боя были так ярки, что во сне еще раз переживалось то, что было перечувствовано наяву.
Помню, как ночью я проснулся в полной уверенности, что нахожусь на корабле, и долго никак не мог понять, отчего мне не знакомо помещение, в котором я находился. Проснувшись на следующее утро и доев остатки захваченной с корабля провизии, с разрешения японца часть офицеров пошла в храм, где помещалась команда. Ей, в сущности, предоставили только крышу, и все спали на земле. Впрочем, на что же можно было претендовать в деревне при таком большом количестве нежданных гостей? На команду сон подействовал ободряюще, и от сознания, что больше никакие опасности не угрожают, она пришла в хорошее настроение: слышались веселые голоса, шутки и легкая перебранка. Поговорив кое с кем из них, мы отправились узнать о состоянии раненых, и там застали безотрадную картину: доктор сказал, что несколько человек, вероятно, не выживут, тем более что им все еще нет возможности предоставить необходимый уход.
В полдень нас угостили японским обедом, состоящим из вареного риса с соей, очень хорошо приготовленного, и каких‑то кореньев. Все кушанья показались нам весьма вкусными, и всё с аппетитом было съедено. Потом расположились в комнатах и делились впечатлениями о пережитом. Вспоминался забавный случай во время боя с нашим анекдотичным механическим прапорщиком Ванькой. Он вылез из своей машины, чтобы посмотреть, как объяснял, «японские чемоданы», и перед тем как опять спуститься вниз, зашел по необходимой нужде в соответствующее учреждение, которое находилось в корме, на верхней палубе. Только что Ванька с удобствами там расположился, как начался обстрел «Иртыша» и совсем близко от кормы разорвался снаряд, так что даже струей воздуха смяло стенки помещения, в котором он находился. Бедный Ванька так испугался грохота и треска, что, как был, выскочил на палубу и понесся, крича: «Ой», «ой»… К нему бросились несколько человек, думая, что его ранило, но оказалось – только оглушило. Тут же ему напомнили о беспорядке в туалете, так как сам он этого и не замечал.
Хотя все находились на одном корабле и, следовательно, были свидетелями одних и тех же событий, однако во время разговора выяснилось, что иногда сильно расходимся в наших наблюдениях. Начались нескончаемые споры, и каждому казалось, что он прав.
С «Иртыша» мы взяли самое ничтожное количество вещей, и преимущественно мелочи, дорогие сердцу. Из одежды и белья только то, что было надето, так как боялись перегружать шлюпки, да и не знали, как к этому отнесутся японцы, но главное же, что тогда было не до того. Случайно обратив внимание на свои сапоги, я заметил, что они совершенно разваливаются, хотя я их стал надевать только накануне боя. Но и этого горя было мало: брюки мои, начиная с колен, из черных превратились в красные и буквально разлезлись, также и рукава тужурки. Подобные же дефекты оказались и у других офицеров. Нетрудно было догадаться, что кислоты съели нашу одежду. Руки и ноги у многих тоже оказались со следами ожогов. Если еще с разорванными штанами и рукавами можно примириться, то ходить без сапог было немыслимо.
На мое счастье, вестовой одного офицера пожалел бросить новую пару сапог своего барина, и тот мне ее предложил. Как ни скучно было сидеть запертыми в маленьком домике, но время шло быстро, и наступил вечер. Стало ясно, что японцы и на эту ночь нас оставят здесь, что нам было по душе, так как все чувствовали себя еще усталыми и перспектива пройти пешком 25 километров мало прельщала. Около 6 часов вечера принесли ужин, и все расселись кругом маленького столика на низких ножках.
Только что мы приготовились есть, как вдруг почувствовали, что все затряслось и зашаталось. Моментально вся компания выскочила в садик и с ужасом ощутила, что и там все колеблется: земля, деревья, камни… Так же внезапно, через несколько секунд, это явление прекратилось. Тут мы сразу догадались, что это было всего лишь маленькое землетрясение, столь обычное для Японии. Долго потом мы смеялись над собою за проявленную нами трусость и нервность. Землетрясение, впрочем, мы все наблюдали впервые.
На второй день, с утра, нас предупредили, что поведут в г. Хамада, чтобы оттуда отправить морским путем «куда‑то» дальше. Японцы долго извинялись, что и офицерам придется идти пешком, так как у них нет никаких средств передвижения, и раненых придется нести нашей команде. Все это было сравнительными пустяками, про главное же они умолчали, что наше путешествие вошло в программу торжеств по случаю одержанной победы над русским флотом, и экипаж «Иртыша» должен был служить для жителей этих мест как бы вещественным доказательством поразительных успехов японского оружия. Мы и не знали, какое тяжелое испытание нам еще предстоит.
Был прислан взвод солдат – не то для того, чтобы мы не разбежались, не то для того, чтобы нас никто не тронул. Из‑за раненых путешествие не могло совершаться достаточно быстро, и оттого уже в восемь часов утра караван двинулся. Впереди на носилках несли раненых, за ними шли офицеры и команда.
Уже проходя нашу деревню, мы поняли, какую роль нам придется играть, потому что вдоль дороги шпалерами выстроились ученики и ученицы местных школ и стоял народ. Все были по‑праздничному одеты, в руках держали флажки и изредка кричали: «Банзай!». Впрочем, патриотический фанатизм не мешал им вести себя вполне корректно. Правда, этому способствовало и присутствие большого количества полиции. Такие встречи устраивались в каждой деревне, которые пришлось нам проходить, а их было немало. Мы прошли таким образом почти весь путь под перекрестными взглядами молодого японского поколения и испили до дна горькую чашу участи побежденных. К счастью, мы еще не знали самого тяжелого – о сдаче отряда адмирала Небогатова.
Привал, во время которого нас кормили, был довольно продолжительный. Такой отдых был особенно нужен для раненых, с трудом переносивших это путешествие, и двое из них даже умерли.
Самое большое торжество устроили в Хамаде. Там толпы народа проявляли восторг с особенным шумом, но нельзя не согласиться, что для этого имелось полное основание, так как победа была одержана действительно большая. В довершение, пленные имели вид таких великанов, по сравнению с победителями, что их положение казалось крайне унизительным. Если и правильно в свое время некоторые газеты называли японцев «макаками», то «шапками закидать» их, во всяком случае, не удалось. И вот теперь для удовольствия этих «макак» нам приходилось столь позорно парадировать. Знали бы мы наперед, что предстоит такое унижение, то, наверное, предприняли бы самую безрассудную попытку прорваться к русскому берегу, лишь бы не оказаться в таком положении.
Это унизительное путешествие закончилось, когда уже начинало смеркаться. Мы достигли гавани Хамады, где нас посадили на вспомогательный крейсер. Один из тех пассажирских пароходов, название которых кончается словом «мару». Все ужасно устали, и оттого попасть на пароход было особенно приятно. Офицеров разместили по чистым и удобным каютам, а команду в трюме. Поздно вечером пароход вышел в море, по неизвестному направлению. Пока никого свободы не лишали, и мы прогуливались по палубе.
Когда на рассвете некоторые офицеры вышли наверх, то, по‑видимому, крейсер проходил район боя, потому что они увидели несколько плавающих трупов. Очевидно, это были офицеры и матросы, которые, спасаясь, надели пробковые пояса, и те их держали на поверхности даже тогда, когда они после многих часов тщетных попыток спастись скончались. Тяжелое зрелище для тех, кто сам принимал участие в этом бою!
После полудня дали распоряжение сесть по койкам. По‑видимому, мы входили в порт, где нас предполагалось высадить, и нам чего‑то не хотели показывать. Даже иллюминаторы задраили боевыми крышками. Все же одному офицеру, который сидел в каюте с окнами, закрытыми лишь занавесками, удалось рассмотреть те места, которыми шел пароход. Оказалось, что он вошел в главную базу японского флота Сасебо, где на рейде стоял весь боевой флот. В бортах некоторых кораблей виднелись пробоины, и не их ли скрывали от нас?! Но чему никто и верить не хотел, так это тому, что якобы там же стояли и некоторые наши корабли под японскими флагами. Среди них этот офицер заметил «Орел», «Николай I», «Сенявин» и «Апраксин». Для нас это известие было жестоким ударом: так, значит, не только чудовищное поражение, но еще и позор сдачи!
Скоро пароход отдал якорь, и нас переправили на берег и сейчас же разделили. Офицеров поместили в деревянном бараке на огромном дворе перед морскими казармами, а команду увели куда‑то в другое место. На дворе с утра до вечера происходило обучение новобранцев строю, и в конце концов нам до отвращения надоели команды и крики обучающих.
Из этого барака мы не имели права никуда выходить, и только разрешалось гулять вдоль его стен. К нам почти ежедневно наведывались японские офицеры с переводчиками, страшно утомляя допросами. Сначала даже не ясно было, что они хотели выведать, но, по‑видимому, их интересовала судьба некоторых кораблей эскадры, которых не могли досчитаться. Среди них: «Анадырь», «Терек» и «Кубань». Но допросы ни к чему не приводили, так как никто из офицеров об этих кораблях ничего не знал, но японцы не хотели этому верить и все продолжали допытываться.
Обычно начиналось со взаимных любезностей: офицер и переводчик некоторое время усиленно кланялись, шипели и прискакивали, даже иногда предлагали чашечку с горячей водой, затем наступала церемония рассаживания и только тогда приступали к делу. Получая на все отрицательные ответы или лаконичные заверения, что нас в такие вопросы не посвящали, офицер начинал терять терпение и выражал неудовлетворение, а переводчик, не желая переводить обидных выражений, путался на ломаном русском языке, и выходило замешательство.
Эта комическая сцена невольно возбуждала улыбку, и тогда выведенный из терпения офицер вставал и, забыв все тонкости японского этикета, уходил. Как‑то мы узнали через переводчика, что в бараке на другом конце двора поместили офицеров со сдавшихся кораблей, которых японцы держали отдельно от других пленных. Один из наших офицеров проник туда, чтобы узнать подробности сдачи, и нашел всех в угнетенном состоянии.
Главным образом доказывали свою правоту чины штаба адмирала Небогатова, и все сводилось к тому, что адмирал пожертвовал собою ради спасения жизни полутора тысяч человек, и они считали, что с его стороны это было большим геройством. Но оправдывался только штаб, простые офицеры кораблей тяжело переживали сдачу и ничего не объясняли: «Поступили так, как было приказано, вот и все». При этом мы узнали и еще неприятную новость о сдаче миноносца «Бедовый» с тяжело раненным адмиралом Рожественским. Какая печальная история! В общем, мы жалели всех; только двое‑трое высших чинов производили неприятное впечатление и вызывали чувство раздражения.
Отсутствие в бараке самых примитивных удобств и фактическое содержание под арестом делало жизнь неприятной и однообразной. Еда была вполне сносной: нам почти ежедневно к обеду давали по половине большого лангуста. Любители пошутить говорили, что, очевидно, после Цусимского боя их столько наплодилось, что теперь это самый дешевый продукт для кормежки.
Наконец нам сообщили, что на следующий день отвезут на карантинный пункт, на остров Хирошима, продержат несколько дней и после этого отправят в постоянное местожительство до конца плена. Переход до карантинного пункта мы совершили на пароходе и уже без команды, с которой больше в Японии не встречались. На острове Хирошима было настроено много досчатых бараков, довольно чисто содержимых. Там имелись лазарет, баня и дезинфекционные камеры. Нас немедленно направили в бани, привили оспу и осмотрели и продезинфецировали все вещи. Потом пришлось еще около недели находиться на испытании.
Одновременно с нами в карантине были офицеры с других кораблей эскадры. Всем разрешалось ходить из одного барака в другой, так что удалось со многими повидаться и обменяться впечатлениями. Но офицеры со сдавшихся кораблей как‑то чуждались нас. Как ни казались они виноватыми, тем не менее нельзя не признавать, что гораздо большая вина лежит не на них, а на тех, кто послал такие корабли в бой, на тех, кто, сидя в Петербурге «под шпицем», с легким сердцем гнали небоеспособные остатки русского флота на войну, вопреки донесениям самого командующего эскадрой, категорически заявляющего, что ему не нужны такие суда.
Не верили адмиралу Рожественскому и сами не могли разобраться, и все же решились послать отряд адмирала Небогатова да еще потребовать, чтобы без него в бой не шли. Ведь в конце концов посылали только для того, чтобы она красиво погибла, проявив чудеса бесполезной храбрости, а не одержать победу. Когда же произошла катастрофа и одна лучшая часть эскадры, действительно показав чудеса храбрости, погибла, а другая этой доблести проявить не сумела и, малодушно спасая свою жизнь, сдалась, то только она и оказалась козлом отпущения. Теперь, казалось, все забыли, что представляли в боевом отношении «Николай», «Сенявин» и «Апраксин», и только твердили, что они опозорили Россию и русский флот. Да, опозорили, но в этом прежде всего виноваты те, кто поставил их в положение, приведшее к позору.
Уже тогда нам было ясно, что Цусимская катастрофа не есть случайное явление, а результат упадка управления Морским ведомством. Давно известна истина, что флот, готовящийся долгие годы к войне, способен победоносно ее вести. Наспех же сформированные эскадры, которые только на пути к месту сражения начинают кое‑чему подучиваться, – верный путь к катастрофе и позору. Но чья вина, что корабли плавали в мирное время лишь три месяца в году, что эскадра сформировалась перед самым походом и даже не имела снарядов для практических стрельб? Экономия хорошая вещь, но не тогда, когда она идет в ущерб боеспособности флота…
Доблесть, проявленная большинством русских моряков в этом историческом бою, вполне искупила ответственность, которая ложилась за неудачу на личный состав эскадры. Эта доблесть была результатом героического духа и традиций. Они выработались на российском флоте за 200 лет его существования и прошли через длинный ряд войн. Не будь этого старого духа, русские моряки, посаженные на несовершенные и устарелые корабли, не сумели бы оказаться на высоте. Нелегко дался им их героизм! Мало того, что наши суда имели более слабое вооружение и защиту, но и наши снаряды никуда не годились.
Увлечение центральных военно‑морских учреждений бронебойностью привело к тому, что снаряды попадали в цель, броню пронизывали, не разрываясь, или рвались на несколько крупных частей, принося малый вред корпусу судна и не задевая людей. Напротив, неприятельские снаряды разрывались от одного соприкосновения с легким препятствием и, благодаря своей чувствительности и «начинке» сильным взрывчатым веществом, разлетались на тысячи мельчайших осколков. Эти осколки ранили огромное число людей, вызывали пожары и решетили все препятствия.
Мы и стреляли хуже, чем японцы, но ведь это и неудивительно, так как они имели огромную практику. И все же, имей наша эскадра такие же хорошие снаряды, японцы пострадали бы во много раз больше. И как знать, какое бы это имело значение для нас! Понятно, что при таких условиях личному составу приходилось чрезвычайно трудно. Конечно, мы, как военные, должны были выполнить долг до конца, при всяких условиях (и надо сказать, на три четверти это и сделали), но и государство должно было обеспечить своих бойцов необходимыми и современными средствами войны, а этого, к несчастью, не было. И, однако, сколько геройства, сколько необыкновенно красивых подвигов сохранилось в воспоминаниях об этой катастрофе!
Что пришлось пережить экипажам 1‑го и 2‑го броненосных отрядов, трудно поддается описанию. Они представляли страшную, горящую, исковерканную железную массу, осыпаемую снарядами и обреченную на явную гибель, продолжали отстреливаться до последнего из последних орудий. Что доказывают эти беспорядочные предсмертные выстрелы людей, стоящих у края ужасной могилы, но думающих не о своем спасении, а о родине, как не величие и крепость их духа! Разве героизм этих русских моряков не затмевает злополучной сдачи нескольких жалких, отживших свой век кораблей? Никогда бы, конечно, не было позорной их сдачи, если бы они были не «самотопами», а настоящими боевыми судами.
Когда карантинный срок закончился, нас в третий раз посадили на пароход и повезли через Симоносекский пролив в порт Окаяма. Однако конечный пункт путешествия все еще не был известен. Это путешествие оказалось чрезвычайно приятным, потому что Японское море красиво своими бесчисленными островками, рыбачьими лодками, парусниками и пароходами. На время забылось даже наше неприятное положение, и мы увлеклись наблюдением жизни японцев.
В Окаяме нас немедленно перевезли на вокзал, посадили в вагоны третьего класса, в купе с боковыми дверцами, рассчитанными на шесть человек маленьких японцев, а не крупных европейцев. С этого момента началось утомительное трехдневное путешествие. Везли без пересадок, с длительными остановками на узловых станциях, и нигде из вагонов не выпускали. Впрочем, нам и самим было бы неприятно выходить, так как нас сейчас же обступала толпа зевак и, не стесняясь, делала по нашему адресу замечания. Несомненно, эти замечания были нелестны, потому что кругом подымался хохот.
В начале пути очень интересно было смотреть из окон вагонов, но после первой ночи, проведенной сидя, этот интерес в значительной степени пропал. Вторую ночь мы уже решили как‑нибудь приспособиться спать, иначе становилось невмоготу, и легли по двое на скамейку и двое на полу в проходе. Однако как скамейка, так и проход оказались слишком узкими, так что лежать удавалось только в одном положении, что было утомительно, хотя все же доставляло некоторый отдых. На больших станциях происходило общее кормление. Обычно еду раздавали какие‑то женщины, видимо, обслуживающие питательные пункты. Все, что полагалось на обед, укладывалось в аккуратные и чистенькие деревянные коробочки. Меню всегда состояло из холодных кушаний вроде риса, рыбы, кореньев и иногда хлеба. Не в счет положенного подносились фрукты.
Один раз рано утром поезд остановился на какой‑то станции. По очереди в проходе я спал с мичманом К. Вдруг неожиданно открылась дверца вагона, и я проснулся, поднял голову и вижу толпу японок, которые с любопытством смотрят на меня, распростертого на полу, и на ноги К. Затем одна женщина начинает мне совать неизбежную коробку с едой и фрукты. Со сна я ничего не понял: коробки не брал и с удивлением рассматривал японок. Получилось замешательство, и все что‑то заговорили. Вскоре я пришел в себя, вскочил и стал благодарить. Оказалось, что эти дамы – патронессы какого‑то благотворительного комитета, и они в полном составе вышли встречать поезд, чтобы на нас посмотреть.
В нашем купе сидели трое мичманов, два инженер‑механика и прапорщик Г., и под конец пути от скуки мы превратились в настоящих детей: дразнили соседей по вагону, незаметно бросались фруктовыми косточками в зазевавшихся японцев и вообще пытались изобрести какие‑нибудь шалости. Но, как мы ни старались развлекаться, все же третий день тянулся ужасно медленно, и главное, что никто не знал, долго ли еще предстоит ехать. Нас сопровождали офицер и шесть солдат, которые зорко следили, чтобы никто ничего неразрешенного себе не позволял, и никого не допускали близко подходить к нашим вагонам. Только за несколько часов до конца пути офицер объявил, что нас везут в город Сендай. Этому известию мы очень обрадовались. Конечно, всем было безразлично, в какой город ехать, но хотелось скорее куда‑нибудь добраться, так как сидеть трое суток на одном месте, на жестких скамейках, становилось невыносимым.
Глава двадцать третья
На вокзале в Сендае нас встретил новый офицер с конвоем, которому отныне мы и поручались. Это был призванный из отставки старый пехотный подполковник. Он оказался добродушным и на японский манер любезным, в особенности перед тем, как ему приходилось объявлять что‑либо неприятное. В этом случае он долго присюсюкивал, втягивал в себя воздух, кланялся и лишь после этих звуковых приготовлений приступал к делу. Так как он объяснялся с нами через переводчика, самые короткие переговоры длились иногда добрый час.
Нам отвели два небольших дома в разных частях города и еще на вокзале разделили на две группы. С нами находились и наши вестовые, которых полагалось, по японским правилам, на каждого офицера по одному. Но мы воспользовались этим правом не полностью, не желая иметь при себе лишних людей, что неизбежно повлекло бы за собою ссоры и дрязги. Вообще, вестовыми выбирали только тех матросов, которые этого пожелали сами и добровольно отделились от команды. Например, у нас, трех мичманов, был один вестовой – телеграфист Назаров, хороший и преданный человек, заботившийся о нас, как добрая нянька.
Дом, в который привели нашу группу, оказался по архитектуре полуяпонским: имел настоящие двери, окна и стены. Только стены между комнатами были наполовину стеклянными с наклеенной на них бумагой. Постройка была настолько жидкой, что из одной комнаты в другую решительно все было слышно. Комнат имелось восемь: одна полагалась на трех‑четырех офицеров, кроме того, общая столовая и комната для вестовых. Перед домом находился караульный домик, и у ворот стоял часовой. Меблировка самая примитивная, но на европейский манер: кровати, стулья, столы и умывальники, шкафов для вещей не полагалось, и они хранились по корзинам и чемоданам.
В общем, по первому впечатлению, мы остались вполне довольны отведенным нам помещением, тем более что оно было безукоризненно чистым и светлым. Хуже обстояло дело с едой: повар‑японец кормил нас европейскими кушаньями, о которых, к сожалению, имел слабое понятие. Его жидко‑мутные супы и кусочки красного мяса, плавающие в сомнительном соусе, надоели до отвращения своим однообразием и несъедобностью. Спасаться от голода приходилось собственными средствами, покупая продукты у продавцов, а когда разрешили ходить в город, то обедая в ресторанах. Как мы ни убеждали старика‑подполковника перейти на японский стол, чтобы получать съедобную пищу, он ни за что на это не соглашался, уверяя, что по положению нас полагается кормить по‑европейски.
К нам в дом имели свободный доступ торговцы, но, конечно, с разрешения начальства. Оттого мы всегда могли покупать припасы, сласти, вина, материи и разные безделушки. С одной стороны, это было удобно, но с другой, право покупать вино в неограниченном количестве приводило к печальным результатам. Походило на то, что японцы поощряли пьянство, точно считая, что оно отвлечет от вредных мыслей и с нами легче будет справляться. Пожалуй, они не ошиблись, хотя именно из‑за спиртных напитков и им иногда выпадали большие неприятности. Однако чего было опасаться? Ожидать попыток к бегству – едва ли имело основание, так как Сендай лежал не у самого берега и на восточной стороне острова, следовательно, на шлюпке пришлось бы совершить огромное путешествие.
Но если даже допустить, что нашлись бы на это предприятие безумные смельчаки, то дойти до берега и достать шлюпку не представлялось совершенно никакой возможности: местность исключительно густонаселенная, а весь наш внешний облик так резко отличается от японцев, и как бы мы ни переодевались и ни гримировались, все же рост, цвет кожи и, наконец, полное незнание языка выдали бы нас непременно.
В доме разрешалось делать, что хотели, но за его двери не пускали. Такое сидение под замком утомляло, и часто никак не удавалось найти себе занятие. Спать более 9–10 часов нельзя, в особенности без физической усталости, книг не имелось, работы никакой, оставалось только есть, пить и играть в карты. Первое время этому и предавались. Многие просиживали с утра и до вечера за «винтом» и «теткой». Но вскоре принялись за азартные игры, и тут начались ссоры, дрязги и чуть ли не драки.
Состав офицеров, попавших в наш дом, оказался вполне удачный, и, за исключением двух, все были смирные и приличные люди. Раз только произошел большой скандал между обитателями нашей комнаты и соседней, которые остались недовольны тем, что мы явно показывали неодобрение их поведением. Началось с ругани, а кончилось бомбардировкой нашей комнаты стульями и посудой, после того как мы заперлись в ней. Другие пленные офицеры с нашего корабля помещались с офицерами со «Светланы» и «Ушакова» в трех настоящих японских домиках, имевших маленький общий садик.
Этот садик и раздельное жилье сильно скрашивали их существование, и в этом отношении мы им завидовали. Скоро появилась возможность и нам их изредка посещать, так как японское православное духовенство начало по воскресеньям устраивать церковные службы в одном их этих домиков. Правда, нас туда провожали под конвоем, а шествовать в таком виде через весь город было довольно‑таки неприятно, но все же желание присутствовать на богослужении пересиливало эту неприятность.
Так бесцветно и скучно тянулись дни, и нам все до того надоело, что иногда мы даже друг друга не выносили и с трудом приходилось удерживаться, чтобы не ссориться. Можно себе представить, как надоел плен тем, которые сидели, не как мы, два месяца, а уже восемь – девять. Тем более что доходили слухи, что в других лагерях далеко не такое хорошее отношение со стороны японских офицеров, наблюдающих за пленными, как у нас. Заносчивость некоторых переходила пределы выносимого и вызывала энергичные протесты, которые влекли за собою аресты русских офицеров.
В своей тесной компании сожителей по комнате мы все же жили дружно и хорошо. По счастью, нас не затянула слишком глубоко офицерская среда, и мы интересовались не только флотом, но и жизнью. У нас было стремление по возвращении в Россию продолжить образование и сейчас же поступить в офицерские классы и академию, чтобы сделаться офицерами, способными выполнять работу по возрождению флота. Теперь многое стало ясным, и, главное, что полученный урок не должен пропасть даром: мы были уверены, что Цусимская катастрофа неизбежно поведет к большим переменам и нововведениям и что Морскому ведомству придется проделать огромную работу, чтобы в кратчайший срок довести флот до боеспособного состояния.
На положении арестованных нас продержали почти четыре месяца и только, когда начались мирные переговоры, разрешили с 8 часов утра до 6 вечера ходить на прогулки. При выходе из дому все должны были получать особые билетики, удостоверяющие личность, и отмечаться у караульного унтер‑офицера, а при возвращении билетики эти сдавать. Против такого распоряжения вначале мы протестовали, так как находили его унизительным, в особенности для старших. Но протесты не помогли, и наш старик‑японец заявил, что, кто считает для себя унизительным при таких условиях выходить на прогулки, тот может сидеть дома.
Конечно, скука была так велика, что постепенно все начали пользоваться этой льготой. Караульные унтер‑офицеры точно отмечали моменты возвращения каждого, и если случались опоздания, то на следующий же день приходил японский офицер и делал выговор: «Обещались, мол, подчиняться правилам прогулок, а вот опаздываете на десять минут, этого делать нельзя, иначе вы будете лишены права гулять». Такие внушения, понятно, были настолько оскорбительны и неприятны, что все боялись опоздать даже на одну минуту.
С момента разрешения прогулок у пленных установилась самая тесная связь, и пошли бесконечные приглашения: на пироги, именины, рождения и т. п. Так как офицеров было много, то и потянулись нескончаемым рядом эти маленькие торжества. Вначале они проходили весело и оживленно: делались настоящие пироги с капустой и русские закуски и кушанья, ко всему этому ставилось вино, так что в результате большинство приходило в такое состояние, что оставалось только ложиться спать.
Японцы продавали все самые крепкие вина: коньяк, джин, виски, а потом еще появилась «русская водка» местного изготовления, которая просто‑напросто была плохим спиртом. Наши финансы находились далеко не в блестящем состоянии: через французов нам выдавалось в счет будущего жалованья 50 йен, т. е. 50 рублей, и от щедрот Микадо – 6 йен. Живя на всем готовом, казалось, что и таких денег должно бы вполне хватать, но у нас явилось много расходов, которых избежать было трудно: на дополнительную еду, одежду, вино и всякие мелочи. К тому же за все страшно драли, и тем, у кого не было собственных сбережений или посылок из России, приходилось туго. Особенно большим расходом являлась покупка одежды и белья, потому что пришлось заводить все заново и шить штатское платье, без которого было бы невозможно появляться на улицах.
Наша компания очень скоро пресытилась взаимными посещениями и стала искать новых путей убивать время. В этом отношении большую службу сослужили прогулки. Сначала не разрешалось далеко уходить, так как начальство боялось, что могут возникнуть какие‑нибудь недоразумения с населением, но эти опасения оказались напрасными. За все время нашей жизни в Сендае русских никто не оскорблял. Разве что иногда мальчишки кричали вслед: «русский папирос» или «русский макарон». Отчего они избрали именно эти слова для издевательства, совершенно непонятно.
Город был довольно большим центром северной части острова Ниппона, в которую европейцы не имели доступа. Оттого, кроме двух американских миссионеров, других иностранцев здесь не было, и население к ним совсем не привыкло. В Сендае имелся университет и бесконечное число школ, так что в учебное время сюда съезжались дети и молодежь. Каменных домов здесь почти не было, а те, что были, служили школами или какими‑либо правительственными зданиями.
Сендай – типичный японский город, состоящий из огромного числа маленьких домиков, с бумажными раздвижными стенками – раскинулся на большом пространстве среди холмов, покрытых бамбуковыми рощами, а в долинах тянулись бесконечные рисовые поля. В общем, получался довольно живописный вид, и прогулки по окрестностям доставляли большое удовольствие. Поражала миниатюрность во всем, даже в природе. Точно страна лилипутов. Климат был приятный, жара переносилась легко, и до глубокой осени оставалось сравнительно тепло и сухо. Вообще, летом солнце никогда не исчезало. Особенно хорошее впечатление оставили вечера, с их прохладой и трещанием цикад. Хотя это трещание и достаточно надоедливо, но оно так характерно для Японии, что невольно, вспоминая о ней, вспоминаешь и цикад.
Большой интерес доставляло наблюдать жизнь японцев: их неутомимое трудолюбие, опрятность, добросовестность и честность. Бросалась в глаза страшная густота населения. Последнее являлось главным бичом Японии и требовало каких‑то территориальных завоеваний. Действительно, им не хватало земли и заработков для народа. Работая с раннего утра до поздней ночи, японский крестьянин всегда оставался в бедности и жил чрезвычайно примитивно. На окраинах города часто можно было видеть ужасающую нищету, несмотря на огромное трудолюбие всей семьи.
В те времена в Сендае еще сохранилась первобытная жизнь, и европейская цивилизация туда совсем не проникла, только поезда напоминали, что мы жили в XX столетии, а не в Средневековье. Нравы и одежда были чисто японские, и, кроме нас, никто в европейском платье не ходил. Все мужчины и женщины появлялись в кимоно и в обуви, напоминающей деревянные скамеечки. Замужние женщины чернили зубы и одевались в темные цвета. Гейши носили яркие шелковые кимоно и причудливые прически, которые, из‑за сложности, не менялись чаще, чем раз в месяц. Зато их обладательницам приходилось спать, подкладывая высокие валики под головы. Мужчины гордились происхождением от самураев, держали себя независимо с женами и вообще являлись в семье главным авторитетом. Дети были прелестны, с волосами, обстриженными в кружок, круглыми мордочками, всегда веселые, здоровые и послушные. Японцы очень любят и заботятся о них, понимая, что все будущее нации – в молодом поколении.
Однако, несмотря на все достоинства, японцы не вызывали у нас особых симпатий, так как были слишком чужды по духу русским, – манекены, а не люди. Вся их жизнь протекала в бесконечно однообразной и скучной работе. Какая‑то нация муравьев, которая имеет все данные достигнуть больших успехов в устроении своей материальной жизни, но не духовной. Конечно, и среди японцев найдутся ученые и мыслители, живущие только во имя духовных благ, но большинство имеет лишь материальные интересы и притом весьма скромного масштаба.
Они никогда не займут среди народов мира первых мест, ни в области искусств, ни в области науки. Они создали себе серенькую будничную жизнь, ею вполне довольствуются, и, пожалуй, это довольство и есть их огромное преимущество перед другими нациями. Никогда японский интеллигент не будет предаваться исканиям каких‑то новых путей, как это любят делать русские; для него мир – ясная картина, и он знает в нем свое место. В Японии всюду царит дисциплина и порядок, и огромную роль в жизни обывателей играет полиция, которая хорошо поставлена и отлично знает, что можно допускать и чего нельзя.
Перед самым концом войны в наш город прислали пленных с Сахалина – губернатора с его штабом и офицерами. Их приезд на время оживил общество, и мы с интересом слушали рассказы о занятии японцами острова, да и вообще о жизни на нем. Впрочем в Сендае находились еще и сухопутные офицеры, но они попались какие‑то незадачливые. Это были все старики, и большинство из них отнюдь не были сторонники «сухого режима», так что мы скоро пришли к убеждению, что наши любители напитков по сравнению с ними сущие дети.
Один старый пехотный капитан уверял, что он, вставая утром, не может выпрямить спины, пока не выпьет чайного стакана водки; в течение дня он выпивал их еще несколько. Вообще, у них мерилом питья крепких напитков служили чайные стаканы, и к рюмкам относились они с величайшим презрением. Как‑то наши офицеры решили устроить ответный обед сухопутным собратьям. Торжество предполагалось в нашем доме, и потому мы сочли за лучшее на этот день исчезнуть. Не оттого что не желали быть в их обществе, а потому что тогда пришлось бы пить, чего не хотелось. Как на нас ни обижались, но мы все‑таки с утра ушли, обедали в городе, гуляли и ровно в шесть часов вернулись.
Как и можно было предполагать, произошло гомерическое пьянство: в столовой на полу лежали «мертвые» тела хозяев и одного гостя; другие, с горем пополам, разъехались по домам. Вестовые с ужасом докладывали, что много посуды было побито, и еще хорошо, что не произошло чего‑либо худшего. После этого такие обеды больше не устраивались, так как наши признали себя побежденными. Пехотный капитан, который побил в пьянстве рекорд, обиделся на «моряков» и считал их «гордыми», так что между нами пробежал холодок, но на общую пользу, конечно, иначе эта дружба кончилась бы печально.
Когда японское начальство убедилось, что нас в городе принимают вполне миролюбиво, оно разрешило бывать в чайных домиках и ресторанах, что стало большим развлечением. Разумеется, все мы слыхали о гейшах и потому особенно ими интересовались. В Сендае чайные домики и их неизбежное прибавление – гейши, как и все, сохранило патриархальный отпечаток. Их не коснулся европейский дух, а следовательно, и испорченность нравов. Время в них проводилось вполне прилично, и хозяева строго следили, чтобы известные границы между гостями и гейшами не переходились.
Посещение чайного домика обычно сопровождалось известным церемониалом; после низких поклонов, присюсюкиваний и втягивания в себя воздуха, что являлось высшим выражением радушия и вежливости, гости провожались в одну из комнаток и усаживались на особых подушках на полу, покрытом циновками. Сейчас же подавался чай со сластями, саке (рисовая водка) и принимался заказ на дальнейшее меню, а также на приглашение гейш. Пока гонцы бегали за ними, гости пили чай и саке. Скоро появлялись и гейши – девушки‑подростки лет 12–14, и при них старшая, которой тоже было не слишком много лет (обычно не больше 16–18).
Они имели бумажные веера, а старшая музыкальный инструмент – нечто вроде двухструнной гитары – самсин. Войдя в комнату, согласно этикету все опускались на колени и кланялись до земли. Потом вставали, и начинались танцы под однообразную и незвучную музыку самсина. Эти танцы совершенно не походили на наши и заключались в принимании танцующими различных пластических поз. Движения были ритмичны, грациозны и спокойны. При этом важную роль играл веер. Каждый танец имел какой‑нибудь аллегорический смысл, конечно, нам совсем непонятный.
В общем все получалось живописно, и мы вначале с удовольствием любовались этими изящными куколками, но потом их танцы надоедали своим однообразием и холодностью. Гейши действительно были изящны в своих одеждах и замысловатых прическах и часто с хорошенькими личиками. В японской обстановке они прекрасно гармонировали с вышитыми ширмами, расписанными стенами, сервировкой и даже карликовым садиком перед домом. Однако легко было себе представить, как были бы они смешны в европейском платье в наших гостиных или на подмостках театра.
Вначале мы взаимно стеснялись, но уже после трех‑четырех раз завязались самые дружеские отношения: их приглашали к столу, угощали и старались болтать. При помощи гейш мы делали большие успехи в японском языке, и незаметно наш ограниченный запас слов сильно пополнился.
Наши гейши впервые видели европейцев, и наши рассказы о жизни в Европе им представлялись чудесами. Особенно странным казалось положение европейских женщин. Гейш очень интересовали вопросы по женской части: например, большие глаза у японцев считались верхом уродства. Как раз один наш офицер имел огромные синие глаза и в свое время в родных краях пользовался особенным успехом у дам, японки же его считали уродом и над ним потешались. Когда надоедали разговоры, устраивались в садике игры. Гейши по возрасту были детьми, и игры их увлекали, так что вместо танцев они охотно резвились. За беготней и разговорами время проходило незаметно, и все с большим сожалением расставались.
Скоро мы так привязались к этим маленьким существам с такими забавными именами: Тереко‑сан, Горо‑сан, Маско‑сан, Сакоко‑сан и еще всякие «сан», что без них скучали. Чуждые для нас японские имена переделали на русский лад, и они охотно на них отзывались. Конечно, в другой обстановке гейши едва ли бы нас так интересовали, но в нашем положении их общество доставляло много удовольствия. Незаметно некоторые даже начали ими увлекаться.
Первой жертвой был Е., и так как он на все всегда смотрел серьезно, то и тут решил жениться на Горо‑сан и увезти ее в Россию. Долго и много он объяснял ей свой план, но она только понимала, что придется ехать куда‑то далеко, и это ее страшно пугало. Кто‑то ей наговорил всяких ужасов про морозы, леса, диких зверей и т. д., так что Россия ей представлялась дикой и варварской страной. Поэтому сделаться женой русского ее мало прельщало, хотя она далеко не была очарована положением японской замужней женщины – бессловесной рабы. Тем не менее Е. не унывал и надеялся убедить.
Наша привязанность к гейшам объяснялась еще и тем, что с ними допускались только платонические отношения, и за этим строго все следили. Мы ведь были пленными – врагами, и японская женщина не могла сойтись с нами, не опозорив себя. Допускалось только целовать гейш. Японцы поцелуи считали чуть ли не игрой и в них толка не понимали. Гейши очень неохотно подчинялись нашей прихоти. Все же понемногу мы их приучили к этому: поцелуи они терпели, но не больше.
Вообще, гейши проявляли настоящий японский темперамент: холодный и расчетливый. Наибольшее впечатление произвело на них, когда Е. подарил своей «симпатии» золотые часики. Под общим натиском и другим пришлось сделать то же самое. После этого наши акции сразу высоко поднялись, и мы стали пользоваться особым расположением. Вообще, о щедрости и богатствах русских по городу распространялись целые легенды, и это всего лишь оттого, что мы изредка одаривали гейш деньгами и делали им скромные подарки. Наконец милость Микадо распространилась так далеко, что он даже разрешил нам посещать чайные домики в квартале проституток. Неизвестно, насколько эта «высокая» милость в действительности исходила от него, но наше начальство всякое послабление в режиме предписывало как «милость его величества микадо».
Каждый мало‑мальский большой город в Японии имеет специальный квартал проституток, где это занятие не считается позорным, а своего рода профессией. По вечерам такой квартал освещается бумажными фонарями, и каждый домик имеет открытую на улицу комнату с решеткой. В ней в парадных красивых кимоно рассаживаются обитательницы дома, для более удобного их выбора случайными гостями. Правда, нам разрешили там бывать только днем, и все было поставлено на чисто коммерческую ногу: приехал, заплатил и уехал. Но все же это была «милость» для пленных.
Еще мы любили в Сендае маленький ресторанчик против вокзала, замечательный тем, что в его садике стояли настоящие столики и стулья. Там можно было хорошо поесть и особенно вкусно готовили жареных перепелов. Но главный интерес заключался в том, чтобы оттуда наблюдать вокзал и мечтать, когда и мы сядем на поезд и уедем.
Японская молодежь увлекалась игрой в теннис, и нам тоже пришла удачная мысль попросить разрешение играть, что и было разрешено, и для этого предоставлены площадки во дворе одной школы, но до начала занятий. Потом же нам разрешил играть на своей площадке какой‑то местный меценат, у которого имелся отличный сад, да еще к тому же напротив нашего дома. Так что мы стали проводить там целые дни.
Так короталось время в плену, и все страшно тосковали по родине, откуда редко приходили вести. Писать разрешалось сколько угодно, также и получать письма, но каждое письмо тщательно переводилось на японский язык и прочитывалось начальством. Только после этого оно следовало по месту назначения. Уже не говоря о том, что путь до Петербурга письмо совершало с добрый месяц, но процедура перевода и цензурова‑ния занимала столько времени, что вести доходили не ранее двух с половиною месяцев. Как‑то мы получили подарки из России: образки от Императрицы Александры Федоровны, по куску кулича, превратившегося в камень за время долгого путешествия, немного табаку и сахару. Эти подарки нас очень растрогали, и японцы их выдавали самым добросовестным образом.
Каждое письмо с родины доставляло большое удовольствие не только получателю, но и другим, и все с жадностью расспрашивали, нет ли интересных вестей, и старались угадывать и читать между строк каждую незначительную фразу. Как‑то мы получили привет из далекой Либавы от наших друзей: четыре барышни снялись на одной фотографии и прислали по одной каждому из нас. Конечно, и мы сейчас же сделали то же самое и послали им. Эта фотография живо напомнила нашу жизнь в Либаве, с которой расстались всего семь – восемь месяцев, но казавшуюся такой далекой‑далекой.
Однажды мы наконец узнали, что мирный договор подписан. Война окончилась. Для нас кончался мучительный плен, безделье и оторванность. Подробности условий мира нам не были еще известны, но мы понимали, что они не могут быть приятными. Но в тот момент мы забывали о проигрыше войны и только и мечтали, как бы скорее вернуться на родину. С трудом удавалось сдерживать нетерпение, и все роптали на медленность эвакуации. Мир начал ощущаться и в Сендае: появились возвратившиеся с фронта войска. Город их встречал как победителей, очень торжественно: разукрашивался флагами и зеленью, толпы народа и учащихся стояли вдоль улиц. Настроение царило праздничное и приподнятое, и в эти дни нам было особенно тяжело показываться на улицах.
Однажды к нам пришел старик‑подполковник и передал приглашение от начальства местной дивизии на обед. Местный гарнизон, по случаю заключения мира, решил чествовать пленных офицеров, чтобы из врагов сделаться друзьями. Такое приглашение нас застало совершенно врасплох, и об отказе не могло быть и речи, так как это сочли бы за обиду. Скрепя сердцем наши офицеры приглашение приняли.
В назначенный день, около шести часов вечера, мы пришли в помещение местного штаба, где были расставлены столы и сервированы обедом. Нас любезно встречали старик‑генерал и целая толпа офицеров. Из них некоторые говорили, хотя и плохо, по‑английски, немецки, французски, и многие по‑русски, так что объяснялись мы легко.
Когда все собрались, генерал пригласил к столам, но как мы тщательно ни искали, на что бы сесть, ничего не нашли. Перспектива простоять весь обед, в особенности для стариков, показалась неприятною, да делать было нечего. Еда подавалась скромная, наполовину европейская, впрочем, вкусная. С обеих сторон вели разговоры старшие, а молодежь почтительно молчала, во всем замечалась строгая дисциплина и уважение к возрасту. Наши офицеры скоро начали скучать и посматривать, нельзя ли уйти по домам, так как стоять и слушать неинтересные разговоры надоело, тем более что пока ни одной рюмки вина не предложили. Когда обед окончился и подали фрукты, тогда разлили шампанское и начались тосты: первым говорил японский генерал и его речь переводил переводчик. Отвечал русский генерал, и его слова тоже переводились. Благодаря этому ушло много времени.
Надо отдать справедливость японцам, они очень щадили наше самолюбие и больных тем не касались. Все вертелось на том, что надо забыть прошлое и сделаться друзьями, как подобает соседям. Во всяком случае, этот обмен любезностями завершился вполне благополучно, и у нас не явилось повода на что‑либо обижаться. После шампанского подали кофе с коньяком и виски, и наши «зубры» успокоились. Это хоть немного компенсировало долгое стояние, но и пить коньяк стоя было малоприятно, и при первой же возможности все стали прощаться. Любезные хозяева нас не задерживали, и хотя настроение создалось дружественное, тем не менее до излияний не дошло. Мы расходились по домам с чувством полного уважения к японцам как народу с выдающимися качествами, но в то же время нам совершенно чуждому.
Через несколько дней после этого события пришло известие, что в Японию прибыла русская комиссия по эвакуации пленных, и мы воспрянули духом и стали укладывать чемоданы. Да не тут‑то было – ведь пленных насчитывалось много десятков тысяч, и всех сразу вывезти не представлялось никакой возможности. Комиссия совершенно справедливо решила, что надо вывозить по длительности сидения в плену: те, кто попали в плен раньше, и выедут раньше в Россию. Это означало, что моряки с нашей эскадры попадут в самую последнюю очередь, и, следовательно, нам предстояло еще ждать месяц, а то и больше.
Разочарование было огромное, особенно для семейных, так как, хотя мы в плену и сидели только седьмой месяц, а из России ушли год тому назад. Особенно нетерпеливые начали бомбардировать комиссию письмами, чтобы их, в виде исключения, отправили раньше, и для этого изобретали всякие «серьезные» причины, но из этого ничего не вышло. Очевидно, комиссия была завалена такого рода прошениями и решила не придавать им серьезного значения.
До нас очередь дошла в начале декабря. Нам объявили, что через неделю мы должны быть готовыми ехать в Иокогаму. От радости все ног под собою не чувствовали и принялись за укладку вещей. Все увлечение гейшами мигом прошло, только Е. еще упорствовал и продолжал убеждать Горо‑сан ехать с нами. После нескончаемых разговоров, «окончательных ответов» и перемен в результате было решено, что Е. поедет один, а затем вернется за нею.
За день до отъезда почитатели гейш устроили им прощальный вечер, который прошел очень оживленно. Обе стороны, несмотря на разлуку, пришли в отличное настроение. В последний раз гейши протанцевали свои танцы, спели песенки и сыграли на самсинах. Мы снабдили их адресами и просили писать и действительно через несколько месяцев получили письма с поклонами от всей компании. Перед расставанием даже перецеловались и дали слово опять приехать в Сендай проведать друзей. Тогда нам это казалось очень простым, но на самом деле, конечно, почти никакой надежды не было, что судьба нас забросит снова в этот город.
Пришлось устроить прощание и с японскими офицерами, под ведением которых мы находились в Сендае. Для них приготовили настоящий русский обед с пирогом и борщом. В конце концов мы им не могли не быть благодарны, потому что только от них лично зависело проявлять любезность и снисходительность или придирчивость и грубость. Оттого в некоторых лагерях отношения между пленными и японцами установились отвратительные, и русским пришлось терпеть много неприятного, у нас же, славу Богу, кроме незначительных недоразумений, никаких осложнений не произошло.
Правда, мы все же часто ворчали и поругивали наших «охранителей», но ведь это и понятно, так как на них лежала неблагодарная обязанность следить, чтобы пленные исполняли все правила, а для нас частенько это было скучным и надоедливым. Известно ведь, русский человек не любит жить по указке. Японцы же, наоборот, страшно педантичны, аккуратны и мелочны, так что неудивительно, что при такой разнице натур трудно столковаться. Теперь, когда плен оставался как воспоминание, естественно, все мелкие обиды сейчас же забылись, и мы с удовольствием потчевали и поили наших менторов, после чего они с трудом отправились домой. Даже фотографиями обменялись и вообще расстались большими друзьями.
Побывали и во всех магазинчиках, где накупили подарков своим близким: всяких лакированных коробочек, перламутровых изделий, альбомов, вазочек и вышивок. Простились с зубным врачом, который, наверное, на нас нажил целое состояние, так как от нечего делать мы лечили зубы. Это отнимало массу времени и поэтому в плену было самым подходящим занятием. Сами японцы любят ухаживать за зубами, и оттого у них и имеются хорошие врачи. Особенно искусно они это делали просто руками. Но так как, чтобы вытащить зуб, надо обладать сильными пальцами, то им предварительно приходилось долго тренироваться на колышках, вбиваемых в дырки толстой дубовой доски. К счастью, нам уже не было надобности испытывать на себе это замечательное искусство, и теперь наш японский врач имел все необходимые инструменты.
Не были забыты и портные, которые всех нарядили в штатское платье. Замечательные портные: сшитое ими платье обязательно имело какой‑нибудь недостаток – то талия не на месте, то слишком кургузый пиджак или жмет под мышками, или брюки дают лишние складки и т. п. Они никак не могли справиться с нашими фигурами, в особенности с толстыми, у которых торчал живот. Бесконечные примерки ни к чему, собственно, не приводили – пиджаки немилосердно морщили… Наконец чемоданы были уложены, все приоделись и ждали назначенного дня.
Последнюю ночь нервное настроение или, вернее, «дорожная лихорадка» настолько всех охватила, что никто не спал, и утром, ни свет ни заря, мы были на ногах. В последний момент все же стало немного грустно покидать дом, в котором безмятежно прожили эти месяцы. Едва ли еще когда‑нибудь придется так жить, без житейских забот, без дела и тревог – вот так ни о чем не беспокоиться: ешь, спи и по способности развлекайся. Кажется, чего же лучше: не жизнь, а масленица, а на самом деле оказалось, что ничто не может быть ужаснее такого, в изолированности от общей человеческой жизни, существования.
Вот и подошел столь нетерпеливо ожидавшийся час, и мы отправились на вокзал. Расселись в отведенных нам вагонах. Поезд тронулся, замелькали теперь уже столь знакомые и надоевшие окрестности Сендая. На душе стало радостно: свободными людьми возвращаемся домой – на родину. Сендай как‑то стал забываться, и хотелось только, чтобы поезд скорее‑скорее увозил как можно дальше.
Глава двадцать четвертая
Наши вагоны прицеплялись к пассажирским поездам, так что ехали мы без задержек, и станции мелькали одна за другой. Сами японцы и японские виды уже не казались такими любопытными, и мы довольно равнодушно смотрели на открывающиеся ландшафты. На второй день, утром, поезд пришел в Иокогаму, и там нас японский офицер сдал с рук в руки комиссии по эвакуации пленных. С этого момента мы уже окончательно теряли всякую зависимость от японцев.
Комиссия немедленно снабдила нас деньгами для проезда до Петербурга, льготными свидетельствами и документами, удостоверяющими личность. К удивлению, вся процедура заняла мало времени, и нам объявили, что вечером мы должны явиться в гавань, на пароход «Тамбов», а до этого времени оказались свободными. Этому мы очень обрадовались и пошли осматривать город.
Он был большим портом, предназначенным для внешней торговли и в значительной степени европеизировался. Иокогама была хорошо известна русским морякам, так как в ней обычно стояли наши военные корабли. Как почти везде в международных портах, куда заходят корабли всех наций, русские офицеры пользовались особенной любовью местных жителей за свою щедрость, веселость и добродушие. Не то что чопорные англичане или расчетливые немцы и французы.
Среди достопримечательностей города имелся маленький чайный домик на горе. К нему вела лестница, имевшая сто одну ступеньку. Старая японка‑хозяйка, которая перевидала на своем веку много посетителей‑иностранцев, всегда отличала русских. Узнав, что мы русские, она с гордостью вытащила альбом, в котором расписывались все гости, и мы нашли в нем автографы не только многих известных наших офицеров, но и Императора Николая II, в бытность его наследником, и Великих Князей Кирилла Владимировича и Александра Михайловича. Многие посетители дарили хозяйке свои фотографии, и у нее собралась чрезвычайно интересная коллекция, которой она тоже гордилась.
Приятно после всего случившегося побывать в месте, где любили русских морских офицеров.
Выпив у симпатичной старушки чай с печеньем и дружески простившись, мы продолжали прогулку. Но Иокогама нас не слишком поражала. Конечно, это был живописно раскинувшийся город, цветущий, полный кипучей жизни и сильно населенный, только ничего из ряда вон выходящего в нем не имелось. В европейском квартале, наблюдая магазины, можно было заметить, как японцы подлаживаются под вкусы иностранцев и продают «японские вещи», которые сами никогда не употребляют. В нашем же Сендае продавались только вещи, сделанные для их обихода. В общем, они теперь уже известны всему миру и даже всюду надоели. Но надо отдать справедливость японцам, они изящно и красиво выделывают тончайшие вышивки на шелку, лакированные коробочки, вазочки клуазонэ и вещицы из амуреги, слоновой кости и черепахи.
Вечером в назначенном часу мы приехали в гавань на «Тамбов», и на нем сразу окунулись в русскую атмосферу и на первых же порах пережили разочарование. Мы узнали о начавшемся революционном брожении во Владивостоке и на Сибирской железной дороге. Таким образом, во время пути нам предстояло попасть как раз в самые неприятные места. На наше счастье, во Владивостоке уже удалось подавить вспышку, но могли произойти и новые волнения.
Кроме нас, на пароходе шли еще и сухопутные офицеры и много солдат каких‑то пехотных полков. Все каюты были распределены по числу едущих, и нас, трех мичманов и старшего механика П., поместили в четырехместную каюту, в самой корме, под винтами. Сухопутные офицеры были нервны и раздражительны. По‑видимому, они устали в плену и друг другу надоели. По их запальчивому тону мы постоянно ждали, что вспыхнет ссора, но, очевидно, они достаточно привыкли к таким отношениям между собой. С нами, впрочем, они были очень корректны и крайне любезны, так что со многими сразу же завязались хорошие отношения.
Хуже обстояло дело с солдатами. Они оказались, как и все пленные нижние чины, совершенно распропагандированными. Ясно, что это входило в планы японцев. Для этой цели у них даже имелись агитаторы – русские социалисты, которые до того были ослеплены утопическими идеями и охотно действовали заодно с врагами своей родины. Результаты получились блестящие, чему, конечно, способствовала и обстановка: солдат и матросов многие месяцы держали запертыми в лагерях и только изредка употребляли на работы; это томительное положение им страшно надоело и их, без того недовольных войной, озлобило. Получалось как бы стоячее, гниющее болото – самая благоприятная почва для агитации. Кроме того, японцы предусмотрительно изолировали всякое влияние офицеров на нижних чинов.
Результаты «работы» мы сразу же увидели на солдатах, попавших на «Тамбов», когда он вышел в море: они сейчас же начали заявлять различные претензии и, как обычно, в первую очередь недовольство едою. Офицеры, заведующие эшелоном, стали урезонивать, но чувствовалось, что среди солдат и матросов было несколько зачинщиков, которым во что бы то ни стало хотелось поднять бунт. На следующий день главари вели себя крайне вызывающе и открыто грозили выбросить офицеров за борт. Вначале эту угрозу считали бахвальством, но потом, по доносу одного солдата, убедились, что намерение было вполне серьезно и его предполагалось осуществить в ближайшую ночь.
Эти сведения создали тягостное настроение. Нас было человек сорок, а солдат четыреста, к тому же мы были безоружны. Капитан парохода ничем помочь не мог, так как «Тамбов» находился в открытом море и не успел бы прийти в ближайший порт.
На наше счастье, к вечеру погода начала портиться, ветер и волна усиливались. Пароход все сильнее и сильнее качало. Время года для этих вод было самым суровым и сулящим непогоды. Это обстоятельство, вообще неприятное, в данном случае несло избавление от еще значительно большей неприятности, так что мы были рады ему и с надеждой ожидали шторма. Чем больше раскачивало «Тамбов», тем быстрее тускнел пыл наших бунтарей, и к вечеру многие пластом лежали в трюмах. Теперь, при желании, мы уже могли бы с ними расправиться, как хотели.
Холодный, пронизывающий ветер со свистом налетал на пароход и обдавал его ледяными брызгами. Весь бак и верхняя палуба обледенели, и сидеть наверху было холодно и мокро, так что солдаты попрятались вниз, где продолжали стонать, причитать и проклинать море. Когда же пароход особенно сильно клало на борт, немало солдат начинали истово креститься и громко призывать Господа Бога. Где уж тут было до каких‑то бунтов, все только думали, как бы целыми добраться до Владивостока.
Шторм все усиливался. Вернее, продолжал свирепо завывать в снастях. Пароход то быстро, то медленно переваливался с борта на борт, клевал носом, поднимался кормой, точно танцевал среди рассвирепевших волн, обдаваемый белой пеной. Винт то и дело оказывался в воздухе и работал с большими перебоями, отчего корму сильно трясло, и, казалось, что машина разлетится вдребезги, или сломается вал и соскочит винт. Нам приходилось почти все время сидеть в каюте или, вернее, лежать на койке, так как, кроме очень маленькой кают‑компании, некуда было деваться. И это лежание из‑за однообразной тряски и шума, которые непрерывно повторялись, страшно надоело.
На третий день погода оставалась все той же, и ход «Тамбова» дошел до 4–5 узлов. Временами казалось, что он качается на одном месте. Благодаря такому тихому ходу пришлось пробыть в море около пяти суток. Сухопутные офицеры почти все укачались, так что за едой присутствовали только моряки, но тем не менее кормили плохо, так как качка мешала готовить, и приходилось сидеть на консервах. Мы слонялись из угла в угол и не знали, чем убить время, даже на палубе из‑за холода и брызг нельзя было гулять.
Однако пришло к концу и это ужасное путешествие. Все с радостью узнали, что подходим уже к Владивостоку. Скоро качка стала уменьшаться, и «Тамбов» встал на якорь[100]. К нему подошел портовый буксир с каким‑то начальством, которому доложили о наших революционерах, имевших после морской встряски весьма жалкий вид; бледные, похудевшие и слабые, они трусливо прятались в толпе солдат. Немедленно с берега вызвали караул. Нескольких арестовали и отправили на берег. Только после этого офицерам разрешили съехать.
Глава двадцать пятая
Вот мы на русской земле, столь горячо ожидаемой и достигнутой при таких печальных обстоятельствах. Все же какое счастье чувствовать себя опять в России! Первое ощущение, которое охватило нас – холод и желание спрятаться от сильного ветра, так как открытое драповое пальто недостаточно защищало. Таким образом, первой заботой стало обзавестись хоть чем‑либо теплым, иначе едва ли удалось бы выдержать длинное путешествие по Сибири, где ожидались и не такие холода.
С парохода мы отправились в эвакуационную комиссию, где нас настоятельно попросили немедленно ехать дальше, так как город переполнен, настроение очень тревожное, и каждый час можно ожидать революционных вспышек. Новый же бунт повлечет прекращение железнодорожного сообщения. Мы стремились как можно скорее в Петербург, поэтому нас уговаривать не приходилось, и все сейчас же пошли на вокзал к коменданту, чтобы узнать, когда уходит очередной поезд.
На станции царил изрядный хаос. Мы узнали, что поезд идет раз в сутки, в шесть часов вечера, и что желающих ехать бывает превеликое множество. Стало ясным, что придется места занимать с боем, и все мечты об удобном спальном вагоне без пересадки до Петербурга живо улетучились. Теперь мы даже рисковали вообще не попасть на поезд, и это страшно тревожило. Но даже если бы и удалось выехать, этот поезд довозил только до первой узловой станции, а там еще неизвестно, что может произойти.
Получив столь неутешительные сведения, мы отправились в магазин «Кунст и Альберст» купить теплую одежду. Хотя магазин и считался чуть ли не лучшим в городе, но в данное время выбор был очень ограниченный, и нам только и удалось заменить котелки барашковыми шапками и достать башлыки. Валенок решили не покупать и легкомысленно отправились в легких ботинках. Затем сдали в багаж чемоданы и корзины без всякой надежды когда‑либо их опять увидеть. Но другого выхода не было, так как при переполненных вагонах и частых пересадках мы все равно бы их растеряли. Таким образом, закончились приготовления к отъезду, и оставалось еще достаточно времени, чтобы пообедать и осмотреть город.
В сущности, жалко, что не удалось провести хотя бы несколько дней во Владивостоке, так как он казался очень интересным, а его местонахождение с моря просто красиво – амфитеатром на склоне горы. Теперь уже это крупный портовый город, но еще не так давно, до проведения Великого Сибирского пути, он был небольшим захолустным городком. В нем царили удивительные нравы, в особенности среди моряков, которые являлись первыми представителями русской интеллигенции на Дальнем Востоке.
Рассказывали про удивительный «клуб ланцепупов», который они образовали. Его члены пили водку «аршинами», то есть на стойке ставились рюмки в ряд, и их ножки должны были занять пространство в аршин длины. Характерны были и некоторые забавы, вроде такой, например: бросалась золотая монета на тротуар улицы, под окном квартиры кого‑либо из членов клуба. Понятно, что первый же прохожий нагибался, желая ее поднять. В тот же момент над его ухом гремел выстрел и раздавался голос: «Не тронь, не твоя». Ошеломленный человек страшно пугался и конфузился, а «шутники» хохотали. Гомерическое пьянство шло непрерывно, и вместе с тем придумывались и подобные же новые «забавы». У одного офицера, человека удивительной силы, было излюбленным «трюком» являться к друзьям на пирушки с собственным пианино за богатырскими плечами и с ним же возвращаться домой. Много еще разных легенд ходило о владивостокских моряках, но к 1905 году никого уже не осталось из этой стаи славных членов «клуба ланцепупов», давно прекратившего существование.
Прогулка по городу доставила мало удовольствия из‑за неприятной погоды и чрезвычайно унылого и мрачного настроения, которое всюду царило и отражалось на улицах, как бы предвещая новые осложнения. Не порадовала нас судьба в первый день возвращения на родину. По случайному стечению обстоятельств, как раз в этот день был сочельник, и, следовательно, прошел ровно год с того момента, когда «Иртыш» ушел из Либавы. Но какая разница в положении и сколько пережито за это время! Все мечты о лаврах победителей разлетелись, как дым, и осталась тяжелая действительность. Вместо ликования народа общий развал, дикая разнузданность и недовольство!
Уже часа за полтора до отхода поезда мы стояли на платформе с ручными вещами и ждали, пока его подадут. Действительно, желающих ехать оказалось много, и, по‑видимому, бой за места предстоял серьезный. К счастью, нас собралась компания из четырех человек, и, следовательно, при сплоченности мы представляли серьезную силу.
Конечно, состав стали подводить к платформе с большим опозданием, и еще на ходу вся публика бросилась в вагоны. Мы тоже не зевали и, так как были достаточно сильны и ловки, удачно влезли в вагон второго класса, но, к удивлению, он оказался уже почти полным. Потом выяснилось, что более хитрые пассажиры сообразили дать кому следовало на чай, и их впустили еще на запасном пути. В первый момент новые пассажиры этим страшно возмутились и хотели устроить скандал, да за хлопотами как‑то все обошлось. Быстро все вагоны переполнились до отказа, а на платформе еще оставалось много желающих ехать, которые, взволнованные тем, что придется возвращаться обратно в город, подняли страшный шум. На их просьбы и требования комендант наконец сдался, и было прицеплено несколько теплушек, так что поезд получился необыкновенно длинный. Таким образом вопрос уладился, и все поместились, правда, без особых удобств. Но и мы сидели друг на друге, хотя и в настоящих вагонах.
Благодаря прицепке теплушек, да и по каким‑то другим причинам, поезд тронулся часа на два позже. Стремления торопиться и потом заметно не было, и весь путь мы двигались черепашьим шагом. В дороге публика скоро успокоилась и пришла в хорошее настроение. Все помогали друг другу удобнее устраиваться, так как перегон предстоял длинный.
Один предприимчивый пассажир по случаю сочельника запасся даже маленькой елочкой, которую укрепил на чемодане и украсил ее несколькими пряниками и свечками. Это было встречено полным сочувствием всего вагона, и создалась уютная обстановка, сразу всех сблизившая. Началась беседа, которая главным образом вертелась около последних событий во Владивостоке, и все в один голос утверждали, что не миновать новых беспорядков. Оттого многие теперь и уезжали, чтобы забраться в места, где поспокойнее. Мы были рады, что так быстро выбрались из Владивостока, и эту радость высказывали довольно громко, беседуя между собою, что даже один сосед вмешался в наш разговор. По его мнению, радость была преждевременной, т. к. впереди предстояло проехать районы, где царил еще больший развал и где мы могли не раз попасть в затруднительное положение. Так это или не так, но у нас другого выбора не было, и приходилось, во что бы то ни стало, пробираться вперед.
Так как все были одеты в штатское платье, то нас никто за офицеров не принимал. Это давало надежду, что удастся проскочить, не обращая на себя большого внимания. В нашем вагоне случайно мы заметили еще двух морских офицеров, тоже возвращающихся из плена. Это были офицеры с потопленного в бою крейсера «Рюрик». Они охотно присоединились к нам, и теперь уже нас оказалось шесть человек. Наша компания вскоре пополнилась еще двумя сестрами милосердия, ехавшими из Владивостока после расформирования каких‑то госпиталей. Мы их искренне жалели, потому что в такое тревожное время и мужчины рисковали собой, а не то что девушки.
Первую ночь провели бодро, сидя и беседуя. Но когда представилось, что так придется проехать всю Сибирь, то невольно призадумались. Поезд полз невероятно медленно, стоял подолгу на каких‑то маленьких станциях, и, казалось, что мы никогда не доберемся до Никольска‑Уссурийского, где была пересадка. Однако на следующий день добрались.
Опять битва за места. Мы очутились в отдельном купе 2‑го класса. Вагон оказался очень холодный и вообще какой‑то запущенный, но мы были рады, что могли теперь довольно удобно сидеть на мягких диванах. Кроме того, спинки поднимались, и, следовательно, наверху можно было удобно спать. Скоро обнаружилось, насколько легкомысленно мы собрались в путешествие, совершенно не подумав о питании: мы даже не запаслись чайниками, стаканами, чаем и сахаром. А все это были предметы первой необходимости для путешествующих по Сибирской дороге.
Вначале выручили попутчицы, сестры милосердия, но они имели всего по одному стакану и маленькому чайнику, которых, конечно, на всех не хватало. На каждой станции мы по очереди неслись к самовару и становились в хвост, чтобы получить кипяток. Наши штатские костюмы это позволяли, и публика третьего класса нас считала своими.
Вопрос с провизией действительно оказался чрезвычайно серьезным, так как станции с буфетами были редки, а поезд плелся черепашьим шагом, и кто не имел запасов, тому приходилось временами голодать. Во время же путешествия аппетит, как известно, особенно разыгрывается, и сидеть без еды невесело. Еще, к счастью, на некоторых остановках можно было кое‑что закупить у местных жителей, которые выносили к поезду разную снедь. Особенно нам показалась вкусной жареная дичь. Под конец у нас даже появилось спортивное состязание: кто раздобудет побольше и повкуснее съедобного.
На третий день утомительного пути добрались до Харбина. Дело шло к вечеру, большое помещение вокзала оказалось переполнено разнузданными солдатами, которые вели себя нестерпимо нахально и с офицерами совсем не считались. Ни о какой дисциплине не было и понятия. Мы пробовали сунуться в буфет второго класса, но там тоже толклись пьяные солдаты. Большая группа окружила двух офицеров и заставляла их пить водку. По‑видимому, те считали положение безвыходным и унижались перед толпой. Действительно, оно было трудным и даже небезопасным. Картина оказалась такого удручающего характера, что мы поторопились уйти.
В Харбине предстояло опять менять поезд, и этот вопрос всех беспокоил, так как меньше всего хотелось застрять в этом городе. На счастье, скоро стало известным, что поезд уйдет через час, но в плохом составе, и придется ехать в третьем классе и рисковать попасть в компанию солдат или в теплушке, в самых примитивных условиях. Недолго думая, наша компания решилась на последнее: по крайней мере, там будем сами себе господа. Кроме того, в теплушке нам никогда не приходилось ездить, и некоторых из нас это забавляло.
Так и сделали: как только подали вагоны, выбрали наиболее удаленную теплушку и в нее забрались. Нельзя сказать, что первое впечатление было приятным, тем более что стоял изрядный мороз. Мы натаскали большой запас дров, провизии, добыли чайники и стаканы, растопили чугунку, и сразу стало веселее и уютнее. Как и полагалось, назначенный час давно прошел, а поезд все еще стоял. Правда, теперь уже мы привыкли к этому, не очень огорчались и не очень удивлялись, но побаивались, как бы к нам не забрались непрошеные попутчики. Наконец раздался свисток паровоза, поезд медленно двинулся, и все от души перекрестились.
Поезд шел как‑то лениво и неуверенно, и казалось, что того и гляди сейчас остановится и нам заявят, что дальше везти не желают. По‑видимому, теперь действительно мы находились в революционной зоне. На одном перегоне состав даже несколько раз без всякой причины останавливался. Затем ход стал уже совсем малым, и в конце концов мы окончательно застряли. Послышалась отборная ругань, которой обменивался машинист с кондуктором, затем горячо обсуждался какой‑то вопрос, а поезд все стоял да стоял. В результате кондуктор стал обходить вагоны и требовать, чтобы пассажиры шли в лес помогать заготавливать дрова для паровоза.
Оказалось, что запас топлива иссяк, и он не мог двигаться дальше. Был сильный мороз, и надо было торопиться, чтобы не успел прекратиться огонь в топке и котел не замерз, иначе положение стало бы катастрофическим. Мы сейчас же выскочили из вагона и отправились за поездной прислугой и несколькими пассажирами. К счастью, лес был тут же, откуда‑то набралось довольно много пил и топоров, и дело закипело. На нашу долю выпало таскать дрова на паровоз – занятие достаточно утомительное. После более чем пятичасовой работы паровоз получил возможность идти дальше весьма малым ходом, но все же благополучно дополз до станции, где получил необходимое топливо.
Уже на вторые сутки наше общество начало скучать и страдать от многих неудобств теплушки. Все время приходилось дежурить у печурки, так как стоило огню затухнуть, как становилось невыносимо холодно. Спать на нарах, не имея полушубков, было тоже слишком холодно, и к утру пальто примерзало к стенкам вагона. Отсутствие примитивных удобств усугубляло все неприятности, и мы решили попробовать перебраться в вагон 3‑го класса. Двое пошли на разведку и сообщили, что дело обстоит совсем неплохо, и, хотя в разных вагонах, разместиться можно всем. На первой же станции, захватив свое хозяйство, мы перешли в настоящие пассажирские вагоны, которые показались после теплушки верхом комфорта. Публика здесь была если не совсем первоклассной, то, во всяком случае, миролюбивая, а солдаты расположились в отдельном вагоне, где вовсю царило веселье.
На третьи сутки поезд проходил туннель Хинганского перевала. Еще накануне, когда непрерывно большими хлопьями шел снег, в поезде стали ходить слухи, что начались заносы. Это сильно нас встревожило, так как во время царящего развала едва ли бы скоро начали расчищать путь, и, пожалуй, наш поезд мог бы и замерзнуть. Увы, эти неприятные слухи оправдались, и, когда мы подъезжали к Хингану, увидели, что там уже застряло два поезда. Первый поезд уже стоял более суток. Снегоочистительные работы тоже начались. К ним привлекли пассажиров и нас в том числе. Во всяком случае, после скучного сидения в вагоне это был хороший моцион.
К счастью, нам пришлось работать всего часа три‑четыре, и после этого поезда тронулись. Это новое маленькое приключение очень всех развеселило. Шутники, впрочем, не без основания предлагали организовать постоянную рабочую дружину, которая была бы всегда наготове на случай каких‑либо новых осложнений.
Хотя в третьем классе много приятнее ехать, чем в теплушке, но, когда мы стали соображать, как расположиться на ночь, то оказалось, что это не так‑то легко. Легли, по японскому опыту, по двое на скамейке и двое в проходе. Впрочем, здесь все же места было больше, зато значительно грязнее и на полу холодно. Сестер тоже уложили на одной скамейке, и ночью они несколько раз падали на спящих в проходе. Происходил общий переполох, сопровождавшийся смехом и страшным конфузом упавшей сестры. Однако кое‑как приспособились и хотя плохо, но ночь проспали. Тем же, кто недоспал, предоставлялось спать днем с большими удобствами.
Время коротали от станции до станции. Перегоны были долгие, главным образом оттого, что поезд шел медленно. Как только он останавливался, предпринималось обычное паломничество с чайниками, в одних пиджаках и шапках, за кипятком. Иные принимались за поиск съестного. Бояться, что поезд уйдет, не приходилось, так как на всех остановках он задерживался невероятно долго.
На четвертые сутки дотащились до Хайлара, затем проехали Манчжурию и на пятые были в Чите. Тут оказалось, что мы попали в самостоятельное государство, называемое «Читинской республикой». Всем пассажирам приказали оставаться в вагонах до проверки документов. Сейчас же среди публики пошли страхи, что офицеров арестуют и посадят в тюрьму, затем расстреляют, что у всех отбирают деньги и тому подобное. Трудно было определить, что верно и что нет, но ко всякого рода неприятностям приходилось приготовиться. Конечно, печально освободиться из одного плена и попасть в другой, да еще какой‑то неведомой «Читинской республики», которой управляют темные личности.
Однако все вышло совсем нестрашно, и пришедшие в вагоны типы, с красными перевязями на рукавах, именем «комиссара республики» потребовали заявить, кто собирается остаться в Чите, и их увезли, остальных не тронули. После этого было разрешено выйти из вагонов и пересесть в другой состав. При этом даже соблюдался порядок, так что пересадка прошла без обычной толкотни, чему много способствовало присутствие чинов «республиканской гвардии» с винтовками.
И на этот раз нам удалось устроиться вместе, и я оказался, вдвоем с механиком П., в купе вагона третьего класса. Другая часть компании поместилась в соседних вагонах. Наш вагон имел спальные места в три этажа, причем публика, хотя еще был день, уже расположилась по‑ночному. Мне и П. достались места во втором ярусе, что лучше, чем внизу, где то и дело кто‑либо из новых пассажиров «присаживался», и можно было рисковать просидеть всю ночь. Для третьего яруса нужно быть хорошим гимнастом, главное же, дышать там приходилось убийственным воздухом. Но и у нас имелось одно неудобство: приходилось все время лежать.
«Читинская республика» больше нас не задерживала, и поезд тронулся дальше. Устроившись на своих нарах, мы стали присматриваться, с кем свела нас судьба. Публика была настоящая третьеклассная. Рядом со мной лежал бывший каторжник, как он уверял, политический, но едва ли это соответствовало действительности, судя по совершенно неинтеллигентному и грубому лицу и манерам. Очевидно, это был уголовный, который, пользуясь беспорядками, старался бежать из сих благословенных мест. Надо мной лежала толстая баба, из мещанок, усердно лупившая кедровые орешки и тараторившая с соседями.
Внизу устроились, по‑видимому, два купчика – не из крупных, но почтенных коммерсантов. Они все время попивали чаек и вели нескончаемые беседы о делах. Был еще «молодец» в красной косоворотке, с гармонией, услаждавший наш слух нежными романсами. Одним словом, все «серьезная» публика, которая себя держала безукоризненно. Незаметно завязался общий разговор и, конечно, на тему о современном положении, о трудностях, испытываемых с различными продуктами, о беспорядках, пожарах, поджогах, убийствах и т. д. Было интересно прислушиваться к этим, часто наивным, рассказам, в особенности после того как мы давно не были в России.
Но все же соседи сильно стесняли, и облегчало только то, что они, по костюмам, не считали нас птицами высокого полета. Как только стемнело, пассажиры улеглись спать, и скоро со всех концов стал раздаваться непринужденный храп и сопение. Ночью, когда поезд остановился на какой‑то маленькой станции, мы были внезапно разбужены пьяными криками и песнями на платформе. Затем двери вагона раскрылись, и ввалилась пьяная ватага солдат, которая провожала своего фельдфебеля, уволенного в запас. Не видя свободных мест, ретивые провожатели подняли крик, что они «кровь проливали за отечество», а вагон набит штатской публикой и нет места «ероям». Никто не реагировал на такой призыв, и все продолжали лежать. Это разозлило солдат, и один из них подал мысль силой очистить место, а штатских выбросить вон.
Сам же провожаемый был до такой степени пьян, что ничего не понимал и еле стоял на ногах. Когда эта угроза не подействовала, солдаты окончательно озлились, и почувствовалась серьезная опасность, как бы не пришлось вступать с «ероями» в бой. Была еще маленькая надежда, что поезд сейчас тронется и провожающим придется поспешно вылезать. Во всяком случае, момент создался критический. Вдруг сверху кто‑то сказал, что там имеется свободное место, и в тот же момент раздался спасительный звонок. Солдаты сразу же позабыли свои воинственные намерения и бросились прощаться с фельдфебелем и втаскивать его на третий этаж нашего купе. Это оказалось нелегкой задачей, так как он сам совершенно не был способен действовать руками и ногами. Наконец при содействии ближайших пассажиров его втащили, и последние солдаты выбежали. Только тогда все успокоились, и послышался мирный храп.
Под утро поезд опять стал подходить к станции и при этом, резко затормозив, остановился с сильным толчком. В тот момент сверху кто‑то стремительно полетел на пол, ударяясь о нары. Посмотрев вниз, я увидел вчерашнего фельдфебеля, который сидел в проходе и с растерянной рожей чесал затылок и бока. Его лицо выражало такое неподдельное удивление и испуг, что без смеха нельзя было смотреть. Очевидно, он решительно ничего не помнил, как его приволокли в вагон, втащили на нары и как тронулся поезд. Очухался он только теперь, да и то после падения на пол. Минуты две обводил он окружающих недоумевающими глазами и все тер затылок, пока один сердобольный купец не спросил его сочувственно: «Что, зашибся, служивый?». Тогда «служивый» пришел в себя и попросил пить, а после этого спросил: где он и что с ним.
Когда ему все объяснили, он окончательно пришел в себя, и, узнав, что мы за ночь далеко отъехали от его станции, очень обрадовался. Он оказался милым человеком, скромно лежал наверху и с удовольствием доставал кипяток.
На следующий день добрались до Верхне‑Удинска, где снова пересаживались и попали во второй класс, так как публики стало меньше и мест хватало на всех, но вагон попался теплый, хотя и страшно грязный. До Мысовки все шло гладко, и только, когда поезд пошел по недавно открытой Круго‑Байкальской ветке, стало обнаруживаться, что с паровозом что‑то неладно. Он выделывал удивительные вещи: то несся с невероятной быстротой, то вдруг замедлял ход, потом опять прибавлял. Все перемены скоростей делались так неожиданно и резко, что вагоны сталкивались буферами, багаж сыпался с сеток и пассажиры стукались о спинки сидений. При остановках было и того хуже. Казалось, что машинисту доставляло огромное удовольствие заниматься такими экспериментами. Ничего не поделаешь, пришлось приспособляться к его нраву и, видя приближение станции, вставать, за что‑нибудь хвататься и придерживать багаж.
Особенно машинист расшалился ночью, когда появились новые симптомы его веселья, поезд иногда так замедлял ход, что почти останавливался среди дикой местности, но потом, точно вспоминал, что ему надо торопиться, сразу давал полный ход. Злополучные вагонные соединения скрипели и натягивались в струнку, а бедные пассажиры набивали себе шишки и синяки. После нескольких таких опытов машинист, по‑видимому, добился, чего хотел, – цепи одного вагона не выдержали, и поезд разорвался.
К счастью для нас, разрыв произошел между нашим вагоном и следующим, и, таким образом, мы продолжали ехать, а оторвавшаяся часть так и осталась на произвол судьбы. Точно обрадовавшись, что стало легче тащить, паровоз понесся с еще большей скоростью. Оттого ли, что путь был новый или ход слишком велик, но вагоны сильно подбрасывало и трясло, так что мы стали опасаться, не произойдет ли крушение.
Круго‑Байкальская ветка очень красиво вилась по склонам лесистых гор, и то и дело поезд проскакивал небольшие туннели. Мы часто выходили на площадку вагона, чтобы удобнее любоваться видами, но с опаской поглядывали на крутые склоны гор, так как наш удивительный машинист никак не мог успокоиться, и это начинало нас серьезно тревожить. Одна надежда была, что в конце концов у него иссякнет запас топлива и придется остановиться. Лишь бы это не случилось между станциями, а то положение оказалось бы совсем глупым. Во всяком случае, он, по‑видимому, совсем перестал считаться с остановками, и мы неслись, как какой‑нибудь сверхэкспресс.
Вдруг замелькали строения и начались запасные пути, значит, поезд приближался к станции. Внезапно машинист резко затормозил, и вагоны, ударяясь и налезая друг на друга, начали останавливаться. Все это было проделано так быстро, что мы считали, что вот‑вот произойдет крушение. Но поезд сразу остановился, вагоны еще раз судорожно ударились, и все кончилось. Только багаж посыпался на пол, да пассажиры вцепились во что попало. Слава Богу, все были целы и невредимы. Когда мы убедились, что поезд прочно остановился, то немедленно выскочили из вагонов узнать, в чем дело. Оказалось, что стоим в тупике и каким‑то чудом в него не врезались.
Из расспросов выяснилось, что наши машинист и кочегар весь путь пьянствовали и в зависимости от настроения забавлялись пусканием поезда то малым, то большим ходом. Затем они стали ехать без остановок, и их всюду пришлось пропускать, и только на этой станции решили задержать, впустив в тупик. Это решение, бесспорно, было мудрым, так как нельзя же рисковать другими поездами, но для нас оно могло кончиться очень печально. На счастье, машинист не растерялся и успел остановить поезд, так как уже шел небольшим ходом. Мы утешались, что все хорошо закончилось. После нескольких часов ожидания нас прицепили к другому составу, и мы поехали дальше, на этот раз без приключений, и до Иркутска добрались благополучно.
Там была передышка часов на шесть, и все поехали осматривать город. Был дивный солнечный день, но температура достигла сорока градусов по Реомюру, при полном безветрии. Когда мы усаживались на извозчиков, то даже показалось, что совсем тепло, однако уже минут через десять холод дал себя знать, и руки, ноги и уши начали нестерпимо мерзнуть. Пришлось повязать башлыки, но я так неудачно это сделал, что кончик уха не прикрыл и по возвращении на вокзал, к своему ужасу, обнаружил, что ухо отморожено – оно страшно распухло и болело.
В Иркутске царил уже больший порядок, не только в городе, но и на вокзале. Когда подали поезд, мы поторопились занять места в вагоне второго класса и удобно расположились. Вдруг вошел комендант станции и заявил, что штатских просят выйти, так как этот вагон предназначен для офицеров. Естественно, мы остались сидеть, тогда он начал сердиться и возвышать голос, прямо обращаясь к нам, но мы решили его немного позлить и молчали. Только после того, как он к каждому подошел и потребовал показать удостоверение, ему пришлось убедиться, что и мы все офицеры.
С Иркутска всюду только и было разговоров о карательных экспедициях генералов Меллер‑Закомельского и Ренненкампфа, которые начали наводить порядок и так энергично, что сразу же весь революционный пыл прошел. Хотя никаких ужасов они и не творили, и только, кажется, в Красноярске, где восставшие проявили некоторое упорство, пришлось произвести расправу, но слухи в публике шли о «тысячах» расстрелянных и арестованных. Насладившись за время путешествия прелестями развала и полной растерянности власти, мы по мере того, как выходили из революционной зоны, начинали себя чувствовать отлично: поезда шли по расписанию, поездная прислуга добросовестно служила, и не надо было поминутно ожидать насилий и оскорблений.
На одной из станций мы достали газеты и из них узнали невероятную новость: о бунте на Черноморском флоте. С еще большим недоумением я прочел, что главным руководителем бунта является не кто иной, как наш П.П. Шмидт. Вот тебе и раз, всего можно ожидать, но только не такого сюрприза! Прямо верить не хотелось! Путешествие теперь шло гладко. Мы, хотя и не имели спальных мест, но сидели с большим удобством, публики было мало, и многие пассажиры ехали лишь от станции до станции. Однажды нас страшно позабавили две гимназистки‑сибирячки, которые недолго сидели в нашем вагоне. Они имели с собой большой мешок с кедровыми орешками и как вошли в вагон, так сейчас же и принялись за них. Как мы ни старались с ними заговаривать, из этого ничего не выходило, и они продолжали сосредоточенно грызть орехи, только трещали скорлупки. С этих пор мы прозвали это занятие «сибирским разговором».
Благополучно проехали Нижне‑Удинск, Красноярск, Курган и стали переваливать Уральский хребет. Промелькнули Челябинск, Златоуст и Уфа, где мы распрощались с одной из сестер‑попутчиц, другая же отстала еще в Иркутске.
В эти дни мы вели большую дружбу с одним стариком, пехотным капитаном и георгиевским кавалером. Он производил удивительно симпатичное впечатление своей чисто русской натурой. Человек, видимо, небольшого образования, но неглупый и, наверное, очень храбрый, он кончал теперь скромную карьеру в чине капитана. Казалось странным, что он уже служит более тридцати лет, участвовал в нескольких войнах, награжден даже Георгиевским крестом и все же так недалеко продвинулся по службе. Нам это представлялось несправедливым, но он сам находил вполне нормальным. Мы с ним развлекались чаепитием и слушали интересные рассказы о боевой жизни.
Чего‑чего он только ни навидался и ни натерпелся. Это был простой честный солдат, знавший всю свою жизнь только службу и добросовестное исполнение приказаний начальства.
Армия с такими офицерами не проиграла бы войны.
Через два дня стали подъезжать к Москве. Там беспорядки оказались в самом разгаре, и нас долго держали на запасных путях. Пошли слухи, что вообще поезда дальше не ходят и придется застрять. Это нас страшно расстроило, так как были уже совсем близко у цели. К счастью, эти слухи не оправдались, и вечером мы неслись по направлению к Петербургу. Заканчивались тридцатые сутки путешествия. Все тридцать ночей нам не пришлось раздеваться, спали мы кое‑как, где и как придется, страшно устали и мечтали о мягкой и чистой постели.
Утром 23 января наконец показался Петербург. Поезд подошел к Николаевскому вокзалу. Какое радостное чувство, как приятно опять видеть знакомые улицы, дома и магазины. Все казалось каким‑то подновленным и красивым. Вот извозчик подвез меня к подъезду дома. Выбежал старик‑швейцар и в первый момент не узнал меня в штатском наряде. Потом пошли расспросы, рассказы и сетования на тяжелые времена. Едва дослушав старика, я взбежал по хорошо знакомой лестнице, позвонил и всех переполошил своим неожиданным приездом.
Как приятна встреча с родными после долгой разлуки, да еще такой, которая могла оказаться вечной! Как дороги эти моменты!
Этим закончился первый этап моей службы на флоте. Начинался второй. Я был уже теперь не юный мичман, только что выпущенный из стен Корпуса, а офицер, видавший виды и с жизненным опытом…
Цусимская катастрофа и проигрыш войны прежде всего отразились на флоте. Стали очевидны его язвы, и приходилось их залечивать. Для российского флота начиналась новая эра, доцусимский период уходил в вечность.
Послесловие
Гаральд Карлович Граф. Это имя прекрасно известно всем, интересующимся историей Русского флота. Он прославился не морскими сражениями с неприятелем (хотя и их было достаточно), не изобретениями или научными открытиями, не путешествиями, как многие и многие офицеры, а своими мемуарами. Хороший литературный слог, живая память, прекрасная наблюдательность, способность несколькими штрихами дать характеристику сослуживца – все это поставило труды Г.К. Графа в число лучших книг о Русском флоте конца XIX – начала XX в. и принесло ему заслуженную благодарную память читателей.
Гаральд (если полностью – Гаральд Густав Герман) родился 17 (по новому стилю – 29) декабря 1885 г. в Выборге, в семье техника, потомственного дворянина Великого княжества Финляндского. Его матерью была «финская шведка», баронесса София Германа Седеркрейц‑Энгенштерн. Отец не раз менял работу, поэтому часть детства прошла в Калуге, часть – под Череповцом, затем – Финляндия, и, наконец, с 1893 г. – Петербург. Мальчик учился в 3‑й петербургской классической гимназии, но гражданская карьера его не прельщала. Почему из всех возможных жизненных путей он выбрал море? Вероятно, дело было в примере родственников. Мужем Зигрид Алексеевны, младшей сестры матери, был Виктор Егорович Вилькен – в те годы контр‑адмирал, директор маяков и лоции Балтийского моря (1893–1896), затем – младший флагман Балтийского флота (1896–1900). Из пятерых их сыновей двое старших учились в Морском кадетском корпусе, еще один собирался держать экзамены. Другой родственник, Оскар Карлович Кремер, муж двоюродной тети, и вовсе был примечательной личностью – участник обороны Севастополя, полный адмирал (1896), начальник Главного морского штаба (1888–1896), затем – член Государственного совета! Кстати, он и помог преодолеть неожиданное затруднение, когда медкомиссия Морского кадетского корпуса признала мальчика близоруким, а потому не подходящим для морской службы. После успешной сдачи необходимых экзаменов Гаральд 1 сентября 1898 г. был зачислен в младший общий класс.
Биографию писателя‑моряка удобно изучать по его книгам, сверяясь с послужным списком и другими архивными документами. Юношеские годы автора ярко описаны в книге «Моряки», которую держит в руках читатель. Впервые она увидела свет в Париже в 1930 г., была переиздана в Петербурге в 1997 г.
Г.К. Граф блестяще описал Морской кадетский корпус, наиболее типичных преподавателей и офицеров учебных судов, нравы воспитанников. Как и почти все бывшие офицеры, обращавшиеся в мемуарах к alma mater, Гаральд Карлович много внимания уделяет шалостям и «войне» с начальством. Особо много места и эмоций уделено новому директору – знаменитому адмиралу Г.П. Чухнину, получившему за свою строгость и требовательность прозвище «Гришка‑каторжный». Написанные страницы рождают не высказанный автором, но несомненный для объективного исследователя вывод – система подготовки морских офицеров накануне Русско‑японской войны была неудовлетворительна, она стала одной из причин поражения. Нельзя, пройдя через руки давно ушедших с флота офицеров, проходя летнюю практику на парусно‑паровых кораблях с безнадежно устаревшим вооружением, стать квалифицированным специалистом. Нельзя с палубы бывшего фрегата ступить на борт новейшего эскадренного броненосца и сразу разобраться в современной технике. Кроме готовности храбро умереть за родину (а из 128 человек, одновременно с Графом получивших мичманские звездочки, погибли в боях с японцами 25 юных офицеров!) необходимо так знать материальную часть, чтобы не только правильно применять ее в бою, но и уметь предварительно отлично обучить подчиненных. А вот нацеленности на серьезную самостоятельную (и предварительную, до встречи с противником!) работу в кадетах и гардемаринах тех лет как раз и не было видно. Среди многочисленных, с удовольствием описанных автором традиций корпуса не было одной – хорошо учиться. Гаральд Карлович успехами тоже не блистал – в списке выпуска, составленном с учетом среднего балла по успеваемости и поведению, он занимал лишь 77‑е место. Аттестации, дававшиеся Графу в годы учебы преподавателями, трудно назвать выдающимися: «Нравственный, воспитанный, к требованиям корпусных правил относится внимательно, но очень вял и не всегда понимает, что говорит»[101]. Вместе с тем описание жизни в корпусе получилось очень светлым, местами – забавным.
Выпуск Графа вошел в историю флота под именем «царского» – впервые в истории император лично произвел гардемарин в мичманы без экзаменов, почти на четыре месяца ранее срока. Было это 28 января 1904 г., на второй день после получения известия о нападении японцев на эскадру Тихого океана в Порт‑Артуре. Лучшие выпускники, имевшие по традиции право выбора из имевшихся вакансий, распределились в Квантунский флотский экипаж и во Владивосток. Гаральду Карловичу, как и большинству его друзей, досталась Балтика. Весной 1904 г. он плавал на транспорте «Артельщик», затем получил долгожданное назначение на формировавшуюся контр‑адмиралом З.П. Рожественским 2‑ю эскадру флота Тихого океана. Правда, приказ Главного морского штаба от 6 июня его явно разочаровал – вместо боевого корабля, о котором так мечталось, Гаральд был назначен на огромный по тем временам (18 000 тонн!) тихоходный транспорт «Иртыш». Приняв груз угля и сапог, судно 23 декабря 1904 г. вышло в далекий путь вслед за уже ушедшей эскадрой. Во время стоянки в Порт‑Саиде пришла телеграмма о списании с корабля всеми любимого старшего офицера лейтенанта П.П. Шмидта; это привело к перемещению офицеров, в частности Г.К. Граф с 17 января 1905 г. стал исправлять должность ревизора. Кстати, Петру Петровичу Шмидту, будущему «красному лейтенанту», в мемуарах Графа посвящено немело теплых слов. Это своеобразная «лакмусовая бумажка» на объективность – в угоду своим последующим чувствам автор не забыл доброго отношения к человеку и честно писал, что при расставании в Суэце «в горле появились спазмы, и было совсем недалеко до слез».
Исполнять ревизорские обязанности на корабле Графу пришлось недолго – по воле случая ему довелось пропутешествовать с полным чемоданом золотых монет из Порт‑Саида до Сайгона. Лишь 3 апреля в бухте Камранг он попал на свой транспорт. До Цусимы оставалась менее полутора месяцев…
В один из моментов дневного сражения 14 мая 1905 г. транспорт попал под огонь броненосных крейсеров К. Камимуры и получил серьезные повреждения. Автору при описании перипетий боя удалось передать напряжение и беспомощность экипажа огромного транспорта, бессильных что‑либо предпринять перед лицом прекрасно вооруженных кораблей врага. Наступившие сумерки скрыли беспомощное судно от атак многочисленных миноносцев. Командир проложил курс вдоль японского берега, на север. Вскоре стало ясно, что с поступлением воды справиться не удастся, переборки не выдержат напора. Днем 15 мая пришлось на шлюпках свезти команду на берег, вскоре после чего корабль пошел на дно. Начались грустные дни семимесячного плена, за которыми последовало впечатляющее путешествие по охваченной революционными беспорядками Сибири.
23 января 1906 г. мичман Гаральд Карлович Граф вернулся в Петербург. На этом заканчивается данная книга мемуаров. Необходимо сказать, что автор, записывая в конце 20‑х гг. свои воспоминания о событиях более чем четвертьвековой давности, не был уверен, что все данные им характеристики упомянутых в книге людей понравятся как им (если они еще были живы), так и их знакомым, родственникам и сослуживцам. К тому же некоторые из персонажей книги остались в Советском Союзе, и лишнее упоминание о них могло им повредить. Не желая отказываться от возможности давать эмоциональные характеристики знакомых, автор сократил все фамилии до одной первой буквы. В одном же случае он даже и ее изменил. Речь в том эпизоде шла о беспробудном пьянстве на «Иртыше» одного из офицеров, который в припадке белой горячки рубил палубу собственной саблей.
При первом переиздании книги на родине, в 1997 г., была предпринята робкая попытка раскрыть некоторые наиболее очевидные фамилии. Конечно же, многие читатели того издания предприняли собственные изыскания. Не удержался и я. Мне просто повезло чуть больше – будучи сотрудником Российского государственного архива военно‑морского флота я мог использовать для этого подлинные документы того времени: послужные списки, вахтенные журналы, аттестации, приказы и т. д. Работа выполнялась просто для себя. Теперь, благодаря издательству «Вече», сведения удалось донести до читателей. Не на все вопросы удалось найти ответ, но ведь поиск не заканчивается никогда!
При подготовке нынешнего переиздания было принято решение дополнить книгу некоторыми хронологическими уточнениями, т. к. автор обычно не указывал, в каком году происходило то или иное событие, и местами запутывал не только читателей, но и себя.
Описание последующей службы Гаральда Карловича находим в другой книге мемуаров – «Императорский Балтийский флот между двумя войнами»[102]. За границей она не печаталась, и только в 2006 г. была опубликована в С.‑Петербурге. Сын автора, Владимир Георгиевич, давший согласие на публикацию, немного не дожил до выхода в свет последней части (по времени издания) из мемуарной тетралогии отца.
Итак… После нескольких интересных, но небольших плаваний 1906 года Граф получил новое назначение – вахтенным начальником нового минного крейсера «Доброволец». Почти годичной службе на этом корабле посвящено немало ярких страниц книги. В эти месяцы рождался Отряд минных крейсеров, из которого, благодаря титаническим усилиям капитана 1‑го ранга Николая Оттовича фон Эссена, будущего адмирала, удалось создать ядро возрождавшегося Балтийского флота и особую, «эссеновскую» школу личного состава.
12 сентября 1907 г. Г.К. Граф успешно сдал вступительные экзамены в Минный офицерский класс. В течение следующего года он вместе с товарищами осваивал химию, электротехнику, подрывное дело, устройство мин заграждения, торпед, радиотелеграфа и еще много необходимых для судовых минных офицеров премудростей. После знакомства с теорией началась практика. Навыки осваивались на учебном судне «Николаев» (8 мая – 28 августа 1908 г.), затем до 15 сентября Граф плавал вахтенным начальником минного заградителя «Волга», которым командовал заведующий обучением в Минном офицерском классе капитан 2‑го ранга В.Я. Ивановский – его будущий тесть. А 17 сентября циркуляр Главного морского штаба сообщил для сведения список успешно окончивших курс Минного офицерского класса, все они были зачислены в минные офицеры 2‑го разряда.
На плавающий флот Граф возвращался лейтенантом – приказ о его производстве вышел в период обучения в классе, 6 декабря 1907 г. Очередным кораблем в карьере стал минный крейсер «Трухменец», «исправляющий должность» старшего офицера которого Гаральд Карлович был назначен циркуляром штаба Кронштадтского порта от 20 сентября 1908 г. Как подробно описано в мемуарах, служба на нем оказалась почетной – охрана императорской яхты «Штандарт», – но непродолжительной. Уже в конце октября последовало новое назначение – младшим минным офицером только вступившего в строй, но спешно отправляемого в Средиземное море крейсера «Адмирал Макаров». На этом корабле Граф служил с 27 октября 1908 г. по 23 апреля 1909 г. В эти полгода спрессовалось многое – плавание вокруг Европы в Средиземное море, освоение новой, нередко капризничавшей техники, обучение корабельных гардемарин, посещение интересных портов и городов, наконец – оказание помощи жителям разрушенного землетрясением итальянского города Мессина. Не так давно мы отметили 100‑летие тех страшных событий, а в июне 2012 г. в Мессине был открыт памятник русским матросам. И так получилось, что одно из наиболее обстоятельных мемуарных описаний героических усилий моряков по спасению пострадавших принадлежит перу Г.К. Графа.
По возвращении ждала награда – адмирал Эссен помнил о желании Гаральда Карловича жениться и о том, что его невеста жила в Кронштадте, а потому, с согласия самого Г.К. Графа, назначил его на чрезвычайно ответственную должность минного офицера на строившийся минный заградитель «Амур». Корабль еще находился у стенки Балтийского завода, и была надежда, что удастся частенько (хотя бы по выходным!) бывать в Кронштадте. Увы, это получалось реже, чем хотелось бы, да и отношения с командиром «Амура» капитаном 2‑го ранга К.И. Степановым у офицеров сложились не очень хорошие. Яркое описание личности Константина Ивановича заняло немало места в мемуарах, мы же посмотрим, как он характеризовал Г.К. Графа как подчиненного: «Любит морскую службу и интересуется своею минною специальностью. <…> Дисциплинарен и умеет себя держать с нижними чинами. Высокой нравственности, не пьет, честно и аккуратно относится к службе. <…> Мало энергичный и вялый, на что несомненно имеет влияние слабое здоровье». Общая характеристика и мнение о пригодности к службе были сформулированы так: «Хороший, исправный офицер и знающий минный офицер»[103]. Кстати, «посредственное здоровье» офицера, близорукость и некоторую укачиваемость отмечали и другие начальники.
Новый командир «Амура» флигель‑адъютант М.М. Веселкин, напротив, не пожалел для Г.К. Графа положительных эпитетов (аттестация от 15 августа 1910 г.): «Весьма способный и отличный морской офицер, прекрасный минер. Безупречной нравственности, мягкого по отношению к товарищам и твердого к службе характера. Здоров. Вполне благовоспитан и дисциплинарен. Прекрасно знает обращение с приборами трехфазного тока. Знает немецкий язык. Обладает несомненной способностью внушать знания и развивать в нижних чинах интерес к службе и сознание служебного долга. Своим отношением к службе и безукоризненным поведением служит прекрасным примером для соплавателей. Любим подчиненными и товарищами. Побольше бы таких офицеров во флот. Несмотря на то, что мать финляндская шведка, а отец финляндский немец – лейтенант Граф совершенно русский человек по убеждениям, привычкам и вкусам»[104].
Гаральду Карловичу было чем гордиться – он сумел наладить четкое действие системы постановки мин заграждения на этом, столь важном для флота корабле, а также подготовить должным образом обученный личный состав. Признанием заслуг стало зачисление в минные офицеры 1‑го разряда, санкционированное в июле 1910 г. морским министром С.А. Воеводским в обход действовавших на тот момент правил.
Самым же радостным событием периода службы на «Амуре» стала состоявшаяся 27 сентября 1909 г. в Кронштадте свадьба. Спустя год, 14 сентября 1910 г., у Нины Викторовны Граф родилась дочь Лидия. Жизнь отмерила этим женщинам недолгий срок – Г.К. Граф овдовел в мае 1917 г., а дочь его умерла в 1927 г.
Между тем у лейтенанта был несомненный вкус к учебе (и это несмотря на то, что экзамены он сдавал довольно‑таки посредственно). После почти годичной службы в качестве старшего минного офицера на безнадежно устаревшем линейном корабле «Император Александр II» (числился в составе экипажа с 16 октября 1910 г. по 31 августа 1911 г.) и преподавания в Минной школе Учебно‑минного отряда Г.К. Граф сдал экзамены и поступил в Военно‑морской отдел Николаевской морской академии.
После второго (и для Г.К. Графа – последнего, так на дополнительный курс оставляли лишь лучших) года обучения слушатели в июле – августе 1913 г. плавали на транспорте «Рига». В конце августа Н.О. фон Эссен уводил свои линкоры и часть крейсеров в плавание в Англию и Францию, и Граф, давно не плававший на настоящих боевых судах, договорился, чтобы его временно взяли на вакансию минного офицера линейного корабля «Андрей Первозванный».
Вскоре по возвращении, 9 октября, Гаральд Карлович и его товарищи, как окончившие курс академии, были возвращены на флот. Новым местом службы стал давно знакомый Минный офицерский класс, в котором Граф читал лекции по новой тогда дисциплине – «минной тактике», в которую входили принципы использования в бою торпедного оружия. Одновременно он вновь вел занятия у матросов в Минной школе и являлся минным офицером и командиром 2‑й роты учебного судна «Двина». Так продолжалось до июля 1914 г.
В первые дни войны Г.К. Графу повезло (хотя, конечно, это «везение» подготавливалось его прежней безупречной службой) – из тылового Кронштадта он был командирован для доставки партии мин заграждения образца 1912 г. на новейший корабль флота – эскадренный миноносец «Новик». Ему удалось остаться на корабле, став первоначально 2‑м минным офицером, затем – старшим минным офицером, а с 7 марта 1916 г. – старшим офицером замечательного корабля. Благодаря великолепной скорости и хорошему вооружению «Новик» участвовал во многих боевых операциях – ставил мины, проводил разведки, участвовал в операции против немецкого конвоя у берегов Швеции, в Рижском заливе в коротком бою нанес серьезные повреждения двум немецким эсминцам. Все это подробно описано в первой книге Гаральда Карловича Графа «На “Новике”», вышедшей в свет в Мюнхене в далеком 1922 г. Этот труд был переведен на английский, французский и итальянский языки – единственное в своем роде достижение для русской морской эмигрантской литературы. Конечно, на родине эта книга десятки лет находилась в спецхранах, и лишь в 1998 г. была переиздана в Петербурге с комментариями известного военно‑морского историка В.Ю. Грибовского.
Для дополнения характеристики Г.К. Графа, приведем еще одну его аттестацию, данную 27 октября 1914 г. командиром «Новика» капитаном 2‑го ранга П.П. Палецким: «…Нравственен. Характер прекрасный. Здоровье хорошее. …Знает английский, немецкий, французский и шведский языки. Назначен на миноносец на время войны сверх комплекта. Заведует электротехникой и минами заграждения 1912 г., по которым – знаток. Очень интересуется делом и лично входит во все мелочи судовой жизни и службы. Очень внимательный и спокойный вахтенный начальник; очень добросовестно несет службу при якорных дежурствах. Толковый, рассудительный и хороший офицер. … При постановке мин заграждения у неприятельских берегов выказал полное самообладание, распорядительность, внимательность и хладнокровие»[105].
Как и для большинства офицеров Российского императорского флота, карьеру Г.К. Графа оборвал 1917 год. Производство в капитаны 2‑го ранга за отличие, последовавшее 28 июля 1917 г., конечно, не могло скрасить горечи. Он активно пытался противостоять развалу флота, являясь товарищем (заместителем) председателя Профессионального союза офицеров, врачей и чиновников флота и портов Балтийского моря (ПРОМОРА). Не видя для себя возможности служить большевикам, он весной 1918 г., когда флот уходил от немцев в Кронштадт, остался в Гельсингфорсе, и 3 апреля был уволен с флота.
О дальнейшей жизни Г.К. Графа можно узнать из его мемуаров «На службе Императорскому Дому России. 1917–1941»[106]. 22 января 1919 г. он снова женился, его спутницей на долгие годы стала Вера Павловна, урожденная Гамзина, дочь умершего от голода в Петрограде инженер‑механика капитана 1‑го ранга. 14 марта 1920 г. у них родился сын Владимир. После недолгой службы в Финляндии, символической попытки поучаствовать в белом движении в составе Северо‑Западной армии Н.Н. Юденича и не очень удачных опытов коммерции он в октябре 1921 г. переехал в Германию. Его целью было издание подготовленной им рукописи воспоминаний о службе на «Новике» и действиях Балтийского флота в годы войны. Несмотря на массу затруднений, ему удалось получить нужные деньги, и книга вышла в свет.
Часть денег прислал в ответ на письменную просьбу контр‑адмирал великий князь Кирилл Владимирович. Граф был знаком с ним очень мало, поэтому в тот период, когда они оба с семьями жили в Финляндии, и мать Гаральда Карловича часто бывала в великокняжеской семье (она была подругой матери, великой княгини Марии Павловны), сам Граф постеснялся воспользоваться случаем для установления более тесного знакомства. В 1922 г. в Германии бывший капитан 2‑го ранга активно включился в жизнь монархических организаций, а вскоре издал брошюру «Государь Великий Князь Кирилл Владимирович, Августейший Блюститель Государева Престола»[107]. После этого, 28 июня 1924 г., Г.К. Граф был назначен Кириллом Владимировичем начальником его канцелярии. Вскоре, 13 сентября того же года, Кирилл принял титул императора всероссийского. На протяжении почти полутора десятков лет, до смерти великого князя, Гаральд Карлович, являясь его личным секретарем, готовил проекты обращений и манифестов, многих писем, организовывал движение легитимистов, встречался со многими представителями русской эмиграции и европейскими политическими деятелями и членами династий, изыскивал средства для семьи своего патрона. Его усилия высоко ценились – 1 ноября 1929 г. вышел указ о награждении орденом Св. Николая Чудотворца, а 28 июня 1930 г. последовало присвоение звания капитана 1‑го ранга по созданному Кириллом Владимировичем Корпусу Императорских армии и флота (впрочем, многие эмигрантские организации, в том числе Русский общевоинский союз (РОВС), подобные производства не признавали).
После смерти Кирилла Владимировича, последовавшей 12 октября 1938 г., Г.К. Граф продолжил свою работу при его сыне Владимире, которым 19 ноября 1939 г. был произведен в контр‑адмиралы. Впрочем, сотрясавшая Европу Вторая мировая война вносила коррективы в жизнь всех обитателей Франции, да и других стран. Гаральд Карлович убеждал Владимира Кирилловича в том, что он не должен рассчитывать на приход к власти в России на штыках фашистов. В ночь на 23 июня 1941 г. Г.К. Граф был арестован немцами и заключен в лагерь для интернированных «Сталаг‑122» под Компьеном. А уже 26 июня Владимир Кириллович в обращении к эмигрантам призвал «по мере сил и возможностей» поддержать «крестовый поход» Германии против большевизма…[108]
В заключении Г.К. Граф провел 14 месяцев. Благодаря уму, интеллигентности, активной жизненной позиции он пользовался авторитетом среди заключенных, а с января 1942 г. являлся назначенным немцами «руководителем лагеря» («лейтером»). В мемуарах он подробно описал эту тяжелую полосу своей жизни – полная неизвестность относительно будущего, при этом постоянное пребывание как бы «между молотом и наковальней»: интернированные и военнопленные видели в лейтере заступника, а немцы – ответственного за любые нарушения. Тем не менее, не имея никаких формальных прав, Г.К. Графу удавалось облегчать положение товарищей. Меж тем большинство одновременно с ним арестованных русских постепенно были освобождены. Гаральд Карлович вышел на свободу лишь 6 августа 1942 г.
До 1950 г. Граф с женой и младшим сыном жили в Париже, затем переехали к старшему сыну в США. Первый год за океаном провели в Сан‑Франциско, затем переехали в Питтсбург. Здесь Г.К. Граф преподавал русский язык и дорабатывал свои воспоминания. Скончался Гаральд (после принятия православия – Георгий) Карлович 25 марта 1966 г.
Чем привлекают нас «Моряки» Г.К. Графа? Конечно – прекрасным литературным языком, умением давать характеристики командирам и сослуживцам, возможностью «с головой» окунуться в прошлое. И ещё – сравнительной честностью. С высоты прожитых лет автор пытается осмыслить недостатки, присущие Морскому кадетскому корпусу его времени. Он старается не критиковать прошлое открыто, но не скрывает изъянов. Кто хочет – при чтении обратит внимание не только на приключения молодого человека, но и на более глубокую суть вещей. При этом любому читателю, как «поверхностному», так и «углубленному», гарантировано удовольствие!
Кандидат исторических наук
А.Ю. Емелин
Приложения
I
Офицеры выпуска января 1904 г., погибшие в Цусимском сражении 14–15 мая 1905 г.
На эскадренном броненосце «Князь Суворов»
Флоров Александр Александрович.
Шишкин Борис Николаевич.
Жуковский Георгий Иванович.
Фомин Владимир Юрьевич.
Головин Дмитрий Сергеевич.
На эскадренном броненосце
«Император Александр III»
Всеволожский Петр Андреевич.
Князев Юрий Михайлович.
Адельберг Александр Александрович.
Баранов Николай Николаевич.
На эскадренном броненосце «Бородино»
Цывинский Евгений Генрихович.
Протасьев Александр Николаевич.
Прикот Николай Николаевич.
Кочуков Александр Викторович.
На эскадренном броненосце «Ослябя»
Шиповалов Василий Петрович.
Майков Валериан Валерианович.
На эскадренном броненосце «Наварин»
Макаров Леонид Николаевич.
Леман Арсентий Константинович.
На крейсере 1‑го ранга «Светлана»
Нирод Георгий Михайлович.
На крейсере 2‑го ранга «Жемчуг»
Тавастшерна Георгий Александрович.
II
Офицеры и кондукторы транспорта «Иртыш», участвовавшие в Цусимском сражении
14–15 мая 1905 г.
Офицеры
Командир капитан 2‑го ранга
Ергомышев Константин Львович.
Старший офицер капитан 2‑го ранга
Магаринский Иван Николаевич
(вступил в должность 25 апреля 1905 г.).
Штурманский офицер мичман
Емельянов Евгений Константинович.
Штурманский офицер прапорщик по морской части
Картерфельд Альфред.
Ревизор лейтенант
Родзянко Владимир Павлович.
Вахтенный начальник лейтенант
Мюнстер Альфред Цезаревич.
Вахтенный начальник мичман
Граф Гаральд Карлович.
Вахтенный начальник мичман
Коссаковский Борис Дмитриевич.
Вахтенный офицер мичман
Петухов Георгий Михайлович.
Вахтенный офицер прапорщик
Петров‑Федин Михаил Васильевич
Вахтенный офицер прапорщик
.Гильбах Роберт Эрнестович
Вахтенный офицер прапорщик
Шишкин‑1‑й Николай Иванович.
Старший судовой механик капитан
Порадовский Алексей Петрович.
Младший судовой механик поручик
Радус‑Зенкевич Григорий Николаевич.
Младший судовой механик прапорщик
Новиков Иван Адрианович.
Младший судовой механик прапорщик
Потапенко Александр Леонтьевич.
Младший судовой механик прапорщик
Зарубин Анатолий Иванович.
Судовой врач лекарь
Делялич‑Делаваль Иосиф Иосифович.
Священник иеромонах отец Зиновий.
Комиссар титулярный советник
Опарин Алексей Яковлевич.
Кондукторы
Ладанов Алексей, Раков Николай, Веревкин Иван, Храмов Федор, Ищенко Иван, Фадеев Александр.
III
Список погибших на транспорте «Иртыш» во время Цусимского боя
Комендор Костюкин И.В. (Пензенская Городищенский Поньгурьенская)[109], сигнальщик Каштанов A.M. (Рязанская Зарайский Протатьевская), матрос 1‑й статьи Безруков М.Н. (Нижегородская Ардатовский Выксунская), матрос 1‑й статьи Кригер И.П. (Саратовская Камышинский Коплянская), матрос 1‑й статьи Лязикин С.М., матрос 1‑й статьи Парменов А.А. (Тамбовская Кирсановский Богородинская), матрос 1‑й статьи Сичкаренко П. (Екатеринославская Екатеринославского Буровская), матрос 1‑й статьи Передольский А.Е. (Санкт‑Петербургская Лужского), матрос 1‑й статьи Фахридтинов А. (Уфимская), матрос 2‑й статьи Романов Н.Н. (Пермская Верхотурский), машинист 2‑статьи Куликов Г.Е. (Тамбовская Темниковский Стрельниковская), кочегар 2‑й статьи Выдрин П. (Вологодская Тотемский Петровская).
Всего на транспорте погибло 12 нижних чинов, ранено 3 офицера, 2 кондуктора и 30 матросов.
Вкладка
Морской кадетский корпус в Петербурге – мечта тысяч мальчишек. Начало XX в. Фотография предоставлена Н.С. Славинской
Столовый зал корпуса украшала модель брига, на которой ещё в конце XIX в. юные кадеты отрабатывали приемы работы с парусами, рангоутом и такелажем. Фотография предоставлена Н.С. Славинской.
Столовый зал, ныне Зал Революции Морского корпуса Петра Великого – Санкт‑Петербургского военно‑морского института. Современное фото
Младший отделенный начальник лейтенант Петр Николаевич Вагнер
Фрегат «Князь Пожарский» когда‑то был современным океанским кораблем, совершил много плаваний, но к началу ХХ в. представлял собой разве что музейную ценность
Попав на парусно‑паровые корабли, овеянные романтикой дальних плаваний и напоминавшие клипера, воспетые К.М. Станюковичем, юные кадеты с радостью фотографировали свои первые плавучие «школы». Фрегат «Князь Пожарский», вид с фок‑мачты. 1905 г. Фотография из архива Н.И. Евгенова
Кадет Н.И. Евгенов, будущий известный гидрограф, океанограф и исследователь Арктики, у 152‑мм орудия «Князя Пожарского». Красочное описание церемонии выстрела можно найти в мемуарах Г.К. Графа
Мичман Гаральд Граф. Ревель, 1904 г.
Г.К. Граф в годы Первой мировой войны на эсминце «Новик»
В последние годы жизни
Транспорт «Артельщик» – первый корабль, на котором Г.К. Графу довелось служить после производства в офицеры
Транспорт «Иртыш». Фотография предоставлена Г.П. Фроловым
Офицеры «Иртыша». Сидят: первый слева – подпоручик П.Ф. Фролов, третий слева – лейтенант П.П. Шмидт; стоят: четвертый слева – мичман Б.Д. Коссаковский, пятый – Г.К. Граф
Памятник в Японии на месте высадки (район Вака города Гоцу, префектура Симанэ) экипажа «Иртыша». Фото любезно предоставлено муниципалитетом города Гоцу
Русские офицеры в период нахождения в плену в Японии. Слева направо: неизвестный, мичманы Б.Д. Коссаковский и Г.К. Граф, капитан Корпуса инженер‑механиков А.П. Порадовский. 1905 г. Фотография предоставлена И.Г. Кормилицыной
Подпоручик запаса флота Павел Федорович Фролов. Начало 1904 г. Фотография предоставлена его сыном, Г.П. Фроловым
Первый ротный командир Г.К. Графа – Арсений Михайлович Данчич. Фотография предоставлена Т.Г. Вангенгейм
©Емелин А.Ю., послесловие, примечания, 2012
©ООО «Издательство «Вече», 2012
«Моряки. Очерки из жизни морского офицера 1897‑1905 гг. / Г.К. Граф.»: Вече; Москва; 2012
ISBN 978‑5‑4444‑0479‑9
1
Мешкова Антонина Лаврентьевна, урожд. Мейер, дочь архитектора. Ее мужем был Сергей Владимирович Мешков (03.02.1858–19.01.1910), выпускник Морского училища (1879), большую часть своей жизни прослужившей в училище (с 1886 по 1910 г.), произведенный в генерал‑майоры по Адмиралтейству с увольнением от службы накануне кончины (18.01.1910).
В эмиграции бывшие воспитанники Корпуса вспоминали:
«Нельзя не остановиться на трех братьях, всецело посвятивших себя Корпусу, о которых у многих и многих сохранились воспоминания, как о близких людях. Это были братья Мешковы. Старший, Николай Владимирович, был талантливым преподавателем и редким по уму, образованию и благородству. Он был воплощенное спокойствие. На выпуски, с которыми он плавал в качестве “корпусного офицера”, он имел громадное влияние, особенно когда ему приходилось плавать с гардемаринами. Менее ярок был второй брат Алексей, который рано умер. Но третий – Сергей, по прозванию “Пенза” (сокращение прозвища – Пензенский Ямщик), был особенно популярен. Огромного роста, с рыжей бородой, громким голосом, легко воспламеняющийся и немного грубоватый, но с мягкой душой. Он любил Корпус, любил кадет и уж знал каждого наизусть. Когда нужно, бывал строг и его побаивались, но понимали и любили. У его почтенной жены, Антонины Лаврентьевны, такой же огромной, как и он, был летом пансион, где готовили мальчиков к вступительным экзаменам в Корпус. Держала она своих питомцев в ежовых рукавицах, и учили там на совесть!» (Колыбель флота. Навигацкая школа – Морской корпус. К 250‑летию со дня основания Школы математических и навигацких наук. 1701–1951. Париж, 1951. С. 178).
(обратно)2
Еще одно интересное мемуарное свидетельство о том же пансионе оставил Ф.В. Северин, поступивший в Морской кадетский корпус в 1893 г.:
«Для верности, что я с успехом выдержу экзамены, родители поместили меня сперва в приготовительный к вступлению в Корпус пансион. Таких пансионов в то время было несколько, и я был устроен на летние месяцы в пансион лейтенанта Мешкова. Сам Сергей Владимирович Мешков был в плавании, и его пансионом руководила его жена, Антонина Лаврентьевна, при сотрудничестве одного или двух учителей. Пансион находился в Шувалове, по Финляндской железной дороге, недалеко от озера того же названия. Нас, пансионеров, было 26 мальчиков в возрасте 12–14 лет. Дача была настолько просторная, что мы свободно в ней размещались.
Заниматься приходилось основательно – с утра до обеда, затем перерыв до 2‑х и снова до 5 вечера, а затем подготовка уроков. Антонина Лаврентьевна занималась с нами по русскому языку и по истории, а ее помощники натаскивали нас по математике. Кормили нас очень хорошо – обильно и сытно. За столом председательствовала Антонина Лаврентьевна, причем рядом по обе ее стороны сидели обыкновенно два самые отчаянные шалуна – один Штюрмер (сын будущего премьер‑министра), а другой Сенявин. Когда они, несмотря на соседство с Антониной Лаврентьевной, продолжали свои шалости, то она просто их брала за уши и драла, приговаривая: “Этакое животное…” Укладывались спать в 9, а к 10 часам должны были спать; это, однако, бывало редко, чаще всего устраивались бои подушками; в этом случае она вытягивала из кровати замеченного и ставила в угол на полчаса.
По субботам, после 12 часов, мы могли уезжать к родителям до воскресенья. В летнее время в Шувалове много дачников и вообще было очень оживленно; конечно, всюду были ларьки со сладостями и лимонадом. Помню, с каким удовольствием, возвращаясь в воскресенье вечером в пансион, мы покупали в ларьке у вокзала шоколадную колбасу. Мне кажется, что в дальнейшей своей жизни мне не приходилось есть такого вкусного шоколада.
Перед экзаменами, что бывало около 15 августа, темп занятий в пансионе усиливался, а перед каждым письменным испытанием мы проделывали нечто вроде проверочного экзамена. Припоминаю очень ясно, что на письменном экзамене по арифметике мне попались задачи совершенно схожие с теми, что нам дали решать в пансионе накануне самого экзамена» (Северин Ф.В. В Морском корпусе (1893–1899 гг.) // Военно‑исторический вестник. 1965. № 26. С. 27–28).
(обратно)3
Вновь принятые кадеты явились в Корпус 02.09.1898. Сбор – в 10 утра, в 11 ч. – молебен в церкви, затем в Столовом зале – завтрак с музыкой, в 14 ч – начало занятий (см. приказ по Морскому кадетскому корпусу № 170 § 7 от 01.09.1898).
(обратно)4
Данчич Арсений Михайлович (20.01.1856–1927?), генерал‑лейтенант по Адмиралтейству (03.09.1913), переведен по флоту (05.08.1913). Окончил Морское училище (1877). С 1883 г. – в Морском училище (Морском кадетском корпусе), в т. ч. с 23.09.1884 – младший, с 27.09.1891 – старший отделенный начальник, с 06.12.1895 по 16.06.1903 – ротный командир. С 16.06.1903 – инспектор мореходных учебных заведений, с 23.05.1916 – член Совета министра торговли и промышленности. По данным эмигрантов, убит в 1927 г. по дороге на Соловки.
(обратно)5
Попов Андрей Андреевич (06.09.1866–?), капитан 1‑го ранга (10.04.1911). Окончил Морское училище (1887). В прикомандировании к Морскому кадетскому корпусу (с 15.09.1895), младший отделенный начальник того же Корпуса (16.08.1896–12.08.1902). Старший офицер крейсера I ранга «Баян» в период обороны Порт‑Артура (с 18.03.1904). Старший офицер учебного судна «Верный» (1905–1906), командир миноносца «Заветный» (1906), флагманский интендант штаба командующего 1‑м отрядом минных судов Балтийского моря (1907–1908), командир эсминца «Донской казак» (1908–1909). Исполняющий должность (и. д.) начальника Морского музея имп. Петра Великого (12.11.1911–1917).
(обратно)6
«Голланка, голландка – рубаха из фланели или парусины. Носится военными моряками рядового и младшего начальствующего состава. Г. из фланели чаще называют фланелевой рубахой или же просто фланелевкой» (Самойлов К.И. Морской словарь. Т. 1. М. – Л, 1939. С. 254).
(обратно)7
Правильно – «Наварин».
(обратно)8
Кригер Александр Христианович (17.11.1848–24.04.1917), вице‑адмирал в отставке (01.08.1905). Окончил Морское училище (1868). Командовал императорской яхтой «Царевна» (1886–1888), крейсерами I ранга «Рында» (1892–1894), «Рюрик» (1894–1896). Являлся морским агентом в Германии (1888–1892), командующим учебным отрядом судов Морского кадетского корпуса (1897–1899), начальником Морской академии и директором Морского кадетского корпуса (1896–1901), командующим отрядом судов в Средиземном море (1901–1903), старшим флагманом (1904), начальником (1905) Практической эскадры Черного моря. Уволен в отставку в связи с «медлительностью и нерешительностью», проявленными, с точки зрения императора, при подавлении мятежа команды эскадренного броненосца «Князь Потемкин Таврический». Прошение о возращении на службу, поданное 12.4.1907, было отклонено императором.
(обратно)9
Анцов Николай Спиридонович (23.07.1856–?), генерал‑майор по Адмиралтейству в отставке (30.01.1906). Окончил Морское училище (1876), Артиллерийский офицерский класс (1881). После 12 лет службы в строю в 1888 г. перевелся на службу по Адмиралтейству в чине капитана. В чине подполковника по Адмиралтейству (17.04.1894) служил ротным командиром МК (с 03.06.1895). После отставки с женой содержал пансион по подготовке к поступлению в Морской корпус. В 1920–1922 гг. заведующий минным кабинетом, в 1923–1924 гг. – заведующий кабинетом мин заграждения и тралов Морской академии.
(обратно)10
Геращеневский Зиновий Николаевич (30.10.1858–?), полковник по Адмиралтейству в отставке (24.12.1907). Гардемарин (1881), произведен в офицеры (1882). Младший (с 18.10.1891), старший (03.06.1895–01.07.1902) отделенный начальник Морского корпуса (МК). Зачислен на службу по Адмиралтейству (20.09.1900) капитаном со старшинством с 01.01.1895. Помощник начальника (01.07.1902–1904), и. д. начальника (26.01.1904–1906), начальник (07.02.1906–1907) приморского торгового порта в г. Мариуполь.
О нем же вспоминал князь П.П. Ишеев:
«Надо ли говорить, что среди наших корпусных дежурных офицеров были личности достопримечательные. К одной из них принадлежал лейтенант Г‑кий, по прозвищу “Обалдуй”. Оно отлично подходило к нему, но кроме этого “Обалдуй” отличался еще большой грубостью и любил кричать своим громоподобным голосом. Над ним‑то Муся и решила подшутить.
В те далекие, невозвратимые времена, в объявлениях “Нового Времени” были длинные столбцы лиц, искавших работу. Особенно: кучера, лакеи и дворники. Им‑то, повторяю, по совету Муси, мы и написали груду открыток, вызывая их, в одно и то же время, на квартиру “Обалдуя”. Жил он в том же этаже, недалеко от Барыковых, и мы могли отлично наблюдать за происшедшим.
Представляете ли вы себе, что делалось в назначенный час у двери квартиры Г‑го? Десятки обманутых людей обрывали звонок, кричали, ругались, не стесняясь в выражениях, требовали вернуть им за проезд. “Обалдуй”, как говорится, рвал и метал.
На другой день, после этого события, Г‑кий, будучи дежурным и подозревая меня в этой проделке, говорил мне, между прочим: “Сознайтесь, что это сделали Вы, Ей‑Богу, я Вам ничего не сделаю”. Но на эту удочку я не поймался» (Ишеев П.П., князь. Муся. Из воспоминаний кадета Морского кадетского корпуса // Морской кадетский корпус. В воспоминаниях воспитанников / Сост. А.Ю. Емелин. СПб., 2003. С. 66).
(обратно)11
Гризар Иван Львович (1852–?), действительный статский советник (18.04.1910). Штатный преподаватель французского языка в Морском корпусе с 30.09.1894. В начале 1920‑х гг. по‑прежнему преподавал в Военно‑морском училище.
(обратно)12
По свидетельству В.А. Белли, прозвищем «Куропатка» гардемарины наградили А.Н. Михайлова, преподававшего у них дифференциальное и интегральное исчисление, аналитическую геометрию, затем – теорию корабля.
«Преподавал он хорошо, просто, доходчиво, задиктовывал важнейшие положения. Большой любитель музыки и сам музыкант, он был какой‑то странный с виду, застенчивый, неловкий. Прозвали его “Куропатка”. А.Н. Михайлов знал это прозвище и говаривал: “Называйте меня, как хотите, ну, львом, тигром, но только не этой мерзкой птицей!”. Я сохранил об А.Н. Михайлове самые лучшие, теплые воспоминания. Умер он в Ленинграде в преклонном возрасте в 1930‑х гг. Сколько я знаю, он был совершенно одинокий человек» (Белли В.А. В Российском Императорском флоте. Воспоминания. СПб., 2005. С. 70).
Михайлов Александр Николаевич (29.03.1866–?), полковник по Адмиралтейству за отличие (06.12.1910). Окончил Морское училище (1886), гидрографическое отделение Николаевской морской академии (1890). С 15.05.1895 – младший отделенный начальник Морского кадетского корпуса, с 28.04.1897 – его штатный преподаватель. В 1898 г. переведен из строевых офицеров в чины по Адмиралтейству. Воспитатель детей великого князя Константина Константиновича («К.Р.»).
(обратно)13
А вот как изобразил сцену на занятиях у А.Н. Михайлова талантливый писатель русского морского зарубежья А.В. Зернин, закончивший Морской корпус в 1911 г.:
«Тщедушный и немного кривобокий, он давно покинул строй для академии, целиком ушел в преподавательскую работу и лишь по штату носил погоны полковника по Адмиралтейству. Душою он был тих и безобиден. Но, узнав, что его зовут “Куропаткой”, он вдруг не на шутку огорчился и просил переменить прозвище, предпочитая “Льва” или “Тигра”. Но язык юношества меток и остер. На “Льва” или “Тигра” никак нельзя было согласиться. Чтобы сделать ему какую‑нибудь уступку, его стали звать просто “Птицей”. Но все это за глаза, конечно. Официально он оставался, как всегда, “господин полковник”.
Басицкий не успел собрать всех перьев. Одно из них, взлетев к потолку, зацепилось за абажур электрической лампы. Теперь оно соскользнуло и, плавно качаясь в воздухе, медленно спускалось преподавателю на стол. Взоры всего класса, прикованные к перу, описывали, следуя за ним, кривую ниспадавшей амплитуды, пока, наконец, перо не село на стол. “Птица” в этот момент делал обычные записи в журнале и ничего не видел. Тогда сидевший на передней парте дунул изо всех сил, чтобы угнать перо подальше, но оно, вспорхнув, село “Птице” на рукав. Частью испуганные, частью готовые прыснуть, гардемарины украдкой переглядывались между собой. В классе царила мертвая тишина. “Птица” кончил писать и поднял глаза.
– Прошу, господа, желающих к доске, в каком вам угодно порядке.
Взгляд полковника скользнул по рукаву. Заметив перо, он машинально смахнул его и, лишь несколько секунд спустя, точно с грустью задумался о чем‑то.
Гардемаринам стало вдруг не по себе. В юных сердцах, у всех единодушно, проскользнуло доброе чувство. Захотелось сделать полковнику что‑нибудь приятное, и все были наказаны тем, что ничего нельзя было сделать» (Зернин А.В. Гардемарины. СПб., 2012. С. 4–5).
(обратно)14
Шершов Александр Павлович (26.07.1874–07.05.1958), инженер‑вице‑адмирал (24.03.1944), профессор (1930). Окончил Техническое училище Морского ведомства (1895), кораблестроительный отдел Николаевской морской академии (1898). Служил в чертежной С.‑Петербургского порта (1899–1903), кораблестроительном отделении Морского технического комитета (1903–1910), Главном управлении кораблестроения (1911–1912), наблюдал за постройкой кораблей. Автор многих научных работ и известной книги «История военного кораблестроения с древнейших времен до наших дней» (1940).
(обратно)15
Белявский Капитон Васильевич (1833–03.12.1912), митрофорный протоиерей. Из семьи священнослужителя. После Смоленской духовной семинарии учился в С.‑Петербургской духовной академии, окончил в 1857 г. со степенью кандидата и в следующем году определен учителем в Александро‑Невское духовное училище. В 1860 г. возведен в степень магистра и в 1861 г. рукоположен в священники к церкви Св. Спиридона при СПб. Елизаветинском училище с назначением законоучителем в этом училище. В 1872 г. переведен к церкви Морского училища на должность священника и законоучителя, оставался в должности до 1906 г. С 1873 по 1884 гг. ежегодно бывал в плаваниях на учебных судах.
(обратно)16
Сухомель Вацлав Модестович (09.02.1864–01.1942), флота генерал‑майор за отличие (14.04.1913). Окончил Морское училище (1883), механический отдел Николаевской морской академии (1886). Штатный преподаватель Морского кадетского корпуса с 30.09.1896 по 1918 г. В 1918–1920 гг. – начальник Управления морских учебных заведений. Умер в Ленинграде во время блокады, похоронен на Смоленском кл.
(обратно)17
Безпятов Михаил Михайлович (30.07.1863–?), флота генерал‑майор за отличие (14.04.1913). Окончил Морское училище (1883), гидрографическое отделение Николаевской морской академии (1900). Младший (с 26.10.1891), старший (16.08.1896–01.07.1904) отделенный начальник Морского кадетского корпуса. Начальник Архангельского торгового морского училища (1904–1909). Штатный преподаватель астрономии в Корпусе (03.08.1909–1918), затем – на Курсах командного состава и в Училище командного состава флота (1918–1921); в Военно‑морском училище – помощник начальника учебной части (с 1921), помощник начальника учебного отдела (1923–1925), штатный преподаватель (с 1925).
Б… фигурирует в целом ряде мемуаров. Одно из первых о нем упоминаний принадлежит перу гардемарина П.А. Вырубова, писавшего отцу 3 июня 1898 г. с учебного судна «Верный»: «Состав офицеров прекрасный. Корпусным офицером с нами пошел фанатик астрономии Михаил Михайлович Б‑ов; он нас порядочно изводит своей астрономией; впрочем, во всем остальном он милейший человек» (Вырубов П.А. Десять лет из жизни русского моряка, погибшего в Цусимском бою (В письмах к отцу). 1895–1905. Киев, 1910. С. 20).
(обратно)18
Вагнер Петр Николаевич (10.05.1862–1932), генерал‑майор по Адмиралтейству за отличие (06.12.1913), переведен во флот (03.02.1914). Сын известного профессора и писателя Н.П. Вагнера (1829–1907). Окончил Морское училище (1883), гидрографический отдел Николаевской морской академии (1890), Императорскую Академию художеств (1899). Младший (с 08.10.1890), старший (с 24.03.1903) отделенный начальник, штатный преподаватель (с 19.04.1904) Морского кадетского корпуса. Начальник Курсов гардемарин флота (1916–1917). Заведующий (1918–1920), начальник (1920–1923) Класса гидрографов, начальник Военно‑морского гидрографического училища (1923). Художник, ученик А.И. Куинджи.
(обратно)19
Давыдов Василий Алексеевич (05.03.1842–05.03.1905), генерал‑лейтенант по Адмиралтейству в отставке (10.03.1903). Окончил Морское училище (1860), в котором затем служил с 1871 г.: младшим отделенным начальником (1871–1873), старшим отделенным начальником (1873–1875), ротным командиром (с 03.05.1875), заведующим строевой и хозяйственной частями (с 27.09.1891 до отставки), а с 25.02.1902 и до прихода Г.П. Чухнина исполнял обязанности директора.
(обратно)20
Согласно записи в аттестационной тетради, кадет Гаральд Граф болел не тифом, а гриппом (заболел 30.11.1898, выписан 02.01.1899, уволен домой для поправки) (РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 2. Д. 545)
(обратно)21
Сергей Телегин заболел тифом 1 декабря, скончался 8 декабря 1898 г. (РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 1. Д. 6808. Л. 2).
(обратно)22
Вилькен Виктор Викторович (05.05.1883–24.10.1956), капитан 1‑го ранга. Окончил Морской кадетский корпус (1904). Участвовал в Цусимском сражении на миноносце «Грозный». Командовал подводными лодками «Макрель» (1909–1910), «Налим» (1910–1913), старший флаг‑офицер штаба начальника Бригады подводных лодок Балтийского моря (1914), старший флаг‑офицер штаба начальника Бригады подводных лодок Черного моря (1915), командир подводной лодки «Судак» (1915), и. д. начальника 3‑го дивизиона подводных лодок Черного моря (с 18.05.1915). В годы Гражданской войны – на стороне белых; в июне 1920 г. – начальник распорядительной части штаба командующего Черноморским флотом, затем командир Минного заградителя «Буг», с 22.10.1920 – начальник 3‑го отряда кораблей Черноморского флота, с 22.11.1920 – командир ледокола «Гайдамак», ушел с эскадрой в Бизерту. В эмиграции во Франции (в 1933–1934 гг. в Тулоне), затем в Германии (Веймар). Умер в Фритцларе.
(обратно)23
Сукман Владимир, кадет 3‑й роты Морского корпуса. Повесился 26.02.1900; предполагаемая причина – безответная любовь к сестре одного из кадетов.
Спустя год, 19.03.1901, точно так же на полотенце повесился в карцере кадет 3‑й роты Михаил Шефнер (РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 1. Д. 7020. Л. 1).
(обратно)24
Черняк Яков, кадет 1‑й роты Морского кадетского корпуса. В Корпусе с 1897 г. Находясь в отпуске у матери, около 14 ч. 15.10.1900 «выстрелом из собственной берданки лишил себя жизни». Причинами, подтолкнувшими его к такому шагу, стали недавняя смерть отца, «дурная болезнь», а также неуспеваемость, отчасти вызванная долгим нахождением в лазарете (РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 1. Д. 6863).
(обратно)25
«Моряк» никогда не был клипером, это учебное судно специальной постройки.
(обратно)26
Китаев Сергей Николаевич (10.06.1864–1927), генерал‑майор по Адмиралтейству в отставке (15.04.1912). Окончил Морское училище (1884), фамилия занесена золотыми буквами на мраморную доску. Участвовал в заграничном плавании на фрегате «Владимир Мономах» (1884–1886), клипере «Вестник» (1886–1887), на «Мономахе» вернулся в Россию (1887). В Кронштадтском порту заведовал катерами начальствующих лиц (1888, 1889, 1891). В заграничном плавании на крейсере I ранга «Адмирал Корнилов» (1892–1896). Прикомандирован к Морскому кадетскому корпусу (07.03.1898); младший (с 15.08.1898), старший (с 22.07.1902) отделенный начальник, затем – смотритель по хозяйственной части Корпуса (18.12.1906–1911). В дальних плаваниях «заболел» японским искусством, в первую очередь гравюрами, из которых собрал замечательную коллекцию. В эмиграции жил и умер в Японии.
(обратно)27
Арнаутов Константин Петрович (11.09.1854–?), контр‑адмирал в отставке (29.05.1906). Окончил Морские юнкерские классы в Николаеве (1875). Старший офицер крейсера II ранга «Забияка» (1892–1893), командир канонерской лодки береговой обороны «Туча» (1894–1895), парохода «Днепр» (1895–1897), минным крейсером «Воевода» (1897–1899), учебными судами «Моряк» (1899–1901), «Верный» (1901), крейсерами I ранга «Генерал‑адмирал» (1901–1902), «Россия» (1902–1904), «Адмирал Корнилов» (1904–1905). Командир 6‑го флотского экипажа (1904–1906).
(обратно)28
Макаров Степан Осипович (27.12.1848–31.03.1904), вице‑адмирал (20.08.1896). Окончил Мореходное училище в Николаевске‑на‑Амуре (1858–1865). Герой Русско‑турецкой войны 1877–1878 гг. (командир парохода «Великий князь Константин» (13.12.1876–1879)), участник Ахал‑Текинской экспедиции (1880–1881). Флигель‑адъютант (17.01.1878). Начальник 2‑го отряда миноносок (01.12.1879–1880). Командовал пароходом «Тамань» (1881–1882), фрегатом «Князь Пожарский» (с 18.03.1885), корветом «Витязь» (17.09.1886–1889), на котором совершил кругосветное плавание. И. д. главного инспектора морской артиллерии (08.10.1891–1894). Младший флагман Практической эскадры Балтийского моря (с 14.02.1894). Командующий эскадрой в Средиземном море (с 07.11.1894), при угрозе войны с Японией (1895) перевел корабли на Дальний Восток. Командующий Практической эскадрой Балтийского моря (1896, 1898), старший флагман 1‑й флотской дивизии (1896–1899). Главный командир Кронштадтского порта, военный губернатор Кронштадта (06.12.1899–09.02.1904). Командующий флотом Тихого океана (назначен 09.02, вступил в должность 24.02.1904). Погиб при взрыве ЭБР «Петропавловск», исключен из списков 05.04.1904.
(обратно)29
Дом императора в Лангинкоски ныне является музеем.
(обратно)30
Фигнер Николай Николаевич (09.02.1857–13.12.1918), выпускник Морского училища (1878), лейтенант в отставке, известный тенор, солист Мариинского театра.
(обратно)31
Яковлев Леонид Георгиевич (31.03.1858–02.06.1919), выпускник Николаевского кавалерийского училища. Русский певец (лирико‑драматический баритон), в 1887–1906 гг. – солист Мариинского театра.
(обратно)32
В этом плавании на «Князе Пожарском» не было судового артиллерийского офицера, но на нем находился флагманский артиллерист Отряда судов Морского кадетского корпуса подполковник Корпуса морской артиллерии М.И. Каликанов.
Каликанов Михаил Николаевич (23.10.1845–20.11.1903), подполковник Корпуса морской артиллерии (13.04.1897). Старший артиллерийский офицер башенной лодки «Смерч» (1877–1878), клипера «Разбойник» (1879–1880, в заграничном плавании), клипера «Жемчуг» (1881–1882, в заграничном плавании), фрегата «Минин» (1889). Флагманский артиллерийский офицер штаба командующего Отрядом судов Морского кадетского корпуса (1897–1903). Погребен в г. Кронштадт на Военном кладбище; могила не сохранилась.
(обратно)33
Титулярные советники В.Ф. Будрин и А.Ф. Елизаров.
Будрин Василий Федорович. Службу начал матросом в 1869 г., титулярный советник (21.03.1897). Содержатель по шкиперской части. Выслужился в капитаны по Адмиралтейству, уволен в отставку с мундиром и пенсией (23.12.1913).
Елизаров Алексей Федорович. Службу начал матросом в 1856 г., сдал экзамен на первый классный чин; титулярный советник (01.04.1884). Служил артиллерийским содержателем, в частности 11‑го флотского (на 1902 и 1904 г.), 4‑го флотского (на 1908 г.), 1‑го Балтийского флотского (на 1910, 1912 гг.) экипажей.
(обратно)34
Рыба Георгий Евдокимович. Последняя должность – старший береговой боцман Свеаборгского флотского полуэкипажа; награжден чином поручика по Адмиралтейству с увольнением от службы (31.08.1917).
(обратно)35
Вот еще одно описание знаменитого боцмана:
«На нашем корабле был известный всему Балтийскому флоту боцман. И фамилия его – Рыба, как нельзя более соответствовала его специальности. Это был человек замечательный во всех отношениях. Во дни своей молодости он поступил волонтером во флот, попал сразу же на “Пожарский”, на котором и провел всю жизнь, закончив свою службу старшим боцманом. Авторитет его среди команды был безграничен. После командира и “cтаршóго”, он был первым человеком на корабле. Для внешнего поддержания своего авторитета, он никогда не расставался с “линьком” (короткий конец, которым боцман подгонял отставших или зазевавшихся во время работы). С тем самым “линьком”, который когда‑то являлся, вместе с “кошкой”, официальным орудием наказания, а позже сохранился просто как пережиток славной морской традиции.
Горе было тому, кто “не потрафит” боцману Рыбе. Он мало разбирался в тонкостях сословного происхождения или же, по крайней мере, делал вид, что этот вопрос ему совершенно чужд, ибо линек его зачастую слегка прогуливался не только по спинам молодых матросов, но и по некоторым частям тела наших братьев‑кадет. Но, конечно, никому и никогда и в голову не приходило жаловаться, сердиться или обижаться. Для всех нас боцман Рыба был олицетворением и воплощением старого морского волка, то есть защитником славных традиций, и мы его не только искренне любили, но и глубоко уважали. От него узнали мы такую массу всяких мелочей из морской практики, не входящих ни в какие учебники, а выработанных реальными потребностями самой жизни, что все, кто плавал с ним, и по сию пору сохраняют к нему теплое чувство признательности.
Единственная слабость, которой страдал наш старый боцман, – это была большая любовь “заливать”, и прямо и в кавычках, то есть в смысле водочки и в смысле совершенно фантастического красноречия. И вот, когда после ужина команда и кадеты собирались на баке, вся молодежь устраивалась поближе к боцману, чтобы послушать его необыкновенные рассказы. Он любил и умел рассказывать. В своих описаниях он никогда не повторялся, хотя бы это была история давно всем известная, сотни раз уже рассказанная. Всякий раз он находил новые варианты, новые краски, причем его богатая фантазия настолько переплелась с правдой, что невозможно было угадать, – где кончалась действительность и где начиналась фантазия.
Так и на этот раз, сидя на бухте свернутого троса и набивая свою носогрейку из кисета, подставленного ему услужливым матросом, Рыба вопросительно оглядывал окружающих, как бы спрашивая: “О чем же вам рассказать сегодня?”» (Скрябин В.В. «Князь Пожарский» (из рукописи «Двенадцать кораблей») // Военная быль. 1968. № 94. С. 25).
(обратно)36
Румянцев Михаил Иванович (01.09.1847–05.03.1903), действительный статский советник в отставке (03.03.1903). Окончил Инженерное и артиллерийское училище Морского ведомства (1867). Старший механик шхуны «Тунгуз» в заграничном и внутреннем плаваниях (1870–1872), участник Русско‑турецкой войны 1877–1878 гг. (на катерах на Дунае), старший механик корветов «Варяг» (1879), «Богатырь» (1880–1885), клипера «Опричник» (1886, 1888–1889), эскадренного броненосца «Гангут» (1892–1894), броненосца береговой обороны «Латник» (1895), крейсера I ранга «Князь Пожарский» (1897–1901). Вышел в отставку по болезни и умер в Кронштадте.
(обратно)37
Иеромонах о. Иаков.
(обратно)38
Иванов Петр Васильевич (14.06.1857–?), контр‑адмирал в отставке (19.06.1912). Окончил Морское училище (1879). Старший офицер учебного судна «Воин» (1897–1899), крейсера I ранга «Князь Пожарский» (1899–1902). Командир миноносцев «Пылкий» (1902), «Бодрый» (1902–1905). Заведующий 3‑м дивизионом в резервной дивизии миноносцев Балтийского моря (1908–1909), начальник 11‑го резервного дивизиона миноносцев (1909–1910). Старший помощник капитана над Кронштадтским портом (1910–1912).
(обратно)39
Купреянов Александр Андреевич (11.07.1853– не ранее 1917), генерал‑лейтенант по Адмиралтейству в отставке (31.08.1910). Окончил Морское училище (1874). Старший офицер монитора «Перун» (1891–1892), броненосца береговой обороны «Первенец» (1892–1895). Заведующий обучением офицеров и гальванеров Учебно‑артиллерийской команды (1893–1896). Командир канонерской лодки береговой обороны «Туча» (1895–1896), мореходной канонерской лодки «Отважный» (1896–1898), эскадренного броненосца «Император Николай I» (1899–1901), крейсеров I ранга «Князь Пожарский» (1901–1902), «Дмитрий Донской» (1902), «Владимир Мономах» (1902–1903). Командир 17‑го (1901), 11‑го (1901–1902), 15‑го (1902–1906) флотских экипажей. Старший помощник капитана над Кронштадтским портом (1906–1910).
(обратно)40
Инспектор классов Морского корпуса полковник по Адмиралтейству А.М. Бригер в 1907 г. составил очень интересную аттестацию на П.Н. Вагнера:
«Характерной чертой аттестуемого, как преподавателя Корпуса, есть ясность и толковость преподавания, хотя и не при большом объеме знаний. В сущности истинное призвание его есть искусство, так как аттестуемый весьма незаурядный художник. Следуя своему призванию он кончил курс Академии художеств, а стремясь к развитию умственного кругозора кончил еще в молодости курс Николаевской морской академии. Так как искусство и точные математические науки можно сравнить с прямо противоположными силами, действию которых подвергся интеллект аттестуемого, то нет ничего удивительного, что он направлен в сторону более могущественной силы, т. е. в сторону искусства. В среде художников Петр Николаевич Вагнер занимает вполне почетное место, чего не достигает он в равной степени среди преподавателей Морского корпуса.
Несмотря на это, благодаря требовательности и ясности изложения, ученики подполковника Вагнера выгодно отличаются точностью и прочностью своих познаний. Некоторая схематичность его преподавания и составленного им курса навигации, единственного в данное время, вызывают нарекания; но так как до сих пор в русской военно‑морской литературе не имеется по этому предмету ничего лучшего, то с ним мирятся.
Как бы то ни было, умение держать классную дисциплину на надлежащей высоте, умение внушить своим ученикам твердые и отчетливые знания, делают подполковника Вагнера вполне пригодным для службы в Морском корпусе.
Особые выдающиеся случаи за время службы: За время своей службы в Корпусе подполковник Вагнер составил литографированный курс навигации. Этот курс достаточно продуман и вполне удовлетворительно развит в теоретическом отношении; но в практическом смысле он не вполне соответствует современным требованиям штурманского дела, вследствие чего он не повторится изданием и будет лишь в обращении до появления нового руководства, каковое не замедлит явиться, так как Главным гидрографическим управлением уже объявлен конкурс на составление нового руководства по этому предмету. Тем не менее, курс подполковника Вагнера долгое время был единственным и сослужил службу Морскому корпусу, в чем и заключается значительная заслуга самого автора перед Морским корпусом» (РГАВМФ. Ф. 873. Оп. 3. Д. 7).
(обратно)41
Доможиров Александр Михайлович (21.07.1850–25.02.1902), контр‑адмирал за отличие (06.12.1901, со старшинством с 01.04.1901). Окончил Морское училище (1870), после чего гардемарином участвовал в кругосветном плавании на клипере «Изумруд» (до 1874). Окончил гидрографический отдел Николаевской морской академии (1876). Служил на клипере «Джигит» (1877–1883), наблюдал за постройкой миноносца «Геленджик» (Тулон, 1882–1883). Морской агент в Германии (1884–1888). Старший офицер крейсера «Адмирал Нахимов» (1889–1890), командир крейсера II ранга «Забияка» (1892–1894). В Главном морском штабе: старший делопроизводитель (1891–1892; 1894), начальник военно‑морского ученого отдела (1894–1896). Командир крейсера I ранга «Россия» (1896–1900). Участвовал в подавлении восстания ихэтуаней в Китае (1900–1901), награжден золотым оружием. Начальник Николаевской морской академии и директор Морского кадетского корпуса (01.04.1901–25.02.1902), командующий Учебным отрядом корпуса (1901). Скончался в С.‑Петербурге.
(обратно)42
Память подвела мемуариста. А.М. Доможиров был назначен директором Корпуса весной 1901 г., и командовал Учебным отрядом корпуса летом того же, 1901 г., когда Г.К. Граф плавал на крейсере «Князь Пожарский». Летом же 1902 г., о котором пишет автор, отрядом командовал контр‑адмирал А.М. Абаза.
(обратно)43
Воеводский Степан Аркадьевич (22.03.1859–18.08.1937), адмирал (06.12.1913). Сын адмирала А.В. Воеводского (1813–1879). Окончил Морское училище (1878), кораблестроительное отделение (1884) и курс военно‑морских наук (1903) Николаевской морской академии. Командир мореходной канонерской лодки «Храбрый» (1899–1901), учебного судна «Верный» (1901–1903), крейсера «Герцог Эдинбургский» (1904–1906). Начальник Николаевской морской академии, директор Морского корпуса (1906–1908), товарищ морского министра (1908–1909), морской министр (08.01.1909–18.03.1911). Член Государственного совета (с 18.03.1911). Уволен от службы (21.10.1917). Умер в Виши, погребен в Ницце.
(обратно)44
Заборовский Алексей Андреевич (27.02.1862– не ранее 1931), генерал‑майор флота за отличие (10.04.1916), в отставке (09.07.1917). Окончил Морское училище (1882). Старший офицер учебного судна «Верный» (1899–1904), командир транспорта «Красная горка» (1904–1906), учебных судов «Верный» (1906), «Океан» (1906–1907). Преподаватель в классе судовых содержателей (1907–1909), заведующий обучением гимнастике в Кронштадте (1909–1911), командир Архангельского дисциплинарного полуэкипажа (1914). Умер в эмиграции.
(обратно)45
Чухнин Григорий Павлович (23.01.1848–29.06.1906), вице‑адмирал (06.04.1903). Окончил МК (1865). Старший офицер крейсера «Азия» (1878–1879), корвета «Аскольд» (1879–1882), клипера «Гайдамак» (1882), фрегата «Генерал‑Адмирал» (1882–1886). Командир канонерской лодки «Манджур» (1886–1890), броненосца береговой обороны «Не тронь меня» (1892), крейсера I ранга «Память Азова» (1892–1896). Младший флагман эскадры Тихого океана (1896, 1901–1902), командир Владивостокского порта (1896–1901). Начальник Николаевской морской академии и директор Морского кадетского корпуса (01.07.1902–26.04.1904). Главный командир Черноморского флота и портов Черного моря (с 26.04.1904). За энергичные действия по подавлению революционного движения ранен эсеркой Е. Измайловой (27.01.1906), смертельно ранен 28.06.1906 матросом «Я. Акимовым» на даче «Голландия».
(обратно)46
Вероятно, речь идет о лейтенанте Н.И. Берлинском, который в кампанию 1902 г. находился на описной барже № 1.
Берлинский Николай Иванович (24.05.1873–?), капитан 1‑го ранга «за отличную ревностную службу и особые труды, вызванные обстоятельствами войны» (22.03.1915, старшинство в чине с 01.01.1915). Окончил Морской кадетский корпус (1893), Водолазную школу (1899). В заграничном плавании на крейсере «Вестник» (1896–1898). В Морском корпусе – младший (с 01.09.1901), старший (с 18.12.1906) отделенный начальник, ротный командир (04.04.1911–1918). В период службы в МК имел прозвище «Ветчина» («Ветчина с горошком»). Начальник водолазной части и партии (1919–1921), начальник школы рулевых и сигнальщиков Балтийского флота (БФ) (1922), с 1923 – преподаватель Морского политического училища им. тов. Рошаля.
(обратно)47
Нельсон‑Гирст Павел Фомич (06.12.1851–15.03.1908), генерал‑майор по Адмиралтейству за отличие (02.04.1906). Окончил Морское училище (1872). Адъютант штаба главного командира портов Восточного океана (1881–1888). Старший офицер броненосного корабля «Екатерина II» (1890–1892). Командир пароходов «Колхида» (1892–1893), «Эриклик» (1893–1894), минного крейсера «Гридень» (1895–1896). Старший помощник командира Владивостокского порта (1896–1900). Командир крейсера I ранга «Адмирал Корнилов» (1900–1904), 6‑го (1902–1904), 2‑го (1904–1905) флотских экипажей. Старший помощник капитана над Кронштадтским портом (1905–1908). Скончался от разрыва сердца в Кронштадте.
(обратно)48
Клюпфель Евгений Владиславович (31.01.1860–16.03.1934), контр‑адмирал за отличие (06.12.1913), в отставке (06.10.1917). Получил домашнее образование. Определен на службу юнкером флота с зачислением в Гвардейский экипаж, допущен к экзамену в Морском училище для получения прав вольноопределяющихся 2‑го разряда (03.05.1878). Юнкером плавал на фрегате «Светлана» (1878, 1879), затем держал экзамен при Морском училище, после чего произведен в гардемарины (05.12.1881). Служил на Балтике, с 1883 г. – на Черном море, с 1890 г. – вновь на Балтике. В плавании на Тихом океане на крейсерах «Дмитрий Донской» (1891–1892) и «Забияка» (1892–1894). Окончил Артиллерийский офицерский класс (1895). В плавании на Тихом океане на крейсерах «Дмитрий Донской» (1897–1899) и «Владимир Мономах» (1899–1900), участвовал в подавлении восстания ихэтуаней в Китае. Старший офицер канонерских лодок «Кореец» (1900), «Манджур» (1900–1901), крейсера I ранга «Адмирал Корнилов» (1901–1903). В период обороны Порт‑Артура: миноносца «Сердитый» (16.02–26.04.1904), затем занимался установкой судовых орудий на берегу, заведовал морскими батареями и их командами на сухопутном фронте. На Черном море – командир минного транспорта «Дунай» (1906–1908), линейного корабля «Евстафий» (1909–1911), после аварии у Констанцы снят с должности. И.д. директора маяков и лоции Каспийского моря, командир Бакинского порта (1913–1917). Умер в Сан‑Франциско.
(обратно)49
Об отношении к работе с парусами красноречиво говорит сцена, имевшая место на крейсере «Князь Пожарский» в 1905 г. и воспроизведенная в мемуарах В.В. Скрябина:
«Кто из нас, мальчиков, особенно в морских семьях, не увлекался морскими рассказами К.М. Станюковича, в которых он описывает самую интересную эпоху парусного флота и перехода его на паровой? Название одной из его повестей “Грозный Адмирал” стало именем нарицательным, и в описываемую мною эпоху (1905 год) таковым был общепризнан тогдашний морской министр вице‑адмирал А.А. Бирилев. Его боялись, как огня, он никому не давал пощады и драил за каждую мелочь. Он никогда не предупреждал о своих смотрах, появлялся, как метеор, в самые неожиданные моменты, разносил всех в пух и прах, и также быстро исчезал с горизонта.
Как‑то раз наш Отряд в составе четырех кораблей: “Князь Пожарский”, “Верный”, “Воин” и “Моряк”, стоял в Биоркэ, на северном берегу Финского залива. В один из прекрасных, лучше для нас сказать «непрекрасных» дней, вахтенный сигнальщик истошным голосом завопил с мостика: “С моря идет яхта «Нева» под флагом Морского министра!!!”
Что тут поднялось, Боже ты мой! Не то паника, не то переполох, не то поголовное умопомешательство, – трудно определить… В течение нескольких минут все носились, как оголтелые, пока грозный окрик “Старшóго”, с упоминанием некоторых непечатных морских терминов, не привел всех в нормальное состояние.
– Обе вахты, караул и музыканты наверх!
После обмена салютами министерская яхта стала на якорь и тотчас же к ее правому трапу на вельботе подошел наш адмирал. На “Неве” взвился сигнал с нашими позывными “Ожидать прибытия Морского министра”. У нас уже все было готово к “высокому” приему». Через десять минут вернулся наш адмирал и едва успел он подняться на шканцы, как к трапу уже подходил катер с адмиралом Бирилевым.
После положенных рапортов, адмирал Бирилев сначала обошел офицеров корабля, которых командир по очереди представлял ему, называя должность, чин и фамилию. Обойдя команду и поздоровавшись с обеими вахтами, министр приказал: “Корабль к осмотру!”
Через пять минут все были на своих местах. Сопровождаемый командиром, старшим офицером и боцманом, Бирилев излазил буквально все щели и закоулки и произвел настоящий экзамен всем заведующим отсеками. И вот, как бывает часто, излишняя нервность и торопливость могут только испортить дело. Так случилось и на этот раз.
При постановке парусов в присутствии министра излишняя поспешность в выборе марсафала, который был нечист, привела к задержке всего маневра чуть ли не на полминуты, что значительно снизило общую оценку в смысле скорости, которая и служит главной приметой хорошей подготовки строевого состава.
Но это еще не все. Мало ли чего не бывает? Как говорили у нас на флоте, – “неизбежная в море случайность”… Но Бирилев решил “проверить дальше” и приказал произвести “смену марселей”.
По той же причине поспешности из кладовой вместо нового марселя был вытащен очень старый и ветхий парус. Словом, когда команда и кадеты дружно нажали при подъеме грот‑марселя, он возьми да и лопни чуть ли не во всю длину, да еще с особым каким‑то “смачным” треском…
Словом опозорился корабль вовсю. В прощальном слове, адресованном нам, кадетам, адмирал Бирилев сказал:
– В старое доброе время в Черноморском флоте был адмирал Павел Степанович Нахимов и был там и художник Айвазовский. Как‑то художник этот обратился к адмиралу и сказал ему: “Павел Степанович, я хочу нарисовать постановку парусов на вашем корабле”. На это адмирал ему ответил: “Это невозможно”. – “Почему?” – “Да потому, что постановка парусов длится 3 мин 20 секунд”. Я повторяю – три минуты двадцать секунд… А вы? Вы потратили сегодня на постановку парусов целых ПЯТЬ минут. Так для этого не надо быть Айвазовским, ибо за это время всякий маляр успеет изобразить все, что угодно… А вы? Вы – не морские кадеты, а институтки…» (Скрябин В.В. «Князь Пожарский» (из рукописи «Двенадцать кораблей») // Военная быль. 1968. № 94. С. 26–27).
(обратно)50
Мешков Сергей Владимирович (см. Примечание 1).
(обратно)51
Вильгельмс Альфред Карлович (07.12.1854–25.06.1916), контр‑адмирал в отставке (24.04.1906). Из потомственных дворян г. Або. Окончил Морское училище (1874), Минный офицерский класс (1888), курс военно‑морских наук Николаевской морской академии (1897). Участвовал во многих заграничных плаваниях, неоднократно нес службу на Дальнем Востоке. Командовал шхуной «Зоркая» (1888–1890), канонерской лодкой «Гроза» (1891–1892), был старшим офицером крейсера II ранга «Вестник» (1892) и крейсера I ранга «Владимир Мономах» (1893–1895), затем – командиром крейсера II ранга «Опричник» (1895–1897), мореходной канонерской лодки «Гиляк» (1897–1898), броненосца береговой обороны «Вещун» (1898–1899), парохода «Геок‑Тепе» (1899–1901, на Каспии), броненосца береговой обороны «Кремль» (1902–1903). С 08.09.1903 г. и до выхода в отставку – командир Ревельского полуэкипажа. В период Первой мировой войны плавал на Черном море комендантом госпитального судна «Вперед», погиб с кораблем при потоплении его германской подводной лодкой «U‑38» (в 32 милях от Батума) ранним утром 25 июня 1916 г.
(обратно)52
Вильгельмс Павел Альфредович (01.03.1882–06.08.1904), мичман (06.05.1901). Окончил Морской кадетский корпус (1901) и Артиллерийский офицерский класс (1903). Служил на Балтике на броненосце береговой обороны «Адмирал Лазарев», миноносце № 101 (1901), броненосце береговой обороны «Адмирал Ушаков» (1903). Осенью 1903 г. был направлен на Тихий океан, где был старшим штурманским офицером минного транспорта «Енисей» (1903), вахтенным начальником эскадренного броненосца «Ретвизан» (в том числе в боях с японской эскадрой 27.01 и 28.07.1904). Погиб при отражении штурма Порт‑Артура на батарее Большое Орлиное гнездо.
(обратно)53
Вульф Павел Николаевич (16.01.1843–10.07.1909), вице‑адмирал в отставке (16.10.1906). Окончил Морское училище (1862). Участвовал во многих дальних плаваниях. Командир парохода «Родимый» (1878), шхун «Абин» (1883–1884), «Келасуры» (1884–1885), монитора «Тифон» (1885–1886), клипера «Разбойник» (1886–1894), 18‑го флотского экипажа и крейсера I ранга «Рюрик» (1891–1894), крейсера I ранга «Адмирал Корнилов» (1894–1895). Директор маяков и лоции Балтийского моря, он же командир Ревельского порта (назначен 04.01.1899 и до отставки). Являлся председателем комитета по сооружению памятника морякам, погибшим на броненосце «Русалка». Умер в Севастополе.
(обратно)54
Петров Владимир Иванович (08.07.1864–?), генерал‑майор Корпуса морской артиллерии (06.12.1912). Окончил Техническое училище морского ведомства (1883), Михайловскую артиллерийскую академию (1897). Старший артиллерийский офицер корвета «Боярин» (1889–1890), броненосца береговой обороны «Адмирал Лазарев» (1897), эскадренного броненосца «Ретвизан» (1901–1902). Флагманский артиллерийский офицер штаба начальника Учебно‑артиллерийского отряда (1903, 1904), помощник заведующего (с 20.01.1903), заведующий (09.08.1904–1912) обучением артиллерийских квартирмейстеров и комендоров в Учебно‑артиллерийском отряде Балтийского флота, одновременно – преподаватель в Артиллерийском офицерском классе (30.09.1903–16.10.1906). Главный артиллерист Кронштадтского порта (20.09.1912). И. д. помощника начальника Обуховского сталелитейного завода (26.11.1912), утвержден в должности (06.12.1912). Помощник начальника Обуховского сталелитейного завода по технической части (16.03.1915–25.01.1916).
Во время восстания на крейсере «Память Азова» отсутствовал на борту, но одним из первых прибыл на борт после подавления мятежа: «Одним из первых с берега прибыл полковник Корпуса морской артиллерии Владимир Иванович Петров. Он был заведующим обучением на судах отряда и случайно отсутствовал на корабле по службе в ночь восстания. Петров вбежал по трапу и горячо обнял меня. Владимир Иванович всегда благоволил ко мне и часто со мной беседовал. Я его обожал и всегда к нему прислушивался. Он был искренне рад видеть меня живым. Этот чудный человек, великан, похожий на Петра Великого, был точно сконфужен, что не был с нами ночью. “Я приехал помочь, распоряжайтесь мною”, – сказал он мне. Я, конечно, сразу же стал спрашивать его советы и указания» (Крыжановский Н.Н. Бунт на «Памяти Азова» // В кн.: Мельников Р.М. Полуброненосный фрегат «Память Азова». СПб., 2003. С. 101).
(обратно)55
Вульф Леонида Ивановна, ур. Урсати, дочь умершего коллежского секретаря.
(обратно)56
Вульф Владимир Павлович (23.10.1880–31.03.1904), лейтенант (06.12.1903). Окончил Морской кадетский корпус (1899). Служил на эскадренном броненосце «Полтава», на котором в 1900 г. перешел на Дальний Восток. Старший штурманский офицер «Полтавы» (1901–1903), затем однотипного «Севастополя» (1903). По отбытии трехлетнего срока службы на Дальнем Востоке переведен к отцу в Ревельский флотский полуэкипаж, но с началом войны добился отправки в Порт‑Артур (отбыл 04.02, прибыл 27.02.1904); погиб в Порт‑Артуре на эскадренном броненосце «Петропавловск».
(обратно)57
В переиздании книги Г.К. Графа (СПб., 1997) ошибочно указано, что «мичман Х.» – Владимир Иосифович Храбро‑Василевский. Между тем последний в Ревельском флотском полуэкипаже не служил и уж тем более 2‑й ротой, как о том пишет Г.К. Граф, в нем не командовал. На деле мемуарист писал о совсем другом человеке:
Хижинский Павел Николаевич (15.03.1880–?.10.1938), лейтенант (02.04.1906). В Морском кадетском корпусе обучался восемь лет вместо обычных шести; по окончании Корпуса (1902) был зачислен в Ревельский флотский полуэкипаж, в котором командовал 3‑й ротой (12.04–14.10.1903), а затем 2‑й ротой (23.01–22.05.1904). Переведен в 6‑й флотский экипаж (08.06.1904), на крейсере «Кубань» участвовал в походе 2‑й эскадры флота Тихого океана (30.09.1904–03.08.1905). Переведен в Черноморский флот (05.02.1907), а вскоре уволен в запас с зачислением по Петроградскому уезду (23.09.1908). С началом Первой мировой войны определен в службу лейтенантом (приказ от 29.09.1914, с 28.07.1914). Служил на Балтике на пароходе «Боре I», транспорте «Азия». В апреле 1916 г. отправлен в находившийся на фронте Морской полк особого назначения, где временно командовал 3‑й группой катеров; при развертывании полка в бригаду назначен командиром роты гребных судов (14.05.1916), затем – командиром 8‑й группы катеров (30.09.1916). Выбыл в распоряжение Главного морского штаба (26.12.1916), вскоре был «задвинут» на Амурскую речную флотилию. К 1938 г. проживал в г. Кокчетав Акмолинской (Целиноградской) области, где 30.04.1938 г. был арестован и 12.10.1938 г. Тройкой УНКВД Северо‑Казахстанской области приговорен к высшей мере наказания. Реабилитирован 30.01.1990 г.
(обратно)58
Григорьев Алексей Григорьевич (17.03.1861–?), контр‑адмирал в отставке (15.03.1917). Окончил Морское училище (1881). Старший офицер крейсера II ранга «Вестник» (1899–1901), командир транспортов «Артельщик» (1902–1906), «Бакан» (1906–1909), учебного судна «Океан» (1909–1913), транспортов «Анадырь» (1913–1914), «Русь» (1915–1917). В период Гражданской войны состоял в Вооруженных силах Юга России и в Русской армии, с конца 1920 г. проживал в Югославии, умер не ранее 1937 г.
(обратно)59
Хаджи‑Паниотов Илья Давыдович (03.07.1879–?), капитан по Адмиралтейству за отличие (06.12.1914). Получив образование штурмана дальнего плавания, был зачислен в запас флота, причем сдал экзамен и был произведен в прапорщики по морской части с оставлением в запасе (31.03.1903). В начале Русско‑японской войны призван на службу (12.04.1904) и зачислен в Ревельский флотский полуэкипаж. Остался на флоте, по экзаменам был произведен в подпоручики (02.05.1904) и поручики по Адмиралтейству (15.05.1906). Переведен в Черноморский флот (08.02.1910), где в начале Первой мировой войны заведовал щитовым делом во 2‑й бригаде линейных кораблей.
(обратно)60
Щербицкий Михаил Иосифович (01.02.1878–?), капитан 2‑го ранга (28.07.1917). Юнкер флота (1901), по экзамену произведен в мичманы (23.09.1903). В Сибирской флотилии командовал эсминцем «Грозовой» (1910–1913). С началом Первой мировой войны – на Черноморском флоте, был старшим офицером транспорта «Дон» (1914–1915), затем командовал транспортом «Булганак». В 1919 г. состоял в Морских силах Дальнего Востока, в апреле – мае служил в Управлении по делам личного состава Морского министерства в Омске.
(обратно)61
Федоров Яков Александрович (09.10.1843–16.12.1905), надворный советник в отставке (12.12.1905). Из унтер‑офицерских детей. Обучался во 2‑м учебном морском экипаже, по окончании произведен в писари 3‑го класса (20.09.1857). В 1860 г. находился при высадке десанта в Адлере, имел медали за покорение Кавказа (1867), за усердие (1867), крест за Кавказ (1869). Уволен в отставку (22.04.1871). Вновь возвратился на сверхсрочную службу (11.06.1877), назначен в Ревельский флотский полуэкипаж (03.09.1877). За выслугу и по экзамену произведен в коллежские регистраторы со званием содержателя по шкиперской части (10.04.1874). С 1878 г. ежегодно плавал на транспорте «Артельщик». Коллежский асессор (31.08.1899, старшинство с 07.08.1899). С 21.11.1899 г. – содержатель по шкиперской части Ревельского флотского полуэкипажа. Имел ордена до Св. Анны 2 ст. (01.01.1905). Ктитор Ревельской портовой Симеоновской церкви (08.08.1894). Уволен в отставку по болезни, скончался от паралича сердца.
(обратно)62
В послужном списке на 1905 г. указан «одноэтажный деревянный дом в Ревеле». Известно, что в начале 1906 г. вдова проживала по адресу: Ревель, Нарвская ул., д. 55, кв. 1.
(обратно)63
Рожественский Зиновий Петрович (30.10.1848–01.01.1909), вице‑адмирал (04.10.1904) в отставке (08.05.1906). Окончил Морское училище (1868), Михайловскую артиллерийскую академию (1873). Член Комиссии морских артиллерийских опытов в СПб. (1873–1883). Участник боя вооруженного парохода «Веста» с турецким броненосцем «Фетхи Буленд» во время Русско‑турецкой войны 1877–1878 гг. Возглавлял флотилию Болгарского княжества (1883–1885). Старший офицер броненосной батареи «Кремль» (1887–1889), фрегата «Герцог Эдинбургский» (1889–1890). Командир клиперов «Наездник» (с 01.01.1890), «Крейсер» (с 09.04.1890), мореходной канонерской лодки «Грозящий» (с 05.08.1891). Морской агент в Англии (1891–1894). Командир крейсера I ранга «Владимир Мономах» (с 20.06.1894), 16‑го флотского экипажа (1896–1898), броненосца береговой обороны «Первенец» (с 14.05.1896), одновременно – начальник Учебно‑артиллерийской команды (1896–1898). Командующий (1899 и 1900), начальник (1900–1902) Учебно‑артиллерийского отряда. И. д. начальника ГМШ (17.03.1903–1904), формально – начальник ГМШ (04.10.1904–1906). Генерал‑адъютант (04.10.1904). Командующий 2‑й эскадрой флота Тихого океана (19.04.1904–1905), во время разгрома под Цусимой был ранен и попал в японский плен. С 08.05.1906 в отставке. Скончался в С.‑Петербурге, погребен на Тихвинском кладбище Александро‑Невской лавры, могила не сохранилась.
(обратно)64
Согласно послужному списку, Г.К. Граф плавал на «Артельщике» с 06.04 по 29.05.1904 г.
(обратно)65
Ергомышев Константин Львович (20.04.1856–09.02.1916), генерал‑лейтенант по Адмиралтейству в отставке (01.05.1914). Окончил Морское училище (1878). Участвовал во многих заграничных плаваниях. Командовал миноносцем «Свеаборг» (1894–1895), служил старшим офицером крейсера I ранга «Адмирал Корнилов» (1895–1896), эскадренного броненосца «Полтава» (1896–1898), командовал транспортом «Бакан» (1898–1901), броненосцем береговой обороны «Чародейка» (1901–1904), транспортом «Иртыш» (1904–1905), эскадренным броненосцем «Три Святителя» (1906–1907), достраивавшимся эскадренным броненосцем «Андрей Первозванный» (1907). Начальник военно‑исправительной тюрьмы Морского ведомства в Санкт‑Петербурге (с 18.06.1907 до отставки).
(обратно)66
Шмидт 3‑й Петр Петрович (05.02.1867–06.03.1906), лейтенант (06.12.1895). Окончил Морское училище (1886). В отставке (1889–1892; 1898–1904) служил в Добровольном флоте и Российском обществе пароходства и торговли (на начало 1904 г. – капитан парохода «Диана», РОПиТ). Старший офицер транспорта «Иртыш» (1904). Уволен от службы 07.11.1905 г. Возглавил восстание на крейсере I ранга «Очаков» в Севастополе, осужден, расстрелян.
(обратно)67
Черепанов Константин Константинович (18.09.1875–?), старший лейтенант (16.01.1917). Окончил Морской кадетский корпус (1895). В заграничном плавании на крейсере II ранга «Забияка» (1897–1898, 1899–1901). В запасе флота с 29.04.1902, в начале Русско‑японской войны определен в службу (12.04.1904). Ревизор транспорта «Иртыш» (1904–1905). Вновь вернулся в запас флота (09.01.1906), затем был произведен в старшие лейтенанты с увольнением от службы (25.02.1913). Определен в службу прежним чином лейтенанта (06.07.1916), вскоре произведен в старшие лейтенанты (16.01.1917). Заведующий хозяйственной частью Транспортной флотилии особого назначения Балтийского моря (с 06.07.1917).
(обратно)68
Чис Борис Анатольевич (01.08.1881–?), старший лейтенант (28.07.1917). Учился в Морском кадетском корпусе, переведен в юнкера флота (1903), по экзамену произведен в мичманы (10.11.1903). В плавании на транспорте «Иртыш» (по 07.09.1904), эскадренном броненосце «Император Николай I» (10.10–11.12.1904), но в поход с эскадрами З.П. Рожественского и Н.И. Небогатова отправлен не был. Окончил Водолазную школу (1908). Переведен в Сибирскую флотилию (20.10.1910), где служил на транспорте «Ксения» (1911–1912, 1913), временно командовал миноносцем «Сердитый» (1913), плавал на транспорте «Аргунь» (1913–1914). Переведен на Балтийский флот (17.03.1914); после начала войны был назначен на Приморский фронт Морской крепости императора Петра Великого, где сменил несколько должностей, в частности с 20.11.1914 по 04.03.1915 гг. командовал батареей № 3, отрешен от должности приговором крепостного суда. Комендант транспорта № 82 (1915), № 100 (1916). Во время Февральской революции арестован в Кронштадте, содержался в заключении до июня 1917 г., 07.08.1917 г. переведен в Каспийскую флотилию.
(обратно)69
Емельянов Евгений Константинович (18.02.1884–07.03.1916), старший лейтенант (06.04.1914). Окончил Морской кадетский корпус (1903). Служил на Балтике, в частности был вахтенным начальником (с 10.08.1904), а затем штурманским офицером (с 01.01.1905) транспорта «Иртыш», на котором участвовал в Цусимском сражении. В японском плену. Вновь на Балтике плавал на минных заградителях «Енисей» и «Амур» (1910), затем был флагманским штурманским офицером при начальнике 6‑го дивизиона миноносцев (1911), командовал миноносцем № 215 (1912), являлся флагманским штурманским офицером штаба начальника 2‑й Минной дивизии (1912–1914). С марта 1915 г. – командующий миноносцем «Грозящий». Покончил с собой.
(обратно)70
Порадовский Алексей Петрович (17.03.1865–1941), инженер‑механик капитан 1‑го ранга (22.03.1915, старшинство с 01.01.1915). Окончил Морское инженерное училище (1889), минный механик (1892). В заграничных плаваниях на крейсере 2‑го ранга «Крейсер» (1893–1896), эскадренном броненосце «Император Николай I» (1896–1897), крейсерах II ранга «Джигит» (1898–1899), «Крейсер» (1902–1904). И. д. старшего судового механика транспорта «Иртыш» (1904–1905), после гибели корабля в Цусимском сражении находился в плену. Судовой механик учебного судна «Минин» (1907–1909), старший судовой механик крейсера «Диана» (1909–1912). После перевода на Черноморский флот – старший судовой механик линейного корабля «Иоанн Златоуст» (1912–1913), учебного судна «Рион» (01.04.1914–1916), линейного корабля «Георгий Победоносец» (1916–1917). В советское время жил в Севастополе, работал на Морском заводе. В 1939 г. арестован и сослан в Сибирь, где умер на ст. Итат (Тяжинский р‑н Кемеровской обл.).
(обратно)71
Коссаковский Борис Дмитриевич (23.10.1882–1918?), капитан 2‑го ранга за отличие (06.12.1916). Окончил Морской кадетский корпус (1904), Артиллерийский офицерский класс (1910), артиллерийский офицер 1 разряда (1911). Участвовал в походе 2‑й эскадры Тихого океана (вахтенный офицер транспорта «Иртыш»), после Цусимского сражения находился в японском плену. И. д. флагманского артиллерийского офицера штаба начальника Бригады крейсеров (1913–1914), 1‑й бригады крейсеров Балтийского моря, и. д. старшего офицера крейсера «Баян» (назначен 23.09.1916). По семейным данным, в начале 1918 г. взял отпуск и поехал к семье в Севастополь, в дороге убит в районе Харькова. Был женат на Валерии Алексеевне, дочери соплавателя по «Иртышу» А.П. Порадовского (см. выше).
(обратно)72
Новиков Иван Адрианович (05.01.1860–?), из мещан г. Одессы. Действительную службу проходил в 3‑м флотском экипаже (17.02.1884–21.07.1886), после чего уволен в запас флота. Служил в Морском ведомстве по вольному найму, после начала Русско‑японской войны по прошению определен в службу прапорщиком по механической части на время войны (21.06.1904), службу проходил на транспорте «Иртыш» (назначен 2‑м механиком 06.07.1904). Участник Цусимского сражения. Из плена в наличие экипажа вернулся 13.03.1906 г. Награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (18.06.1907) и Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (22.12.1908). Уволен от службы за окончанием военных действий (10.04.1906, с 15.03.1906). Повелено считать уволенным от службы с мундиром (08.03.1910).
(обратно)73
Потапенко Александр Леонтьевич (01.10.1859–?), мещанин г. Кишинева. Учился в Кишиневском городском училище. Действительную службу проходил в Бендерской крепостной артиллерии (1881–1886). В 1887 г. переехал в Одессу. Служил в Морском ведомстве по вольному найму, после начала Русско‑японской войны по прошению определен в службу прапорщиком по механической части на время войны (21.06.1904), службу проходил на транспорте «Иртыш» (назначен 4‑м механиком 06.07.1904). Участник Цусимского сражения. Из плена в наличие экипажа вернулся 28.03.1906 г. Награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (22.01.1907). Уволен от службы за окончанием военных действий (24.04.1906, с 15.04.1906). По вольному найму служил указателем в мастерских на транспорте‑мастерской «Ангара» (13.11.1906–07.05.1907). В 1907 г. просил о возвращении на службу, но получил отказ (для службы требовалась сдача им экзамена). По его просьбе на высочайшее имя повелено считать уволенным от службы с мундиром (08.09.1911).
(обратно)74
Дмитриев Иван Николаевич (13.04.1877–28.09.1948), капитан 1‑го ранга (06.12.1916) русского флота, контр‑адмирал (04.06.1940) советского флота в отставке (1947). Окончил Морской кадетский корпус (1896), Штурманский офицерский класс (1898), Севастопольскую авиационную школу (1911). В 1897–1901 гг. плавал вахтенным начальником на Дальнем Востоке на кораблях Сибирской флотилии. В 1904–1905 гг. – штурманский офицер транспорта «Анадырь», участник плавания на Дальний Восток, Цусимского сражения и возвращения на Балтику. Старший офицер крейсера «Адмирал Макаров» (1908–1909). Флагманский штурманский офицер штаба начальника Балтийского отряда (1909). Командовал миноносцем «Прыткий» (1911–1912), транспортом «Бакан» (1912–1913), эсминцами «Всадник» (1913–1915), «Лейтенант Ильин» (1915), «Победитель» (1915–1916). Являлся начальником отдела воздушного плавания Главного управления кораблестроения (1916–1917), председателем постоянной Комиссии по испытанию и приемке самолетов и воздушных кораблей Морского ведомства (1917). Начальник Петроградского отделения морской авиации (1918), начальник Управления морской авиации и воздухоплавания (1918–1920). С 1921 г. на преподавательской работе в Военно‑морском училище: преподаватель (1921–1934), старший преподаватель (1934–1939), старший преподаватель кафедры специальных предметов (1939), старший преподаватель кафедры кораблевождения (1939–1940), старший преподаватель кафедры навигации (1940–1943), старший преподаватель кафедры навигации и навигационных приборов (1943–1944), затем на той же должности в Каспийском высшем военно‑морском училище (Лурье В.М. Адмиралы и генералы Военно‑Морского флота СССР в период Великой Отечественной и советско‑японской войн (1941–1945). СПб., 2001. С. 68–69).
(обратно)75
В материалах РГАВМФ имеется секретный рапорт командира порта императора Александра III в Главный морской штаб от 10.09.1904 г.:
«8 сего сентября в зале Либавского кургауза во время вечера, бывшего в пользу Общества Красного Креста, лейтенант Петр Шмидт, состоящий старшим офицером на транспорте “Иртыш”, публично нанес оскорбление действием лейтенанту Ивану Дмитриеву 4‑му, плавающему на транспорте “Анадырь”. Причина – личные счеты за какое‑то оскорбление, нанесенное лейтенантом Дмитриевым лейтенанту Шмидту лет шесть‑семь тому назад.
Обоим этим офицерам мною воспрещен съезд на берег; дело же направлено в суд посредников» (РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 4. Д. 6812. Л. 1).
.09.1904 г. о происшествии было доложено управляющему Морским министерством адмиралу Ф.К. Авелану, который распорядился дождаться решения суда посредников. Сведения о том, состоялся ли суд, мною не обнаружены.
Сопоставление послужных списков П.П. Шмидта и И.Н. Дмитриева показывает, что оба офицера служили во Владивостоке вахтенными начальниками на пароходе‑ледоколе «Надежный» в июле – августе 1897 г.
(обратно)76
Гаральд Граф в 1908–1909 гг. служил с И.Н. Дмитриевым на крейсере «Адмирал Макаров» и в воспоминаниях оставил не очень восторженную характеристику: «Старшим офицером был капитан‑лейтенант (тогда на короткое время был введен этот чин) Дмитриев, бывший штурман того же “Анадыря”. То есть соплаватель Пономарева и очень преданный ему человек. Он был совершенно под стать командиру: прекрасный штурман, отличный моряк и совсем никчемный военный. При таком возглавлении “Макарову” было трудно стать хорошо налаженным боевым кораблем. <…> Наш добрейший Дмитриев всегда стремился улаживать все шероховатости мирным путем и боялся всяких обострений» (Граф Г.К. Императорский Балтийский флот между двумя войнами. 1906–1914. СПб., 2006. С. 168, 175).
(обратно)77
Филипповский Владимир Иванович (14.03.1853– не ранее 1917), полковник Корпуса флотских штурманов (06.04.1903). Старший штурман корвета Сибирской флотилии «Америка» (1878), клипера «Наездник» (1886–1889), крейсеров I ранга «Рында» (1890–1898), «Адмирал Нахимов» (1899–1901), «Рында» (1901), императорской яхты «Полярная звезда» (1902–1903). Флагманский штурманский офицер походного штаба командующего 2‑й эскадрой флота Тихого океана (02.08.1904–1905), после Цусимского сражения находился в плену. Исключен из службы (02.10.1906), находился под судом по делу о сдаче миноносца «Бедовый». Всемилостивейше повелено: считать уволенным от службы (06.05.1909).
(обратно)78
фон Фелькерзам Дмитрий Густавович (29.04.1846–11(?).05.1905), контр‑адмирал (06.12.1899). Окончил Морское училище (1867), Минный офицерский класс (1879). Старший офицер фрегата «Владимир Мономах» (1884–1887), командир клипера «Джигит» (1891–1892), заведующий миноносками 18‑го и 1‑го флотских экипажей (1893–1895), командир эскадренного броненосца «Император Николай I» (1895–1899). Младший флагман Балтийского флота (1901–1902), командир Учебно‑артиллерийского отряда (1903–1904), младший флагман 2‑й эскадры флота Тихого океана (1904–1905). Умер во время похода.
(обратно)79
Гильбих Карл‑Гарри‑Герберт Эрнестович (29.08.1879–?), подпоручик по адмиралтейству (19.09.1916). Окончил Мореходные классы в Балтийском порту, 8 лет плавал на парусниках и пароходе «Фрида» пароходства В.А. Радау. В Либаве 23.03.1901 сдал экзамен на звание шкипера дальнего плавания, в Кронштадте 30.06.1903 – на звание прапорщика запаса флота по морской части (произведен 21.07.1903). Призван на действительную военную службу 19.04.1904; 20.04.1904 назначен вахтенным офицером транспорта «Иртыш», на котором участвовал в плавании 2‑й эскадры Тихого океана и Цусимском сражении (14–15.05.1905), после гибели корабля – в японском плену (15.05.1905–18.12.1905); вернулся в 14‑й флотский экипаж (27.01.1906). В 1906 г. уволен в запас, в период Первой мировой вновь призван во флот, служил на Балтике.
(обратно)80
Делялич‑де‑Лаваль Иосиф Иосифович (05.07.1876–?). Лекарь, коллежский асессор (10.12.1903), судовой врач транспорта «Иртыш» (назначен 22.11.1904), участник Цусимского сражения.
(обратно)81
Штакельберг Эвальд Антонович (09.02.1847–29.08.1909), вице‑адмирал в отставке (02.07.1907). Участник войны 1877–1878 гг., за отличие награжден золотой саблей (1877), орд. Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1878), Св. Станислава 2 ст. с мечами (1879). Старший офицер корвета «Аскольд» (1886, 1889), фрегата «Генерал‑адмирал» (1886–1889); командир канонерских лодок «Гроза» (1890), «Гремящий» (1890–1892), учебного судна «Скобелев» (1893–1894), императорской яхты «Полярная звезда» (1896–1901). В чине контр‑адмирала возглавил переход отряда кораблей на Тихий океан (1902–1903), где был назначен младшим флагманом. Командир отряда крейсеров с 07.06.1903, в связи с болезнью 17.01.1904 во Владивостоке сдал командование капитану 1‑го ранга Н.К. Рейценштейну. Младший флагман Балтийского флота (1904–1907), член комиссий по разбору результатов сражений 28.07.1904 и 14–15.05.1905.
(обратно)82
Фролов Павел Федорович (10.12.1876–29.04.1934), подполковник по Адмиралтейству за отличие (28.07.1917). Из крестьян С.‑Петербургской губернии. Окончил С.‑Петербургские мореходные классы (1897), штурман дальнего и шкипер каботажного плавания. По экзамену произведен в подпоручики запаса флота (12.01.1904), после начала Русско‑японской войны определен в службу (30.03.1904). Назначен в плавание на пароход «Иртыш» (20.04.1904). Во время похода приказом командующего эскадрой назначен временно и. д. ревизора транспорта «Тамбов» (04.03.1905), переведен обратно на «Иртыш» (02.04.1905). Участник Цусимского сражения, вернулся из плена в наличие экипажа 01.02.1906, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Окончил Водолазную школу (1909). Командир портового судна «Буксир» (1908–1910), затем служил штурманом на яхте «Стрела». Назначен и. д. младшего помощника командира Петроградского порта (31.01.1916). Председатель Особого присутствия по назначению пенсий и пособий рабочим Петроградского порта (23.06.1917). Заведующий Адмиралтейством Гребного порта Петроградского военно‑морского порта. Уволен от службы (30.12.1918). В эмиграции в Югославии, умер от плеврита.
(обратно)83
Действительно, К.К.Черепанов, уйдя в 1902 г. в запас, стал студентом Киевского политехнического института. Дело, однако, было не в этом. Находясь в запасе, он помогал своему тяжело больному отцу управлять имением в Рогачевском уезде Могилевской губернии. В октябре 1904 г., когда Черепанов, будучи призванным из запаса, проходил службу на «Иртыше», отец скончался. В связи с этим мать подала прошение на имя императора, прося вернуть ей сына из плавания для управления имением и помощи ей самой в связи с ее болезнью. Как ни странно, Николай II удовлетворил ходатайство. Автор, однако, не прав – управляющий Морским министерством не счел удобным увольнять Черепанова в запас во время военных действий, ему лишь был предоставлен отпуск до окончания войны (См.: РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 3. Д. 3259).
(обратно)84
Опарин Алексей Яковлевич (ок. 1854–1912), коллежский асессор (25.03.1912). Из крестьян Вологодской губ. Служил матросом с 06.02.1871 г., участвовал в дальнем плавании на клипере «Жемчуг» (1871–1873), остался на сверхсрочной; по экзамену произведен в баталеры (01.05.1877), по экзамену – в коллежские регистраторы (05.11.1880). Комиссар учебной команды строевых квартирмейстеров (с 02.10.1891), служил комиссаром на канонерской лодке «Бурун» (1881–1886, 1888), промерной барже (1887), пароходах «Работник» (1890), «Силач» (1890), эскадренном броненосце «Петр Великий» (1892, 1894, 1895, 1896), крейсере I ранга «Адмирал Корнилов» (1897–1901), броненосце береговой обороны «Генерал‑адмирал Апраксин» (1902), крейсерах I ранга «Россия» (1903), «Минин» (1904), транспорте «Иртыш» (назначен 11.12.1904), на котором участвовал в Цусимском сражении, за что удостоен ордена Св. Станислава 3 ст. с мечами (15.01.1907). Комиссар транспорта «Анадырь» (1906–1912).
(обратно)85
Савич Павел Петрович (03.02.1880–02.08.1941), капитан 2‑го ранга (30.07.1916). Окончил Морской кадетский корпус (1902). Плавал на крейсере I ранга «Диана» с 26.01.1904, участвовал в боях с японским флотом, в т. ч. 27.01 и 28.07.1904, после последнего крейсер прорвался в Сайгон. В годы Первой мировой войны служил на Черноморском флоте, в период Гражданской – плавал на крейсере «Генерал Корнилов», 13.09.1919 назначен командиром транспорта «Березань», с 14.05.1920 – командир линейного корабля «Георгий Победоносец», который увел в Бизерту. Жил и умер в Тунисе.
(обратно)86
Кедров Михаил Александрович (13.09.1878–29.10.1945), вице‑адмирал (16.11.1920). Окончил Морской кадетский корпус (1899), Михайловскую артиллерийскую академию (1907), оба учебных заведения – с занесением на мраморные доски. В период обороны Порт‑Артура с 24.02.1904 флаг‑офицер командующего флотом Тихого океана вице‑адмирала С.О. Макарова, затем с 27.04 – старший флаг‑офицер командующего 1‑й эскадрой контр‑адмирала В.К. Витгефта. Во время боя 28 июля 1904 г. тяжело ранен осколком снаряда, убившего Витгефта. После интернирования эскадренного броненосца «Цесаревич» в Циндао два месяца лечился в германском госпитале. Добровольно отправился на 2‑ю эскадру флота Тихого океана, где был назначен артиллерийским офицером крейсера II ранга «Урал» (на борту с 03.04 по 14.05.1905); после гибели корабля в Цусимском сражении подобран транспортом «Анадырь». Командовал посыльным судном «Воевода» (1909–1910), являлся флагманским артиллеристом штаба командующего Балтийским флотом (1910–1913), одновременно командовал эсминцем «Пограничник» (1912–1913), учебным судном «Петр Великий» (1913–1914), одновременно 29.04.1913 г. назначен и. д. помощника начальника Учебно‑артиллерийского отряда. Флигель‑адъютант (04.07.1913). В начале Первой мировой войны был командирован на Британский флот (отвозил сигнальную книгу, захваченную на крейсере «Магдебург», с октября 1914 по май 1915 г. плавал на кораблях Гранд Флита). Командир линейного корабля «Гангут» (1915–1916), начальник Минной дивизии Балтийского флота (с 30.06.1916 по 10.03.1917). В марте – мае 1917 г. – помощник морского министра А.И. Гучкова. В 1917–1920 гг. находился в Лондоне, организуя снабжение Белых армий. С 17.10.1920 г. – командующий ЧФ (белых), руководил переходом в Константинополь и далее в Бизерту. Создатель, с 1929 г. председатель Военно‑морского союза, видный деятель Российского Общевоинского Союза (РОВС) (временно председатель 24.09.1937– 19.04.1938). Умер в Париже.
(обратно)87
Мисников Николай Федорович (21.11.1879–?), капитан 2‑го ранга (14.04.1913). Окончил Морской кадетский корпус (1899). Служил на кораблях Сибирской флотилии и эскадры Тихого океана (1899–1904), участвовал в обороне Порт‑Артура, где отличился на сухопутном фронте; 02.12.1904 г. на 10‑весельном катере канонерской лодки «Бобр» доставил в Чифу депеши. На январь 1905 г. – секретно находился в Батавии под видом французского корреспондента по фамилии Масэ. Отправился на 2‑ю эскадру флота Тихого океана; будучи вахтенным начальником крейсера I ранга «Адмирал Нахимов» (24.04–15.05.1905) участвовал в Цусимском сражении и попал в плен. Служил на Балтике, с 1907 г. – в Сибирской флотилии; на Амуре командовал канонерской лодкой «Киргиз» (1909–1910), затем неоднократно менял флоты. Старший офицер учебного судна «Рында» (1912), канонерской лодки «Манджур» (1913–1914), командир посыльного судна «Великий князь Александр Михайлович» (1915–1917).
(обратно)88
Фон Витте Александр Густавович (02.12.1859–14.05.1905), капитан 2‑го ранга (06.12.1899). Окончил Морское училище (1880), гидрографический отдел Николаевской морской академии (1884). Заграничные плавания: на клиперах «Жемчуг» (1880–1881), «Вестник» (1885–1886), канонерской лодке «Сивуч» (1886–1887), крейсере I ранга «Дмитрий Донской» (1891–1893), крейсере II ранга «Джигит» вахтенным начальником, затем старшим офицером (1899–1900). Занимался съемкой на Онежском озере (1888). Старший делопроизводитель VI класса Военно‑морского ученого отделения Главного морского штаба (1900–1902). Командовал крейсером II ранга «Крейсер» (1902–1904). Флагманский интендант 2‑й эскадры Тихого океана (1904–1905). Погиб в Цусимском сражении на эскадренном броненосце «Бородино».
(обратно)89
Петухов Георгий Михайлович (22.11.1882–.02.1942), капитан 2‑го ранга за отличие (28.07.1917). Окончил Морской кадетский корпус (1904), Минный офицерский класс (1909). Вахтенный офицер транспорта «Иртыш» (1904–1905), участник Цусимского сражения. И. д. электротехника береговых наблюдательных постов и станций Северного района Службы Связи Балтийского моря (1912–1916), и. д. флагманского минного офицера штаба Минной обороны (1916–1917), и. д. флагманского радиотелеграфного офицера штаба командующего флотом Балтийского моря (1917–1918), старший производитель работ радиоотдела Главного управления кораблестроения (1919), начальник радиотелеграфной части Главного морского технического управления (1920–1924?). Скончался в Ленинграде во время блокады.
(обратно)90
Родзянко Владимир Павлович (17.02.1878–17.10.1965), капитан 2‑го ранга за отличие (06.12.1916). Окончил Морской кадетский корпус (1897). Прикомандирован к Гвардейскому экипажу (28.09.1899), а затем зачислен в его состав (07.05.1901), на кораблях экипажа участвовал в дальних плаваниях. В запасе флота (08.09.1903–30.03.1904). В период Русско‑японской войны плавал на транспортах «Тамбов» (до 01.03.1905) и «Иртыш» (с 01.03 по 25.04.1905 исполнял обязанности старшего офицера), участвовал в Цусимском сражении. Вновь в запасе (08.05.1906–06.08.1914). Командовал ротой в составе 2‑го отдельного батальона Гвардейского экипажа на фронте (1915). Помощник старшего офицера линейного корабля «Императрица Мария» (1915–1916). В эмиграции жил в Германии, после Второй мировой войны – во Франции, умер под Парижем.
(обратно)91
Мюнстер Альфред Цесаревич (Цезаревич) (14.07.1880–01.11.1920), подполковник Корпуса гидрографов (22.03.1915, старшинство с 01.01.1915). Окончил Морской кадетский корпус (1899). В заграничном плавании на Тихом океане (1900–1902), в т. ч. на транспорте «Ермак» (1901–1902), минном крейсере «Всадник» (1902). В качестве вахтенного начальника крейсера I ранга «Олег» совершил плавании в составе 2‑й эскадры флота Тихого океана, 01.03.1905 переведен на транспорт «Иртыш», на котором и участвовал в Цусимском сражении. В запасе флота (09.10.1906–26.09.1907). Состоял в распоряжении директора Лоцманского и маячного ведомства Финляндии, являлся и. д. начальника Гельсингфорсской лоц‑дистанции (с 22.05.1912). Зачислен в Корпус гидрографов (04.02.1913). Умер в Гельсингфорсе (Хельсинки).
(обратно)92
Магаринский Иван Николаевич (16.05.1864–?), капитан 1‑го ранга (25.03.1912). Окончил Морское училище (1885). Старший офицер транспортов «Камчатка» (1904), «Иртыш» (назначен 31.01.1905, прибыл 25.04.1905), после Цусимского сражения попал в плен. Командовал эсминцем «Исполнительный» (1906–1908), Ревельской отдельной флотской ротой (с 1908), Ревельским флотским полуэкипажем (1917).
(обратно)93
Небогатов Николай Иванович (20.04.1849–1922?). Окончил Морское училище (1869), курс военно‑морских наук Николаевской морской академии (1896). Старший офицер клипера «Разбойник» (1882–1886). Командир канонерских лодок «Гроза» (1888–1889), «Град» (1889–1891), крейсера II ранга «Крейсер» (1891–1895). Флаг‑капитан штабов командующего Практической эскадрой Балтийского моря (1895), старшего флагмана 2‑й флотской дивизии (1895–1896). Командир крейсера I ранга «Адмирал Нахимов» (1896–1898), 4‑го (1898), 16‑го (1898–1900) флотских экипажей. Начальник Учебно‑артиллерийской команды (1898–1900). Командир броненосца береговой обороны «Первенец» (1898–1900), крейсера I ранга «Минин» (1900–1901). Помощник начальника Учебно‑артиллерийского отряда Балтийского флота (1900–1901), начальник Учебного отряда Черноморского флота (1903–1905). Командующий 1‑м отдельным отрядом судов Тихого океана (с 10.01.1905), после присоединения к эскадре З.П. Рожественского – командующий 3‑м броненосным отрядом. За сдачу в плен на второй день Цусимского сражения (15.05.1905) исключен из службы с лишением чинов (22.08.1905). После возвращения в Россию судом приговорен к смертной казни, замененной 10 годами крепости. Заключение отбывал в С.‑Петербургской крепости, освобожден 06.05.1909. Скончался в Москве в 1922 (по другим данным – в Крыму в 1934).
(обратно)94
Следует заметить, что броненосцы береговой обороны «Адмирал Ушаков», «Адмирал Сенявин» и «Генерал‑адмирал Апраксин» вступили в строй в 1897–1899 гг.
(обратно)95
Шишкин 2‑й Николай Николаевич (23.12.1881–?), прапорщик по морской части. Из дворян Казанской губ. Окончил в Баку реальное училище и мореходные классы. По экзамену произведен в прапорщики по морской части (27.09.1904). Заведующий Стейнортским наблюдательным постом (27.10–03.12.1904). Назначен вахтенным офицером на транспорт «Иртыш» (20.12.1904), участвовал в Цусимском сражении (впоследствии награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом), прибыл в экипаж из плена 25.04.1906 г. Зачислен в запас флота по Бакинскому уезду (29.07.1906), по состоянию на 1909 г. служил на пароходе Добровольного флота «Петербург»; уволен от службы за окончанием обязательного срока нахождения в запасе (09.06.1914).
(обратно)96
Шеин Сергей Павлович (08.08.1856 – 15.05.1905), капитан 1‑го ранга за отличие (06.12.1902). Окончил Морское училище (1878), Николаевскую морскую академию (1884). Участвовал в заграничных плаваниях на клиперах «Крейсер» и «Джигит» (1879–1880), крейсере «Адмирал Нахимов» (1888–1890). Адъютант управляющего Морским министерством (с 27.09.1891). Старший офицер крейсера I ранга «Рюрик» (1896–1898). Морской агент во Франции (1898–1901). Командир мореходной канонерской лодки «Храбрый» (1901–1902), крейсера I ранга «Светлана» (1903–1905), на котором погиб во второй день Цусимского сражения во время боя с японскими крейсерами.
(обратно)97
Энквист Оскар Адольфович (28.10.1849–03.03.1912), вице‑адмирал в отставке (19.11.1907). Окончил Морское училище (1869). Участвовал в заграничных плаваниях на корвете «Богатырь» (1876–1877), фрегате «Князь Пожарский» (1878–1881). Старший офицер канонерской лодки «Сивуч» (1884–1887), фрегата «Память Азова» (1888–1891). Командир канонерской лодки «Бобр» (1891–1893), крейсера I ранга «Герцог Эдинбургский» (1895–1899). Командир 10‑го (1896–1897), 12‑го (1899–1900), 9‑го (1900–1901) флотских экипажей. Командир Николаевского порта и градоначальник г. Николаева (1902–1904). Младший флагман 2‑й эскадры флота Тихого океана (1904–1905). В ходе Цусимского сражения командовал отрядом крейсеров, прикрывавших транспорты; увел крейсеры «Олег», «Аврора» и «Жемчуг» на Филиппины. Умер и погребен в Кронштадте.
(обратно)98
Бухвостов Николай Михайлович (02.05.1857–14.05.1905), капитан 1‑го ранга за отличие (16.12.1902). Окончил Морское училище (1877). Старший офицер яхты «Стрела» (1894), крейсера I ранга «Рында» (1894–1897). Командир парохода «Онега» (1897–1898), крейсера II ранга «Рында» (1898–1902), крейсера I ранга «Адмирал Нахимов» (1902–1903), эскадренного броненосца «Император Александр III» (назначен 08.09.1903), вместе с которым погиб в Цусимском сражении.
(обратно)99
Де Лаваль Павел Иосифович (29.06.1881–14.05.1905), мичман (06.05.1902). Окончил Морской кадетский корпус (1902). Служил вахтенным начальником на минном крейсере «Посадник», эскадренном броненосце «Ретвизан» (1902), транспорте «Самоед», крейсере I ранга «Адмирал Корнилов», учебном судне «Воин» (1903), крейсере II ранга «Вестник» (1904); вахтенный начальник и артиллерийский офицер транспорта‑мастерской «Камчатка», на которой убит в Цусимском сражении.
(обратно)100
В циркуляре Главного морского штаба от 23.01.1906 г. имеются сведения, что Г.К. Граф и его товарищи по «Иртышу» прибыли во Владивосток 22.12.1905 г.
(обратно)101
РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 2. Д. 545. Л. 14 об.
(обратно)102
Граф Г.К. Императорский Балтийский флот между двумя войнами. 1906–1914 / Примеч. и послесловие А.Ю. Емелина. СПб.: издательство «Русско‑Балтийский информационный центр “Блиц”», 2006. 336 с., илл.
(обратно)103
РГАВМФ. Ф. 873. Оп. 4. Д. 270. Л. 4 об. – 5 об.
(обратно)104
РГАВМФ. Ф. 873. Оп. 4. Д. 270. Л. 6 об. –7.
(обратно)105
РГАВМФ. Ф. 873. Оп. 4. Д. 270. Л. 10 об. –11.
(обратно)106
Граф Г.К. На службе Императорскому Дому России. 1917–1941: Воспоминания / Вступит. статья, подготовка текста, биогр. справочник и комментарии В.Ю. Черняева. СПб.: Издательство «Русско‑Балтийский информационный центр “БЛИЦ”», 2004. 687 с.
(обратно)107
Черняев В.Ю. Г.К. Граф и его воспоминания о русском монархическом зарубежье // В кн.: Граф Г.К. На службе Императорскому Дому России. 1917–1941: Воспоминания. СПб., 2004. С. 13.
(обратно)108
Черняев В.Ю. Г.К. Граф и его воспоминания. С. 17.
(обратно)109
В скобках указаны губерния, уезд и волость, откуда производился призыв.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

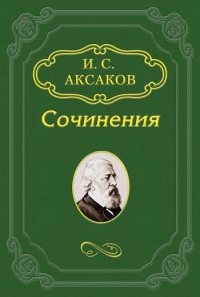


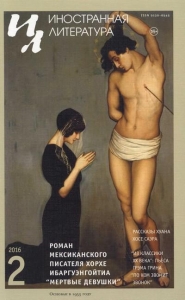
Комментарии к книге «Моряки. Очерки из жизни морского офицера 1897‑1905 гг.», Гаральд Карлович Граф
Всего 0 комментариев