Спиноза
Даже у философов, которые придали своим работам систематическую форму, как, например, у Спинозы, действительное внутреннее строение его системы совершенно отлично от формы, в которой он сознательно ее представил
К. Маркс
Что касается философии Спинозы, то она очень проста и в целом ее легко понять
Г.В.Ф. Гегель
Спиноза и философия
Не только каждая нация, но и каждая эпоха вырабатывает свой язык, в котором она выражает себя, свой неповторимый облик, свой мир, свой кругозор. И при переводе с языка на язык обязательно что-то утрачивается и что-то приобретается — перевод всегда чем-то отличается от оригинала, несмотря на мучительные усилия переводчика подыскать те единственно точные слова и обороты речи, которые оформили бы в иноязычном сознании совершенно эквивалентные образы и понятия.
А иногда перевод и вовсе становится невозможным, даже в пределах одного и того же национального языка. Попробуйте перевести учебник «сопромата» на язык первоклассника — это так же неосуществимо, как и перевод лирики Петрарки или Пушкина на убогий жаргон любителей «прошвырнуться с девочками по Бродвею»… Ибо люди, говорящие на этих разных языках, живут в совершенно разных, непохожих друг на друга, мирах, хотя в пространстве и времени они — соседи, живущие не только под одним и тем же небом, но даже, может быть, и под одной крышей.
Да, школьник не поймет Эйнштейна, а «чувак» — Петрарку. В его «языке» попросту нет эквивалентных терминов. Конечно, «термины» он может и выучить — но только как попугай или граммофон. Смысл и значение этих терминов для него останутся неведомыми, так как в том мире, в котором он живет, нет соответствующих этим словам «предметов», в освоении которых, в «делании» которых формируется его психика, его личный жизненный опыт, его «мир». Поэтому и слова чужого языка для него так и останутся лишь «словами» — лишь известным образом упорядоченными сотрясениями воздуха и барабанных перепонок, лишь орнаментом знаковых закорючек на бумаге.
Это — в том случае, если твой мир — беднее, чем мир, выразивший себя словами чуждого языка. Если же твой мир — богаче, то есть если он включает в себя, как свою «часть», мир иноязычного человека, то ты легко поймешь его даже в том случае, если познакомишься с ним только по «переводу». Поймешь его даже лучше, чем он сам себя понимал, поскольку увидишь его мир как «абстрактное» (то есть неполное, частичное, одностороннее) изображение твоего собственного — «конкретного» (то есть более полного, целостного и всестороннего) мира.
Мир Спинозы — это мир философии, то есть реальный мир, каким его видит философия. Понять Спинозу — значит понять философию, значит суметь стать на ту своеобразную точку зрения, с которой рассматривает этот мир философия — в отличие от математики или физики, от химии или политической экономии. Это значит увидеть в реальном, окружающем тебя мире те его черты и характеристики, которые выражены в специально-философской терминологии, обрисованы языком философии.
Не понять Спинозу — значит не понять и философию вообще, значит не понять отличие того особого угла зрения, под которым она рассматривает мир, от угла зрения, свойственного другим наукам.
Наша задача — помочь читателю обрести именно понимание Спинозы. С этой целью мы и должны осуществить своего рода «перевод» его сочинений на язык нашего, современного нам, мира, то есть обрисовать на нашем языке те самые «предметы», которые в его сочинениях называются и описываются терминами, свойственными философии его века.
Речь при этом, разумеется, идет вовсе не о формальном переводе с латыни (на которой он писал свои сочинения) — на современный русский, английский или итальянский. Такие переводы давно сделаны — даже на китайский. Тем не менее, они для очень многих остаются такой же китайской грамотой, как и в латинском оригинале.
Мы хотим сделать перевод Спинозы на язык, понятный всем и каждому. На современный русский язык XX столетия. Перевод не с «языка науки 17-го века» — на «язык науки 20-го века», — ибо тогда наш перевод был бы понятен только ограниченному кругу людей, специально изучавших «язык современной науки», — а на естественный русский язык. Мы думаем, что этот язык достаточно богат и гибок, чтобы на нем можно было выразить любой оттенок мысли Спинозы, ничего в нем при этом не исказив.
С другой же стороны, на так называемый «язык современной науки» (это название старается монопольно присвоить себе одна «современная» школа в философии, далеко не лучшая) Спиноза вообще переводу не поддается — по той же самой причине, по какой невозможно пересказать богатство и красоту пушкинской поэзии на цеховом жаргоне канцеляриста-бюрократа. При переводе на этот жаргон неизбежно утрачивается самое главное. Такие попытки делались не раз; причем признанными лидерами «философской науки», «философии языка науки», как называют себя псевдофилософы, изобретающие искусственный, очень ходульный и непонятный для непосвященных, цеховой жаргон, являются неопозитивисты.
После такого перевода — на так называемый «язык науки» — Спиноза становится уже окончательно и бесповоротно непонятным не только для простых смертных, но даже и для самих творцов этого языка, даже для тех, которым трудно отказать лично в уме и проницательности. В результате такого перевода Спиноза превращается в какую-то совершенно неразрешимую загадку, в нелепо-карикатурную фигуру, а его философия начинает походить на какой-то кошмарный параноический бред.
Вот пример. Вот как «видит» Спинозу один современный философ, лично весьма остроумный и честный, но надевший на свой аристократический нос тусклое пенсне «языка науки» и потому основательно окривевший. Посмотрите на Спинозу сквозь это пенсне, и вы увидите, как этот мыслитель, являвший собою редчайшее согласие между словом и делом — между своим учением и своей жизнью, — начинает буквально раздваиваться у вас на глазах. Начинает разваливаться на два совершенно непохожих — ни друг на друга, ни на реального Спинозу — карикатурных портрета.
На одном из этих портретов Спиноза предстанет перед вами как «человек», как «личность», а на другом — как «мыслитель», как «теоретик».
Вот первый портрет:
1) «Спиноза (1632–1677) — самый благородный и привлекательный из всех великих философов. Интеллектуально некоторые превосходили его, но нравственно он — выше всех. Естественным следствием этого было то, что на протяжении всей его жизни и века после его смерти его считали человеком ужасающей безнравственности… Его попытка была величественна и вызывает восхищение даже у тех, кто не верит в ее успех… Хотя Спиноза ни в коей мере не был любителем споров, однако он был слишком честен, чтобы прятать свои взгляды, какими бы ужасными они ни казались для современников; поэтому неприязнь к его учению не была удивительной. Вообще говоря, Спиноза хотел показать, как можно жить благородно даже тогда, когда мы признаем пределы человеческой власти… Но когда они несомненно существуют, принципы Спинозы, вероятно, лучшее из всего, что возможно… Против этого ничего нельзя сказать, за исключением того, что для большинства из нас слишком трудно следовать этому в жизни».
Это — один лик, лик Спинозы-человека. Личность совершенно беспримерной нравственной чистоты, столь кристальной и бескомпромиссной, что для большинства живых людей ее примеру следовать просто непосильно. Какая-то сверхчеловеческая, сверхъестественная нравственная сила. Личность, несогласуемая с нашим грешным миром, ибо слишком хороша, слишком прекрасна для этого мира… Личность, понятная только как редчайшее, уникальное исключение — но ни в коем случае не как правило, не как понятный каждому живой человек. Не человек, а икона, ангел небесный, мистически-чистый Лоэнгрин…
Это — один лик. А вот второй:
2) «Метафизика Спинозы является лучшим примером того, что можно назвать «логическим монизмом», а именно доктрины о том, что мир в целом есть единая субстанция, ни одна из частей которой логически не способна существовать самостоятельно. Первоначальной основой этого взгляда является убеждение в том, что каждое предложение имеет подлежащее и сказуемое, что ведет нас к заключению о том, что связи и множественность должны быть иллюзорными… В целом эту метафизику принять невозможно, она несовместима с современной логикой и научным методом… И концепция субстанции, на которую опирался Спиноза, есть концепция, которую ни наука, ни философия в наше время принять не могут»[1].
Итак, если с чисто нравственной точки зрения Спиноза — слишком хорош, слишком идеален не только для грубо-жестокого 17‑го века, но и для нашего, просвещенного 20‑го, то как мыслитель, как теоретик — это попросту наивный простачок, рассуждения которого просто смешны, если смотреть на них с высоты «науки и логики XX столетия»… Вся его теория («концепция субстанции») — это несуразная, несовместимая со здравым смыслом, нелепица. Согласно его нелепому учению «связи и множественность» мироздания — это лишь иллюзия, а на самом деле-де существует только одна не различенная в себе, непрерывная и прозрачная во все стороны «субстанция», похожая на бесконечный и безграничный кусок стекла… И только наше глупое воображение «видит» вместо нее какие-то отличающиеся друг от друга «вещи», события и людей… На самом же деле ничего этого нет, а потому не нужно-де исследовать факты, не нужно производить эксперименты. Нужно закрыть глаза на мир, и вместо этого мира постигать — путем чисто логического рассуждения — одну лишь «субстанцию», в серной кислоте которой растворяются все «различия», все «связи» и всякая «множественность» — все «иллюзии»…
Вот что станет с тобою, читатель, — говорит Бертран Рассел, — ежели ты начитаешься Спинозы и уверуешь в его теорию. Точнее — не с тобой, а только с твоим интеллектом. Он станет совершенно негоден для «современной науки». Его концепция «субстанции» — это глубочайшее и вреднейшее заблуждение, несовместимое с наукой, с философией и логикой XX века. И это заблуждение покоится, как на единственном своем фундаменте, на представлении, будто если «каждое предложение имеет подлежащее и сказуемое», то и сама природа вне языка тоже обязана быть устроена по схеме: субъект — предикат…
Таков Спиноза в изображении лидера «философии науки». Если он прав, то вывод следует сделать такой: Спиноза знаменит как человек, потративший всю силу своей уникальной нравственной чистоты на пропаганду нелепейших и вреднейших заблуждений. Несчастный безумец, погубивший свою беспримерную личность на пустое и вредоносное дело, — наивно-честный безумец…
Поэтому, безусловно, правы были те люди, которые и в 17‑м, и в 18‑м, и в 19‑м веках отвергали его учение как «антинаучный бред», — «логика, философия и наука XX века» доказали-де окончательно их правоту.
Неправы они были, дескать, только в одном, — что обзывали его идеи «ужасающе безнравственными», в то время как они «ужасающе бессмысленны», «ужасающе антинаучны», «ужасающе нелогичны и противологичны».
Так выглядит Спиноза после «перевода» его сочинений на «язык науки» — на жаргон неопозитивизма. Стал он после этого хоть капельку «понятнее»? По-видимому, нет. Он окончательно превратился в загадочный парадокс.
И не только Спиноза. А вместе с ним — и все те люди, которые и в 17‑м, и в 18‑м, и в 19‑м веках видели в Спинозе великого мыслителя, открывшего человечеству глаза на мир. Мыслителя, который сорвал с глаз людей повязку религии — повязку вроде той, что надевали на свои глаза правоверные евреи в синагоге, — чтобы не видеть ничего, кроме своего бога. Мыслителя, который впервые посмотрел на окружающий мир широко открытыми глазами Человека, да еще вооружил эти глаза мастерски отшлифованными линзами мощного телескопа — чистыми линзами понятий. Родоначальника научной критики Библии. Родоначальника умного философского материализма, наследниками которого считали себя Гердер и Гёте, Фейербах и Маркс. Родоначальника глубоких диалектических идей, перед которым отвесил глубоко-почтительный реверанс Гегель, заявивший: «Быть спинозистом, это — существенное начало всякого философствования».
Если вы поверили Бертрану Расселу, то вам уже никогда не понять и Альберта Эйнштейна, который хотел бы видеть именно Спинозу «третейским судьей» в своем споре с Нильсом Бором и спрашивал Бора в письме: а что сказал бы старик Спиноза, если бы его удалось пригласить на дискуссию о перспективах развития квантово-механической модели физической реальности…
Мы не говорим уже о позиции Г. В. Плеханова, который называл марксизм «родом спинозизма» и вспоминал о словах Фридриха Энгельса, который на его вопрос — «Так, по-вашему, старик Спиноза был прав, говоря, что мысль и протяжение не что иное, как два атрибута одной и той же субстанции?» — ответил, не раздумывая: «Конечно, старик Спиноза был вполне прав».
Так что если Рассел прав, то все эти люди тоже, вместе со Спинозой, превращаются в каких-то непостижимых чудаков. И Гердер и Гёте, и Дидро и Фейербах, и Гегель и Маркс, и Плеханов и Эйнштейн. Как они могли принять за великого мыслителя несчастного безумца, погубившего свою жизнь ради очевидной бессмыслицы? Еще одна неразрешимая загадка.
А что если посмотреть не на Спинозу сквозь кривое пенсне лорда Рассела, а, наоборот, взглянуть на лорда Рассела с его «логикой современной науки» через линзы понятий, отшлифованные Спинозой?
Это мы тоже попробуем сделать несколько позже, когда вооружим читателя этими линзами. Думаем, что лорд Рассел, рассмотренный сквозь увеличивающие стекла мышления Спинозы, будет понятен до конца и не будет представлять собою ровно никакой загадки.
Итак, приступим к «переводу» Спинозы на язык, понятный всем и каждому. При этом мы не будем следовать тому формальному порядку, в котором сам Спиноза разворачивает свою теорию, двигаться по цепочке его «дефиниций», «теорем», «аксиом» и «схолий». Эта цепочка будет иметь силу убедительности и доказательности лишь после того, как мы проникнем в действительное «внутреннее строение системы», — то самое ее бессмертное реальное содержание, которое нам надо передать на языке XX столетия.
Но сначала — прежде чем разъяснять логику учения — познакомим читателя с его автором.
От бога — к природе, от религии — к философии
Индивидуум есть сын своего народа, своего мира, и он лишь проявляет субстанциальность последнего в своей собственной форме
Г.В.Ф. ГегельФилософом, как и каждый из нас, Спиноза рожден не был. Философом он стал, сделался. А еще точнее — философом его сделали его эпоха, его народ, его мир, которым он был нужен. Почему именно его? На этот вопрос тоже можно ответить, хотя это и не так уж важно, на его долю выпало свершить дело, которое кто-то должен был совершить, не он, так другой. Слишком напряжена была потребность ясно понять некоторые вещи, ответить на некоторые вопросы, в тисках которых бился каждый живой человек его дней. А тиски эти сжимались все туже и туже, все больнее сдавливая психику людей, все крепче стискивая их мозг и создавая в нем такое давление мысли, которое не могло не прорвать изнутри тонкие оболочки этого нежного органа, — не могло не вырваться наружу криком, словом, хотя бы шепотом.
И оно прорвалось, высказало себя негромким голосом слабогрудого юноши, отличавшегося от рядом с ним живших людей очень немногим. Может быть, тем, что взгляд его глаз был чуточку внимательнее, а нервы — раздражительнее и сон похуже. Может быть, тем, что ему посчастливилось в детстве уже изучить латынь, на которой предпочитали изъясняться в его дни все искатели истины. Может быть, большей честностью в отношении к своим словам и доверчивостью к словам других, которая быстро разбилась, столкнувшись с фальшью и лицемерием… Может быть. Во всяком случае никаких сверхчеловеческих качеств, которым можно было бы подивиться как таинственному чуду, у этого человека не было.
Но случилось чудо — тихая речь задумчивого и грустного юноши, усиленная эхом молвы, загрохотала, подобно весеннему грому, в интеллектуальном небе всего европейского континента — его слова передавались на тысячи километров, их повторяли на разных языках то с восторгом, то с ужасом, но нигде — с безразличным равнодушием. В глазах одних он превратился в кошмарное чудовище, которое вот-вот должен поразить беспримерный гнев Иеговы, в глазах других — в таинственного мудреца, в котором ожил гений Сократа и Аристотеля. И только немногие знали его таким, каким он был на самом деле, — тихим и внимательным собеседником, не любившим споров и резких слов, но зато уважавшим неторопливый дружеский разговор о вещах далеких и близких, грандиозных и ничтожных — лишь бы о реальных вещах. О причинах появления разноцветной радуги после дождя, о свойствах селитры или об устройстве человеческого глаза. О преимуществах республиканской формы правления перед единолично-монархической. О трудностях перевода текстов с мертвых языков на живые и о недоразумениях, которые тут могут возникнуть. О тонкостях грамматики древнееврейского языка. О том, как подавить в себе желание плакать о том, что того не стоит, или смеяться над тем, что заслуживает спокойного и снисходительного раздумья. О наиболее выгодной форме линз для микроскопа. И о многих других вещах, вроде перечисленных.
Что же случилось? Что за удивительная и загадочная судьба? На какие вопросы, мучающие людей и поныне, нашел ясные и четкие ответы этот проклятый от имени всех богов земли сын своей эпохи? Что он сказал такого, что строжайше было запрещено читать или слушать всем его бывшим единоверцам? Что это за удивительный мыслитель, которого триста лет спустя великий Альберт Эйнштейн хотел бы иметь третейским судьей в своем споре с Нильсом Бором?
Семнадцатый век — век переломный, кризисный, жестокий… В Испании и Португалии еще дымятся во славу Божию костры аутодафе, пахнет сгоревшей человеческой плотью… Где-то далеко на востоке спит обескровленная Московия Алексея Михайловича, спит, набирается сил после тяжелой болезни, после опричнины и «смутного времени»… Плетут свои замысловатые интриги кардиналы Ришелье и Мазарини, грохочет артиллерия христианнейшего короля под стенами Ла-Рошели, а бравый д’Артаньян торопится куда-то под покровом ночи навстречу новым приключениям. Скрипят по дорогам Европы тяжелые колеса обозов, тащится куда-то в хвосте наступающей армии жалкий возок мамаши Кураж, а надломленный Галилео Галилей переписывает при свете свечи последнюю страницу заветного трактата. Воюют австрийцы с турками, немцы с немцами, протестанты с католиками, а мусульмане — с православными… В дыму пожаров встает над Англией властная фигура лорда-протектора Оливера Кромвеля, с севера на юг, с юга на север маршируют армии сторонников парламента, врагов парламента, вчерашние союзники, добившиеся своего, начинают яростную междоусобицу… И опять обрушиваются топоры палачей на головы приговоренных, опять льется кровь, опять грохочут орудия, ломаются шпаги и свистят в воздухе розги… Гибнут люди за власть, за металл, за хлеб, за право жить и работать, за убеждения и иллюзии — во славу Господню, во имя господа Иисуса Христа, короля и отечества. Оглашают мир крики ярости и боли, ненависти и отчаяния… И тихие голоса обессилевших, надломленных и искалеченных взывают к небу, к бесконечной благости и милости Божией — доколе, о Господи? Помилуй нас, грешных! Заступись за нас, милосердная дева Мария!
Но опять и опять гремят орудия, снова и снова трещит пламя, пожирающее жизнь, рушатся стены крепостей и жилищ, врываются в мирные селения опьяневшие от крови и алкоголя орды, прокладывая дорогу эпидемиям, голоду, насилию.
А люди живут. Люди трудятся. Люди отливают стволы пушек и возводят храмы, вытесывают мачты кораблей и высекают из мрамора статуи, плавят сталь и чугун, ткут льняные и шелковые полотнища, вьют веревки и выковывают органные трубы, чеканят золото и косят золотые колосья, растят детей и вычерчивают на бумаге замысловатые чертежи и формулы. Люди пишут книги, стараясь объяснить и себе, и другим запутанные загадки человеческого бытия, пытаясь высчитать и вычислить, рассчитать, измерить и взвесить все, что видят вокруг себя, все, что делают их собственные руки, силясь ответить на проклятый вопрос — почему же бедствия столь долговечны и где искать опору своим надеждам, своей уверенности в завтрашнем дне. Силясь отыскать, наконец, истину. Прочную истину в этом запутанном и безумном мире. Истину, которая не зависела бы от капризов власть имущих, от неожиданных вспышек гнева и ярости, от безысходных пререканий между католиками и протестантами, между христианами и мусульманами, между французами и немцами, испанцами и голландцами. Истину, которая была бы так же прочна и надежна, как фундамент тысячелетнего храма, и ясна, как колоннада Акрополя. Истину, которая давала бы такой же надежный ориентир в жизни, какой дают созвездия мореплавателю. Тот ясный ориентир, которого не дают людям веления и заветы капризного и неисповедимого в путях своих Господа Бога…
В этом мире и был рожден мальчик, названный Барухом де Эспинозой. И надо сказать, что ему повезло с самого начала. Он проснулся к сознательной жизни в самом, пожалуй, цивилизованном углу тогдашней Европы, тогдашнего мира, — в тихой Голландии, в благословенных Нидерландах, — в стране, сумевшей на время отгородиться от безумия стихий своего века, и в то же время — гостеприимно открывшей двери всему тому богатству, которым этот век мог поделиться с ней.
Нидерланды — эта земля, отвоеванная трудом людей у стихии моря, земля ниже уровня океана, отгороженная от его слепой разрушительной силы дамбами и плотинами, изрезанная каналами и канавами, отводившими с помощью огромных насосов, вращаемых ветряными мельницами, ненужную и излишнюю для земли воду, — взрастила и народ, понимавший, что такое упорный труд и предпочитавший отвоевывать землю у моря, а не у соседей.
Народ этот издавна привык относиться с уважением к труду и к плодам этого труда, ибо даже почва, которая его кормила, была создана и сохранена трудом. Но, отвоевав себе жизненное пространство у океанской стихии, народ Нидерландов должен был отстоять его перед лицом стихии не менее слепой и грозной, перед сокрушающей силой грабительских армий южных феодальных монархий — стран, где мало заботились о возделывании собственной земли, а с жадностью поглядывали на чужое богатство, — на золото инков и ацтеков, на виноградники и нивы соседей, на все богатство мира, созданное и добытое чужими руками, чужим трудом, чужим потом. Эта злая и своекорыстная стихия и обрушилась на землю Нидерландов с юга в виде полчищ испанских завоевателей, сея по стране ужас, насилие и смерть, оглашая воздух пением католических гимнов и звоном колоколов…
Но народ, заставивший отступить океан, потеснил и эту стихию, вынудив убраться восвояси благочестиво-кровавого герцога Альбу, этого полномочного представителя католического бога на земле, прославившегося своей истинно-католической непримиримостью ко всем инакоживущим и инакомыслящим.
Когда Спиноза родился, испанское владычество было уже вчерашним днем, кошмарным воспоминанием для жителей Нидерландов. С севера ребенка отгородили от холодных волн океана плотины и дамбы, с юга — крепости и заслоны Республики охраняли его жизнь от нашествия католической цивилизации, от угрозы испанских и французских вторжений. Здесь у ребенка было гораздо больше шансов выжить и вырасти, стать купцом или мореплавателем, тружеником или мыслителем, кораблестроителем или художником, чем в любом другом уголке современного ему мира.
Здесь было больше возможностей для того, чтобы не только выжить, но и прожить честным трудом. Больше простора было здесь и для мысли. Здесь уже не сжигали на костре человека, заподозренного в уклонении от правоверно-католического образа мышления, и не старались исправлять мысли путем калечения тела, как то продолжали делать в Португалии и Испании, и даже в просвещенной, пережившей Ренессанс, Италии. Разумеется, и здесь католики до хрипоты спорили с протестантами, однако до прямой поножовщины, как в соседней Франции Людовика XIII, дискуссии между ними все-таки не обострялись. Поэтому именно сюда укрылся со своими рискованными размышлениями француз Рене Декарт, а сломленный зрелищем орудий пыток Галилей тайком переслал для напечатания свой заветный трактат. Сюда, в Нидерланды, старались перебраться, рискуя и жизнью, и имуществом, сотни и тысячи упрямых и деятельных людей, которым невмоготу стало жить у себя дома, — в Португалии и Испании, во Франции и в Польше, в Англии и германских княжествах. И сюда же, через двадцать лет после смерти Спинозы, прибыл учиться уму-разуму молодой Петр Алексеевич, замысливший перестроить на европейский лад жизнь своей Московии…
В порту Амстердама выгружали, грузили, перегружали товары, заключали сделки и договоры, слышалась и английская, и испанская, и индийская, и русская речь, звенели золото и серебро, шуршали бумаги, а ароматы диковинных фруктов с Молуккских островов смешивались с запахом смолистого мачтового леса российского севера… Здесь можно было увидеть и услышать всё, чем богат был тогдашний мир, всё, чем мог поделиться внутри себя род человеческий… Сюда стекались и слухи, и цифры коммерческой информации, и тайные сведения о планах иноземных владык, и достоверные рассказы очевидцев, и письма, и книги — здесь можно было жить жизнью мира, всеми его радостями и бедами, можно было сравнивать, сопоставлять, спорить…
Неудивительно, что именно здесь родился мыслитель, сумевший поставить фундаментальные проблемы своего века с такой четкостью и остротой, которым и ныне можно позавидовать, — и не только поставить, но и решить на таком уровне, который и поныне, триста лет спустя, оказывается трудно достижимым для многих и многих мыслителей, философов и естествоиспытателей. Неудивительно, ибо именно здесь, в Нидерландах, можно было ставить и решать большие проблемы не на узкой базе провинциального опыта, а на уровне мировой культуры. На основе, как любят теперь выражаться, «максимума информации».
О жизни Спинозы мы знаем не так-то уж много достоверного. Документов от нее осталось мало (если не считать, разумеется, изданных вскоре после его кончины сочинений), да и не богата эффектными событиями была эта жизнь. Достаточно уверенным тут можно быть только в самых общих контурах судьбы и личности, а подробности и детали его взаимоотношений с веком и миром так и останутся, по-видимому, навсегда уделом поэтически-окрашенной фантазии. Уже ближайшие ему по времени биографы вынуждены были реконструировать эти детали и подробности со слов и воспоминаний, сильно окрашенных симпатиями и антипатиями, — должны были верить одним и не верить другим, руководствуясь при этом своими собственными представлениями о его личности и о его мыслях… Многого поэтому мы не узнаем с совершенной точностью уже никогда.
Но зато детали не загораживают от нас главного, в котором усомниться уже никак невозможно, — ту канву его личных взаимоотношений с веком, которая остается одной и той же, независимо от подробностей, от деталей и частных обстоятельств, которые могли быть и такими, какими они остались в памяти современников, и несколько иными… В главных чертах жизнь и судьба Бенедикта Спинозы остается и останется очень отчетливой.
Существовали, например, разные мнения относительно места рождения будущего философа. Выставлялись доводы в пользу того, что он не только родился в Португалии, но даже и сам видел, как сжигали живьем еретика по приговору инквизиции, запомнив на всю жизнь его предсмертные мольбы. Другие данные говорят против этого и заставляют думать, что родился Спиноза уже в тихом купеческом доме по соседству с Амстердамской синагогой, и, стало быть, о жестокостях аутодафе мог знать только со слов родителей, действительно переселившихся незадолго до этого с католического юга Европы. Но так ли уж важна эта разница? Важно одно — людей в это время на юге действительно поджаривали живьем, и мальчик об этом знал.
Передают рассказ о событии, которое побудило его относиться с недоверием к высокопарной фразеологии внешне набожных святош, а тем самым — и к букве религиозной нравственности. Отец, будто бы, поручил десятилетнему ребенку получить долг с соседки, совмещавшей в себе крайнюю показную набожность с крайним же корыстолюбием. Та, как рассказывает биограф, «заставила мальчика ждать и в это время усердно читала Писание, затем сосчитала ему деньги и сама вложила в кошелек, причем торжественно увещевала мальчика следовать примеру отца и никогда не отступать от пути закона. В продолжении этой речи она успела отложить в сторону два дуката. Однако Барух, не доверяя лицемерной женщине, пересчитал деньги и открыл обман».
Был такой эпизод в жизни Спинозы или он от начала до конца придуман с нравоучительной или иной целью? Или было что-нибудь похожее на это?
Не все ли равно? Такой или похожий на этот случай вполне мог быть. Во всяком случае и историческую, и психологическую (если не конкретно-фактическую) правду этот рассказ в себе заключает бесспорную. И, во всяком случае, следующим фразам из той же биографии можно поверить на сто процентов:
«С того времени, — продолжает его биограф, — ему еще часто приходилось наблюдать поведение ханжей. Хотя он позднее не вел денежных дел, но и в вещах, которым его учили раввины, он не упускал случая проверить то, что ему давали», — говорится в книге «Жизнь Спинозы», изданной полсотни лет спустя после его кончины, — в 1735 году в Гамбурге[2].
Но, само собой разумеется, это еще ровно ничего не объясняет в судьбе Спинозы. Ведь отвращение к лицемерию и ханжеству легко сочетается с самой искренней религиозностью, с набожностью. Так что подобные случаи (а в них недостатка — уж наверное — не было!) могли даже укрепить его в вере предков, подтолкнуть его мысль на проторенную дорожку рассуждения по схеме: о, сколь нечестивы упоминающие имя Господа всуе! И тогда из мальчика вырос бы лично безупречный моралист-иудей, учитель Закона, раввин-талмудист.
Ведь именно такие конфликты и порождали всегда — и среди иудеев, и среди мусульман, и среди христиан, — фанатических приверженцев отцовской веры, цеплявшихся за букву учения тем крепче, чем меньше следовали этой букве окружающие их люди…
Так, скорее всего, и случилось бы, если бы Спинозе и впрямь пришлось бы делать выбор между двумя позициями — между поэзией ветхозаветной морали и прозой житейской мудрости своих единоверцев. Если бы он остался иудеем — тем, кем сделала его случайность рождения. Ибо перед евреем тогдашняя цивилизация открывала только две дороги — либо быть теоретиком иудейства (раввином), либо — его практиком (торговцем, ростовщиком, банкиром). Можно было, конечно, быть и тем, и другим сразу, не будучи ни тем, ни другим до конца — такими и становилось большинство людей, имевших несчастье родиться в еврейских семьях.
Таким образом, вовсе не специфическое противоречие внутри «иудейства» было тем конфликтом, в тисках которого оказалась мысль Спинозы. Ибо специфическое «противоречие», перед которым оказывался каждый еврей той эпохи, решалось довольно просто — путем «расщепления» этого еврея на «еврея субботы» и на «еврея будней».
Субботу еврей посвящал синагоге, а будни — бирже. Для субботы он имел Моисеево Пятикнижие и Талмуд, для будней — бухгалтерские книги, векселя и долговые расписки… Так он и жил — между биржей и синагогой. Никакого особо мучительного противоречия, никакого повода для особенно напряженных раздумий.
Собственно «евреем» он оставался, таким образом, только в свой «выходной день» — в субботу.
Остальные шесть дней он исповедовал тот же самый «мирской культ», что и христианин. В будни они отправлялись в один и тот же, общий для них обоих, храм — в здание Биржи и священнодействовали во имя одного и того же, общего им обоим, бога — Золотого Тельца, Денег.
В этот храм — в подлинный главный храм Амстердама — собирались с утра и ветхозаветные иудеи, и христиане, и католики, и кальвинисты, и мусульмане, и идолопоклонники (и такие приплывали сюда по своим торговым делам), и ортодоксы, и еретики всех возможных мастей и оттенков, и даже, может быть, тайные или явные безбожники. В будни эти различия никого особенно не волновали — сюда собирались для дела, а не для схоластических пререканий по вопросу о том, как кому нравится проводить свой свободный день.
Здесь, в Амстердаме, вовсе не требовалась гениальная проницательность, чтобы это обстоятельство заметить. Это было повседневной, практически-очевидной истиной жизни — жизни города, превращавшегося в центр буржуазно-капиталистического развития отношений между людьми.
Эта жизнь медленно, но верно вываривала и из еврея, и из христианина, и из мусульманина, попавшего в ее котел, одно и то же — гражданина, члена «гражданского общества», а затем превращала этого «гражданина» либо в имущего дельца, ростовщика, торговца или предпринимателя, либо — в неимущего разоренного бедолагу, вынужденного продавать свою «рабочую силу». Эта «поляризация» в Амстердаме тоже была видна как на ладони, — чтобы ее увидеть, тоже не нужно было обладать сверхчеловеческой прозорливостью и умом. Более того, она заставляла силой обратить на себя внимание даже того, кто хотел бы отвести от нее глаза как от неприятного и неприглядного зрелища.
Заставила эта жизнь обратить на себя внимание и крепко задуматься над собой и юношу Баруха Спинозу. Умер отец, и Спиноза сделался одним из наследников его имущества. Наследовать вместе с имуществом и те обязанности, с которыми оно связано, — т. е. становиться дельцом-торгашом, «евреем будней», или же посвятить себя всецело Талмуду, Пятикнижию и синагоге, стать пожизненным «субботним евреем»? Такую дилемму поставила перед ним неумолимая жизнь.
Но ни тем, ни другим Спиноза уже не испытывал большого желания стать на всю жизнь. Не прельщала уже его и перспектива быть в будни — «евреем будней», а в субботу — «евреем субботы»: делить себя между биржей и синагогой он уже не мог. Слишком близко он успел познакомиться как со схоластикой синагоги, так и с капризами биржи, чтобы бездумно молиться в одном из этих храмов, либо поочередно в обоих…
И Спиноза выбрал.
Он перестал быть «евреем» вообще, не стал ни раввином-начетчиком, ни торгашом, порвал сразу как с «теоретическим», так и с «практическим» иудейством.
Но это делали и многие до него. Рвали с верой отцов и уходили в другую веру. В Европе — крестились, переходили в христианство. На востоке — принимали мусульманскую обрядность. Это было для евреев той поры не только обычным, но часто даже единственно-возможным выходом. И если бы Спиноза покинул иудейство ради другой веры — о нем, наверное, нам так и не пришлось бы вспоминать. Он был бы просто одним из многих — мало ли людей за тысячи лет меняли одну слепую веру на другую?
Но Спиноза поступил по-иному — так, как не рисковал поступать открыто в его век никто.
Порвав с иудейской верой и перестав посещать синагогу, он не стал принимать христианства, не пошел ни в католический костел, ни в протестантскую кирху. Он вышел из церкви вообще.
Это уже было неслыханной дерзостью, было вызовом, было оскорблением всякой возможной традиционной морали — и иудейской, и христианской, и мусульманской.
А иной в его век просто не было. Поэтому его поступок был воспринят в Амстердаме как открытый бунт против нравственности вообще, против всякой морали. Это казалось диким, невероятным, немыслимым, неслыханным, чудовищным! И поползли по Амстердаму, по Нидерландам, по Европе испуганные слухи о дерзком безумце, который добровольно, сам себя, да еще по зрелом размышлении, вычеркнул из рядов рода человеческого! Противопоставил себя всему человечеству и даже самому Богу!
Так, не написав еще ни одной книги, не сказав буквально ни одного слова против «бога», более того, продолжая говорить о своей искренней и бескорыстной любви к «богу», — этот скромный, честный и трудолюбивый человек превратился в глазах всей Европы в кошмарного преступника, в антихриста, хуже того — в «атеиста».
Ведь «атеист» в те времена считался преступником куда более опасным, нежели убийца, грабитель или насильник, ибо если последние нарушают какие-то частные законы права и нравственности, то «атеист» совершает преступление всех преступлений, опрокидывает нравственность и право вообще, и его злодеяние состоит в принципиальном оправдании всех возможных злодеяний!
Самое трагикомическое заключалось в том, что сам-то Спиноза вовсе не заявлял себя «атеистом», то есть «безбожником». Совсем наоборот, он совершенно искренне полагал, что предлагает людям правильное понимание «бога». Отвергая подозрения в «атеизме», он не лгал, не лицемерил и не маскировался, — он говорил, что отвергает лишь те неверные представления о «боге», которые внушаются людям попами, теологами и философами всех существующих религий.
И тут, он, казалось бы, не говорит людям ровно ничего неслыханного, ибо христианские попы тысячи лет твердили о неправильности иудейского представления о боге, иудейские — говорили совершенно то же самое про христианское понимание того же «бога», а для мусульман было одинаково ложным и то, и другое. Больше того — и внутри каждой из этих церквей шла непрестанная грызня по вопросу о том, как «правильно понимать» одного и того же «бога», — в каждой церкви были свои догматики и свои, так сказать, «ревизионисты», «еретики».
Иными словами, сама церковь, расколовшаяся на многочисленные партии и фракции, старательно доказывала своими междоусобицами, что «подлинным», «единственно-правильным» представлением о «боге» не обладает ни одна из фракций или партий.
Да, но при этом каждая из религиозных партий и фракций стояла на том, что именно она, и только она, этим «единственно-правильным» пониманием как раз и обладает… Поэтому даже то набожное представление, согласно которому «все религии правы» — в том смысле, что все они — пусть под разными именами — почитают одного и того же, «истинного», бога, и что поэтому безразлично — каким именно именем этого бога называть в молитвах, — с точки зрения любой из религий должно расцениваться как ужасная ересь. Ибо даже эта благонамеренная попытка, совершенно не затрагивающая «общих основ» всякой религии — понятия бога вообще, — в глазах каждой религии выглядит как покушение на самое главное в ней — на ее самомнение, согласно коему именно она и только она обладает монополией на правильное познание «бога», а все остальные вероучения — это искаженные и еретические представления о «боге».
На языке философии такая попытка создать понятие об «истинном боге», как о том «общем прообразе», с которого сделаны все «особенные» и отличающиеся одна от другой «копии» (Иегова, Аллах, Зевес и т. д.), называется «деизмом» — от слова Деус — «бог». С точки зрения любого определенного вероучения «деизм» — это уже заблуждение, хотя к этому заблуждению наиболее умные попы и относились всегда с известной терпимостью, «теистов» они старались усовестить и доказать им, что все-таки одни религии — более правильны, чем другие, и что «самой правильной», а в конце концов — даже единственно-правильной версией «бога» является именно та, которую они лично и исповедуют…
Совсем иное, уж совсем нетерпимое отношение у всех попов к атеизму. Атеизм — не то, что «деизм», — утверждает гораздо более неприемлемый для любой особенной религии тезис, — он утверждает, что нет вообще никакого «бога», и что все религии одинаково неправы в самой своей основе, общей для любой религии, что все они предполагают на самом деле «несуществующий предмет». Атеизм — это абсолютное, бескомпромиссное безбожие, отрицание всего того «общего», что можно обнаружить во всех богах, как бы они ни назывались.
Так вот в этом, самом страшном умонастроении — в «атеистическом» образе мысли — и был обвинен Спиноза, а слово «спинозист» больше ста лет после его смерти использовалось как полный синоним «атеиста».
Почему же? Ведь по внешней форме, словесно, его позиция походила скорее на чистейший «деизм». Он утверждал, что «бог — есть», что все существующие религии признают этого «бога» под разными именами и поклоняются и молятся ему, хотя ни одна из них и не описывает этого «бога» правильно, таким, каков он на самом деле, «объективно», вне сознания и независимо от сознания любого попа и верующего. Он утверждал, что не видит ничего плохого в том, что человек совершает свои добрые поступки во имя Аллаха, Будды, Иеговы или Христа, искренне веруя в этих богов, и вовсе не осуждал добродетельного человека за то, что тот ходит в синагогу, а не в костел или наоборот — в костел, а не в синагогу. Безразлично, — утверждал Спиноза в разговорах со своими современниками, — с каким именно пророком, с Христом или с Магометом, с Моисеем или с Буддой, он связывает свои представления о принципах подлинно добродетельной жизни. Лишь бы эти представления о подлинной добродетели были действительно правильны. Он утверждал, что и Моисей, и Будда, и Магомет, и Христос вполне могут оставаться «учителями морали», и в учениях, им приписываемых, надо верить тому, что действительно «правильно» в этих учениях, то есть действительно ведет к «добру», а не во зло. Важно одно: чтобы представления о добре и зле, приписываемые как авторам — богам и их полномочным представителям на земле — пророкам, были бы сами по себе правильны, разумны и человечны.
Разве все это не похоже на «деизм» — на тезис, согласно коему все религии — одинаково правы, поскольку они — пусть от имени разных богов — учат людей одному и тому же, а именно — добру, поскольку они в виде понятия «бога» задают своей пастве как бы идеальную модель «совершенного человека»? Задают, по сути дела, один и тот же для всех живых людей, хотя и национально-окрашенный, образец для всестороннего подражания?
Да, по внешности это очень походило на «деизм». И надо полагать, сам Спиноза, отвергая подозрения в «атеистическом» образе мысли, искренне согласился бы, если бы его позицию назвали «деизмом». Он сам продолжал — всю свою жизнь — говорить о «боге» как о реальном «предмете», который по-разному — только наивно-антропоморфически — был отражен в головах основателей всех земных религий, продолжал призывать к «любви к богу», говорить о боге — как «максимуме всех возможных совершенств» и т. д., и т. п., — а свою задачу видел в том, чтобы объяснить людям, наконец, то единственно-правильное представление о «боге», которое крайне искажено, извращено и в этом виде монопольно присвоено попами.
Да, словесно, чисто вербально, терминологически, это была позиция деиста. Словесно, но и только.
А по существу, при полной расшифровке того значения, в каком использовал Спиноза все эти традиционные термины тогдашнего «языка науки»?
Это был действительно чистейший, стопроцентный и до конца последовательный атеизм. Самая ужасающая ересь в глазах любой религии и тех, и наших дней. И тогдашняя церковь не была настолько наивна, чтобы дать обмануть себя словами. Если кого-то эти слова тогда и обманули, то исключительно самого молодого Спинозу.
Вряд ли подозревал юноша Спиноза, что своим «уточнением» понятия «бог» он на самом деле производит такой сдвиг в системе «понятий», в системе «определений терминов», который тотчас же вызывает «цепную реакцию» в духовной культуре всей Европы и прямехонько приводит к обвалу всего грандиозного здания не только всех трех «мировых религий», но и самой Религии вообще…
Его — на первый взгляд (может быть, даже на его собственный первый взгляд) — невинное «уточнение понятия бог» на самом-то деле выбивало из фундамента всякого религиозного мышления главный краеугольный камень. Дальше это здание рушилось уже само собой, совершенно автоматически, уже помимо воли и намерений Спинозы, в головах всех тех людей, которые принимали его невинное «уточнение»…
И церковь сразу же увидела, чем ей это грозит. Она была абсолютно, на сто процентов, права, провозгласив анафему атеисту Спинозе, хотя сам Спиноза «атеистом» себя ни сознавал, ни называл, ни чувствовал, искренне заблуждаясь относительно подлинного смысла и масштаба своей собственной мысли. Он хотел всего-навсего прояснить и уточнить понятие, лежавшее в основе нравственности его эпохи, — исходное понятие этики — уточнить его так, чтобы на него могли опираться впредь только действительно-нравственные, действительно-добродетельные мысли и поступки, и не могли опираться лицемерно-добродетельные, а на самом деле — кроваво-безнравственные умонастроения и понятия.
Спиноза исходил из того, что традиционно-религиозное понятие «бога», — и именно потому, что оно ложно, антропоморфно (то есть скроено по образу и подобию реального грешного человека и потому несет на себе печать всех его очевидных «несовершенств»), — позволяет одинаково хорошо и логично «выводить» из этого понятия — из исходного понятия этики, — как «добрые», так и «злые» по самому их существу представления о «правилах жизни».
Спиноза по наивности своей — вполне понятной в его век — полагал, что народы Европы и всего мира вот уже целые тысячелетия режут друг друга, мешают друг другу счастливо и спокойно жить и трудиться прежде всего потому, что исходят в своих размышлениях о том, как нужно жить, из плохо продуманного, неотчетливого и двусмысленного исходного понятия — из того или иного религиозного толкования «бога».
Поэтому он и видел свою миссию в том, чтобы прояснить до конца это понятие и сделать его способным четко и ясно различать действительно нравственные мысли и поступки от мнимо-нравственных, от лицемерно-ханжеских и бесчеловечных, от национально-корыстных и эгоистически-своекорыстных устремлений и идей, всегда выступающих от имени «бога», от имени пророков того или другого определенного вероучения.
Решая эту — непосредственно очень скромную — теоретическую задачу «уточнения исходного понятия» этики — науки о нравственности, — Спиноза скорее всего и не подозревал, какие сдвиги во всей системе европейской культуры вызовет его корректива, к какому обвалу в здании мировоззрения оно приведет и какой ураган возмущения и опровержений оно вызовет со стороны церкви, со стороны всей официальной идеологии, философии… Ураган, который не только не утихнет даже после его смерти, но даже станет тогда еще злее и свирепее.
Но как всякий обвал в горах, стирающий в конце своего пути целые селения и сметающий как былинки стволы столетних деревьев, начинается с падения крохотного камешка, так и тут.
Спиноза стал на путь, сделавший его подлинным родоначальником теоретически-философской культуры последующих столетий, всего-навсего там, где, выйдя из одной церкви, он не пошел в другую, а остался на улице.
Там, где вынужденный выбирать между двумя хорошо проторенными дорогами, одна из коих вела в синагогу, другая — в христианский храм, он остановился, задумался и выбрал свою, новую, никем не хоженую дорогу — дорогу самостоятельного размышления над коренными проблемами века. Да, по этой дороге не ходил никто из лично знакомых ему людей. Наоборот, все лично знакомые ему люди предостерегали его от такого шага, приводили в пример горестную судьбу Джордано Бруно, Уриеля Дакосты и прочих «вольнодумцев», отщепенцев, изгоев, которые отступили от веры отцов и не нашли счастья в другой вере, в вере отцов чужих…
Но в поле его зрения все же были уже люди, отваживавшиеся пуститься в смелое путешествие по океану самостоятельного мышления — мышления, которое старается во всем докопаться до конца, до последних оснований, и не принимающее на веру, на слово ничего, что не выдержало бы самой придирчивой критической проверки. Такой человек уже жил. Некоторое время он жил даже в том же самом Амстердаме, почти в то же самое время, когда Спиноза учился выговаривать первые слова и делать первые шаги. Вряд ли Спиноза видел Декарта, но Декарт, может статься, и скользнул своим внимательным взглядом по лицу мальчика, гуляя по улицам города. Может быть, кто знает.
Но Спиноза встретил Декарта, как автора книг, учивших людей мыслить, ничего не принимая слепо, на веру. Абсолютно ничего, даже — как это ни парадоксально — существования окружающего мира, даже существования бога, даже существования своего собственного тела. И то, и другое, и третье Декарт требовал доказать. И показывал, что это доказать можно, — и так же строго, как теорему Пифагора…
Декарт и сказал ему, что кроме синагоги, христианской кирхи и Биржи существует еще один храм — библиотека, храм Науки, храм теоретического мышления, где нет другого авторитета, кроме мыслящего Я.
В него Спиноза и направил свои стопы, обойдя стороной и биржу, и синагогу, и костел. Он продолжил путь Декарта там, где остановился Декарт, и ушел по этому пути горазда дальше, чем кто-либо из других последователей Декарта. Так далеко, что мы, живущие триста лет спустя, во многом видим его идущим рядом с нами. И не потому, что мы отстали на триста лет, а потому, что он на триста лет опередил время. Пока это звучит как заверение. Но мы постараемся это доказать.
Итак — не написав еще ни одной книги, а только отказавшись поменять одно вероучение на другое вероучение и сделав это не по капризу, а в результате совершенно осознанного и продуманного решения, на основании продуманного отношения к обоим вероучениям, в частности и к вероучению вообще, — Спиноза уже прослыл «атеистом». Только за то, что он не скрывал тех соображений, на основании которых отказался предпочесть одно вероучение другому и не стал менять одну церковь на другую.
Соображения эти были ясны и просты настолько, что их мог бы усвоить любой ребенок. Они покоились на очевиднейших фактах. Среди правоверных иудеев можно так же часто встретить по-настоящему добрых и добродетельных людей, как и среди христиан, а лицемерные негодяи и ханжи встречаются среди христиан тоже не реже, чем среди иудеев. Значит дело вовсе не в именах богов и пророков, которыми клянутся и те, и другие, а в том реальном способе отношений человека к человеку и к природе, который во имя этих богов и пророков практикуется в жизни. Какая разница, прикрывается ханжа и негодяй именем Христа или Моисея?
Просто? Очень просто. Чтобы сделать такой вывод, вовсе не нужно было обладать сверхчеловечески-гениальным умом. Нужна была только элементарная честность перед самим собой и перед другими. Нужно было мужество, чтобы открыто заявить об этом миру. Мужество, которое — в силу своей беспрецедентности — показалось современникам невероятным, сверхъестественным образцом самоотверженности.
Человек предпочел проводить свои будни за работой в мастерской, зарабатывая свой черствый хлеб шлифовкой оптических стекол, а свои «выходные дни» — не в толпе «единоверцев», сбившихся в кучу только потому, что они — «единоверцы», а за тихой и интересной беседой с добрыми друзьями, с умными и честными людьми, без различия, в какую веру посвятили их во младенчестве родители, какой именно обряд над ними совершили — крещения или обрезания…
Вот и все. И за это он сразу же прослыл отщепенцем, антихристом, атеистом. Только потому, что сделал это открыто, ни от кого не таясь, не маскируясь притворной религиозностью, как делали это многие до него и рядом с ним.
Он сказал об этом вслух — и жизнь его сразу же превратилась в легендарный подвиг, в тяжелый труд.
В чем была его вина? Исключительно в том, что он не пожелал примкнуть ни к одной из существующих религиозных партий. И все партии объединились против него. На него легла тягчайшая вина — вина невиновности, вина нежелания связывать себя с вероучениями, во имя коих вот уже тысячелетия совершались все кровавые злодеяния в мире. И все вероучения, забыв про свои распри, выступили против него единым фронтом. Началась травля, инсинуации, сплетни, клевета, доносы.
Он мог бы легко избавиться от всего этого, публично заявив себя новообращенным христианином, подвергнуться крещению, да выступить разок-другой с обличениями тех глупостей иудейской обрядности, которые были для него очевидны. От него требовалось только одно — обругать одну религию и обрядность ради возвеличения другой религии и обрядности. И посещать отныне — вместо синагоги — церковь, не веруя в ее преимущества перед синагогой, а просто ради формального приличия, посмеиваясь над ней про себя, оставаясь в душе снисходительным скептиком. Стоило сделать это — и он прослыл бы среди христиан добрым и благонамеренным обывателем, мог бы спокойно зарабатывать себе на жизнь шлифовкой стекол, наслаждаться плодами своего честного труда и семейным счастьем да беседами с такими же умными и снисходительными к чужим слабостям людьми… Так мало надо было заплатить за возможность спокойно жить, трудиться и мыслить!
Но Спиноза не заплатил христианам даже этого ломаного гроша, как ни уговаривали его сделать это его многочисленные доброжелатели, думавшие примерно так же, как он, искренне желавшие ему добра и убеждавшие его посчитаться с предрассудками века. Он действительно мог бы поступить так, — откупиться от злобной религиозной черни ничего не стоящим для умного человека пустяком — формальным признанием преимуществ христианского вероучения перед всеми другими и формальным же соблюдением христианской обрядности. Тогда от него отвязались бы и христиане, и евреи (поскольку христиане взяли бы его под защиту), — и он мог бы спокойно жить, работать и думать про себя, как он хочет. Он мог это сделать.
Но тогда человечество не имело бы философа Бенедикта Спинозы.
Оно обрело бы в его лице всего-навсего лишнего благонамеренного амстердамского обывателя — достаточно умного, чтобы думать точно так же, как думал и писал известный всему миру философ Спиноза, но достаточно осмотрительного, чтобы никогда и никому, кроме ближайших друзей, не высказывать свои мысли вслух, а тем более — в книгах…
Он поступил так, как он поступил. Поступив так, он и стал на путь, сделавший его Бенедиктом Спинозой, обессмертив свое имя.
Можно предполагать, что людей, сравнимых с ним в отношении ума, проницательности и наблюдательности, в тогдашнем Амстердаме было немало. Именно из людей этого сорта он и выбирал себе друзей — достаточно умных, чтобы думать так же, как он, но не считавших за умное делать об этом публичные заявления… Тем более после того, как он уже сделал это за них. Не сделай этого Спиноза — сделал бы кто-то другой. Слишком напряженна была потребность ясно понять и сформулировать для всех некоторые важные для всех вещи. Слишком настойчиво просились на язык и на бумагу те единственно точные слова, которые кто-то — не он, так другой — должен был сказать.
Сначала, вероятнее всего, он сформулировал свою мысль не очень точно и не очень отчетливо. И такой она, скорее всего, так и осталась бы навсегда, если бы, произнесенная вслух, она не вызвала бы тотчас же бурю возмущения, если бы она не вступила в открытую схватку с объединенными силами христианско-еврейской ортодоксии. В ходе этой схватки, затянувшейся на всю жизнь ее автора, эта мысль попросту вынуждена была мужать, крепнуть, проясняться, делаться все более отточенной, закаленной, точной и разящей, как меч.
Спиноза и велик, пожалуй, «всего-навсего» лишь тем, что взял на свои плечи — от природы очень и очень хилые — мужественный труд защиты тех общих идей, которые уже созревали в головах десятков и сотен людей, уже формулировались шепотом, более или менее коряво и нескладно, в многочисленных беседах и раздумьях всех думающих людей, и высказал их открыто — от своего имени, не таясь, бросив вызов всем темным силам средневековья. А ввязавшись в сражение с этими силами, он вынужден был — уже в ходе сражения — оттачивать формулировки, заменять слабые звенья своей аргументации на более надежные, отыскивать те единственно точные слова, которые били в цель, в самое сердце врага.
Когда он ввязался в бой, ему не оставалось далее делать уже ничего другого, как постепенно, шаг за шагом, превращаться в рупор своего века, его глубинных «субстанциональных» потребностей. Он попал на дорогу мысли, превратившей его в гения. Ибо «гений» — по меткому определению одного из великих спинозистов Гёте — и есть не что иное, как «интеллект, зажатый в тиски Необходимости».
Проследим же этот путь шаг за шагом. Тогда для нас станут ясны контуры той системы понятий, которую он воздвиг в главном своем сочинении — в «Этике», та подлинная необходимость его мысли, которая весьма существенно отличается от формально-логического порядка следования его «теорем», «аксиом», «определений» и «разъяснений».
И установим с самого начала, что исходной точкой движения его мысли была не чужая мысль, какой бы близкой она впоследствии ни оказалась ему (и потому была им воспринята, «использована» в качестве строительного материала для собственной постройки), а те реальные проблемы, в тисках которых билась его мысль. Проблемы, которые — и именно потому, что это были не схоластически-философские проблемы — могут быть и должны быть выражены на языке, понятном всем и каждому, — без употребления хотя бы одного-единственного специально-философского термина. А уже потом, после того, как мы сделаем их понятными, мы сможем показать, как эти проблемы были выражены им на специальном философском языке, на языке науки 17-го столетия, и что из этого вышло.
А «вышло» из этого очень многое. Специально-философские понятия отличаются одним любопытным свойством. Когда реальная, всем и каждому понятная проблема оказывается выраженной через них, она вдруг — не переставая быть по-прежнему понятной — поворачивается неожиданными для самого переводчика сторонами. Она проясняется в таких ее общих контурах, которые остаются вообще невидимыми до «перевода» с языка непосредственной жизни — на язык философии. Секрет этой удивительной способности философских понятий заключается в том, что эти понятия шлифовались веками и потому как бы сконденсировали в себе вековой и даже тысячелетний опыт мышления людей о себе и о мире. Поэтому-то любая проблема, вырастающая из гущи жизни и потому кажущаяся чисто «местной» проблемой уже только тем, что ее выразили через эти понятия, вдруг начинает выглядеть по-иному, так как она ставится тем самым в контекст всего всемирно-исторического опыта. Иногда она оказывается пустой и давно разрешенной. Иногда, наоборот, оказывается, что та маленькая трещинка, которую надеялись легко замазать несложными рассуждениями и действиями, на самом-то деле проходит через самое сердце современного мира, а потому составляет вовсе не узко-местную проблему, какой она до этого казалась, а принципиальную проблему всей современной культуры. А тем самым и всей человеческой культуры — как прошлой, где она не была решена, так и будущей, на долю которой досталось и решение, и необходимость этого решения.
Со Спинозой случилось именно это последнее. Но это стало ясно и для него самого, и для окружающих лишь позже. Лишь тогда, когда он выразил непосредственно-животрепещущую проблему, мучавшую и его, и тысячи его современников, через четко продуманные «философские» понятия, определения и категории. Только тогда она встала и перед ним, и перед последующими веками, во весь свой исполинский рост. Ее перестали загораживать мелочи и подробности, в одеянии коих она столкнулась с юношей Барухом Спинозой на улицах Амстердама.
Если бы он ее через эти понятия не выразил, она прошла бы мимо него как десятки, сотни и тысячи местных амстердамских проблемок, — и он бы не узнал в этой прохожей ту бессмертную Музу Философии, с которой беседовали до него Сократ и Аристотель, Бруно и Декарт. Будущую собеседницу Ньютона и Лейбница, Фихте и Гегеля, Фейербаха и Маркса, Ленина и Брежнева… И нашу с вами собеседницу.
А встретился первый раз он с ней так:
«…изложу причины, побудившие меня взяться за перо. Я часто удивлялся, что люди хвалящиеся исповеданием христианской религии, т. е. исповеданием любви, радости, мира, воздержанности и доверия ко всем, более чем несправедливо спорят между собою и ежедневно проявляют друг к другу самую ожесточенную ненависть, так что веру каждого легче познать по поступкам, чем по тем добродетелям»[3].
Вероятно, Спиноза — автор этих строк — не нуждается в комментариях, чтобы быть понятным. Он понятен до конца и нам, людям XX века, ибо ситуация, его озаботившая и заставившая «взяться за перо», воспроизводится, увы, и ныне. И люди, «удивлявшие» Спинозу, встречались и встречаются по сей день. Они не обязательно носят христианские одеяния, как в Амстердаме. Одежда и имена, которыми они клянутся, зависят только от времени, места и моды. Люди эти живы по сей день, и именно поэтому для нас с вами Спиноза и понятен поныне без длинных комментариев.
«…Давно уж ведь дело дошло до того, что всякого почти, кто бы он ни был, христианин, магометанин, еврей или язычник, можно распознать только по внешнему виду и одеянию или по тому, что он посещает тот или этот храм, или наконец по тому, что он придерживается того или иного мнения и клянется обычно словами того или иного учителя. Житейские же правила у всех одинаковы»[4].
Здесь — в этих строках — Спиноза еще не «философ». В том смысле, что он еще не «переводит» свои наблюдения и раздумья на язык специально-философской терминологии. Зато он и понятен для каждого — и не знакомого с этой цеховой терминологией. Но уже здесь тихо зреют семена понятий его философии, ибо вообще эти семена прививаются только на почве внимательного и честного отношения к фактам, к реальности.
Посмотрим, однако, как, где и почему Спиноза оказался вынужденным — сначала для себя только, а потом и для всех других — выразить эти наблюдения через специальные понятия философии, через категории вроде «субстанции», «атрибута», «модуса», «бесконечности», «рассудка», «разума», «воли», «адекватности», «целого», «части» и т. д., и т. п.
Зачем это ему стало нужно?
Может быть, только для того, чтобы зашифровать свои взгляды, для того, чтобы, оставаясь непонятным, открыто, на «птичьем языке», говорить миру вещи, которые этот мир бы не потерпел, будь они высказаны на языке, всем и каждому понятном?
Такое толкование существует. Толкование, которое видит в специально философском «языке» лишь уловку, лишь военную хитрость, лишь желание спрятаться за непонятный жаргон, а в тех философских положениях, которые «непосредственно не понятны», — лишь замаскированную «ересь».
Сторонников такого толкования философского языка можно встретить во все века и в любом городе мира. Как правило, они принадлежат к числу тех самых «правоверных» последователей своего «учителя» (Моисея или Христа, Магомета или Будды — это совершенно безразлично), которые убеждены, что все проблемы мира, прошлого, настоящего и будущего, уже решены на страницах «Священного писания» и что поэтому дальнейшее «философствование» — это только «любомудрствование». Рассуждательство, излишнее в том случае, если оно подтверждает истины священного писания, и нетерпимо-вредное, когда оно нацелено на что-то иное.
Сторонники такой «интерпретации» философского языка и философских положений всегда требуют от философа прямого перевода его высказываний и терминов на тот язык, которым написано их собственное священное писание. И если при переводе получается знакомая им фраза из этого писания, они успокаиваются. Если же в переводе на их язык то или иное философское положение начинает звучать непривычно для их ушей, то они немедленно начинают беспокоиться и кричать о «подозрительном образе мыслей», об «уклонении философа» от единственно-правильного (по их, понятно, разумению) пути…
Мы должны успокоить читателя. Спиноза стал выражать свои наблюдения и выводы на языке философии вовсе не для того, чтобы «скрыть» свои еретические мысли. Наоборот, для того, чтобы сделать их предельно явными и для самого себя, и для других. Он осуществил «перевод» своих наблюдений с языка «реальной жизни» — на «язык философии» только потому, что у человечества вообще нет другого способа увидеть в фактах то, что не видно невооруженному глазу, то, что остается невидимым для простого и немудреного «здравого смысла».
Хотя этот «здравый смысл» и остается исходной точкой для самого высокого философствования. В понятиях философии окружающий мир и факты этого мира открываются иными, нежели для простого здравого смысла и его понятий. Иными — в смысле более глубоко, более всесторонне и ясно познанными. А не в том смысле, что философия видит какие-то совсем другие вещи и факты, нежели любой здравомыслящий человек.
Так что философ прежде чем стать философом, должен быть сначала зорким, честным и здравомыслящим человеком. Человеком, который способен ясно различать слова и поступки, чтобы затем судить, где эти слова с поступками согласуются, а где — нет. Иного пути в высшие этажи философского мышления не существует.
На этих высших этажах никто не родится. Каждый поднимается туда с улицы, от ее проблем. Но если ты туда поднялся, то уличная суета и суматоха будут видны тебе уже совсем по-иному, чем «снизу», из гущи самой этой суматохи, где громко вопят, оглушая тебя, ораторы и проповедники готовых вероучений. Ты и их увидишь «сверху» — в той подлинной роли, которую они играют в толпе, и сможешь высказать о каждом из них свое суждение — суждение философа. Взглянув на них с высоты философских понятий, ты только и увидишь, куда они на самом деле — а не в собственном воображении — зовут окружающую их толпу…
А проповедникам это-то как раз и не нравится. Они хотят, чтобы философ, выглядывающий на улицу с верхнего этажа, одобрял бы их, и только их проповеди. Для этого они и изобрели ту «интерпретацию философского языка», о которой мы говорили выше, — интерпретацию, согласно которой философские положения и формулы — всего-навсего «иносказательные формы выражения» тех или других «лозунгов улицы», тех или иных непосредственно-понятных «корыстных» интересов — личных или групповых устремлений,
(Даже от имени «марксизма», от имени учения, принципиально чуждого такому вульгарному пониманию, не стеснялись высказывать подобный взгляд: говорили, что философия с ее понятиями — это всего-навсего «птичий язык» для безнаказанного высказывания «классовых интересов», и ничего более, лишь способ маскировки «классовых интересов» под «общечеловеческие цели»… Это не выдумка, увы, а позиция Богданова и Шулятикова, с которой пришлось ожесточенно воевать Ленину.)
Любой здравомыслящий, честный и внимательный к фактам жизни человек способен подняться на вершину «философского мышления» и овладеть ее языком. Таким и был Спиноза.
Но подняться с улицы с ее оглушающей толчеей, с ее оглушающим шумом повседневности на площадку обзорной вышки, с высоты которой становится видна и вся улица в целом, и те кривые переулки, которые от нее ответвляются, и те просторы, в которые она выводит, чтобы спокойно рассмотреть, упирается ли она в зловонное болото или же в залитые солнечным светом поля, можно только по одной-единственной лестнице.
По лестнице самостоятельного размышления, по лестнице, ступеньки которой — это ясно продуманные логические понятия, строго определенные категории. Ступеньки, высеченные из грубых глыб повседневных представлений и тщательно отшлифованные специальным и очень нелегким трудом людей, вот уже целые тысячелетия работающих, сменяя и продолжая друг друга, в великой мастерской Философии. Трудом Фалеса и Гераклита, трудом Демокрита и Платона, Аристотеля и Джордано Бруно, Галилея и Декарта…
Но тут-то лестница вверх — к небу истины — обрывалась. Ступенька, отшлифованная Декартом, была последней.
Уже она находилась на огромной высоте, от которой у многих начинала кружиться голова. Уже с высоты декартовской точки зрения было видно очень далеко, было видно очень и очень многое.
Но — далеко не все.
И даже еще хуже.
Некоторые вещи, казавшиеся снизу, с улицы, совершенно ясными и прозрачными, такими же привычными с детства, как слово «мама», вдруг начинали выглядеть, как только на них взглядывали с высоты учения Декарта, неожиданно-запутанными, неожиданно-непонятными, неожиданно-пугающими.
Совсем не такими, какими их привыкли видеть снизу, с улицы. И тогда человек, отважившийся подняться на головокружительную высоту, вдруг испытывал полную растерянность и страх и старался поскорее сбежать вниз, смешаться опять с уличной толпой, где все так привычно, все так понятно… И, оказавшись внизу, в толчее повседневной «понятности», он опять шел во храм божий, чтобы возблагодарить Иегову или Аллаха за те чудеса, которые открылись перед ним с высоты.
— Безмерно могущество господнее! Чудны дела твои, господи! — испуганно или восторженно шептали зрители, удостоившиеся посещения обзорной вышки картезианского учения, а затем, спустившись вниз, рассказывали толпе об увиденных ими оттуда чудесах.
И даже самый лучший и квалифицированный гид в этой экскурсии — сам великий Рене Декарт — смиренно признавался, что он абсолютно не в силах понять того зрелища, которое он первым же и увидел, — тех вещей, которые открыл взору всех людей его остро-наблюдательный ум, и публично объявил городу и миру, что понять и объяснить эти таинственные чудеса способен только сам Бог — только тот всемогущий Абсолютный Дух, который сам же эти вещи создал, а потому и знает, как они устроены…
С вершины Картезианского учения было ясно видно, что внизу — на улицах и площадях нашего привычного мира — полным-полно самых настоящих чудес, далеко превосходящих по своей загадочности чудо воскрешения из мертвых или старинный фокус с превращением воды — в вино, а вина — в кровь, хлеба — в плоть «сына человеческого», а плоти сынов человеческих — в излюбленную пищу ненасытного и жестокого и в то же время — любвеобильнейшего и всемилостивейшего христианского Бога.
Эти и им подобные чудеса в разоблачающем свете ума Декарта выглядели уже как жалкие и нехитрые проделки провинциальных фокусников, как простые сказки, внушенные доверчивым людям гипнотизерами в поповских рясах, просто как сны воображения, навеянные людям под мелодичные звучания церковных органов и фисгармоний…
Но зато глаза Декарта увидели вокруг массу действительных чудес, ибо чудесами вдруг оказались те самые самоочевиднейшие факты, с коими имеет с утра до вечера дело каждый земной человек. Это были не сказки, напечатанные в знаменитом собрании нравоучительных притч — в Библии, а самые что ни на есть настоящие чудеса повседневности — чудеса, с которыми каждый обыватель свыкся настолько, что перестал даже замечать их загадочность, их полную немыслимость, даже невероятность. Что же это были за таинственные чудеса?
Чудеса Господни и чудеса повседневности
И вся сила аргумента, употребленного мною здесь для доказательства бытия Бога, заключается в том, что я признаю невозможным для своей природы быть таковою, какова она, если бы Бог не существовал в действительности
Рене Декарт
Самая великая загадка и чудо, которого я не могу объяснить и которого никогда не сможет объяснить никто — ни я, ни кто-либо другой, ибо она превышает силы человеческого ума вообще, — это Я сам, а точнее — мой собственный ум. Я не могу и не надеюсь понять, почему я умею делать все то, что я делаю, — каждый день, каждый час, каждое мгновение.
Я не знаю, верно ли всё то, что рассказывают про Иисуса Христа и про Магомета, про их чудесные деяния, — может статься даже, что их выдумали древние писатели с нравоучительной или иной целью. Может быть — ведь написал же остроумный Сирано де Бержерак о том, как он летал на луну. Но я-то хорошо знаю бравого Сирано и потому склонен думать, что все это произошло с ним не на самом деле, а только в его талантливом воображении.
Я не знаю также наверняка — правда ли, что всемогущий Господь Бог сотворил весь окружающий нас мир за одну рабочую неделю? Да что там, как ни страшно мне в том признаться, но я не знаю наверняка — а был ли Бог вообще и существует ли он теперь? И не только Бог, а и весь тот мир, который он, как говорят, создал, — весь тот мир, который я вокруг себя вижу. А вдруг все то, что я вокруг себя вижу, всего-навсего лишь причудливый сон, навеянный мне каким-то могучим чародеем? И в этом сне снятся мне всякие приятные и неприятные вещи — и звездное небо над моей головой, и та нелепая война, в которой я будто бы принимаю участие, и книги, которые я пишу, и даже ты, мой читатель?
Вдруг всё это и в самом деле только сновидение, от которого я вдруг проснусь в каком-то другом, совсем непохожем на этот, мире? Вдруг все эти события — и пальба из пушек по живым людям, и орудия пыток, которые показали достойному Галилею, и облака, плывущие над моей головой, и деревья, среди которых я прогуливаюсь, — всё это существует только в моем воображении?
Ты усмехаешься, мой читатель? Ты принимаешь меня либо за сумасброда, либо за жулика, решившего заморочить тебе голову нелепыми рассуждениями? Поверь мне, это не так! Я просто-напросто честный человек, который решил отныне писать только то, в чем я сам уверен на сто процентов, — ни словечка сверх этого. Я решил ничего не повторять с чужих слов, решил рассказывать тебе только то, что я лично видел, осязал, пережил, обдумал, проверил и перепроверил. И если к тому, что я знаю, примешивается хотя бы капелька сомнения — а так ли это на самом деле? — я буду считать, что я этого не знаю наверное и не стану учить этому других. Это было бы просто нечестно.
Я считаю себя вправе учить других только тому, что я сам знаю до конца, только тому, что я сам умею делать как мастер. Например, я, Рене Декарт, изобрел аналитическую геометрию — очень ценную науку, которая позволяет любому артиллерийскому офицеру точно и заранее вычислить траекторию полета ядра и тот угол, под которым надо поставить к горизонту пушечный ствол, чтобы ядро угодило в цель, не делая при этом никаких чертежей, а только решая в уме уравнения.
В точности моих вычислений и правил, по которым их надо делать, я уверен на сто процентов и могу научить этому искусству любого человека, если он не безнадежный дурак. Тут я — мастер, я знаю предмет до конца, потому что я сам его сделал и мог бы сделать опять, если это понадобится. Вообще ведь любую вещь знает хорошо и до конца только тот, кто ее сделал, — часовщик — часы, кораблестроитель — корабль и т. д. Знать вещь — значит знать, как ее сделать и из чего ее можно сделать, если она исчезнет.
Так вот, единственная в мире вещь, единственное в мире чудо, которое я не смогу никогда воспроизвести, воссоздать, если она вдруг (по воле Бога или по воле негодяя-убийцы, что уже совершенно безразлично) исчезнет, — это мое собственное Я, то самое Я, которое обычно называют словом «душа», хотя чаще всего и не отдают себе полного отчета в том, что именно они под этим словом разумеют. Я не смогу повторить это чудо даже только в уме, а не то что на самом деле. Потому, что для этого уже нужен «ум».
Я знаю, могу и умею делать очень многие вещи и могу научиться делать также и многие другие. Одного не могу — сделать ту вещь, которая все это умеет делать, — мое собственное Я, мою собственную «душу», мое собственное «мышление». Впрочем, не надо трех слов — это одно и то же. Я не знаю, откуда и как во мне берется эта удивительная способность — «мышление», т. е. «душа в действии». Я не знаю также, а правильно ли я мыслю? Я надеюсь, что правильно, но знать этого наверняка — не знаю. Я не настолько самонадеян с тех пор, как убедился на собственном опыте, сколь часто я ошибался в жизни, сколь часто я принимал за достоверное то, что позднее оказывалось чистейшим заблуждением, то есть почитал за истину всего лишь продукты воображения — моего ли собственного или же чужого…
В самом деле, очень может статься даже, что моя знаменитая нынче аналитическая геометрия — это тоже лишь продукт моего воображения и одновременно — послушное орудие чужого, капризного и злонамеренного воображения. Разве не так? Ведь если какой-то артиллерист точно вычисляет положение своих пушек, чтобы вдребезги разбить цветущий город только за то, что его жители несколько по-иному представляют себе Бога, чем этот артиллерист или король, приказавший ему расстреливать «еретиков», то не значит ли это, что он поступает, может быть, и неправильно, хотя все его вычисления безупречны?
В самом деле, разве может моя аналитическая геометрия поручиться за то, что и в самом деле необходимо наводить пушки на город только по той причине, что местные жители имеют в своем воображении несколько иной образ Бога, чем мой король? Значит, точно рассчитанная траектория полета ядер и полет настоящих ядер, согласный с нею, повинуются капризному воображению, проектируются и осуществляются в согласии с капризом этого воображения, а вовсе, может быть, не в согласии с подлинной волей подлинного Бога? Разве не так?
Посему я и предпочитаю думать — всё то, что я кругом себя вижу, всё то, что считается «достоверным», и все те действия, которые я сам совершаю в качестве офицера на войне, и всё остальное — все это происходит по воле Воображения, суть фантомы Воображения (моего или же чужого), суть результаты ошибочных действий моего «ума», моей «души», а вовсе не абсолютно верные истины. Каков Бог «на самом деле», этого я не знаю точно, точно так же, как не знаю и другого — а надо ли палить из пушек по людям, которые представляют себе этого Бога несколько иначе, чем Я?
Я этого не знаю наверняка и думаю, что этого не знает никто. А поскольку жить все-таки нужно и действовать нужно — служба обязывает, — я и поставил себе за правило: во всех сомнительных случаях думать так, как то предписывают мне обычаи и нравы моей родной страны. Это и есть мое первое правило:
«Первое — это подчиняться законам и обычаям моей страны, блюдя религию, в которой по милости Бога я воспитан с детства, и во всем остальном руководствоваться мнениями, наиболее умеренными и далекими от крайностей, общепринятыми среди самых рассудительных людей, с коими мне придется жить. Ибо, не ставя ни во что все мои собственные суждения, как подлежащие проверке, я был уверен, что самое лучшее для меня — следовать мнениям людей, наиболее рассудительных, и хотя бы среди персов или китайцев имелись, быть может, люди столь же рассудительные, как и среди нас, мне казалось наиболее полезным следовать правилам тех, с которыми мне придется жить…»[5]
На этом стою я, Декарт. И это мое правило не изменилось после того, как я, подвергнув проверке все, что я знаю и могу знать, понял: я могу узнать все, все могу научиться делать, кроме одного, — кроме моего собственного Я, кроме моей собственной «души», которая умеет «мыслить» обо всем остальном, включая сюда и самое себя. Мое собственное Я, моя «душа», мое собственное «мышление», мой собственный «интеллект», «разум», «рассудок» (это все слова, обозначающие одно и то же) — вот то величайшее из чудес мироздания, которое невозможно ни понять, ни объяснить, ни вновь воссоздать, если оно исчезнет.
Правда, я хорошо знаю, как именно это «Я» действует, и могу перечислить те правила, по которым строятся все его действия, — ведь я сам все эти действия и произвожу. Странно было бы, если бы я не мог проследить, что и как я делаю сам, когда «мыслю». Я могу совершенно точно описать, как действует мое Я. Но не могу ни понять, ни объяснить, ни описать — ПОЧЕМУ оно вообще способно все это делать… В этом-то и чудо.
Ибо «объяснить», как я думаю, — это значит ответить на вопрос «почему?» и «почему так, а не иначе?», а не просто описать вещь, как она выглядит. Ответить на вопрос «почему?» — значит точно указать на ту другую «вещь», которая активно, своим собственным действием, вызвала к жизни интересующую меня и описанную мною вещь как свое «следствие».
Правда, лет через двести — триста после моей земной кончины найдутся люди, которые скажут, что единственной заботой Науки должно быть одно лишь описание тех или других вещей и что наука должна отвечать лишь на вопрос «как», а вопрос «почему так, а не иначе», оставить в покое. Но я, Декарт, полагаю, что это — просто уловка ленивых и недобросовестных людей, не желающих или не способных взять на свои плечи труд научного объяснения и выдающих эту свою неспособность и лень за добродетели.
Конечно же, я, Декарт, не хуже их знаю, что «причину» найти очень нелегко, а в некоторых случаях и вовсе невозможно. Но разве это можно считать основанием для вывода, что «причины» искать и не нужно? Ведь если это было бы так, то зачем тогда вообще Наука?
Я думаю, что если Наука не отвечает на вопрос «почему?» — т. е. не дает причинного объяснения вещи, а только эту вещь описывает, только рассказывает, как эта вещь выглядит, — то это и не есть Наука, как достоверное знание о вещах, а всего-навсего систематизированное описание моих или чужих представлений, только плод Воображения, а не Разума. Не зная «причины», я не знаю тех условий, при которых интересующая меня «вещь» возникает с необходимостью, а не по чуду, и потому не могу активно — по своей воле — эту вещь вызывать к жизни, создать или воссоздать ее своим собственным действием. Иначе говоря, не зная «причины», я и сам не могу выступить в роли «причины» возникновения этой вещи, не могу повторить акт ее творения.
Так вот, я думаю, что Наука (т. е. «разум» или «моя душа в действии») только затем и существует, чтобы вооружать меня знанием «причин». Иначе все ее рассказы имеют не большую ценность, чем те «описания», которые можно услышать в любом портовом кабаке.
Я думаю, что Разум обязан активно отыскивать «причины» всех вещей, с которыми сталкивает меня жизнь, и что он по природе своей только к тому и предназначен.
Одну-единственную причину Разум не может отыскать своими собственными силами — это причину самого себя… В этом — вся суть моей философии: не зная «причины самого себя», Разум именно поэтому и может и должен познавать причины всех остальных «вещей».
Это — его статус, его «природа», он должен примириться с этим положением, но только для того, чтобы тем усерднее расследовать все другие «причины», причины всех других вещей в мире, не отвлекаясь на поиски «причины самого себя». Это — непосильная для него задача, и тут он просто обязан — как это ни прискорбно — целиком положиться на мнение авторитетных людей — авторов Священного Писания, Отцов Церкви, Папы Римского и его полномочных представителей — теологов.
Лучшего ответа на этот вопрос Разум своими силами найти не может, и потому — как всегда в сомнительных случаях — следует успокоиться на самом вероятном, на мнении, которое разделяют все наиболее рассудительные люди. Поэтому следует думать, что Разум должен видеть «причину самого себя» в Боге и, успокоившись на этом — самом вероятном — мнении, взяться, засучив рукава, за активное расследование причин всех других вещей. Так думаю я, Декарт.
Те же люди, которые уверяют, будто Разум — поскольку он не может отыскать «причину самого себя», тем более не способен найти причины других, отличных от него, «вещей» — должен вообще отказаться от «причинного объяснения» и ограничиться одним лишь «описанием», — просто лентяи, и притом — не очень добросовестные люди.
Я, Декарт, уступаю Папе Римскому и Теологам только в одном пункте, хотя и очень важном, и уступаю только потому, что не смог, сколько ни бился, найти причину моего собственного Разума, в чем откровенно и признаюсь. Эти же люди, напротив, заранее уступают всё поле сражения Теологам, предоставляя им монопольную привилегию на «причинное объяснение» всех без исключения настоящих и будущих вещей, и при этом не хотят честно в этом признаться, а лицемерно выдают себя за представителей «философии Разума», «философии Науки». С ними я не имею ничего общего.
Я не нашел причины моего собственного Разума (моей души в действии), но вовсе не изобразил эту свою слабость за добродетель и тем более не порекомендовал мою позицию в этом вопросе в качестве «правила для руководства ума вообще». Напротив, в качестве таких правил я описал как раз правила причинного объяснения всех возможных вещей. И если это правило я сам не смог реализовать в вопросе о «душе», то этот прискорбный случай надо рассматривать как исключение, а вовсе не как правило для руководства. Но об этом — довольно.
Итак, поскольку я не знаю «причины», по которой существует мой собственный Разум (ум, мышление, рассудок), хотя и знаю, как он выглядит и умею подробно описать всё, что он делает, — я не знаю также — правильно ли я мыслю? Согласуются ли мои действия и те правила, по которым я это делаю, с подлинным порядком вещей, установленным Богом, — с божественным порядком вещей в космосе. Все мои мысли и все мои правила, может быть, и неверны. Не знаю и не могу этого утверждать со стопроцентной уверенностью.
И это — мое твердое правило, — если я чего-нибудь не знаю и не надеюсь узнать наверняка, — то считаю за лучшее думать и поступать так, как предписывают мне принятые в моей стране обычаи и люди, больше других размышлявшие над этим, — авторитеты. Им я и доверяюсь во всем, чего не в состоянии узнать точно мой собственный ум, во всем, чего я не надеюсь познать до конца точно, в частности во всем, что касается обычаев, нравов, моральных ценностей и обязанностей.
Тут я — добрый христианин, и именно — католик, придерживающийся всех тех вещей, «в которых мы обычно не сомневаемся касательно правил нашего поведения, хотя и знаем, что в смысле абсолютном эти правила, может быть, и неверны…» (Р. Декарт).
Понял ты меня теперь, мой читатель? Понял ты, что я — не жулик, не сумасшедший и не софист, решивший ради гимнастики ума поиграть словами, не имеющими смысла? Понял ты, что я — просто честный человек, решивший отныне учить других только тому, в чем я сам уверен на все сто процентов и ни на процент меньше?
В одном я, правда, именно настолько и уверен касательно моей собственной «души». А именно — что она существует.
Можно сомневаться во всем — это и делает моя «душа», — но именно для того, чтобы это делать, она и должна существовать. В качестве сомневающегося Я-то уж по крайней мере существую…
Пусть даже только во сне, в том запутанном сновидении, где я, Рене Декарт, привиделся самому себе в виде офицера французского короля, разъезжающего с поручениями по кровавым дорогам Тридцатилетней войны, которая тоже, может статься, происходит только по воле Воображения — моего собственного или же чужого, что безразлично, — но уж во всяком случае — не по воле Разума… Может быть, и мое подлинное Я, которому днем снится этот запутанно-кошмарный сон, просыпается к своей подлинной жизни лишь тогда, когда я размышляю. сомневаясь во всем, все проверяя, все подвергая «причинному объяснению» и тем самым — становлюсь свободным от власти злого и капризного воображения, призраки коего мучат меня днем.
В этом и заключается первое основоположение моей философии, в котором я уверен настолько, что осмеливаюсь учить ему всех других. Я сомневаюсь во всем, следовательно, я существую. Хотя бы только в качестве «сомневающегося». Но «сомневаться» — разве не то же самое, что мыслить? Можно сказать поэтому так:
Я мыслю, следовательно, — существую
Cogito ergo sum.
И это уж несомненно.
Это уж факт, самоочевиднейший факт, выраженный в виде теоретической истины. И ты, мой читатель, согласишься со мною тоже на сто процентов, если только тщательно покопаешься в своей собственной душе. Эта истина и для меня, и для тебя, и для любого мыслящего существа одинаково достоверна.
Поэтому положим ее смело в основание всех своих дальнейших размышлений и двинемся дальше, шаг за шагом, ничего не пропуская, ничего не упуская из виду и всегда стараясь проверить на собственном опыте — а так ли это?..
И — что очень важно — будем сосредоточивать свое внимание на вещах, подлежащих рассмотрению, а не на словах, с помощью которых эти вещи обычно описываются.
«Ввиду того, что мы связываем наши понятия с известными словами, чтобы выразить их устно, и припоминаем впоследствии слова легче, нежели вещи, то едва ли понимаем когда-нибудь какую-либо вещь настолько отчетливо, чтобы отделить понятие о ней от слов, избранных для ее выражения. Внимание почти всех людей сосредоточивается скорее на словах, чем на вещах, вследствие чего они часто пользуются непонятными для них терминами и не стараются их понять, ибо полагают, что некогда понимали их, или же им кажется, будто они их получили от тех, кто понимал значение этих слов, и тем самым они тоже его узнали…»[6]
Будем, насколько это возможно, четко и точно определять смысл и значение каждого словечка, которым мы пользуемся, чтобы чисто словесные споры не загораживали от нас споров о существе дела, о самих вещах. Иметь «понятие» — значит точно знать вещь, а вовсе не слово, которое ее обозначает.
Особенно важно помнить об этом, когда речь заходит о таких важных вещах, как «душа» или «мышление» (интеллект, разум, рассудок), ибо слишком часто, увы, под этими словами понимают бог знает что — все что угодно, никогда не стараясь отдать себе отчет в смысле этих слов, то и дело применяя их то к одной, то к другой, совсем не схожей с ними вещи.
Я же, Декарт, рассмотрев вопрос настолько тщательно, насколько это было для меня возможно, пришел к выводу, что «интеллект» (ум или мышление, как чистое действие «души») надо четко отличать от Воображения, которое рисует нам всевозможные вещи — как существующие на самом деле, так и никогда не существовавшие нигде, например кентавров или левиафанов. Интеллект же специально расследует, какие из образов, возникающих внутри нас самих, «адекватны самим вещам», тому, что есть на самом деле, а какие есть только призраки нашей собственной фантазии, абсолютно непохожие на то, что существует «на самом деле», — вне нашей фантазии, независимо от капризов нашего Воображения.
В этом смысле «интеллект» всегда выступает в роли судьи, расследующего показания Воображения, — этого свидетеля, который очень часто ошибается, представляя как «существующие» такие вещи, которые он сам же и выдумал. Интеллект же должен всегда определить, что именно в показаниях этого легковерного свидетеля, то и дело принимающего свои выдумки за правду и любящего эту голую правду приукрашивать, можно принять за правду, хотя бы частичную, а что — отбросить как чистую ложь.
Поэтому ни в коем случае нельзя путать вещь, обозначаемую словом «интеллект», с вещью, которую называют «воображением», как это часто происходит с людьми, не привыкшими к ясному и строгому употреблению слов. Это так же рискованно, как перепутать функции судьи на процессе с функциями свидетелей, между коими обязательно бывают и лжесвидетели, злонамеренные или только честно заблуждающиеся.
Судья должен определить, где в словах свидетелей — Правда, а где — Ложь, хотя бы и невинная.
Воображение у каждого свое, каждый представляет себе вещи по-своему в зависимости от своего устройства, от богатства жизненного опыта, от настроения и даже от состояния своего тела — когда болит печень, весь мир рисуется в очень мрачном свете.
Воображение потому и недопустимо путать с Интеллектом, с Мышлением — с «человеческой мудростью, остающейся всегда одинаковой, как бы ни были разнообразны те предметы, к которым она применяется, и если это разнообразие имеет для нее не более значения, нежели для солнца разнообразие освещаемых им тел, то не нужно полагать человеческому уму какие бы то ни было границы»[7].
Посему непознанных еще нами вещей много, но непознаваемых — нет. Кроме одной-единственной, повторю опять, кроме самого «ума».
«Способность правильно судить и отличать истинное от ложного — что, собственно, и именуется здравым смыслом или разумом, — от природы у всех людей одинакова»[8].
Эта способность — критически разбираться в показаниях Воображения — и называется мною Интеллектом (он же — «ум», «здравый смысл», «рассудок», «разум», «мышление»).
Откуда во мне взялась эта удивительная способность и в чем ее «причина», я не знаю и не надеюсь узнать. Поэтому я склонен полагать, что она принадлежит нам «от природы», «прирождена нам», или, как принято выражаться в мой век, — «от Бога», «вложена Богом», его «действием».
Но что она в нас есть — это факт. Поэтому каждый читатель должен согласиться с моим основоположением — «Я мыслю, следовательно, — существую», по крайней мере в качестве мыслящего.
Поэтому-то единственным прочным фундаментом всякого «разумного понимания» я и считаю наличие самого Разума (Интеллекта, Ума).
Отсюда я и делаю вывод, — не будем же стараться выяснить вопрос о происхождении, о «причине» этой способности — предоставим отвечать на этот вопрос Теологам и, исходя из того, что эта способность в нас есть, постараемся лучше применять ее к исследованию всех других вещей и их «причин».
Установим, иными словами, что «естественный свет разума» способен освещать любую из бесконечно-разнообразных вещей в мире, кроме самого себя. Даже и солнечный свет сам себя осветить не может — для этого нужен источник светового излучения более мощный, нежели солнце. Тут аналогия полная. Свет, освещая и тем самым делая видимым любое другое тело, сам остается невидимым.
(Я думаю, что физики когда-нибудь совершенно точно сумеют разъяснить, почему это так, т. е. покажут те телесно-геометрические свойства вещества, благодаря которым мы видим с помощью света любое тело, но не можем видеть самое «тело света».)
У меня, правда, на этот счет также имеются продуманные соображения, гораздо более правдоподобные, чем представления, которых придерживаются все до сих пор жившие физики, полагающие, вслед за Демокритом, будто «свет» — это поток очень быстро летящих в пустоте крошечных частиц-корпускул, которые отскакивают от любого — более крупного, нежели они сами — тела, как дробь от стальной плиты, и, влетая в наш глаз, вызывают внутри него некоторое изменение — раздражают ретину, как тысячи булавочных уколов. Эту гипотезу я считаю совершенно нелепой, настолько нелепой, что ее должен отвергнуть, продумав ее до конца, даже ребенок. В самом деле, не говоря уже о том, что эта гипотеза предполагает «пустоту» — т. е. нечто несуществующее, «ничто», принятое за существующий на самом деле «предмет», — эта гипотеза прямо ведет нас к нелепейшему выводу, согласно которому мы, когда что-нибудь «видим», воспринимаем вовсе не внешние тела, не их форму и расположение, а всего-навсего лишь особое состояние задней стенки глазного яблока, называемой у врачей «ретиною», и это состояние особо нежной и чувствительной пленки столь же мало похоже на «внешние вещи», как и зубная боль — на геометрическую форму зубоврачебного сверла, впившегося в зуб.
Из этой гипотезы прямо следует, будто с помощью света мы «видим» — воспринимаем — вовсе не другие тела, а лишь те особые «действия» или «следствия», которые эти другие тела через посредство отскакивающих от них световых корпускул вызывают внутри нашего собственного тела, внутри нашего глаза. Если эта гипотеза правильна, то следует сказать прямо, что никаких внешних тел мы никогда не видели и не увидим и что мы воспринимаем с помощью органа зрения не «внешний мир», а всего лишь наше собственное внутреннее состояние, вызванное какими-то абсолютно не похожими на него «причинами»… Но этого вывода физики не делают, ибо боятся, что в таком случае нелепость их гипотез станет очевидна и для ребенка, который хорошо знает, что с помощью глаз он видит все-таки внешние вещи, а вовсе не только «раздражение внутри своего глаза».
Поэтому я и думаю, что «свет» остается невидимым вовсе не по причине чрезвычайной малости «световых корпускул», а по той причине, что у «света» вообще нет своего особого «тела», по той причине, что «свет» — это не масса летящих частиц, а, скорее, особое действие непрерывной среды, наполняющей все мировое пространство, действие, похожее, скорее, на перемещение волн в океане, — так что «частицы», переносящие световое воздействие, вовсе не летят в пустоте, а, оставаясь примерно на том же самом месте, колеблются очень тонко, заставляя колебаться соседние частицы, и, толкая таким образом одна другую, передают колебание на очень большие расстояния и притом очень быстро.
Передачу светового воздействия можно потому уподобить скорее давлению, оказываемому на ретину нашего глаза длинным «столбом» частиц, другой конец которого «упирается» в видимое тело. Поэтому-то с помощью глаза мы как бы «ощупываем» вне нас лежащую вещь, совершенно так же, как слепой ощупывает своей палкой форму и положение вещи, встретившейся ему на пути. Тогда становится понятно, что с помощью глаза мы видим именно внешние вещи, а вовсе не особые раздражения внутри глаза, внутри нашего собственного тела, — воспринимаем форму и расположение других тел, а вовсе не форму и расположение частиц внутри нашего собственного тела.
Я думаю, что физики только тогда правильно объяснят причину и природу света и зрения, когда откажутся от нелепого представления о световых корпускулах, некритически заимствованного ими у древних греков, и примут мою точку зрения на свет как на своего рода «волны в эфире» — в непрерывной тончайшей телесной среде, заполняющей все мировое пространство, — и перестанут представлять себе «свет» как быстрый полет выдуманных ими крошечных неделимых корпускул в выдуманной ими же «пустоте» (т. е. пространстве, как его понимают все пустые люди).
Но довольно об этом — мы говорим сейчас не о природе света, а о природе «естественного света разума» — о природе мышления («души») и о связи этого мышления с нашим собственным телом.
Только одно я хочу добавить специально для тех, кто будет беседовать со мною лет через триста, когда мое бренное и хилое тело уже давным-давно сгниет под могильной плитой, и от меня останется только та часть, которая бессмертна и вечна, — моя «душа».
Разумеется, я имею в виду вовсе не сомнительное удовольствие исполнять роль призрака на сеансах столоверчения (которое через триста лет будет, несомненно, называться как-нибудь иначе — то ли телепатией, то ли парапсихологией) и шептаться с потомками через посредника медиума. От такого посредника да упасет меня бог — знаю я этих прохвостов, — всё переврут! От имени моей души я уполномочиваю говорить только написанные мною книги и письма. В них-то и будет обитать моя душа (мои мысли, мой интеллект), которая будет оживать каждый раз, когда кто-то станет мои сочинения перечитывать и обдумывать, то есть будет воспроизводить ход моих мыслей в своей собственной голове.
Так вот, если через триста лет после моей земной кончины какой-нибудь умник скажет вам, что Декарт построил свою философию путем «обобщения успехов современного ему естествознания», то плюньте этому умнику в глаза.
Я никогда не занимался обобщением чужих успехов, а предпочитал добиваться своих собственных, и не только в математике и физике, а и в философии. Обобщать и без того общие идеи — занятие пустое и легкое, и предаваться ему может только очень несерьезный и легкомысленный человек, легковерно принимающий за чистую монету всё, что пишут современные ему естествоиспытатели, и даже не пытающийся критически разобраться в том, что они пишут, — отличить разумные идеи от плодов воображения.
Иначе говоря, такого дикого представления о философии может придерживаться только тот, кто совершенно не понимает природы мышления и не умеет правильно пользоваться этой драгоценной способностью, отличающей человека от любого животного, — только раб чужого воображения.
Ведь что касается общих идей, руководящих их мышлением, естествоиспытатели никогда — ни в мое время, ни раньше, ни позже — не отличались и не могут отличаться оригинальностью. Общие идеи они всегда заимствуют у давно умерших писателей, хотя и не любят в этом признаваться. Так что если бы я и в самом деле «обобщил» те «общие идеи», которыми руководствуются современные мне физики и математики, то я получил бы опять ту самую философию, которой они обучались в школе, — лишь мешанину из плохо или хорошо переваренных идей Демокрита, Платона и Аристотеля… Так зачем же это делать, если можно прочитать самих древних писателей?
Поэтому-то я никогда и не «обобщал» (то есть не сводил воедино) те общие места, которыми руководятся современные мне естествоиспытатели, а критически исследовал эти общие места в том их классически ясном и классически выраженном виде, в каком они изложены у их подлинных авторов — у Демокрита, у Платона и Аристотеля, чтобы выяснить, что в этих общих местах разумно, а что — нет, различить несомненное от сомнительного.
Ведь философия тоже требует мышления, то есть способности различать то, что выдерживает самое решительное сомнение, от того, что такого сомнения не выдерживает.
А просто «обобщать» и без того «общие» идеи — значит просто переливать из пустого в порожнее. И никакого «мышления» для этого не требуется — тут достаточно умения пересказывать одно и то же, только другими словами, и выдавать это занятие за «мышление» — тем более за «философию» — способен только либо крайне наивный и невежественный в философии человек, либо жулик, желающий продать вам залежалый товар в заново подкрашенной словесной таре, в тех терминах, которые на сей день почему-либо стали модными…
Философу же, как и всякому самостоятельно мыслящему существу, заниматься этим попросту неприлично.
Поэтому-то я, Декарт, никогда и не занимался «обобщением» готовых и без того общих мест, а всегда старался — по примеру достойного Галилея — расследовать вещи и их причины сам, доверяясь только своему собственному во всем сомневающемуся уму да точному эксперименту. В философии я всегда поступал точно так же, а не «обобщал» чужие идеи и методы, а особенно модные.
Когда я, устав от математики, брался за философию, то я тут исследовал до конца «вещи», составляющие специальный предмет философии, а не болтал о каких-то других вещах и о том «общем», что имеют между собою эти разнообразные, может быть, и очень интересные, но никакого отношения к философии не имеющие вещи.
Именно поэтому мне и удалось разработать новые общие идеи и методы, до которых естествознание дозреет лет через двести, а то и триста, а не пересказал еще раз те общие идеи, которые и без меня были известны всем благодаря Демокриту и Аристотелю, выдав их за свои.
Я считаю нужным объяснить это потому, что очень боюсь, как бы и мои собственные идеи не постигла лет через триста та же незавидная судьба, как бы какой-нибудь любитель «обобщать» общие идеи и методы современного ему естествознания не «открыл» бы вновь мои, Декарта, общие идеи и методы (а через триста лет, я в этом убежден, они станут такими же «общими», как в мое время — аристотелевские и демокритовские) и не выдал бы их за свои, да еще не назвал бы при этом меня, Декарта, старомодным и устаревшим дураком.
Я этого побаиваюсь, ибо знаю, что во все времена не было недостатка в людях, которые выдают себя за мыслителей на том основании, что умеют «обобщать» чужие идеи, то есть попросту пересказывать их модными словами, ничего не прибавляя к ним по существу, да еще и ругая их подлинных авторов.
Приняв во внимание все сказанное выше, читатель легко поймет и то учение, которое вошло в историю человеческой мысли и в историю философий как «картезианское учение о душе», об «интеллекте», о «мышлении» — как об особом бестелесном начале, не имеющем абсолютно ничего общего с «телесной субстанцией», с веществом или материей, из коей состоят все тела в бесконечной природе, включая сюда и человеческие тела.
Мое «Я», — моя душа или интеллект, — рассуждает Декарт, есть нечто совершенно отличное от моего собственного тела и связанное с этим телом лишь «акцидентально» (т. е. случайно, на время).
Эту «душу» — способность мыслить — всемогущий творец лишь на время вселяет в мое тело, как в квартиру, и размещает ее в пространстве «шишковидной железы» мозга. Там душа и живет, осознавая все те колебания, которым подвергают эту шишковидную железу другие части тела и мозга, колеблемые, в свою очередь, воздействиями других — внешних — тел. Кроме того, эта «душа» — таким свойством наделил ее Творец — способна самопроизвольно, не будучи спровоцирована на это никаким воздействием извне, приводить в движение свое собственное жилище — шишковидную железу, заставляя ее принимать самые различные положения по отношению к другим частям мозга, и — через нее — приводя в движение (в действие) все эти другие части мозга и тела человека.
Делая это, «душа» и выражает свои действия вовне — в виде телесных — пространственно-геометрически определенных движений или действий всего человеческого тела, организма. Это — факт, что она это делает. Я захочу — и пошевелю пальцем. Подумаю, что надо бы пойти, и пойду.
Так вот — в этом самом что ни на есть повседневном факте — в простом действии, протекающем по схеме — Я захотел — и пошевелил пальцем, привел в движение мое собственное тело, — Декарт и увидел, продумав все основные понятия, через которые этот простенький факт выражается, самое загадочное и великое чудо во всей вселенной.
Чудо, ради единственно-возможного объяснения коего он и вынужден был изобрести «душу», а точнее, не изобрести, а только перенять это понятие у предшествующей ему теологии и аристотелевской философии. Лучшего причинного объяснения он придумать не смог. Поэтому согласился с лучшим из имевшихся. Это было его правило.
Почему же это случилось?
Почему он посчитал, что за старинным термином «душа» (по-древнегречески — «псюхе») кроется некоторый совершенно особенный и вполне реальный «предмет», что это — вовсе не пустое «слово», которому на самом деле не соответствует никакой реальный предмет, хотя и теснейшим образом связанный с нашим собственным телом, непосредственно — с телом мозга, — но всё-таки коренным образом отличающийся от этого тела, и уж во всяком случае — не тождественный этому телу?
Может быть, просто потому, что у него, усомнившегося для начала во всем, чему его раньше учили, — и в существовании Природы, и в существовании собственного тела, и даже — что в его век было невероятно смелым поступком — в существовании самого бога, — не хватило тут интеллектуального или морального мужества, чтобы поставить под сомнение также и этот старинный религиозный предрассудок?
Такое толкование психологически правдоподобно, особенно если учесть, что за такие идеи в его время можно было спокойно угодить если и не на костер, то, во всяком случае — в застенки инквизиции, строго следившей в те дни за «чистотой мировоззрения» и жестко пресекавшей все «ревизионистские» тенденции в вопросе о Боге и о Бессмертии Души.
Это обстоятельство, может быть, и повлияло как-то на те способы выражения, которыми предпочитал пользоваться не весьма храбрый и осторожно дипломатический по натуре и воспитанию человек Рене Декарт при изложении своих взглядов для печати.
Так, вполне вероятно, что, рассматривая человеческое тело как «очень сложную машину», в принципе ничем — кроме сложности — не отличающуюся от любого «самодвижущегося механизма», изобретенного людьми, он тут же делает оговорку, что эта изумительно сложная машина «создана руками Бога» только затем, чтобы усыпить бдительность попов. Здесь, в данном частном случае, Декарт вполне мог и схитрить — упомянуть имя господа всуе — только с той целью, чтобы еретическое само по себе занятие — рассмотрение человеческого тела как «машины» — выглядело бы в глазах попов как благопристойное занятие во славу Божию.
Ведь надо же учитывать, что за идейной чистотой в рядах ученых следил в то время вовсе не Совет по Кибернетике, раздающий ныне лавровые венки сторонникам такой храброй мысли, а куда более строгое и принципиальное ведомство. Ведомство, самого Галилея заставившее отказаться от собственного учения о вращении земного шара вокруг солнца и признать, что земля покоится, а солнце вертится вокруг нее. А Декарт не хуже Галилея разбирался в тех остроумных механизмах, с помощью коих тогдашние инженеры человеческих душ умели воздействовать на тело ученого, чтобы вызвать желаемые изменения в его мыслях, тем более что особенной храбростью Декарт вовсе не отличался.
Так что здесь он явно мог и схитрить, ибо упоминание Бога в данном случае ровно ничего не меняло в ходе его рассуждений. Вычеркните это упоминание — и рассуждение о человеческом теле как об «изумительно сложной машине» не изменится ни на йоту, разве что станет еще яснее в своем антирелигиозном смысле.
Однако перед самим собою Декарт не хитрил никогда. И если он так и не смог распроститься с понятием «души», то вовсе не от избытка почтения к авторитету Аристотеля и Папы Римского.
Дело в том, что, пытаясь разобраться в вопросе о связи «мышления» с «мозгом», он упирался носом в факты, принципиально необъяснимые (и не только тогда, а и ныне, триста лет спустя) одним лишь «устройством и расположением» мозга в теле человека и даже всего человеческого тела в целом.
Чем более тщательно и детально знакомился он с анатомией и физиологией тела и мозга человека, тем яснее становился для него факт: самые важные явления в человеческой психике принципиально не могут быть объяснены «устройством и расположением» внутренних органов человеческого тела — мозга, сердца, печени, нервной и костно-мышечной системы и т. д., и т. п.
Декарт прекрасно понимал, что «изумительно-сложная машина» человеческого тела «устроена» (безразлично кем — богом или природой) именно так, что она делает все, что она делает, — она изумительно подвижна, послушна и гибка, чтобы осуществлять любое действие, — и мастерски фехтовать шпагой, и вычерчивать на бумаге архитектурные проекты, и стрелять из пушек, и высекать из мрамора статуи, и изобретать аналитическую геометрию, и сеять хлеб, и столь многое другое, что одно лишь простое перечисление всего, что она умеет делать, заняло бы тысячи страниц. Простое описание всех тех действий, к коим способно человеческое тело, совпадало бы с описанием всей истории человечества — и прошлой, и настоящей, и будущей.
И анатомо-физиологическое исследование этой «изумительно-сложной машины» показывает, что она именно так и «устроена», что оказывается способной к любому из своих действий.
Поэтому достаточно полное и точное «описание» ее устройства вполне объясняет, что и как происходит «внутри» этого тела, когда это тело совершает любое из описанных выше действий.
Одного нельзя вычитать даже из самого полного и исчерпывающего «описания» человеческого тела и его устройства, а ПОЧЕМУ же оно все это делает? Что заставляет ее действовать так, а не как-нибудь иначе? В чем ПРИЧИНА всех этих правильно описанных действий правильно описанного врачами «устройства»?
Да, «устройство и расположение» внутренних органов человеческого тела именно таково, что оно позволяет ему делать и то, и другое, и пятое, и десятое. Позволяет. Но вовсе не обязывает.
Поэтому из устройства его принципиально невозможно понять, а почему в данном случае эта «машина» двигается так, а в другом — эдак?
Может быть, только потому, что ее обязывают и заставляют (принуждают) к данному действию внешние обстоятельства?
То есть не «устройство и расположение частей внутри тела человека», а «устройство и расположение частей внешнего мира» — и именно тех самых, которые непосредственно окружают его и «воздействуют» на него, «определяя», какие именно из «внутренних механизмов» будут включены, а какие останутся невключенными?
Декарт тщательно проверяет и такой путь объяснения — он вовсе не отбрасывает его как один из возможных путей. Наоборот, он старается идти по этому пути настолько далеко, насколько это вообще возможно — до той самой точки, в которой этот путь упирается в неодолимое для рассуждения препятствие.
Иначе говоря, он пробует «объяснить» весь состав человеческих действий из двух «причин». Одна из них — своеобразное «устройство» человеческого организма, позволяющее, но не обязывающее нас делать те или иные вещи, совершать те или иные поступки, произносить те или иные слова и т. д., и т. п. И вторая «причина» — внешняя ситуация, определяющая, какие именно из бесчисленного множества возможных действий мы станем совершать, или, иначе выражаясь, какие именно «механизмы» внутри нашего собственного тела будут включены, чтобы обеспечить это действие по его составу.
Если это объяснение пройдет, нигде не упираясь в необъяснимые для него факты, то мы будем считать — это самая лучшая гипотеза, самая «естественная» из всех, ибо она навсегда исключает вмешательство «сверх» «естественных причин» в дела человеческие, ибо «гораздо естественнее предположить, что тело приводит в движение не душа, а какое-то другое тело»[9].
Иначе говоря, Декарт прямо говорит: постараемся объяснить человеческий способ действий в мире, не прибегая к помощи «души». Постараемся объяснить все без помощи «сверх» «естественных» причин — одними «телесными» причинами. Пойдем по этому пути настолько далеко, насколько это возможно.
Допустим, что «человек» — это «очень сложная машина», «очень сложный самодействующий механизм», «автомат». Примем это представление за единственно-естественную рабочую гипотезу и посмотрим, сможем ли мы справиться с проблемой без помощи Аристотеля и Папы Римского, без понятия «бессмертной и бестелесной души» и без понятия «бог».
И Декарт с логикой железной последовательности пытается провести этот взгляд, добавляя, что этот взгляд «нисколько не покажется странным для того, кто знает, сколько различных автоматов, или движущихся машин, может создавать человеческое мастерство, используя при этом немного отдельных предметов по сравнению с огромным количеством костей, мускулов, нервов, артерий, вен и всех других частей, имеющихся в теле каждого животного: он будет рассматривать это тело как машину, которая… несравненно лучше устроена и имеет в себе движения более изумительные, чем любая из машин, изобретенных людьми»[10].
(В приведенной цитате мы намеренно пропустили пять слов, заменив их многоточием. Эти слова, окруженные запятыми, изымаются без всякого ущерба не только для смысла, но и для чисто-грамматического строя фразы. Они как будто нарочно вставлены именно так, чтобы их можно было пропустить или изъять, того не заметив. Это слова: «ибо она создана руками бога», — то самое добавление, о котором мы говорили выше.)
Итак, если это так, то человек в принципе абсолютно ничем, кроме сложности, не отличается от любого изобретенного людьми автомата, и потому можно надеяться, что люди, изучив когда-нибудь все тонкости устройства этого «автомата», смогут искусственно построить «движущуюся машину», умеющую делать все то, что умеет делать и делает человек. Иначе говоря, люди тогда смогут повторить «акт творения», который до сих пор считается «делом рук бога», «чудом господним».
И тогда не останется места ни понятию «души», ни понятию «бога» — все те вещи, которые им приписываются, будут воссозданы вполне телесно, воспроизведены из вполне «материальных причин».
Поняв, как устроен и как расположен по отношению к другим органам человеческого тела мозг, люди смогут соорудить «искусственный мозг», искусственное устройство, способное совершать все те действия, которые называются по старинке «психическими» (от древнегреческого «псюхе» — «душа»), т. е. «мыслить», «желать», «испытывать эмоции» и т. д., и т. п.
В этой идее тоже ничего нелепого нет, ибо между «искусственным» и «естественным», — говорит Декарт, — никакой принципиальной разницы нет, — все «искусственные вещи» (в том числе машины) до конца подчиняются законам Природы, «естественным законам»: «поэтому все искусственные предметы вместе с тем и предметы естественные»[11].
Примечания
1
Рассел Б. История западной философии. Москва, 1959, с. 588–599.
(обратно)2
Приведено по Куно Фишеру, История новой философии, т. 2. Москва, 1906, с. 119‑120.
(обратно)3
Спиноза Б. Богословско-политический трактат. Москва, 1935, с. 7.
(обратно)4
Там же.
(обратно)5
Декарт Р. Рассуждение о методе. Часть III /Избранные произведения. Москва, 1950, с. 275‑276.
(обратно)6
Декарт Р. Начала философии /Избранные произведения. Москва, 1950, с. 462.
(обратно)7
Декарт Р. Правила для руководства ума, правило I /Избранные произведения, с. 79‑80.
(обратно)8
Декарт Р. Рассуждение о методе, часть I /Избранные произведения, с. 260.
(обратно)9
Декарт Р. Описание человеческого тела /Избранные произведения, с. 548.
(обратно)10
Декарт Р. Рассуждение о методе /Избранные произведения, с. 300.
(обратно)11
Декарт Р. Начала философии /Избранные произведения, с. 540.
(обратно)
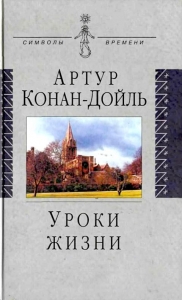



Комментарии к книге «Спиноза (материалы к книге)», Эвальд Васильевич Ильенков
Всего 0 комментариев