Об эстетической природе фантазии
Слово «фантазия» — слово коварное, обоюдоострое. Оно может обидеть не менее сильно, чем польстить. Когда речь заходит о науке, оно звучит [224] уничтожающе и без добавления эпитета «досужая». Художник, напротив, может быть горд, когда его созданиям приписывают богатство и даже избыток фантазии.
Однако ученый педант, то есть человек с формально вышколенным интеллектом, но начисто лишенный живого воображения, невыносим не только в личной жизни; сама наука страдает от него гораздо больше, чем приобретает. И именно, ученый педант от науки охотнее всех пользуется словом «фантазия» как милицейским свистком, едва наука начинает прорываться за пределы познанного, за границы узаконенного. С другой же стороны, никто другой не кричит громче об абсолютной свободе фантазии, чем художник, не имеющий за душой ничего, кроме болезненно обостренного желания быть не таким, как все… И это тоже правда.
Коварно не слово «фантазия», а сама фантазия, сама сила воображения. Она как острый нож, способный и наносить и лечить раны — смотря по тому, в какие руки он попал. К тому же в неловких руках хирурга он не менее опасен, чем в искусных руках злодея. И всё же ни в том, ни в другом случае ни в чем не повинен сам по себе нож. И если оставить в стороне случаи злоупотреблений или неумения, с фантазией дело обстоит точно так же.
Сама по себе взятая фантазия, или сила воображения, принадлежит к числу не только драгоценнейших, но и всеобщих, универсальных способностей, отличающих человека от животного. Без нее нельзя сделать ни шагу не только в искусстве, если, конечно, это не шаг на месте. Без силы воображения невозможно было бы даже узнать старого друга, если он вдруг отрастил бороду, невозможно было бы даже перейти улицу сквозь поток автомашин. Человечество, лишенное фантазии, никогда не запустило бы в космос ракеты. «В самом простом обобщении, в элементарнейшей общей идее (“стол” вообще) есть известный кусочек фантазии», и «даже в математике она нужна, даже открытие дифференциального и интегрального исчислений невозможно было бы без фантазии» [1].
Что такое художественная фантазия, та таинственная способность, которая специфически отличает художника, творца художественных ценностей? И в каком [225] отношении она находится к фантазии математика или строителя ракет, взвивающихся в космос? Есть ли тут вообще какое-нибудь прочное отношение, о котором стоило бы говорить в эстетике?
Ведь есть же мнение, что современный человек может вовсе обойтись без художественной фантазии, то есть без способности, которая до сих пор развивалась именно искусством; согласно этому мнению, художественная фантазия даже мешает «современному», трезво математическому уму, расслабляет его жесткость, притупляет его остроту, уводит от жизни в царство эмоционально заманчивых, но бессильных иллюзий…
По счастью, это высокомерное отношение к «лирикам» возникло и имеет хождение вовсе не в среде настоящих «физиков», не в среде действительно крупных теоретиков современности. Оно возникло в ходе пререканий посредственных «физиков» с посредственными же «лириками» и серьезного разговора об отношении настоящего искусства с настоящей наукой вовсе не касается.
Тем не менее в коллизиях развития современного искусства и современной науки этот спор и это мнение имеют некоторые, и весьма серьезные, основания и причины, и о них нелишне подумать.
История ничего серьезного не делает без достаточной на то необходимости. И если человечество века и даже тысячелетия вынуждено было идти на жертвы и лишения ради того, чтобы вырастить редкие, но прекрасные цветы искусства, то этого не объяснить «врожденной» любовью человека к «красоте». Человеческая цивилизация развивает только такие формы деятельности и соответствующие им способности, которые необходимы с точки зрения этой цивилизации в целом.
Маркс и Энгельс, исследуя противоречия товарно-капиталистического разделения труда и его перспективы, показали важную с точки зрения нашей темы закономерность и перспективу развития науки и искусства. Наука вообще (и ее общественно-структурное выражена — логика), с одной стороны, а искусство — с другой, предстали в результате их анализа как «отчуждаемые формы развития человека». Термин «отчуждение», идущий от немецкой классической философии, непосредственно от Гегеля и Фейербаха, означает следующее. Известные всеобщие человеческие способности (то есть способности, в совокупности своей только и [226] обеспечивающие человеческую жизнедеятельность) в известных социальных условиях развиваются не в каждом из индивидуумов, а только в немногих. Для этих немногих развитие одной из способностей становится пожизненным уделом, профессией. Их деятельность становится отраслью разделения труда, приобретает кастовый характер, а каста или цех «логиков по профессии», «живописцев по профессии» и т. п. работает как орган общественного целого. Тем самым развитие той или иной всеобщезначимой способности «отчуждается» от большинства индивидуумов и происходит за счет их человеческой недоразвитости в данном отношении. С другой же стороны, и по отношению к тому лицу, в коем данная способность реализуется, она развивается также за счет всех других.
Пределом (или мысленно продолженной до конца тенденцией) такого развития людей оказывается профессиональный кретинизм, то есть такое положение, когда в каждом из индивидуумов развита до предела, до уродливо односторонней карикатурности лишь одна из всеобще-человеческих способностей, а остальные подавлены, недоразвиты. В итоге ни один из индивидуумов (за редким исключением) не представляет собой Человека с большой буквы, а только «половинку», «четвертушку» или еще меньшую «дольку» Человека. На этой почве и рождается «логик», не знающий ничего, кроме «логики», рождается «живописец», «скрипач» и т. д., лишенный интереса ко всему, кроме чисто профессиональных тонкостей, рождается «банкир», которому деньги мешают видеть всё остальное, и прочие тому подобные персонажи.
Разумеется, до последнего предела реально это уродливое развитие доходит не всегда и даже не часто. Ибо полное, абсолютное отчуждение способностей и их носителей друг от друга привело бы и к абсолютному взаимонепониманию, к невозможности кооперировать усилия людей вокруг самого пустякового общего дела. Общение стало бы похоже на беседу слепого с глухим о музыке или о живописи, и башня цивилизации рухнула бы, как в свое время Вавилонская башня. Связь, взаимодействие профессий (то есть необходимых с точки зрения общества в целом способностей) не обрывается. Но здесь она осуществляется окольными, неведомыми для индивидуума и подчас очень запутанными путями — через случай. А осуществляясь только через [227] ряды случаев, эта связь начинает казаться либо случайной, либо мистической, ибо сквозь ряды случаев всё-таки реализуется и просвечивает какая-то всеобщая необходимость.
Единство человеческих способностей, которые только в сумме и кооперации способны двигать цивилизацию вперед, для каждого из индивидуумов начинает казаться некой сверхчеловеческой силой, противостоящей каждому из них и даже враждебной. А дальше уже безразлично, каким именем начинают называть этот факт — Богом или Абсолютной идеей, Роком или Человеком с большой буквы (последнее имя дал ему Л. Фейербах).
Диалектика этой исторически преходящей формы развития человеческих способностей («отчужденная» форма их развития) заключается в том, что по мере обострения профессионализации этих способностей обостряется и необходимость ее ликвидации, необходимость революционного преобразования данной формы разделения труда.
Необходимость эта выяснена К. Марксом и Ф. Энгельсом на чисто экономической почве, и в данном пункте нам приходится отослать читателя к «Капиталу».
С точки же зрения нашей темы интереснее взглянуть на те следствия, которые вытекают из «Капитала» по отношению к способностям, профессионализированным в виде «искусства» и «науки». Ту форму профессионализации, которую оставил нам в наследство развитый капитализм, коммунистическое общество должно и вынуждено разрушить, снять, заменить другой формой разделения труда. Согласно кратко-афористической формуле Маркса и Энгельса, коммунистическое общество не будет делать из людей «живописцев», «скрипачей», «логиков» или «политиков», а будет формировать из каждого индивидуума прежде всего Человека, занимающегося (пусть даже преимущественно) живописью, игрой на скрипке или логическими исследованиями.
Эту формулу часто толкуют упрощенно, а в упрощенном виде она способна вызвать недоумение и даже протест. Ее смысл заключается не в том, что общество вообще ликвидирует возможность преимущественного развития индивидуума в каком-то одном направлении, а в том, что оно перестанет культивировать профессиональный кретинизм, уродливую однобокость развития способностей, а не преимущественное развитие одной способности по сравнению с прочими. [228]
Дело в том, что все «прочие» способности в условиях коммунистического разделения труда должны развиваться также в каждом индивидууме, и притом до современной высоты этого развития.
Речь идет о том, и именно о том, чтобы каждый человек имел время и возможность в каждой из сфер деятельности быть на уровне современности, на уровне развития, которое уже достигнуто всем человечеством — усилиями и Рафаэля, и Бетховена, и Эйнштейна, и Лобачевского. Пойдет ли каждый дальше этого уже достигнутого уровня — вопрос другой, и не это имели в виду Маркс и Энгельс. Но чтобы каждый индивидуум был выведен в своем индивидуальном развитии на «передний край» человеческой культуры — на границу познанного и непознанного, сделанного и несделанного, a затем мог свободно выбрать, на каком участке ему двигать культуру дальше, где сосредоточить свою индивидуальность как творческую единицу наиболее плодотворным для общества и наиболее «приятным» для себя лично способом…
Это вполне разрешимая, а вовсе не утопическая задача. Это и есть главная социальная задача нашей эпохи, и называется она коммунистическим преобразованием условий развития индивидуума.
* * *
В свете этого общетеоретического понимания как современного состояния, так и путей его изменения можно уже чуть конкретнее поставить вопрос о том, в каком отношении друг к другу находятся способность, до сих пор развивавшаяся в форме «искусства», и способность, которая профессионально развивалась в форме «науки» (и ее концентрированно-обобщенного выражения — философии, логики). В форме искусства развивалась и развивается та самая драгоценнейшая способность, которая составляет необходимый момент творчески-человеческого отношения к окружающему миру, — творческое воображение или фантазия. Иногда ее называют также «мышлением в образах» в отличие от «мышления в понятиях» или собственно «мышления».
Творческое воображение — это такая же универсальная способность, как и способность мыслить в форме строгих понятий. В той или иной мере, до той или иной высоты своего развития эта способность развивается в каждом индивидууме. Она формируется уже [229] самыми условиями жизни человека в обществе. Поэтому элементарные, всеобщие формы этой способности (как и способности мыслить в согласии с логическими нормами, категориями логики) формируются в каждом индивидууме вполне стихийно. Не усвоив их, человек не смог бы сделать и шагу в человечески организованном мире.
Однако по-иному обстоит дело с высшими, рафинированными формами и той и другой способности. Для развития способности мыслить на уровне диалектики не существует до сих пор иного способа, кроме изучения истории философии, истории развития логических категорий.
По отношению к способности воспринимать мир и формах развитой человеческой чувственности такую роль играет эстетическое воспитание, в частности воспитание вкуса на сокровищах мирового искусства.
Что искусство осуществляет «воспитание чувств» — давно стало общим местом. Но эту истину нередко толкуют несколько ограниченно, имея в виду главным образом морально-этический аспект этого воспитания. Но тогда искусство начинает неизбежно казаться только неким служебным средством нравственного воспитания, «служанкой этики», то есть другой формы общественного сознания, другой способности. Между тем ни искусство не есть служанка этики, ни этика не есть служанка искусства. То же самое надо сказать и об отношении искусства и научно-теоретического познания, мышления в образах и мышления в понятиях. Их нельзя ставить в отношения субординации, в отношения цели и средства. Стоит это сделать, как сразу же получится то или иное недиалектическое понимание, та или иная разновидность идеализма. Дело в том, что если высшей целью человеческой жизни посчитать «нравственное совершенствование», а искусство рассматривать прежде всего как средство достижения этой цели, то получится взгляд, развитый Шиллером и восходящий своими корнями в философию Канта — Фихте. Если же вслед за Гегелем посчитать, что высшая цель человеческой деятельности — это всего лишь своеобразная пропедевтика к логике, а эстетическое воспитание имеет лишь тот смысл, что подготавливает человека к изучению и усвоению диалектической логики, то искусство тогда неизбежно покажется всего-навсего несовершенным образом той «абсолютной действительности», которая адекватно изображается в логике, в науке о мышлении… [230]
Маркс и Энгельс, подвергая критическому анализу построения немецкой классической философии, показали, что ни «мышление», ни «нравственность», ни «эстетическое созерцание» нельзя рассматривать как цель и сущность человеческой жизнедеятельности. И то, и другое, и третье суть одинаково продукты и «средства» развития производительной силы человеческого рода (в широком смысле этого слова — в смысле способности предметно, практически преобразовывать природу).
Искусство и наука (как и искусство и этика) ни в коем случае не стоят, согласно Марксу и Энгельсу, в отношениях «высшего» и «низшего» по рангу способов отражения действительности — как «чувственность» (воспитываемая искусством) не есть ни более, ни менее «совершенная» форма отражения окружающего мира, чем «мышление» (развиваемое наукой и философией).
Способность активно воспринимать окружающий мир в формах развитой человеческой чувственности (в том широком и глубоком значении этого слова, который ему придала классическая философия) — это такая же «важная» и специфически человеческая форма отражения мира, как и способность мыслить в понятиях в строгом согласии с законами и категориями логики, диалектики. Это две одинаково важные и равноправные способности, одна без другой становящиеся бесплодными.
Бессмысленная, не пронизанная светом понятия «чувственность» — это такая же невозможная вещь, как и чисто спекулятивное «понятие», как «чистое мышление о мышлении». Способность мыслить и способность видеть окружающий мир (а не просто глядеть на него) — это две взаимно дополняющие друг друга способности; одна без помощи другой не в состоянии выполнить свою собственную задачу.
И если специфической задачей искусства и художественного творчества вообще является формирование и воспитание человеческой чувственности, умения воспринимать мир в формах человечески развитой чувственности, — то это, разумеется, не может означать, что искусство и воспитываемая им чувственность должны развиваться (а потому и теоретически рассматриваться) вне всякого отношения к мышлению в понятиях, к логике, к философии. Как раз наоборот. Тенденция к полному обособлению «эстетической чувственности» от рационального (теоретического) сознания — это путь к разложению и самой эстетической чувственности, самой [231] художественной формы. В своих крайних выражениях такое понимание искусства и чувственности («интуиции») ведет прямо к бессмыслице «модернистского» антихудожественного, антиэстетического творчества.
Верно и обратное. Способность логически мыслить, то есть оперировать понятиями, теоретическими определениями в строгом согласии с нормами логики, тоже не стоит ровно ничего, если она не соединяется с равно развитой способностью видеть, чувственно созерцать, воспринимать окружающий мир.
Всё значение этого обстоятельства подчеркнул в ходе критики гегелевской философии уже Людвиг Фейербах. И с этим аспектом фейербаховской критики гегелевской философии полностью солидаризировались основоположники марксизма-ленинизма.
Здесь, в этих простейших и всеобщих условиях человеческой психики, вообще лежат и ключи к марксистскому пониманию как специфической роли искусства (художественного творчества), так и его взаимоотношений с рационально-теоретической формой сознания.
Чтобы мыслить об окружающем мире, этот мир нужно видеть. Чтобы видеть, нужно иметь орган зрения. Но это — даже пространственно, даже анатомически — несколько иной орган, чем орган мышления. Мыслит не мозг, а человек с помощью мозга, точнее, — известных отделов его коры. Акт чувственного восприятия обеспечивает система «мозг — глаз», а если выражаться не фигурально, — «мозг — внешний рецептор».
Однако физиология процессов, обеспечивающих процессы мышления и восприятия, нас совершенно не касается. Заниматься ею не дело эстетики и философии. Анатомически мозг Аристотеля ни в чем существенно не отличался от мозга Демокрита, а органы восприятия Рафаэля — от органов восприятия Гойи. С точки зрения анатомии и физиологии ни способы мышления человека вообще, ни способы формирования образов и действий с ними не претерпели почти никаких изменений.
Оставаясь анатомически и физиологически одними и теми же, органы мышления и созерцания производят не только различные, но и прямо противоположные друг другу понятия, образы.
Это получается потому, что не только «мышление», но и созерцание не есть акт пассивного восприятия внешних воздействий, а прежде всего — акт активной деятельности, причем формы этой деятельности [232] меняются очень быстро и сильно. А различны способы и формы деятельности — различны и ее продукты, в частности образы, возникающие в созерцании, в представлении.
От природы, от рождения эта деятельная способность человеку вовсе не дана. Даны только физиологические условия, предпосылки ее возникновения. Возникает же и формируется эта способность только путем ее упражнения. Нет этого упражнения — нет и способности видеть, нет зрения, хотя есть и глаз, и мозг, и нервы, связывающие их друг с другом.
Поэтому-то даже психология (а не только эстетика или логика) не только может, но и должна рассматривать формы восприятия и мышления совершенно независимо от рассмотрения физиологии и анатомии тех органов, с помощью которых осуществляются мышление и созерцание.
Попытка понять («вывести») формы мышления, его категории и законы из анатомо-физиологических особенностей мозга дают в логике один из самых грубых и глупых видов идеализма — так называемый физиологический идеализм. Эта форма идеализма настолько расходится с очевиднейшими фактами, что на протяжении веков имела буквально считанных сторонников.
Точно так же — хотя это и менее очевидно, — обстоит дело и с формами созерцания, представления, вообще способности отражать мир в образах. При их исследовании от физиологии и анатомии органов придется отвлекаться так же строго, как и политической экономии — от физико-химических свойств золота и серебра при анализе денежной формы стоимости. От физиологии как таковой они зависят так же мало, как формы Венеры Милосской — от химического состава мрамора, из коего статуя высечена [2].
Не только Гегель, но и Маркс ровно ничего не знал о механике нейродинамических процессов, и форме которых совершается мышление под черепной коробкой, в коре головного мозга. Но это вовсе не помешало им [233] разработать понимание форм мышления (то есть Логику с большой буквы) гораздо более высокую, нежели то могут сделать все физиологи мира, вместе взятые, чем «логики», голова которых набита физиологической терминологией. То же и с эстетикой, с пониманием формы созерцания и представления, процесса создания образа. Это совсем иная действительность, нежели та. которую исследует анатом или физиолог.
Способность активно воспринимать окружающий мир в формах человечески развитой чувственности не есть (в отличие от физиологии) дар матушки-природы, а есть культурно-исторический продукт. Формы созерцания и представления не только не «вытекают» из анатомо-физиологических особенностей органов восприятия, но, как раз наоборот навязываются им извне, диктуются им, формируют их, заставляя работать органы восприятия так, как они сами по себе никогда не стали бы работать. Конечно, они в итоге так или иначе выражаются в изменениях нейродинамических структур, становятся также и «формами» этих последних, но только в том же самом смысле, как форма печати, вдавленная в воск, становится «формой воска». По отношению к анатомо-физиологической структуре эта форма остается совершенно внешней — так же как физиологические структуры остаются «внешними» по отношению к формам процесса созерцания и мышления. Это совершенно разные формы, формы различных сфер деятельности.
«Собственная форма» (физиологическая форма) органов восприятия человека сходна с «формой воска» именно в том отношении, что в ней структурно физиологически не «закодирована» заранее (априори) ни одна из форм их деятельного функционирования. Структурно они приспособлены эволюцией именно к тому, чтобы воспринимать форму любого предмета, сообразовать свою деятельность с любой предметной формой [3]. [234]
«Формы созерцания», так же как и «формы мышления», ни в коем случае не наследуются физиологически, то есть вместе с анатомией органов мышления и восприятия. Они каждый раз воспроизводятся в индивидууме путем упражнения этих органов и «наследуются» особым путем — через формы тех предметов, которые созданы человеком для человека, через формы и организацию предметно-человеческого мира. Природа, воссозданная трудом человека (Маркс называл ее «неорганическим телом человека»), а не природа как таковая (в том числе и физиологическая организация тела индивидуума) есть то самое «тело», тот самый «организм», который передает формы мышления и формы созерцания от одного поколения к другому.
Постоянное, с колыбели начинающееся общение индивидуума с предметами, созданными трудом предшествующих поколений, как раз и формирует человеческое восприятие, организует «формы созерцания». Когда они созданы, они действительно превращаются в физиологически закрепленные механизмы и действуют как «естественные», способности человека. Когда они сложились они и кажутся такими же «природными» особенностями человеческого существа, как и анатомические особенности его тела, как форма носа или цвет кожи.
Поэтому-то их так часто и путают друг с другом, на манер добряка Догбери, который поучает ночного сторожа Сиколя, что «приятная наружность есть дар обстоятельств, а искусство читать и писать даётся природой» [4]. Эта путаница, самые неожиданные и карикатурные формы которой можно встретить и в философии, и в политической экономии, и в психологии, и в эстетике, на языке марксистско-ленинской философии называется «фетишизмом», натуралистическим толкованием общественно-исторических явлений. Они кажутся формами и свойствами природы, в данном случае анатомо-физиологической организации человеческого тела, в то время как на самом деле суть формы человеческой деятельности, запечатленные в телах природы, в том числе — в физиологии, в «органическом» теле самих индивидов…
Как раз «предметы», созданные трудом художника, специально и развивают способность чувственно [235] воспринимать мир по-человечески, то есть в формах культурного, человечески развитого созерцания. В этом и заключается специальная миссия художника и его продукта в развитии всей цивилизации. Искусство развивает высшие, наиболее рафинированные формы человеческого восприятия и, в частности, специально культивирует ту самую способность воображения (или фантазии), которая в низших формах своего развития возникает до и независимо от искусства и составляет ту общую почву, на которой вообще возникает специально художественное творчество, художественная фантазия.
Эстетика — если понимать ее не как «искусствоведение», а как теоретическое понимание всеобщих форм и закономерностей эстетического освоения действительности — не может и не должна обходить этот факт.
В «низших» этажах развития кроются многие тайны специально художественного видения, высшей формы работы фантазии, «интуиции», творческого воображения.
Такой анализ, обнаруживающий в низших, стихийно складывающихся формах человеческого созерцания (и неразрывно связанной с ним силы воображения) те «зерна», из которых впоследствии развиваются прекраснейшие цветы художественного творчества, не будет чем-то оскорбительным для Аполлона, для собственно художественного творчества. Он не унизит достоинства специально художественной фантазии, — он только осветит самые общие, абстрактные контуры проблемы и путей ее решения. Не больше. Но без этого невозможно подойти к тайне художественной фантазии. Крепость этой тайны нельзя взять в лоб, прямой атакой. Здесь требуется постепенная, систематическая осада.
* * *
Там, где появляется специфически человеческое восприятие окружающего мира, на той грани, где оно начинает принципиально отличаться от способа чувственного восприятия, характерного и для животного, — там появляется и способность воображения, одна из элементарных форм фантазии.
Дело в следующем. Животное «видит» только то, что непосредственно связано с его врожденной физиологической потребностью, с органической потребностью его тела. Его «взором» управляет только физиологически свойственная его виду потребность. [236]
Совсем по-иному «видит» тот же мир человек. Эту особенность, отличающую созерцание человека от зрения животного, хорошо описал, хотя и не понял ее секрета, Людвиг Фейербах: «На животное производят впечатление только непосредственно для жизни необходимые лучи солнца, на человека — равнодушное сияние отдалённейших звезд. Только человеку доступны чистые, интеллектуальные, бескорыстные радости и аффекты; только человеческие глаза знают духовные пиршества» [5].
Фейербах прекрасно понимал, что «зрение», «восприятие», «созерцание» окружающего мира — это вовсе не оптически-физиологический акт. Лучи отдаленнейших звезд на сетчатке глаза орла отражаются так же хорошо, как на сетчатке глаза астронома. Но никакого «впечатления», никакого изменения в его нервно-мозговой ткани они не оставляют, бесследно проскальзывая мимо.
Фейербах объясняет тайну этой особенности человеческого зрения образно, патетически, поэтически — и неверно.
«Взор, обращенный к звездному небу, созерцает бесполезные и безвредные светила и видит в их сиянии свою собственную сущность, свое собственное происхождение. Природа глаза небесна. Поэтому человек возвышается над землей только благодаря зрению, поэтому теория начинается там, где взор обращается к небу. Первые философы были астрономами. Небо напоминает человеку о его назначении, о том, что он создан не только для деятельности, но и для созерцания» [6].
В этом объяснении сказывается вся слабость общей философии Фейербаха, той ее установки, что «созерцание» как подлинно человеческая форма отношения к миру противостоит «деятельности» как той форме отношения к миру, которая ничего человеческого в себе не заключает.
Ибо «деятельность», «практику» Фейербах всегда толковал очень узко — как акт удовлетворения «корыстных», «эгоистических» потребностей.
Однако доля истины уловлена здесь совершенно точно. Человеческий взор действительно «свободен» от [237] диктата физиологической, органической потребности. Точнее говоря, он и становится впервые подлинно человеческим лишь тогда, когда физиологические потребности удовлетворены, когда человек перестает быть их рабом. Глаза голодного человека будут искать хлеб, на сияние отдаленнейших звезд они не отреагируют.
Чтобы глаза человека могли видеть по-человечески должны быть удовлетворены все естественные потребности его тела. С этим оттенком мысли Фейербаха Маркс никогда не спорил, даже почти повторил его: «Для изголодавшегося человека не существует человеческой формы пищи, а существует только ее абстрактное бытие как пищи: она могла бы с таким же успехом иметь самую грубую форму, и невозможно сказать, чем отличается это поглощение пищи от поглощения ее животным. Удрученный заботами, нуждающийся человек невосприимчив даже к самому прекрасному зрелищу». «Чувство, находящееся в плену у грубой практической потребности, обладает лишь ограниченным смыслом» [7].
Когда физиологические потребности животного удовлетворены, его «взор» становится равнодушным и сонным.
Чем же начинает руководиться взор человека, освобожденного от давления «грубых практических потребностей»? Что заставляет его бодрствовать по ночам, обращаться к звездному небу и наслаждаться сиянием безвредных и бесполезных отдаленнейших светил?
Этот коварный вопрос всегда оказывался камнем преткновения для материалистов. Идеалист с этим вопросом справлялся просто — здесь-де в игру вступают высшая, духовная природа человека и ее потребности. Но это лишь констатация факта, выданная за его объяснение.
Совершенно ясно одно: потребность, действующая здесь, не имеет уже ничего общего с теми потребностями, которые анатомически и физиологически свойственны организму человеческого тела. Эта потребность не есть дар матушки-природы, хотя она и становится «органической» потребностью личности, индивидуальности человека, тело которого создано природой. Индивидууму как изолированному анатомо-физиологическому организму, конечно же, никогда не пришло бы в голову рассматривать звезды. Потребность, побуждающая его [238] делать это, «вселяется» в него извне. Откуда? Очевидно, не из звезд.
Пункт этот очень важен. Здесь заключены истоки тайны «эстетического» созерцания, секрет его «не заинтересованности», его «бескорыстия».
Если верно то, что первые философы были астрономами, а звездное небо оказалось первым предметом «бескорыстно-незаинтересованного» созерцания, то этот факт, с точки зрения Маркса и Энгельса, объясняется вполне вразумительно и просто.
«Необходимо изучить последовательное развитие отдельных отраслей естествознания. — Сперва астрономия которая уже — из-за времен года абсолютно необходима для пастушеских и земледельческих народов» [8], — констатирует Ф. Энгельс, как бы прямо полемизируя с Фейербахом по поводу того, что «небо» заставляет человека вспомнить о его особом назначении.
Здесь и заключается решение. Обратить взор к небу человека заставило не небо, а земля с ее вполне земными интересами. Но интерес и потребность, разбудившие глаз к такого рода созерцанию, были уже не потребностью анатомо-физиологической структуры отдельного человеческого организма, а интересом и потребностью совсем иного организма — организма общественно производящего коллектива.
Не анатомия и физиология отдельного человеческого тела, а «анатомия и физиология» общественно производящего свою жизнь коллектива есть то «целое», та «система», частями и органами которой являются человечески мыслящий мозг и человечески видящий глаз.
Этот тезис и выражает принципиальное отличие антропологии Маркса от антропологии Фейербаха.
«…История промышленности и возникшее предметное бытие промышленности являются раскрытой книгой человеческих сущностных сил, чувственно представшей перед нами человеческой психологией. […] Такая психология, для которой эта книга, то есть как раз чувственно наиболее осязательная, наиболее доступная часть истории, закрыта, не может стать действительно содержательной и реальной наукой» [9], — сформулировал Маркс это понимание «предметной» реальности человеческой психологии. [239]
Иными словами, в рассмотрении анатомо-физиологической структуры человеческого тела нельзя «вычитать» психологические определения человеческого существа. Это не та «книга», в которой они написаны.
«Психологические» определения человека имеют свою действительность, свое «бытие» не в системе нейродинамических структур коры головного мозга, а в более широкой и сложной системе — в системе отношений производства предметно-человеческого мира и способностей, соответствующих организации этого мира.
«Глаз стал человеческим глазом точно так же, как его объект стал общественным, человеческим объектом, созданным человеком для человека. Поэтому чувства непосредственно в своей практике стали теоретиками. Они имеют отношение к вещи ради вещи, но сама эта вещь есть предметное человеческое отношение к самой себе и к человеку, и наоборот». С этим положением Маркс и связывает тот факт, что «человеческий глаз воспринимает и наслаждается иначе, чем грубый нечеловеческий глаз, человеческое ухо — иначе, чем грубое, неразвитое ухо, и т. д. […]
Лишь благодаря предметно развернутому богатству человеческого существа развивается, а частью и впервые порождается богатство субъективной человеческой чувственности: музыкальное ухо, чувствующий красоту формы глаз, — короче говоря, такие чувства, которые способны к человеческим наслаждениям. […] Ибо не только пять внешних чувств, но и так называемые духовные чувства, практические чувства (воля, любовь и т. д.), — одним словом человеческое чувство, человечность чувств, — возникают лишь благодаря наличию соответствующего предмета, благодаря очеловеченной природе» [10]. С этим и связано то обстоятельство, что только глаз, развитый созерцанием предметов, созданных человеком для человека, обретает способность видеть по-человечески.
Здесь-то и возникает специфически человеческая форма созерцания — способность видеть все то, что лично для меня как такового абсолютно никакого «корыстного интереса» не составляет, но очень «важно и интересно» с точки зрения совокупного «интереса» всех других людей, их общего развития, с точки зрения «интересов рода». [240]
Здесь и лежат корни «эстетического созерцания» и способности.
Уметь видеть предмет по-человечески — значит уметь видеть его «глазами другого человека», глазами всех других людей, значит в самом акте непосредственного созерцания выступать в качестве полномочного представителя «человеческого рода» (а в условиях классового расчленения этого «рода» — класса, реализующего общий прогресс этого рода).
Это своеобразное умение как раз и вызывает к жизни ту самую способность, которая называется «воображением», «фантазией», — ту самую способность, которая позднее в искусстве, достигает профессиональных высот своего развития, своей культуры.
Уметь смотреть на окружающий мир глазами другого человека — значит, в частности, уметь «принимать близко к сердцу» интерес другого человека, его запросы к действительности, его потребность. Это значит уметь сделать всеобщий «интерес» своим личным и личностным интересом, потребностью своей индивидуальности, ее пафосом.
Как раз это невозможно сделать без развитой силы воображения. Ведь только она и позволяет человеку видеть вещи, глазами другого человека, с его точки зрения, не превращая его при этом реально в этого другого.
Само собой разумеется, это не значит, что человеческий индивидуум каждый раз вынужден последовательно «воображать» себя на месте каждого из своих собратьев по роду и «представлять», как вещь выглядит с точки зрения каждого из них. Это, кроме всего прочего, и невозможно, не говоря уже о том, что простая сумма образов, полученных с разных точек зрения, никогда не даст образа вещи, какой она выглядит с точки зрения рода в целом. Ибо как «род» в целом не есть простая сумма отдельных индивидуумов, так и человеческий образ вещи не есть простая сумма образов, получающихся в головах отдельных людей.
Так что деятельность воображения не заключается в способности суммировать образы, имеющиеся у других людей, не есть способность выделять из них то общее, что все они имеют между собою.
Деятельность развитого воображения рождает новый продукт, новый образ, а не просто выделяет «в чистом виде» то общее, что и без нее уже имеется в любом другом человеке. В любом другом это «общее» [241] имеется не в готовом виде, а только в виде «намека», «тенденции», развить которые в целостный, интегральный образ может только развитая сила воображения. Поэтому сила воображения с самого начала становится продуктивной, то есть творческой, производящей, а не просто воспроизводящей. Этим она с самого начала отличается от простой деятельности «памяти», воспоминания.
Человек в развитым воображением (а особенно художник, у коего эта способность развита профессионально, специально) «видит» вещь глазами «всех других людей» в том числе и людей угасших поколений) «сразу», интегрально, непосредственно. Он не вынужден для этого «воображать» себя на месте каждого из этих людей.
Это может иметь место только в том случае, если работа его воображения с самого начала организована и регулируется формами, имеющими «универсальный» характер. А эти формы, организующие работу воображения, представляют собой продукт такой же длительной «дистилляции», как и логические формы, категории логики. В них выражен опыт работы творческого воображения всех протекших веков, всех поколений, на плечах которых выросла современная форма культуры воображения.
Усваиваются эти культурные формы работы воображения только через те предметы, которые созданы другими людьми с помощью и силой этого воображения, через «потребление» этих предметов, в частности — плодов художественного творчества.
Художественное творчество как раз и обеспечивается культурой силы воображения, или, как еще говорят, культурой «мышления в образах», способностью формировать образ, а затем изменять его в согласии с требованиями, заключенными в содержании этого образа, то есть действительности в ее обобщенном выражении.
Культурное воображение ни в коем случае не есть произвольное воображение. Так же мало оно представляет собой действие согласно штампу, согласно готовой, формально заученной схеме.
Культура воображения совпадает со свободой воображения — со свободой как от власти мертвого [242] штампа, так и от произвольного каприза. В этом весь секрет культуры творческого воображения.
Свобода вообще — а свобода воображения (фантазии) есть ее типичный и притом резче других выраженных вид — есть вообще только там, где есть целенаправленное действие, совпадающее с совокупной необходимостью. Это аксиома диалектико-материалистической философии. В эстетике эту аксиому тоже забывать нельзя.
Что воображение (фантазия), то есть деятельность, формирующая образы и затем изменяющая, развивающая эти образы, должно быть свободным от власти штампа, мертвой схемы, это, по-видимому, не приходится доказывать. Действие (как реальное, так и в плане представления), совершающееся по строго формализованному способу, педантично разработанному рецепту, вообще не нуждается в помощи силы воображения, а не только «свободного» воображения. Такое действие способно только повторять, только воспроизводить, но неспособно производить, творить, рождать. В такого рода действиях человека на сто процентов способна заменить машина. И не только в производстве материальной жизни, а и в производстве «духовной жизни». Машина уже сегодня умеет писать стихи и музыку, причем нисколько не менее совершенную, нежели та, которую умеют писать ремесленники от музыки и стихоплеты. Здесь не требуется не только свободное воображение, но и само воображение.
Гораздо труднее отличить свободное воображение от произвола воображения, от каприза воображения: с произволом свободу путают чаще всего, и не только в искусстве, а и в политике и в социологии. Понимание свободы, как личного произвола лежит в основе всей буржуазной идеологии, в частности и в основе ее эстетики, понимания свободы художника, свободы воображения и фантазии. Поэтому различие свободы и произвола имеет не только эстетически теоретическое значение, но и огромнейшее значение в плане идеологической борьбы в области эстетики и искусства.
Надо сказать, что действительно большие художники (даже буржуазного мира) эти вещи никогда не путали. Протестуя против понимания художественной фантазии как капризной игры личного воображения, великий Гёте говорил, что эта форма фантазии свойственна лишь плохим художникам, а художественный гений [243] определил как интеллект, «зажатый в тиски необходимости», имея при этом в виду совокупную, интегральную необходимость развития человечества.
На деле капризный произвол воображения заключает в себе столь же мало свободы, как и действие по штампу. Крайности, как давно известно, сходятся. Произвольное действие вообще — будь то в реальной жизни или только в плане воображения, в плане фантазии — никогда и ни на одно мгновение не может выпрыгнуть за рамки объективной детерминации. Беда произвола, мнящего себя свободой, заключается в том, что он всегда и везде есть абсолютный раб ближайших, внешних мелких обстоятельств и силы их давления на психику.
Это прекрасно видно на примере искусства и эстетики некоторых представителей сюрреализма. Кистью художника водит здесь по полотну вовсе не «свободное» действие воображения, а та самая болезненно сорванная физиология, которая в других случаях рождает мучительные кошмары белой горячки, видения шизофреника, то есть все те образы, от власти которых людей приходится лечить с целью спасти их жизнь. Контуры образов смещаются здесь вовсе не свободно, а как раз наоборот, под непосредственным давлением такого грубо материального факта, как патологическое отклонение физиологии организма от нормы. С ослабленными формами таких отклонений знаком почти каждый — отсюда и создается иллюзия, будто сюрреалистические образы раскрывают в законченной форме те «зародыши», которые каждый может в себе обнаружить. Конечно, сами эти срывы в физиологии высшей нервной деятельности есть всегда более или менее отдаленные последствия срывов индивидуума в социальном плане, в плане отношений другими людьми. И общество, которое эстетически санкционирует сюрреализм, тем самым окольным путем эстетически освящает и ту действительность социальных отношений, внутри которой эти срывы делаются правилом, законом.
Поэтому независимо от своих намерений сюрреалисты в безобразии и отвратительности их образов очень точно выражают эстетически безобразие и отвратительность организма общественных отношении, на почве которых расцветает эта форма работы воображения.
Таким образом, это опять не «физиология» как таковая, а социальная (предметно-человеческая) [244] действительность, хотя и преломившая свое действие через физиологию, через ее патологическое нарушение, выступает как «господин», диктующий своему «рабу» формы работы воображения, то направление, в котором смещаются формы образного видения мира.
Никакой «свободы», даже в ограниченном смысле этого понятия, здесь, по существу, нет, или ее так же мало, как и в действиях по штампу. Ибо подлинная свобода заключается в действиях, преодолевающих силу и давление внешних, ближайших обстоятельств, а действия эти бывают успешными и победоносными в том случае, если они совершаются в русле общей необходимости, заключенной только в совокупном взаимодействии всех действительных (а не только мелких и внешних) условий и обстоятельств.
Иными словами, свобода есть там и только там, где есть действие сообразно некоторой цели и ни в коем случае — не сообразно давлению ближайших наличных обстоятельств. Поэтому свобода вообще, а свобода воображения в частности, неотделима от цели работы воображения. В художественном воображении, особенно отчетливо в искусстве, эта цель обретает форму «идеала», то есть «красоты». Поэтому красота, или идеал, и выступает как важнейшая, наиболее общая форма организации работы воображения, как условие свободного выражения, как его субъективный критерий и как форма его продукта. Со свободой воображения красота связана неразрывно.
Подробное доказательство этого положения заняло бы много места. Но только места, ибо принципиальное решение данной проблемы довольно подробно развито Марксом. Как факт связь свободы с красотой вообще была систематически даже педантично описана немецкой классической философией, в частности эстетикой Гегеля. Отличие Маркса от Гегеля в этом пункте заключалось не в признании или отрицании этого факта, а только в его общетеоретической (философской) интерпретации. Гегель «выводил» необходимость органической связи свободы воображения с красотой из духовной природы человеческой деятельности. Маркс объяснял («выводил») духовную деятельность со всеми ее особенностями из условий материальной жизни, из способа производства и тем самым объяснял те факты, которые Гегель описал, но не понял (точнее, понял неверно). Сами же факты духовной деятельности, и [245] в частности занимающий нас факт, подробнейше изображенный Гегелем, Маркс принимал как факты, наличие которых можно было считать доказанным.
Связь свободы с красотой Маркс объяснял («выводил») из особенностей человеческого отношения к природе, из того факта, что человек, в отличие от животного, производит и воспроизводит не только и не столько свое физическое существование, но вовлекает в процесс производства все более и более широкие сферы природы, новые и новые массы природного материала, продуцирует не только и не столько свое «органическое тело», сколько свое «неорганическое тело» — предметное тело цивилизации. С этим и связано то обстоятельство, что животное формирует природный материал только под давлением физиологических потребностей и только согласно «мерке и потребности того вида, к которому оно принадлежит», в то время как человек «производит даже будучи свободен от физической потребности, и в истинном смысле слова только тогда и производит, когда он свободен от нее…» [11] — и именно поэтому изменяет природу сообразно ее собственной мере, а не сообразно мере своей видовой физиологии. «…В силу этого человек формирует материю также и по законам красоты» [12].
Значение этих идей Маркса для эстетики комментировали не раз, и мы вправе ограничиться здесь только напоминанием.
В результате умение формировать материю «свободно», то есть сообразно ее собственной необходимости и мере — то есть «по законам красоты», — рождает и субъективное чувство красоты. Это чувство сопровождает акты действительно свободного формирования природы (как в реальной практике, так и в плане представления, в воображении, в фантазии), а потом, будучи развито, оказывается и субъективным критерием «свободной» деятельности.
Развитое эстетическое чувство (чувство красоты) и отталкивает продукты произвольного, то есть несвободного, некультурного, нецивилизованного и неразвитого, воображения, так же как и ремесленнические поделки, изготовленные без участия воображения, по готовым штампам и рецептам. В продукте произвольного воображения нет красоты именно потому, что нет свободы [246] воображения, а есть лишь ее иллюзия. В продукте действия по штампу красоты также нет, ибо нет воображения вообще.
Свободное воображение отличается от действия по штампу тем, что в нем всегда присутствует более или менее очевидная индивидуальная вариация тех форм деятельности, которые уже «заштампованы», формализованы, выражены в строго однозначных формулах и предписаниях. В то же время это индивидуальное отклонение, эта индивидуальная вариация общих принципов вовсе не произвольна.
Случайные, ничем не оправданные отклонения от общей нормы работы можно легко «закодировать» и в задании машине. Для этого нужно только закодировать в ней «умение» быстро реагировать на индивидуальные особенности ситуации, на чисто случайные уклонения этой ситуации от известных уже «общих» контуров. Но ни свободы, ни красоты не будет и при этом условии.
Дело в том, что индивидуальные сдвиги в общих, уже усвоенных и описанных в учебниках формах работы воображения у человека диктуются вовсе не просто «случайностью», не «дурной индивидуальностью» ситуации или материала, а только всеобщей, совокупной, интегральной картиной действительности, теми общими же идеями, которые, как говорят, «носятся в воздухе» и ждут только человека, способного их чутко уловить и высказать. Когда они высказаны, их «принимают», субъективно соглашаются с ними и даже удивляются — почему же каждый сам не сумел высказать (выразить) столь самоочевидную вещь…
То «индивидуальное» отклонение от общей нормы работы воображения, которое вызвано не капризом, а теми или иными серьезными и общезначимыми мотивами, причинами и потребностями, касающимися всех людей, и есть действие свободного воображения или свободное действие воображения, в отличие и в противоположность действию как по заштампованной традиции, так и по чистому произволу, свободному от всякой традиции, от всякой общей нормы.
Поэтому в действии подлинно свободного воображения всегда можно аналитически выявить как момент «индивидуального отклонения от нормы», так и момент «следования норме». Только их органическое соединение и характеризует свободу воображения, тем самым — красоту. [247]
Но простое механическое соединение «общего» и «индивидуального» в работе воображения не даёт свободы и красоты его продукта. Простая смесь кислорода с водородом не дает еще воды. Индивидуальный каприз воображения остается по-прежнему капризом, чудачеством даже в соединении с совершеннейшим формальным мастерством, а формальное мастерство — мертвым формализмом, если оно приводится в действие только личным капризом или произволом воображения…
Конечно, отличить каприз от свободы воображения не всегда просто, тут нет лакмусовой бумажки — и примеров их спутывания каждый может припомнить немало.
Случаев внешнего, механического соединения формального мастерства с индивидуальной капризностью воображения можно указать больше, чем это, может быть, кажется на первый взгляд.
Реже индивидуальная «игра» воображения представляет собой форму, в которой высказывает себя не только и не столько личность художника, сколько общая, назревшая в обществе и чутко уловленная художником необходимость, потребность. Здесь мы и имеем дело с гением.
Эстетически схваченная, художественно осознанная необходимость, оказывающая давление на всех и каждого, но не осознанная пока никем, не выраженная еще в строгом формализме понятия, и есть свобода художественного воображения, художественной фантазии. Она-то и рождает всеобщий, общезначимый эстетический продукт в форме индивидуального сдвига в системе образов, созданных предшествующей деятельностью воображения. Тем самым в виде «индивидуального» сдвига в прежних нормах работы воображения рождается новая, всеобщая норма работы воображения.
Её затем опишут в учебниках по эстетике, выразят в «алгебре» понятий искусствоведения и эстетики, ей станут следовать как штампу плохие художники и как всеобщей норме работы воображения, которая требует новых индивидуальных вариаций и отклонения, — хорошие художники.
Работа подлинно свободного воображения поэтому-то и состоит в постоянном индивидуальном, нигде и никем не описанном уклонении от уже найденной и узаконенной формы работы воображения — причем в таком уклонении, которое хотя и индивидуально, но не [248] произвольно. В таком уклонении, которое есть продукт не личной изобретательности, а личного умения чутко схватить всеобщую необходимость, назревшую в организме общественной жизни.
Такое, как сказал бы Гегель, «химическое» или «органическое» соединение индивидуальности воображения со всеобщей нормой, при котором новая, всеобщая норма рождается только как индивидуальной отклонение, а индивидуальная игра воображения прямо и непосредственно рождает всеобщий продукт, сразу находящий отклик у каждого, и есть секрет и свободы воображения и сопровождающего его чувства красоты.
В то же время это два продукта разложения художественной формы, формы свободного воображения, аналогично тому, как разложение воды дает кислород и водород. Сколько и в каких пропорциях ни смешивай, ни сочетай эти два компонента, они не дают «химического» соединения. Для этого нужна особая реакция, особые условия.
На два этих «исходных» продукта, которые одновременно суть конечные продукты разложения художественной формы, явственно и распадается ныне «модернистское» искусство. He случайно крайние формы его разложения может имитировать, с одной стороны, машина, сочетающая слова и фразы по формальным канонам стихосложения, а с другой — осел, мажущий полотно совершенно «произвольными» и «индивидуально неповторимыми» взмахами своего хвоста. В этих полюсных формах, как легко заметить, исчезает не только «свободное» воображение, но и вообще отпадает необходимость в способности какого бы то ни было воображения. Его роль тут выполняет в одном случае штамп программы, в другом — абсолютно случайные физиологические позывы.
Дело в том, что силой свободного воображения может обладать только человек, действующий не по личному капризу, а исключительно по цели, имеющей всеобщее значение и характер, — индивидуум, чутко улавливающий широкие общественные потребности, звучащие в неясном рокоте миллионов, и умеющий окрасить общественно значимую потребность личностным пафосом.
Так что воображение вообще, если оно действительно есть, есть всегда свободное воображение. Несвободное воображение — это нонсенс, деревянное железо, [249] круглый квадрат. Где нет свободы воображения — нет и самого воображения, воображения вообще, а есть лишь его иллюзия, его мнимое бытие, его суррогат — замаскированный штамп или замаскированное рабство по отношению к ближайшим условиям психической деятельности. Здесь нет работы воображения по цели, по идеалу, по развитому чувству красоты. Есть всё что угодно, кроме воображения как драгоценнейшей, специфически человеческой способности.
Это свойство таится глубоко — в самой природе воображения, в его социальной функции среди других способностей, обеспечивающих общественно-человеческую жизнедеятельность.
Функция эта заключается в том, что она, и только она, обеспечивает человеку возможность правильно соотносить общие, выраженные в понятиях знания с реальными ситуациями, которые всегда индивидуальны. Этот переход — от системы общих, в школе усвоенных норм и правил человеческого отношения к природе, к единичным фактам и обстоятельствам — всегда оказывается роковым для человека с неразвитой силой воображения.
В том пункте, где заученные им общие схемы, рецепты и предписания не могут уже дать однозначного, алгебраически выверенного указания насчет того, как действовать в данном случае, в данной ситуации с данным явлением, с данным фактом, — человек с неразвитой силой воображения теряется и сразу, непосредственно от действия по штампу переходит к действию по чистому произволу, начинает блуждать и искать по известному методу «проб и ошибок», пока (и если) случайно не натолкнется на выход, на решение.
Метод проб и ошибок — очень непродуктивный метод поиска и в жизни и в науке. Его закон — чистый случай. К успеху этот метод приводит так же редко, как и попытка получить осмысленную фразу путем рассыпания типографского шрифта с надеждой, не уляжется ли он, случаем, в какой-то забавной последовательности…
Поэтому «чистым» методом «проб и ошибок» не действует ни один человек. В действии в поле свободного выбора всегда участвует в той или иной степени способность продуктивного воображения. В этой ее функции она чаще всего называется «интуицией», которая позволяет сразу, без испытывания, отбросить массу путей решения и предпочесть более или менее [250] ограниченный круг поиска. Она ограничивает сферу «проб и ошибок», — и чем интуиция более развита и культурна, тем более определенным с самого начала становится поиск.
* * *
Природа интуиции кажется очень таинственной и загадочной. На фактах, связанных с ее действием, особенно любят спекулировать сторонники иррационализма в философии. Эти факты настолько пестры и разнообразны, что можно впасть в отчаяние при попытке дать им рациональное материалистическое толкование, подвести их под какое-то общее правило, выявить хоть какой-то общий принцип и закон, которому они все подчиняются.
Интуиция — одно из самых важных проявлений той самой способности воображения, о которой мы говорили. Поэтому к ней относится все сказанное выше. Остается прибавить дополнительные характеристики. Выявить их можно анализом искусства. Но в искусстве мы имеем дело с очень сложными и развитыми формами интуиции и воображения. Поэтому попробуем обрисовать их на фактах, где ярко выраженное художественное чувство (соединенное с ощущением красоты) непосредственно пересекается с сугубо рациональным пониманием тех фактов, которых оно касается.
Речь идет об одной крайне любопытной геометрической теореме, анализ которой прямо сталкивает с действием «интуиции» или «силы воображения», повинующейся тому оригинальному «ощущению», которое называется ощущением красоты…
Оригинальность этой теоремы, занимавшей в свое время ум Декарта, заключается в том, что чисто формальные доказательства оказываются здесь абсолютно бессильными, если они лишаются опоры на «интуитивное» соображение, имеющее ярко выраженный эстетический характер, — на соображения, вернее, на доводы, непосредственного чувства, которые сами по себе опять-таки никакому формально-логическому доказательству не поддаются и тем не менее лежали в основе исследований такого строгого математика, каким был Кеплер. Приводим этот оригинальный случай по изложению известного американского математика Д. Пойа. Называется он «изопериметрической теоремой». Суть теоремы, сформулированной Декартом, состоит в следующем. [251]
Сравнивая круг с несколькими другими геометрическими фигурами, мы убеждаемся, что он имеет наименьший периметр из других пяти или десяти фигур, обладающих равной площадью. Декарт составил таблицу, которая наглядно это показывает и выглядит так:
Периметры фигур равной площади:
Круг — 3,55
Квадрат — 4,00
Полукруг — 4,10
Равносторонний треугольник — 4,56
(и т. д. — не будем продолжать таблицу Декарта, где приведены десять фигур).
«Можем ли мы отсюда посредством индукции вывести, как, по-видимому, предлагает Декарт, что круг имеет наименьший периметр не только среди десяти перечисленных фигур, но и среди всех возможных фигур?» Никоим образом, — говорит Пойа. — Обобщение, полученное от десяти случаев, никогда не дает гарантии в том, что в одиннадцатом случае будет то же самое. Это давно известно философии. В данном случае мы столкнулись с проблемой всеобщности и необходимости вывода, базирующегося на ограниченном числе фактов. Кант, исходя из этой трудности, заключил, что ни одно понятие, выражающее «общее» в фактически наблюдаемых явлениях, не может претендовать на всеобщность и необходимость и всегда находится под угрозой той судьбы, которая постигла знаменитое суждение «все лебеди — белые».
Тем не менее, — продолжает Пойа, — Декарт, как и мы, рассматривающие изопериметрическую теорему, был почему-то убежден, что круг есть фигура с наименьшим отношением периметра к площади не только по сравнению с десятью перечисленными, но и по сравнению «со всеми возможными».
В самом деле, говорит Пойа, наше убеждение в этом настолько сильно, что мы не нуждаемся в продолжении ряда, в дальнейших сравнениях.
В чём тут дело? В чём отличие от другой сходной ситуации, например от такой: пойдем в лес, выберем наугад десять деревьев разных пород, измерим удельный вес древесины каждого из них и выберем дерево с наименьшим удельным весом древесины. Иными словами, мы сделали то же самое, что и с геометрическими — фигурами… Разумно ли на этом основании заключать и верить, что мы нашли дерево удельный вес которого [252] меньше удельного веса всех существующих и возможных деревьев, а не только тех, которые мы измерили и взвесили?
«Верить этому было бы не только не разумно, но глупо.
В чем же отличие от случая круга? Мы расположены в пользу круга. Круг — наиболее совершенная фигура; мы охотно верим, что вместе с другими своими совершенствами круг для данной площади имеет наименьший периметр. Индуктивный аргумент, высказанный Декартом, кажется таким убедительным потому, что он подтверждает предположение, правдоподобное с самого начала» [13].
Вот все, что может сказать в обоснование правильности изопериметрической теоремы строгий математик. Если он хочет сказать что-то большее, он вынужден обратиться за помощью к эстетическим категориям. И Пойа приводит ряд высказываний, в том числе Данте, который (вслед за Платоном) называл круг «совершеннейшей» фигурой, «прекраснейшей» и «благороднейшей» фигурой… Факт есть факт. Теорема держится, как на «тайном» фундаменте, на доводе развитого чувства эстетического характера, чувства «красоты», «совершенства», «благородства» и пр. Лишенная этого фундамента, она разваливается. Интуиция, то есть довод эстетически развитого воображения, здесь включается в строгий ход математического формализма, даже задает ему содержание.
Дальше — больше. Теорема убедительна даже для человека, который и не тренировал свое восприятие созерцанием геометрических фигур. Если ту же теорему сформулировать не на плоскости, а в пространстве, то мы будем иметь дело с шаром, который, по тому же Платону, еще «прекраснее», еще «благороднее», чем круг… «В пользу шара мы расположены, пожалуй, даже больше, чем в пользу круга. В самом деле, кажется, что сама природа расположена в пользу шара. Дождевые капли, мыльные пузыри, Солнце, Луна, наша Земля, — планеты шарообразны или почти шарообразны» [14].
Не потому ли шар кажется нам «прекрасной фигурой», что он — тот естественный предел, к которому [253] почему-то, а почему — неизвестно, «расположены» не только мы, а и сама природа? Не потому ли, что эта фигура — нечто вроде «цели», к которой тяготеют другие природные формы? Тогда что это за цель? Опять неясно. Ясно одно — все попытки определить «цель» или «причину», по которой сама природа «расположена» к форме шара, должны потерпеть неудачу. И не только потому, что природе вообще нелепо приписывать «цели», «расположение» и тому подобные категории, взятые из сугубо человеческого обихода, не только потому, что антропоморфизм вообще — плохой принцип объяснения природы. Эти попытки обречены на неудачу даже в том случае, если на секунду допустить, что тут есть какая-то «цель». Искусственно наложив категорию «цели» на такого рода факты, мы сразу же убедимся, что «цели» тут не только разные, но и прямо противоположные.
Шар оказывается формой, которая почему-то «выгодна» для самых разнообразных, ничего общего не имеющих между собой «целей». Оказывается, что в понятии невозможно подытожить, в чем же заключается содержание «целесообразности» формы шара или круга…
Одно дело — мыльный пузырь, а другое — кот, который, как шутит Пойа, тоже может научить нас изопериметрической теореме… «Я думаю, вы видели, что делает кот, когда в холодную ночь он приготовляется ко сну: он поджимает лапы, свертывается и таким образом делает свое тело насколько возможно шарообразным. Он делает так, очевидно, чтобы сохранить тепло, сделать минимальным выделение тепла через поверхность своего тела. Кот, не имеющий ни малейшего намерения уменьшить свой объем, пытается уменьшить свою поверхность… По-видимому, он имеет некоторое знакомство с изопериметрической теоремой» [15].
У кота, как у живого существа, еще можно с грехом пополам допустить «желание» и «действие по цели». Но если мы (как это делал Кант в своем анализе суждений эстетического вкуса в «Критике способности суждения») гипотетически допустим, что понятие «цели» применимо и к дождевой капле и к Солнцу, то мы сразу же убедимся, что невозможно понять и выразить в понятии ту «цель», которую одинаково преследует и кот, [254] и дождевая капля, и мыльный пузырь… Мы не найдем между их «целями» ровно ничего общего. Иными словами, «предположив здесь «целесообразность», мы придем к кантовскому определению красоты как целесообразности, но целесообразности, не охватываемой понятием и не дающей никакого понятия о себе; целесообразности, которая может осознаваться лишь «эстетически», интуитивно, но никак не рационально… Это как раз тот случай, подобный которому и имел в виду Кант, случай, когда мы «чувствуем» наличие цели, когда наше восприятие свидетельствует о «целесообразности», но все рациональные доводы говорят за то, что никакой «цели» мы допустить не имеем права, даже если мы и не являемся материалистами.
Тут всё насквозь кажется таинственным и непонятным.
Однако факт есть факт: наше восприятие почему-то заранее «расположено» к форме шара, эта форма как бы «естественно» согласуется с нашей, человечески организованной чувственностью. Интуиция, или сила воображения, сразу же, без формальных доказательств «соглашается» с тем, что «совершеннее» (в смысле отношения периметра к площади) шара фигуры нет и быть не может. Кроме того, это «согласие» прямо и непосредственно сопровождается «чувством красоты». Отсюда и определение шара как фигуры не только «совершеннейшей» (Данте), но и «прекраснейшей» из фигур (Платон)…
Так и остается эта оригинальная теорема загадкой, в наши дни такой же, по-видимому, темной, как и во времена Кеплера и Декарта. И для односторонне математического (формального) подхода она останется темной навсегда. Ибо увязана ее тайна уже не с математическим анализом, а с той действительностью, которую исследует эстетика. Математик может из ее анализа сделать только тот вывод, который и делает Д. Пойа:
«Изопериметрическая теорема, глубоко коренящаяся в нашем опыте и интуиции, которую так легко предположить, но не так легко доказать, является неисчерпаемым источником вдохновения» [16]. Как же быть? Поддается ли эта тайна объяснению в материалистической эстетике? Можно ли материалистически объяснить интуицию, действие воображения, [255] связанное с ощущением «красоты»? Или факты, с ее действием связанные, навсегда останутся лакомым кусочком для иррационализма и мистики в эстетике?
Исчерпывающе подробным образом мы не беремся эту проблему решить. Но принципиальные ключи к ее решению мы дать обязаны, если уж ее коснулись и заинтриговали читателя.
Условия проблемы таковы. Действие воображения, связанное с ощущением красоты, явно предполагает действие по цели (иначе нет «свободного» действия). Иными словами, «красота» продукта воображения и в самом деле как-то связана с ощущением «целесообразности», и притом при отсутствии жесткого понятия об этой «цели». К тому же ощущение «красоты» относится не только к продуктам деятельности человека, но и к таким предметам, которые никаких «целей» в себе заключать не могут, — к продуктам природы… В этом вся трудность и вся тайна.
Но если мы на этом и остановимся, то застрянем на точке, на которой оставил решение проблемы И. Кант. И мы хотим получить материалистическое решение, а не только острую подготовку проблемы, не только острое выражение трудности.
Как и все другие проблемы и трудности, связанные с духовной жизнью, эта проблема также решается лишь на той почве, которую вспахал Маркс. На почве понимания предметно-человеческого отношения к природе как предметной деятельности, эту природу изменяющей, преобразующей и преображающей.
Преображение мира в фантазии, то есть действие воображения, связанное с ощущением красоты, есть способность, рождающаяся на основе реального, предметно-практического преображения этого мира и это реальное преображение мира обеспечивающая. В предметно-практической деятельности общественного человека, изменяющего и природу и самого себя, как раз и заключается тайна рождения фантазии, интуиции, воображения.
Это, конечно, еще очень общо. Это только зерно, из которого можно развить конкретное, развернутое во всех деталях понимание. А человек, как шутил Гегель, вряд ли удовлетворится, если ему вместо обещанного дуба с развесистой кроной покажут жёлудь. Но только из жёлудя вырастает самый красивый и могучий дуб — в этом наше единственное оправдание. [256]
Попробуем, однако, всё же проследить хотя бы рождение ствола и основных ветвей, наметить дальнейшие контуры факта, шагнуть чуть дальше по пути от абстрактного к конкретному — по тому пути, которой Маркс считал единственно возможным путем развития научных определений.
* * *
Человеческая деятельность в природе есть деятельность продуктивная, производящая, рождающая — притом то, чего в природе самой по себе не было и не может быть. На известной стадии она становится, кроме того, еще и целенаправленной, целесообразной, и в той мере, в какой она становится целесообразной, она делается также и свободной. Тем самым человек; начинает реально (а не в фантазии) формировать материю также и «по законам красоты». Все эти характеристики (целесообразность и красота, творческий, продуктивный характер действий) развиваются, таким образом, совершенно независимо от наличия специально художественной деятельности, от деятельности в плане представления, воображения.
И именно в ходе этой (непосредственно предметной) деятельности формируется человеческая «чувственность», формы ее работы. В том числе — те формы работы воображения, которые ориентируются на «цель», на идеал, на красоту.
Воображение, развитое на продуктах человеческой деятельности, организованное формами этих продуктов, как раз и связывает в себе ощущение «целесообразности», делает его субъективным критерием правильности своих действий даже в том случае, если оно направлено и на природу, еще трудом человека не обработанную и, следовательно, еще не заключающую в себе никаких «целей».
Интуиция (то есть действие культурно развитого, «свободного» воображения) действительно схватывает любой предмет (в том числе природный) под «формой целесообразности».
Такой оборот специфически человеческой категории (цели) на природу есть, конечно, антропоморфизм. В науке этот прием — запрещенный. Если он там всё-таки применяется — он дает идеализм в том или другом его варианте. [257]
Категории, выражающие специфику человеческого существа, нелепо переносить на природу вне человека, нелепо приписывать ей.
Однако дело обстоит хитрее, чем может показаться на первый взгляд. Прежде всего: все определения природы самой по себе наука вырабатывает не на основе пассивного созерцания явлений природы, а только на почве и на основе активного изменения природы — на основе практики общественного человека. Мысль ученого «опосредована» природой общественного организма, всей массой продуктов его деятельности, его живого функционирования.
Формы мышления и формы созерцания (то есть формы работы воображения) возникают только на основе «очеловеченной» (то есть обработанной, переделанной трудом) природы. А не на основе природы самой по себе, не тронутой руками и орудиями человека.
Поэтому реальная «антропоморфизация природы», то есть придание природе «человеческих норм», — это вовсе не дело «фантазии». Это просто-напросто суть труда, суть производства материальных условий человеческой жизни. Изменяя природу сообразно своим целям, человек и очеловечивает ее. В этом смысле слова ничего «дурного» антропоморфизация собой — само собой ясно — не представляет.
Такая «антропоморфизация» как раз и раскрывает перед человеком суть природных явлений, тех самых явлений, которые он вовлёк в процесс производства, превратил в материал, из коего строится предметное тело цивилизации, «неорганическое тело человека».
Затем если он распространяет определения, выявленные им в «очеловеченной» природе (то есть в той части природы, которая вовлечена в процесс производства), на природу, еще не вовлеченную в этот процесс, еще не «очеловеченную», — то в этом опять-таки нет ничего запретного.
Наоборот, это единственно возможный путь и способ познания природы «самой по себе». Дело в том, что только практика человека (то есть «очеловечивание» природы) способна доказать всеобщность определений, отделить всеобщие (то есть и за пределами практики значимые) определения природы — от тех определений, которыми они обязаны человеку, то есть от специфически человеческих, человеком привнесенных определений и форм. [258]
Именно практика, именно реальное «очеловечивание», реальная «антропоморфизация» природы доказывают, в частности, что нельзя приписывать природе цели, намерения, «расположение» и прочие категории, вплоть, до «любви» или «злобы». Короче говоря, все определения, выражающие специфику субъективно-человеческой организации, способ ее действий.
Но те определения, которые человек выявил в очеловеченной природе, в «неорганическом теле человека», в предметном теле человеческой цивилизации, он спокойно может и даже должен относить и к той части природы которая еще не превратилась в предмет его собственной деятельности.
Все без исключения всеобщие категории и законы науки (и не только философии, но и физики, и химии, и биологии) непосредственно вырабатываются и проверяются на всеобщность как раз в ходе «очеловечивания» природы, то есть в процессе, протекающем по человеческим целям.
Поэтому все определения природы самой по себе суть прямо и непосредственно определения очеловеченной и очеловечиваемой природы и в этом смысле — «антропоморфизмы». Но эти «антропоморфизмы» как раз и не содержат в себе абсолютно ничего «специфически человеческого», кроме одного — чистой всеобщности, чистой универсальности.
Ибо в процессе «очеловечивания» природных явлений человек как раз и выделяет их «чистые формы», их всеобщие формы и законы из того переплетения, в котором они существуют и действуют в «неочеловеченной» природе. В неочеловеченной природе все формы и законы вещей переплетают свое действие и потому взаимно «искажают» форму и образ друг друга. Поэтому в природе самой по себе и нельзя увидеть непосредственно «чистой формы» вещи, то есть ее собственной, специфически ей свойственной структуры, организации и формы движения. В неочеловеченной природе собственная форма и мера вещи всегда «загорожена», «осложнена» и «искажена» более или менее случайным взаимодействием с другими такими же вещами. «Вещь» тут в самом широком смысле слова — любой предмет, объект, процесс, равно — система вещей.
Человек в своей практике выделяет собственную форму и меру вещи и ориентируется в своей деятельности именно на нее. Поэтому-то форма красоты, [259] связанная с целесообразностью, и есть как раз не что иное, как «чистая форма и мера вещи», на которую всегда ориентируется целенаправленная человеческая деятельность. Под формой красоты поэтому-то и ухватывается не что иное, как универсальная (всеобщая) природа данной, конкретной, единичной вещи. Или, наоборот, единичная вещь схватывается при этом только с той стороны, с какой она непосредственно выявляет свою собственную, ничем не загороженную природу и форму, универсальный закон всего того «рода», к коему она принадлежит.
Еще иначе: под формой красоты схватывается «естественная» мера вещи — та самая мера которая в «естественном виде», то есть в самой по себе природе, никогда не выступает в чистом выражении, во всей ее «незамутненности», а выступает только в результате деятельности человека, в реторте цивилизации, то есть в «искусственно созданной» природе.
Форма вещи, созданной человеком для человека, поэтому и есть тот прообраз, на котором воспитывается, возникает и тренируется культура силы воображения. Та самая таинственная способность, которая заставляет человека воспринимать как «прекрасное» такие «чистые» формы природных явлений, как шар. Эти чистые формы вовсе не обязательно отличаются каким бы то ни было формальным признаком — симметрией, изяществом, правильностью ритма и т. д. «Чистых», то есть собственных, форм вещей в составе мироздания бесконечно много. Даже слово «много» здесь лишнее. Поэтому безгранична и область «красоты», многообразия ее форм и мер. Вещь может быть и симметричной и несимметричной — и все-таки «красивой». Важно одно — чтобы в ней воспринималась и наличествовала «чистая», то есть собственная, не искаженная внешними по отношению к ней воздействиями, форма и мера данной вещи… Если это есть — эстетически развитое чувство сразу же среагирует на нее как на «красивую», то есть акт ее созерцания будет сопровождаться тем самым «эстетическим наслаждением», которое свидетельствует о «согласии» формы развитого восприятия с формой вещи или, наоборот, формы вещи — с человечески развитой формой восприятия, воображения.
В этом же, между прочим, секрет и «самоочевидности» геометрических аксиом и тех форм, о которых мы говорили выше (круга и шара). Почему [260] цивилизованному ребенку не приходится «доказывать» (что, кроме всего прочего, и невозможно) тот «факт», что параллельные линии не пересекаются, сколько их ни продолжай в воображении? И почему, как отмечал Энгельс, эту аксиому невозможно втолковать взрослому бушмену даже с помощью самого пространного доказательства?
Очень просто. Дело не в «физиологических» особенностях мозга европейца и бушмена, как старались представить дело апологеты расизма. Дело в том, что формы восприятия (то есть воображения) европейца с первых же дней его жизни активно организуются геометрически «правильными» формами «цивилизованной», «очеловеченной» природы — стенами комнат, улицами, архитектурой и пр., — а формы восприятия и воображения бушмена — дикой природой джунглей с их фантастическими переплетениями лиан и ветвей. Бушмен, родившийся в Европе, также не будет нуждаться в доказательстве аксиом геометрии. Они для него будут столь же очевидными, как и для «белого». Физиологические различия рас и наций здесь абсолютно ни при чем… Негры в Америке становятся такими же прекрасными математиками, как и люди англосаксонской крови. Если это случается реже, чем с белыми, так физиология тут опять-таки ни при чем.
Этот оборот образов «очеловеченной» природы на всю природу в целом можно, конечно, тоже назвать «антропоморфизмом». Однако это совсем иного рода «антропоморфизм», чем тот, который действует в мифологии.
Дело в том, что «всякая мифология преодолевает, подчиняет и формирует силы природы в воображении и при помощи воображения; она исчезает, следовательно, с действительным господством над этими силами природы» [17].
Исчезает при этом не работа воображения, а только та ее первоначальная и грубая форма, которая относит к природе субъективно-человеческие черты и поэтому стоит в обратном отношении к мере реального «очеловечивания» природы в труде, в производстве.
Поэтому-то тот взгляд на природу, который лежал в основе античной фантазии, и невозможен в современном обществе, ибо современная цивилизация исключает возможность всякого мифологизирования и, «стало [261] быть, требует от художника независимой от мифологии фантазии» [18].
Эта фантазия, то есть работа продуктивного воображения, «опрокидывает на природу» характеристики уже не субъективно человеческой организации, а «формы предметного тела цивилизации», «неорганического тела человека», то есть выявленные трудом «чистые формы» самой природы.
Эта проекция воображения тоже может быть, если угодно, названа «антропоморфизмом». Но это тот самый «антропоморфизм», который не только не противопоказан самой строгой науке, но и представляет собой ту форму работы воображения, без которой абсолютно невозможными были бы и математика с ее дифференциальным и интегральным исчислением, и политическая экономия, и строительство космических ракет.
Художественное творчество, специально развивая чувство красоты, тем самым формирует и организует способность человеческого воображения в ее наиболее высших и сложных проявлениях. Отсюда можно понять, почему эстетически развитый глаз умеет сразу же распознавать «целое раньше частей». Дело здесь в следующем.
Когда такой глаз схватывает предмет, формы которого согласуются с формами эстетически развитого восприятия, то человек может быть уверен, что увидел какое-то «целое», какую-то конкретную систему явлений, сложившуюся по ее «собственной мере», а не просто случайное переплетение многих случайно столкнувшихся «целых», не винегрет из разнородных «частей», не случайное сочетание составных частей от разных «целых».
Чтобы это положение пояснить, взглянем в ночное небо сквозь стекла мощного телескопа.
Что сразу же бросится нам в глаза? То обстоятельство, что все космические образования, отделенные друг от друга фантастически огромными «пустыми» пространствами и потому почти не «искажающие» друг друга своими взаимными воздействиями, явно тяготеют по своим геометрическим контурам к тем или иным «чистым», правильным формам. Прежде всего это наш старый знакомый, «совершеннейшая, благороднейшая и прекраснейшая фигура» — шар; затем — фигуры, более или менее явно приближающиеся к нему или [262] удаляющиеся от него, — шар, сдавленный центробежной силой в диск; диск, периферия которого той же силой разнесена и закручена в спиралевидные ветви… К этим контурам, как к своему пределу, явно тяготеют очертания всех, или, вернее, почти всех, космических образований.
Наоборот, там, где чистота этих форм нарушена, «искалечена», мы сразу же, без дальнейших доводов склонны подозревать результат внешнего столкновения двух самостоятельно, сложившихся систем, то есть сразу «видим» здесь действие катастрофического порядка, а не результат «естественного» развития системы. Мы воспринимаем данное зрелище как результат взаимного искажения по крайней мере двух предметов как смесь, как винегрет, a не как результат естественного, то есть «свободного», формообразования, протекающего в согласии с собственной, «имманентной» мерой и закономерностью одной вещи…
Наше эстетическое чувство сразу же подсказывает нам, что мы увидели не единое конкретнее «целое», хотя и восприняли данный предмет как нечто «одно», четко локализованное в пространстве.
Здесь явно работает «правильная» форма нашего восприятия (воображения), развитая на созерцании предметов, созданных человеком для человека, — то есть вещей, все «составные части» которых прямо и непосредственно обусловлены их «целым», то бишь «целью». «Целесообразность» в данном случае можно определить как сообразность частей с целым, как их «целесообразность». Составные части, то есть детали и подробности зрелища, здесь сразу же воспринимаются как «естественные производные» от некоторого целого, как части, рождающиеся из лона этого целого, как его «органы»…
В подобных случаях эстетическое чувство сразу же «соглашается» с тем, что перед нами — естественно сложившееся конкретное целое, все части которого могут и должны быть поняты в качестве закономерно развившихся модификаций одной и той же природы, одного и того же исходного состояния, что это однородные — «части».
Такое согласие формы вещи с формой развитого эстетического восприятия (воображения) и связано с чувством «красоты». Потому-то ощущение красоты и сопровождает акт схватывания целого до схватывания и анализа его «составных частей». [263]
Конечно, мы показали секрет этого феномена на простейшем примере. Если речь идет о схватывании целого не в космосе, а, скажем, в общественно-человеческой жизни, то здесь правильность геометрической формы уже не может служить доводом. Даже наоборот, круглое или квадратное живое тело покажется нам не только не «прекрасным», но и прямо уродливо безобразным. Недаром говорят — «круглый дурак».
Чтобы верно схватить целое здесь, требуется эстетическое восприятие, развитое уже не на простейших геометрических фигурах, а на других, более сложных и хитрых «предметах», созданных человеком для человека. На каких именно — надо исследовать особо.
Но факт тот, что исследовать надо на том же пути. Иного пути к материалистическому объяснению данного феномена, по-видимому, нет. И здесь форма эстетического восприятия (воображения), позволяющая выделять целое, образуется путем тренировки и управления на предметах, созданных целенаправленной деятельностью человека. Возникнув, она и тут начинает активно управлять процессом восприятия вещей, которые не созданы человеком целенаправленно, а возникли сами по себе и без всякой помощи сознания и воли человека. И здесь она выступает как субъективно-эстетический критерий, позволяющий сразу же, до всякой алгебраически строгой проверки, выделять сначала целое, а затем, исходя из него, — те части, которые принадлежат именно данному целому, данному органическому образованию, не обращая никакого внимания на те детали и подробности, которые в нем наличествуют в результате его внешнего взаимодействия с другими «целыми».
Здесь-то и заключается тайна той таинственной способности, которую И. Кант назвал «интуитивным рассудком», то есть способности схватывать сначала целое, а уже от него переходить к анализу и синтезу его собственных составных частей. Кант признался, что объяснить природу этой удивительной способности он не в состоянии, и объявил ее «божественной». Гете на это ответил, что он хотя и не бог, но эта способность ему свойственна как художнику, как поэту, что это вообще специфическая способность художника. Но откуда она берется в человеке вообще и в художнике в частности — Гете не мог объяснить, так же как и Кант. Кант полагал, что от бога. Гете склонялся к — тому, чтобы приписать заслугу рождения гения природе. Ни тот ни [264] другой не попытались видеть всеобщую основу этой способности в материальном труде, в преобразовании природы человеческим трудом.
Случайно ли тот же Кант объявил детские игры простым животнообразным расходованием излишка чисто физиологической энергии? Не придал им сколько-нибудь серьезного значения для формирования специфически человеческого отношения к миру? Те самые детские игры, которые как раз и есть одна из важнейших форм воспитания человеческого воображения, его организация. Удивительно ли, что Кант, закрыв глаза на факт, обнаруживающий тайну рождения этой способности в человеке, становится в тупик, когда обнаруживает эту способность в развитом человеке, во взрослом вообще и в «гении» в частности?
Формирование способности воображения как способности видеть целое раньше его частей, и видеть правильно, есть, конечно, не мистически-божественный процесс, как и не естественно-природный. Совершается он и через игры детей и через эстетическое воспитание вкуса на предметах и продуктах художественного творчества. Проследить все необходимые этапы и формы образования этой способности — очень благодарная задача теоретической эстетики.
Противопоставляя свой метод мышления гегелевскому, К. Маркс подчеркнул, что исследуемый предмет, «живое конкретное целое», должен «постоянно витать в нашем представлении как предпосылка» всех логически-теоретических операций [19]. Мы отмечали, что удерживать в плане представления такое грандиозно сложное «целое», как товарно-капиталистическая формация, не так легко, как спичечный коробок или даже образ хорошего знакомого.
Способность, позволившую Марксу долгие годы удерживать в представлении и поворачивать в воображении в нужный ракурс такое «целое», как товарно-капиталистическая формация, мы пытались объяснить тем биографическим фактом, что своим эстетическим развитием Маркс был обязан поразительно характерному ряду художников (Эсхил, Шекспир, Мильтон, Сервантес, Гете, Данте). Мы высказали это в виде весьма правдоподобного предположения. Теперь это можно повторить с несколько большей дозой категоричности. [265]
К этому же можно добавить и другой биографический факт, связанный с той же самой проблемой.
Стоит перечитать первые попытки Маркса разобраться в социально-экономической сущности денег («Экономическо-философские рукописи 1844 г.»), как сразу же бросится в глаза крайне примечательный факт: главными авторитетами, на которые опирается Маркс-философ, Маркс-экономист, оказываются здесь не специалисты в области денежного обращения, не Смит или Рикардо, а… Шекспир и Гете.
На первый взгляд это парадоксально. Тем не менее это факт, и факт очень примечательный. Глазами Шекспира и Гете молодой Маркс «схватил» общую сущность денег гораздо более верно (хотя и очень еще общо), чем все буржуазно ограниченные экономисты, вместе взятые. Это случилось именно потому, что последние занимались частностями, деталями и подробностями денежного обращения, банковского дела и пр., а поэтически развитый взор Шекспира и Гете сразу улавливал общую роль денег в целостном организме человеческой культуры по их интегральному, итоговому отношению к судьбам человеческого развития человека и не обращал внимания на те подробности, которые занимали экономистов. Благодаря Шекспиру и Гете Маркс-экономист увидел здесь за деревьями лес — тот самый лес, которого буржуазные экономисты не видели…
Конечно, от этого первоначального, интегрального схватывания «сущности» денежной формы до строго теоретического раскрытия законов рождения этой формы и ее эволюции, произведенного только в «Капитале», было еще очень далеко. Если бы Маркс остановился на этом, «поэтическом» схватывании сути дела, он не стал бы Марксом, а остался бы одним из «истинных социалистов». Но и без этого он Марксом бы не стал. Образно-поэтическое осознание социальной сути проблемы денег в целом было первым, но абсолютно необходимым первым шагом на пути к их конкретно-теоретическому пониманию. В свете этого общего понимания сразу же по-новому «заиграли» все детали и частности, которые затем уже можно было спокойно рассматривать «в свете целого», будучи уверенным, что это целое схвачено верно. Далее можно и нужно было классифицировать, систематизировать и «дифференцировать» общий интегральный «поэтический» взгляд, разрабатывать четко теоретическое выражение фактов. [266]
Факты того же рода можно было привести из любой области научного развития.
С этим-то как раз и связано то «таинственное» обстоятельство, что крупные математики-теоретики считают, и, видимо, не без оснований, одним из «эвристических принципов» математической интуиции красоту.
При этом от математиков можно услышать очень часто, что именно музыка, и еще точнее — инструментальная, непрограммная музыка, им больше всего «по душе». Больше того, один крупный западноевропейский физик-теоретик прямо написал в анкете, что в движении музыкальных форм он лично всегда «видит» некоторый смутный аналог тем своим идеям, которые бродят в его голове, но еще не получили строго формализованного и подробно доказанного выражения… И вот другой пример, где в математике непосредственно «работает» форма организации воображения (интуиции), развиваемая… поэзией. Пример — из книги уже известного нам Д. Пойа: «В течение более чем двух десятилетий я очень интересовался известной теоремой Фабри о пропусках в степенных рядах. Было два периода: первый, “созерцательный” период и второй, “активный” период… В созерцательный период я практически не делал никакой работы, связанной, с теоремой, я только любовался ею и время от времени вспоминал ее в несколько забавной, притянутой за волосы формулировке… [Формулировку мы не приводим, ибо она может показаться забавной, вероятно, только математику — Э.И.].
Идея определенного доказательства пришла мне в голову довольно ясно, но в течение нескольких дней после этого я не пытался разработать окончательную форму доказательства. В продолжение этих дней меня преследовало слово “пересадка”. Действительно, это слово описывало решающую идею доказательства настолько точно, насколько возможно одним словом описать сложную вещь» [20].
Здесь мы встретились со старинной знакомой — метафорой, с формой организации воображения, описываемой в любой системе эстетических категорий.
Именно она организовала в данном случае интуицию математика, ту самую способность, которая, как разъясняет Д. Пойа, только и позволяет вам «догадаться о [267] математической теореме, прежде чем вы ее проведёте в деталях» [21]. Без этой способности нет математика, есть лишь вычислитель, действующий по готовым штампам типовых решений.
Другой пример, из другой области. В монографии М.В. Серебрякова «Фридрих Энгельс в молодости» (Ленинград, 1958) тщательно прослеживаются этапы духовного развития Энгельса, и среди них автор выделяет крайне любопытный факт. До поры до времени, до 1840 года, молодой Энгельс еще не определил ясно своих позиций в плане философии. Его философские симпатии и антипатии были еще довольно неопределённы. Переломным пунктом в этом отношении оказалось в его жизни знакомство с лидером «Молодой Германии», поэтом и критиком Людвигом Берне. Именно Берне побудил Энгельса обратить основное критическое внимание на философию Гегеля, приступить к систематической критике и изучению гегелевской философии и стать в ряды левогегельянцев. Свое отношение к гегелевской философии этот писатель сформулировал в виде ярко-эмоциональной характеристики личности ее автора. Сетуя на консервативность сознания немцев, на их боязнь революционного пафоса, Берне энергично высказался по адресу Гете и Гегеля, обозвав их духовными отцами «холопства»: Гете — «холопом рифмованным», а Гегеля — «холопом нерифмованным». Образ явно несправедливый, неверный, и Людвигу Берне сильно досталось за него от Гейне, гораздо лучше понимавшего и Гете и Гегеля. Но этот энергичный образ все же выразил, как в поэтическом фокусе, важную идею — потребность побороть Гегеля, логику его мышления, сломать власть его «системы». В формально неправильной оценке, с точки зрения философии и позиции даже несколько малограмотной, Берне выразил тут факт огромной важности и тем побудил Энгельса специально исследовать этот факт. В этот образ отлилась повышенно раздраженная реакция писателя на факт, суть которого он сам не понял, но заставил других постараться его понять…
Суть такого рода парадоксов прекрасно объяснил впоследствии сам Фридрих Энгельс. Мы имеем в виду очень глубокую мысль, высказанную им в связи с политической экономией, но имеющую прямое отношение и к сути эстетической оценки фактов. [268]
Возражая тем «социалистам», которые требовали уничтожения капиталистической эксплуатации на том единственном основании, что она «несправедлива», Энгельс указывал, что с точки зрения науки этот вывод абсолютно ложен, так как представляет собой простое приложение морали к политической экономии.
«Когда мы говорим: это несправедливо, этого не должно быть, — то до этого политической экономии непосредственно нет никакого дела. Мы говорим лишь, что этот экономический факт противоречит нашему нравственному чувству. Поэтому Маркс никогда не обосновывал свои коммунистические требования такими доводами, а основывал на неизбежном, с каждым днем все более и более совершающемся на наших глазах крушении капиталистического способа производства; Маркс говорит только о том простом факте, что прибавочная стоимость состоит из неоплаченного труда» [22]. Иными словами, апелляция к нравственному или эстетическому чувству — это прием запрещенный, когда речь идет о науке. Ибо наука обязана раскрыть факт в его отношении к другому факту, а вовсе не к «чувствам» и к «самочувствию» человека. Это абсолютная истина.
Но дальше Энгельс высказывает мысль очень важную и плодотворную для темы нашего разговора, для понимания роли и функции эстетического суждения по отношению к такого рода фактам. «Но что неверно в формально-экономическом смысле, может быть верно во всемирно-историческом смысле. Если нравственное сознание массы объявляет какой-либо экономический факт несправедливым, как в свое время рабство или барщину, то это есть доказательство того, что этот факт сам пережил себя, что появились другие экономические факты, в силу которых он стал невыносимым и несохранимым. Позади формальной экономической неправды может быть, следовательно, скрыто истинное экономическое содержание» [23].
Эта мысль имеет самое прямое значение для марксистского понимания существа и функции эстетического суждения, реакции развитого эстетического чувства на объективные факты.
Дело в следующем. В виде чувства «противоречия» факта «нашему чувству» (эстетическим или [269] нравственным установкам нашей личности) мы констатируем на самом деле несколько иное, а именно — противоречие между двумя фактами.
Эстетическая реакция на факт есть поэтому не что иное, как субъективное освидетельствование важности, жизненной значимости этого факта для массового человека как личности, как индивидуума.
Это чувство свидетельствует, что человек, индивидуум оказался как бы зажатым в тиски между двумя фактами, столкнувшимися в остром противоречии. Будучи зажат между двумя фактами, индивидуум и испытывает их давление на свою психику, и тем болезненнее, чем более чуткой оказывается организация его «чувственности».
«Толстокожая» чувственность, само собой понятно, отреагирует на такое противоречие гораздо позже, лишь тогда, когда «тиски», между которыми ее зажала действительность, сожмутся совсем крепко…
Тонкая, обостренно-эстетическая чувственность художника, развитая сила его воображения отреагируют на такое положение гораздо быстрее, острее и точнее. Она зафиксирует наличие объективно конфликтной ситуации, так сказать, «по собственному самочувствию», по разладу своей организации с совокупной картиной действительности.
Что именно это за факты, какова их собственная, никак от человеческой чувственности не зависящая структура, их чисто объективный контур — этого эстетическое самочувствие сказать не может. Здесь оно обязано уступить место строго теоретическому анализу, лишенному всяких «сантиментов».
Но свое дело она сделала: она засвидетельствовала наличие такого факта и отношения между фактами, которые имеют непосредственно важное значение для индивидуума, для его «человечески-чувственной» организации, для его «самочувствия». А это уже очень много.
Поэтому-то чем выше развито эстетическое чувство (в самом широком смысле, включая и нравственное чувство), тем скорее, острее и точнее человек среагирует на наличие важных для человека фактов и ситуаций. Развитое эстетическое чувство есть поэтому крайне ценный индикатор, барометр. Он скорее, чем наука, отзывается на интегральное, совокупное положение дел в реальном мире. Он позволяет «схватить» образ целостной жизненной ситуации, до того как она будет строго [270] и подробно проанализирована жесткой логикой мышления в понятиях.
Здесь и кроется тайна способности видеть «целое раньше частей», силы «интуиции», воображения. Ничего мистического в этой способности нет. Это есть типичная форма детерминации человеческой психики со стороны объективной действительности, со стороны ее совокупного воздействия на психику.
Плохо, когда оценка по «самочувствию» старается подменить собой строгий, рационально-теоретический анализ. Хорошо, когда голос развитого эстетического чувства чутко реагирует на важные факты и тем самым задаёт работу строго теоретическому анализу, правильно ориентирует его на действительно важные для человека факты. Когда наличие важного («человечески важного») факта удостоверено эстетически развитым чувством, работа мышления становится уже совершенно независимой от него, строго «формальной», лишенной «сантиментов».
Так что в эстетической оценке факта (точнее, системы фактов), в его ощущении как «прекрасного» или «безобразного», как «трагического» или «комического» и т. д. выражается «человеческое» значение этого факта.
На факт, не имеющий серьезного отношения к человеческим запросам, потребностям, вообще к человеческой страсти, к пафосу, развитое эстетическое чувство попросту не «отзывается», остается равнодушным, эстетически безразличным. Наоборот, человечески важный факт сразу же возбуждает развитое эстетическое чувство, пробуждает воображение, вызывает яркие художественно окрашенные образы, организует их по нормам развитого художественного воображения — при этом скорее, чем в самой действительности окончательно оформились соответствующие им прообразы, их предмет.
Но к такому действию способно только подлинно развитое эстетическое (художественное) воображение. Воображение неразвитое, некультурное, капризное и произвольное способно, скорее, дезориентировать человека (в том числе человека науки), направить работу его мышления не к небу истины, а в облака заблуждения. В этом и заключается колоссальная роль эстетического развития человека, в какой бы области он ни трудился.
[271] Конечно, разобраться и решить, где свобода, а где штамп или произвол, не так-то легко, как того хотелось бы любителям легкой жизни в искусстве и в эстетике. Каждый легко припомнит десятки, если не сотни случаев, когда такие любители путали одно с другим и старались превратить собственную путаницу в общепризнанный канон суждения о художнике.
Ведь обзывали же одни Пикассо «хулиганом»… Ведь приходили же другие в эстетический восторг при виде холстов, намазанных взмахами ослиного хвоста!
А это не случайно.
Формалист от канцелярии, для которого «красиво» только то, что общепризнанно и предписано признавать за таковое, всегда объявит «субъективно произвольным вывертом» всё то, что не влезает в рамки зазубренных им штампов. В том числе и подлинную красоту свободы, когда та выступила впервые и еще не зарегистрирована в соответствующей канцелярии, еще не получила удостоверения за подписью столоначальника… Ничего не поделаешь — в глазах раба штампа произвол действительно сливается со свободой. Эти глаза отличить одно от другого не могут. Так же как и глаза его антипода, поклонника полной «раскованности» воображения. Ни раб штампа, ни эстетствующий индивидуалист не видят в творениях гения главного. Той самой свободы, о которой мы говорили. Они видят лишь поверхность полотен, покрытую линиями и красками. А уж восхищаются они при этом или же возмущаются — это зависит от их ведомственной принадлежности, от великой моды, от «указаний» и тому подобных вещей, к подлинной свободе и красоте никакого отношения одинаково не имеющих…
Полотна Пикассо, например, — это своеобразные зеркала современности. Волшебные и немножко коварные. Подходит к ним один и говорит: «Что за хулиганство! Что за произвол! У синего человека — четыре оранжевых уха и ни одной ноги!» Возмущается и не подозревает, насколько точно он охарактеризовал… самого себя — просто в силу отсутствия той самой способности воображения, которая позволяет взору Пикассо проникать сквозь вылощенные покровы буржуазного мира в его страшное нутро, где корчатся в муках в аду «Герники» искалеченные люди, обожженные тела без ног, без глаз и все еще живые, хотя и до неузнаваемости искореженные в страшной мясорубке [272] капиталистического разделения труда… Этого формалист от канцелярии не видит.
Подходит другой — начинает ахать и охать: «Ах, как это прекрасно, какая раскованность воображения, как необычно по цвету, по очертанию! Как свободно сломана традиционная перспектива, как хорошо, что нет сходства с Аполлонами и Никами Самофракийскими! Как хорошо, что у человека четыре ноги!..»
И опять он охарактеризовал самого себя. Это калека, наслаждающийся своей искалеченностыо, своей «непохожестью» на античные образы прекрасной, всесторонне разбитой индивидуальности. Той самой, сквозь призму которой видит мир и его реальные образы Пикассо и не видит буржуа-обыватель, наслаждающийся красотой франков и декольте, холодильников и офицерских мундиров и не видящий скрытое под ними пустоты и человеческой искалеченности…
Так что отличить свободную красоту от уродства произвола и штампа можно, только обладая и подлинной эстетической и теоретической культурой и умением соотносить образы искусства с действительностью. А без развитого воображения этого сделать нельзя.
Именно поэтому делу коммунистического преобразования общественных отношений принципиально враждебно то «искусство», которое культивирует и воспитывает в людях произвол индивидуального воображения, маскируя его названием «свобода фантазии» художника, — так же как и «искусство», культивирующее штампованное: машинообразное «воображение», традиционные формализмы, сухо-рассудочный тип фантазии, фантазию по тупой внешней аналогии, по формальному предписанию, по рецепту.
И наоборот, подлинное искусство, воспитывающее подлинную свободу воображения, связанное с той «игрой фантазии», которая появляется от избытка силы этого воображения, этой свободы движения в материале, является «естественным» союзником коммунистического идеала. Развивая эстетические потенции человека, культуру и силу воображения, искусство тем самым увеличивает и вообще его творческую силу в любой области деятельности.
До сих пор гармоническое соединение развитой логической способности с развитой силой художественно-культурного воображения еще не стало всеобщим правилом. В той «предыстории» человечества, где развитие [273] способностей было «отчуждено» как друг от друга, так и от большинства индивидуумов, такое соединение оказывалось, скорее, редким исключением, счастливой случайностью судьбы. Поэтому «талант», а в еще большей степени «гений» и оказывался редкостью, исключением, уклонением от общей нормы индивидуального развития.
Коммунизм — то «царство свободы и красоты», которое мы строим, — делает нормой как раз другое, как раз гармоническое сочетание равно развитой силы художественного воображения с равно развитой культурой теоретического интеллекта. То самое соединение, которое до сих пор было исключением, продуктом счастливого стечения обстоятельств личной судьбы, а потому даже казалось многим теоретикам «врожденным» (анатомически-физиологическим) фактом, «даром божьим».
Марксизм-ленинизм показал, что такое гармоническое развитие способностей есть в столь же малой степени природно-физиологический дар, как и «божественный». Он зависит от матушки-природы так же мало, как и от бога-отца… Он есть от начала до конца — и по происхождению, и по условиям своего возникновения, и по своей сокровенной сути — чисто социальный факт, продукт развития личности человека в соответствующих условиях; в условиях, позволяющих всем и каждому развивать себя через духовное общение с плодами человеческой культуры, через потребление лучших даров, созданных человеком для человека, трудами Маркса и Ленина, Ньютона и Эйнштейна, Рафаэля и Микеланджело, Баха и Бетховена, Пушкина и Толстого. У колыбели коммунистической культуры стояли не только Рикардо, Сен-Симон и Гегель, а и Шекспир, и Софокл, и Гете, и Мильтон, и Сервантес, и Бальзак — все те люди, которые дали возможность сложиться личности Маркса, свойственной ему способности обозревать единым взором колоссально сложные комплексы переплетающихся событий, видеть «целое раньше частей», раньше, чем эти части, в частности, получили свое строго формальное выражение в понятии, и, что самое главное, — видеть это «целое» с самого начала верно, безошибочно. Верными друзьями и могучими помощниками Ленина в его революционной борьбе также были не только теоретики, а и Некрасов, и Салтыков-Щедрин, и Толстой, и Чехов. Это очень важный факт, касающийся вообще всей проблемы коммунистического развития [274] личности, личности человека нового общества, того самого общества, которое уже складывается под нашими руками, в нашем совокупном труде.
* * *
Кратко подытожим сказанное. «Фантазия» (строже — «продуктивное воображение») есть универсальная человеческая способность, обеспечивающая человеческую активность восприятия окружающего мира. Не обладая ею, человек не может ни жить, ни действовать, ни мыслить по-человечески ни в науке, ни в политике, ни в сфере нравственно-личностных отношений с другими людьми. Искусство есть форма развития высших видов этой способности, превратившаяся в силу известных исторически преходящих условий в «профессию». Поэтому всё то богатство, которое уже создано художественным развитием человечества, в значительной мере еще не используется человечеством. Только коммунизм впервые создаёт ту социальную форму, которая позволит актуализировать те способности, которые уже созданы и потенциально заключены в сокровищнице мирового искусства. Победа «царства свободы и красоты» невозможна и немыслима без раскрытия этой сокровищницы для всех и для каждого.
Отсюда следует очень много важных и далеко идущих выводов. Их напрашивается столько, что приходится поневоле ограничиться одним. В частности, отсюда прямо вытекает решение труднейшего вопроса о предмете эстетики, о ее своеобразной проблематике и задачах.
Эстетика с этой точки зрения выглядит как общая теория, раскрывающая всеобщие формы и закономерности работы человеческой чувственности во всем том сложном и серьезном объеме этого понятия, который придан ему классической философией. С другой же стороны, и именно потому, что человеческая чувственность полнее и чище всего обнаруживает себя как раз в художественном творчестве (и непосредственно в искусстве), эстетика одновременно оказывается также и общей теорией художественного творчества, теоретически раскрывает тайну искусства.
Всеобщие формы человеческой чувственности, развивающиеся до искусства и художественного творчества в собственном смысле этого слова, в силу этого раскрываются точнее и строже именно через анализ [275] художественного творчества, в качестве его «абстрактных» моментов.
К такому обороту мысли подталкивает и известный, хотя и не столь часто действительно применяемый методологический афоризм К. Маркса: «Анатомия человека — ключ к анатомии обезьяны. Наоборот, намёки более высокого у низших видов животных могут быть поняты только в том случае, если само это более высокое уже известно» [24].
Иными словами, всеобщие моменты человеческой чувственности как таковые надо развить раньше и совершенно независимо от анализа искусства, чтобы затем понять, как они развиваются в формы художественного чувства. Но именно ради этого, чтобы выделить их в их человеческой определенности, и надо с самого начала ориентироваться на «высшие» формы, на те их развитые модификации, с которыми можно встретиться только в художественном творчестве.
Секрет тут в том, что те моменты, которые процессом художественного развития не сохраняются, не воспроизводятся в его движении, не относятся и к числу специфически человеческих определений чувственности, созерцания, воображения.
Поэтому именно искусство в его наивысших проявлениях дает нам ариаднину нить при анализе всеобщих, простых, «клеточных» форм человеческого восприятия и воображения. Поэтому-то определения «чувственности вообще» и можно правильно получить в качестве абстрактно-всеобщих определений художественного творчества и его продукта, равно как и его потребления.
Таким способом мы убиваем сразу двух зайцев. Анализируя художественное творчество, раскрывая его со стороны всеобщих и простых моментов, мы и раскроем тайну человеческой чувственности вообще. С другой же стороны, мы тем самым именно и заложим прочный, выверенный на всеобщее и необходимое значение фундамент под теоретическое понимание «высших», уже специфически художественных форм работы восприятия и воображения. Иными словами, мы сделаем то же, что сделал К. Маркс своим анализом простой формы товарного обмена. Мы найдем «клеточку», жёлудь, из которого «естественно» развивается всё [276] великолепие художественной культуры, ее могучий ствол, ее развесистая крона, в тени которой тихо зреют новые плоды, новые семена, зародыши новых, вечно зеленеющих садов…
Этих двух зайцев — тайну всеобщих определений человеческой чувственности и тайну рождения, расцвета и плодоношения искусства — можно уловить мыслью только сразу, только заодно. За одним погонишься — ни одного не поймаешь. [277]
Примечания
1
Ленин В.И. Полное собрание сочинений, т. 45, с. 125.
(обратно)2
Другое дело — и это должно составить предмет особого разговора, — что денежная форма стоимости предъявляет вполне определенные требования к материалу своего воплощения, выражения. В данном случае наиболее подходящим материалом оказывается золото. Аналогичное отношение можно установить и между формами античной скульптуры и мрамором. Они также «естественнее» всего воплощаются в мраморе, но ни в коем случае не возникают, не развиваются из мрамора, из его свойств.
(обратно)3
Это драгоценнейшее свойство мыслящего тела, тонко раскрытое еще Спинозой, нагляднее всего проявляется в отношении структуры и функций человеческой руки. Именно потому, что рука обладает, как выражаются в механике, бесконечным числом степенен свободы — то есть анатомически не предназначена к движению по какой-то определенной траектории, — она способна описывать любую. Она может описывать контур и круга, и квадрата, и треугольника, и любой другой сколь угодно замысловатой фигуры именно потому, что заранее, структурно анатомически, в ней не «закодировано» ни то, ни другое, ни третье, а тем самым и никакое определенное тело.
(обратно)4
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 23. с. 93.
(обратно)5
Фейербах Л. Сущность христианства /Избранные философские произведения, т. 2. Москва, 1955, с. 34.
(обратно)6
Там же.
(обратно)7
Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений, с. 594.
(обратно)8
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 20, с. 500.
(обратно)9
Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений, с. 594, 595.
(обратно)10
Там же, с. 592–594.
(обратно)11
Там же, с. 566.
(обратно)12
Там же.
(обратно)13
Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения. Москва, 1975, с. 186.
(обратно)14
Там же, с. 187.
(обратно)15
Там же.
(обратно)16
Там же, с. 199.
(обратно)17
Марке К. К критике политической экономии. М. 1952, с. 225.
(обратно)18
Там же, с. 225.
(обратно)19
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 12. с. 728.
(обратно)20
Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения, с. 301.
(обратно)21
Там же, с. 10.
(обратно)22
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 21, с. 184.
(обратно)23
Там же.
(обратно)24
Там же, с. 731.
(обратно)

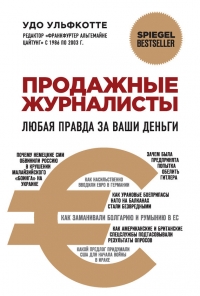
Комментарии к книге «Об эстетической природе фантазии», Эвальд Васильевич Ильенков
Всего 0 комментариев