Алексей Лапшин ПОЛОЕ СЛОВО
Первая трудность, с которой сталкивается человек, желающий разобраться в современном мире, связана с изменившимся смыслом понятий. Многие социальные и культурные явления, обозначавшиеся конкретными, зафиксированными в массовом сознании определениями, сегодня фактически перестали существовать. В результате в языке оказалось большое количество слов, которые условно можно назвать полыми.
Процесс отчуждения слов от их смысла уже давно привлекает внимание философов. Мартин Хайдеггер объяснял происходящее тяготением обыденного языка к усредненным понятиям, лишающим слова подлинной связи с бытием. Эту точку зрения с различными оговорками, в принципе, разделяет большинство мыслителей, занимающихся проблемами лингвистики. Тем не менее, пора говорить уже не об отчуждении смысла, а о заполнении полых слов новым содержанием, противоположным первоначальному значению. В средние века и эпоху барокко в Европе были распространены легенды о куклах, в которые вселялись злые духи, враждебные людям. Кукла как полый предмет служила для них надежным пристанищем. Аналогичную роль могут играть слова с потерянным смыслом.
Можно ли употреблять выражения "христианская цивилизация" по отношению к современному Западу или России? А называть "свободой" право выбирать между креатурами системы? Человеку, внимательно следящему за развитием социума, совершенно очевидно, что и в первом, и во втором случае реальность не соответствует характеризующим ее терминам. Христианская цивилизация и современный мир — вещи не только не идентичные, но и прямо противоположные друг другу. Слово же "свобода", в которое романтики всех времен вкладывали высокое идеалистическое содержание, оказалось низведенным до грубо материалистического значения. Люди, отождествляющие подобные определения с реальностью, попадают в искаженное пространство кривых зеркал и становятся объектами бесконечного манипулирования.
Подмена смысла понятий наиболее заметна в общественной жизни. Язык современного политика представляет собой настоящий поток полых слов, которые при определенных сочетаниях выглядят то комично, то угрожающе. Все зависит от того, какой "дух" вселяется в слово в момент его произнесения. Когда о необходимости распространения "демократии" говорит Буш, многим становится жутко. Когда о построении в России "демократического общества" твердят держиморды и унтер-пришибеевы, становится смешно и стыдно. Различие в реакциях вызвано отсутствием точного материального эквивалента термина "демократия". В результате полое слово оказывается вместилищем противоположных смыслов, каждый из которых по-своему воздействует на человеческое сознание. Поразительная бессодержательность выступлений бюрократов является следствием колоссального разрыва между лексическим значением произносимых ими слов и тем, что под этими словами скрывается в действительности.
"Полый" язык характерен не только для политических сюжетов. В последнее время появился феномен "кочующего" смысла слов и даже целых высказываний. Чтобы излишне не усложнять текст, проанализируем вроде бы безобидное и очень модное сейчас словечко "гламур". Французское glamour переводится как обаяние или привлекательность. Любопытно, что вначале определение "гламурный" употреблялось только по отношению к киноактрисам. То есть само значение слова сразу же предполагало некую игру, спектакль. Едва войдя в употребление, "гламур" стал завоевывать русский язык и очень быстро превратился в настоящее явление современной жизни. Точнее, "гламуром" стал называться популярный образ жизни, ассоциирующийся с красотой, беззаботностью, удовольствиями и роскошью. На первый взгляд, ничего особенного — очередной вариант проявления скромного обаяния буржуазии. Проблема, однако, сложнее, чем кажется. В глянцевое мяукающее словечко "гламур" начал вкладываться смысл, который раньше придавался слову "аристократизм". Причем, в гламурной интерпретации от аристократии остался лишь внешний блеск, да и то воспринятый на свой лад буржуазией. Примерно так смотрел юный буржуа Марсель Пруст на принимавших его герцогов Германтов. Кстати, именно Пруста следует считать родоначальником гламурного стиля. Естественно, эстетический уровень первопроходца был выше, чем у его совсем уж приземленных последователей.
В традиционном обществе аристократ — это, прежде всего, воин, снискавший своими подвигами славу и право распоряжаться другими. По мере развития (или регресса?) социальных отношений, аристократия становится все более травоядной, и к концу Нового времени отличается от буржуазии только происхождением и изысканностью воспитания. Последним эстетическим бунтом против вырождения аристократии и наступления повальной буржуазности был дендизм. Его самые яркие лица — легендарный Джордж Брэммел и создатель искусства ради искусства, адепт социализма и однополой любви Оскар Уайльд.
Сегодняшний гламур — это претензия на аристократизм без малейшего понимания сути этого феномена. Буржуа желает казаться небожителем за счет чисто внешней атрибутики — дорогих очков, костюма, посещения косметолога и ночного клуба. Никакой внутренней дисциплины и духовного уровня такой стиль жизни не предполагает. Напротив, гламур олицетворяет предельный конформизм и выхолощенность незадачливых персонажей общества спектакля.
Данный пример "кочующего" смысла слов интересен как классический случай подмены понятий. Фактически, не имея опоры в реальности, слово "аристократизм" теряет свой смысл, который, мутировав, переселяется в другое слово… Полые слова продолжают гипнотизировать людей. Полый язык расширяется.
(обратно)Владимир Бондаренко ДНИ ВАМПИЛОВА
В России во второй половине ХХ века был один гениальный драматург — Александр Вампилов. Фестиваль его имени равен шекспировскому фестивалю в Англии, мольеровскому во Франции, брехтовскому в Германии. Он ценен уже тем, что он есть, этот фестиваль, и что проходит уже пятый год на родине Вампилова в Иркутске. Конечно обидно, что на фестивале был представлен лишь один спектакль по его пьесе "Утиная охота", поставленной, а вернее, повторенной режиссером Кокориным в омском драматическом театре. Но как бы ни критиковали этот спектакль, за дело и не за дело, он на этом фестивале представлял великую драматургию Вампилова, напоминал нам всем о вечной загадке Зилова. И я был рад его появлению в Иркутске. Может быть, сегодня, в период всеобщей петросяновщины режиссерам не до Вампилова, ещё не наступило его время. Но я уверен, конец ХХ века со временем во всех театрах будет представлен прежде всего Александром Вампиловым. На фестивале было собрано множество провинциальных театров Сибири. Москве сейчас не до Сибири, не до провинции. И вампиловский фестиваль был еще и смотром театральных сил Сибири и Дальнего Востока. Приехал театр с Петропавловска-на-Камчатке, возглавляемый неутомимым Валентином Зверовщиковым. И они смело замахнулись на пьесу молодого московского новатора В.Сигарева "Детектор лжи". Они примирили меня с Сигаревым. Я бы сравнил эту пьесу с пьесой "Святой и грешный" моего покойного друга Михаила Ворфоломеева. По крайней мере, это не скучный спектакль. Приехали два кемеровских театра, и опять с новыми пьесами Александра Архипова "Дембельский поезд" и сказкой Ф.Иванова "Верные друзья". Черемховский театр поставил пьесу М.Ладо "Простая история", томский театр привез "Школьные сочинения" Елены Исаевой, омская "Галерка" дала две притчи по прозе В.Крупина и Б.Вахтина. Так что это был еще и смотр современной драматургии. После спектаклей шло обсуждение, кто-то был настроен более критически, кто-то был добродушен. Из Москвы на фестиваль кроме меня приехали известные театроведы Вера Максимова, Римма Кречетова и Капитолина Кокшенева. На обсуждениях присутствовали и иркутские писатели Валентин Распутин и Андрей Румянцев. Самым жестким критиком на сей раз оказался Валентин Распутин, но он же был и самым радушным хозяином. Может так и надо: дело — делом, а дружба — дружбой.
При обсуждении спектаклей Валентин Распутин сказал:
"Раньше русский театр был храмом. Сейчас, конечно, ничего святого в его стенах не осталось. Уже какое-то протрезвление в обществе происходит. Вольно или невольно. Мы слишком много наглотались мерзостей, надышались угарного чада, и если мы хотим жить, надо меняться. В конце концов, у русской литературы есть определенная нравственная репутация во всем мире. И от нас там ждут совсем не литературных мерзостей. Когда мы отказались от наших духовных канонов, от наших поисков смысла жизни, это всех удивило. Не нужен нам мат в литературе, ничего он нам не даёт. Я тут не согласен с Владимиром Бондаренко, он говорит, Валентин Распутин не употребляет мат, а поздний Виктор Астафьев вовсю матерится, хотя пишут об одном и том же. Но я думаю, если бы у Астафьева в последних романах не было мата, он что, хуже бы стал как писатель? Не стал бы хуже. Для Василя Быкова это тем более неестественно. Астафьев красочно матерился за столом — было одно удовольствие его слушать. Но, простите, литература — это совсем другое. В последних его книгах нет его интонации, нет его весёлости, хотя он и пишет "Веселый солдат". Зачем он увлекся этим? Есть у молодежи эпатаж, есть и у матёрых писателей. Виктор Астафьев сделал первую ошибку, заявив, что надо было сдать немцам Ленинград, дальше он уже пошел напролом. Эпатаж это или ожесточённость, не знаю. Я думаю, он сам от этого страдал. Уверен, что он страдал и от одиночества, и от ожесточенности, но уже отступиться не мог, от образа своего нового, от новой репутации. Он стал узаконенным матерщинником в литературе. Я думаю, не надо театру опускаться до улицы, улавливать любой подзаборный сюжет. Он должен зрителя поднимать до своего уровня. Приходят-то в театр до сих пор зрители не за матом и похабщиной, этого всего у них в своём быту хватает. Приходят за чем-то душевным.
Зрителя сегодня запутали, он не знает, куда деваться, он идет в театр за красотой, за чистотой, чтобы и самому немножко очиститься, впустить эту чистоту и красоту в своё сердце. Потому что не хочет человек во всем быть животным. А нынешний театр его еще более опускает, до самого дна. И что потом ждать от такого зрителя? В конце концов, человеку и кроме театра есть куда пойти развлечься и развратиться. Но театр-то должен быть другим. Надо возвращаться к утерянным ценностям великого прошлого. Это очень важно сейчас. Боятся нынче слова служение. А это великое слово, и литература, и театр — это служение высшим духовным ценностям. И надо об этом не забывать. Не будем звать Феликса Дзержинского, сами должны понять, насколько все мы изолгались и измельчали. Я сейчас уже боюсь идти в театр, не знаю, что увижу. Какой бы хороший автор ни был поставлен. Вера Максимова говорила о "Голой пионерке" в "Современнике". Как можно оправдывать, особенно в юбилейный год победы, такой спектакль, как "Голая пионерка". Я перестаю что-либо понимать. Это молодежи простительно, они проходят через какие-то ошибки, искушения, заблуждения, потом большинство из наиболее талантливых молодых мастеров открещиваются от этих заблуждений. Как говорят, ошибки молодости. В наши-то лета говорить о том, что нам нужны "Голые пионерки", что эта часть искусства действует также плодотворно, как и наша классика, что и в этом есть чистота — незачем.
Если говорить об "Утиной охоте" в Омском театре — это беда нашего времени, и нас самих тоже. Многие театральные знатоки приняли в этом спектакле сторону разрушения, сторону режиссера Кокорина. Эти знатоки будут защищать во всем Кокорина и его видение Вампилова, ибо это соответствует нынешним либеральным ценностям общества. Вы приняли этот спектакль, вы находите слова, чтобы оправдать ложь и нигилизм героя, ибо это и ваш герой. Может быть, мы все страдаем такими пороками, отступаем от чего-то, предаем кого-то, но мы должны видеть тупиковость такого пути, а не его закономерность. Душа-то болит и за Зилова и за его друзей и любимых… Зилов гораздо сложнее, чем показано в спектакле. Здесь он просто циник, и, по-моему, это огрубление Зилова. Но если он такой грубый и циничный человек, то почему он вдруг так переживает, думает о самоубийстве? Циник бы так до конца и остался циником, и никаких переживаний. Если бы тот же текст Зилова не выкрикивать, а говорить с болью, тогда бы герой предстал совсем другим. Но я благодарен Кокорину за то, что не было хотя бы режиссерского насилия по отношению к тексту Вампилова. От Кокорина этого можно было ожидать по его старым работам. Тут режиссер отнесся с уважением хотя бы к Вампилову и его тексту. Актеры сыграли добротно…
А что касается высказываний многих известных театроведов, ну что ж, это их нынешняя модная позиция. Дело не в запретительстве, у нас нынче ничего не запрещают, и не собираются ничего запрещать, хотя что-то и следовало бы не рекомендовать к изданию или к постановке, хотя бы ради наших детей. Но ничего не будет запрещаться, значит, тем более, от нас самих и нашего мнения многое зависит. Или мы будем продолжать пропагандировать грязь, вонь и всяческие извращения, или будем очищаться. После нас придут наши дети, придут наши внуки, и то, что мы им предлагаем, то они и усвоят".
Мнение Валентина Распутина оспаривали на обсуждениях и Римма Кречетова, и Вера Максимова, люди более привычные к современному театру. Но, может быть, все-таки и на самом деле не надо опускать театр до нашей нынешней улицы, а пробовать поднимать зрителей до уровня высокого театра? Я на этом фестивале был согласен и с Распутиным, и с постановщиками спектаклей, и со всей идеей вампиловского фестиваля. Плохие спектакли уйдут, а фестиваль останется. И для этого, кроме гения Вампилова, необходимо всего лишь побольше таких талантливых организаторов театра, как директор Иркутского академического театра имени Охлопкова Анатолий Стрельцов, чья неутолимая энергия помогала исправлять все неполадки фестиваля, давала всем актерам, режиссерам и зрителям хорошее настроение. Театр в Сибири будет жить. Как живет и дышит Байкал, без которого, наверное, не было бы ни этого фестиваля, ни драматургии Вампилова и Ворфоломеева, ни прозы Валентина Распутина и Леонида Бородина. Вот и я привез себе с Байкала уникальную деревянную статуэтку девятнадцатого века, изумительно вырезанную фигурку дедушки Байкала с пойманной рыбкой в руках.
Это будет уже моя память и о фестивале, и о Байкале, и о Вампилове, и об искусстве буддистских мастеров резьбы по дереву.
(обратно)Валентин Распутин СТУПЕНЬ… КУДА?..
В Иркутске в последнюю неделю сентября состоялся очередной Всероссийский театральный фестиваль им. Александра Вампилова. Фестиваль современной драматургии. Пожалуй, нынче его можно было назвать даже "всесоюзным" — как в старые добрые времена были театры из Узбекистана и Беларуси. Желающих показать себя на вампиловском фестивале всегда много, поэтому, чтобы оградиться от участия в нем коллективов, полагающих, что современная драматургия — это непременно "с ног на голову", вместо таланта, красоты, чистоты и духовной глубины, так необходимых сегодня, обязательно все противоположное, агрессивное, крикливое и дурное, чтобы еще раз заявить принципы фестиваля, объявлена и разослана была его концепция. А в ней говорилось: "Наш фестиваль носит дорогое имя Александра Валентиновича Вампилова и хочет видеть современность его любящим и сострадающим зрением. И потому мы обращаемся к театрам, желающим участвовать в фестивале, с призывом помнить об ответственности перед зрителем и традицией (как пишут в нынешних объявлениях: "иронистов и специалистов по "артефактам", "деконструкциям" просят не беспокоиться").
Нет, "побеспокоились" в первую очередь и не получили отказа. Вообще, это болезнь театра и театральных деятелей, даже и произносящих публично разумные слова о горькой судьбе своего искусства, страх, ради непонятно кого и чего, показаться несовременным, непередовым, трусость перед традицией и духовными ценностями России. Никак не получается у нас создать "течение встречное против течения" (А.Хомяков), течение созидательное, исполненное таланта и любви к родному, против течения разрушительного. Были, конечно, на фестивале и серьезные, умные, даже красивые спектакли, но в определенной дозировке, как бы говорящей: "возвращаемся, чтобы уйти". В воздухе давно уже ощущается дух необходимого выздоровления, а "впередсмотрящие" театра продолжают морщиться: чем же это пахнет столь неприятно? Именно так: своё определяется в разряд чужого и ненавистного. А вот узбеки на вампиловском фестивале свои национальные глубины и святыни ох на какую высоту подняли! — и завидно, и обидно, что мы так не умеем, что изменяет нам чутье, каким лекарством спасаться, и что с затянувшейся робостью идем мы на поводу у инославцев.
(обратно)ОКТЯБРЬ 1993
Плачут чайки, кружа над Москвою-рекой.
Вот к вечерне звонят — разливается звон,
И багровый закат день уводит с собой —
Грустный день похорон, грустный день похорон…
Помнишь, как это было на Крымском мосту
В череде перевёрнутых ветреных дней —
Перепивший сержант бормотал в пустоту:
"Они были сильней… они были сильней…"
Даже в плотном строю, в современной броне —
Всё один к одному и у всех на виду,
Пауком пробирается страх по спине,
Как и в первом ряду и в последнем ряду.
По команде "Вперёд! Карабины готовь!"
Все сомненья пройдут вместе с дрожью в руках,
И в висках застучит, запульсирует кровь,
Но останется страх, но останется страх…
Хруст костей обрывается в сдавленный крик,
Как законный итог бесконечного дня.
И на кладбище-улице плакал старик,
Нашу совесть и честь хороня, хороня…
БЫВШИЙ БОЕЦ ОМОНА
(обратно)ХРОНИКА ПИСАТЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ
СЕРГЕЙ ЕСЕНИН — ЖИВАЯ ДУША РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. МОСКВА — РЯЗАНЬ — КОНСТАНТИНОВО — МОСКВА С 30 сентября по 3 октября в Москве и Рязанской области прошли Дни российской литературы в Центральном Федеральном округе и Пленум Союза писателей России "Сергей Есенин и поэтическая Россия сегодня", приуроченные к 110-летию со дня рождения гения русского поэтического слова, на которые приехали поэты из региональных отделений СП многих областей и национальных республик России
Пленум российских писателей открылся 30 сентября в Москве обращением к его участникам Председателя СП России В.Н.Ганичева. Минутой молчания почтили писатели память своих товарищей, недавно ушедших из жизни.
После обсуждения ряда практических внутрисоюзных вопросов и проведения торжественной церемонии награждения Всероссийской премией "О Русская земля!" (см. ниже) участники Пленума, разместившись в автобусах, отправились в неблизкий путь — на землю Рязанскую, к Сергею Есенину.
И уже через несколько часов, не заезжая в гостиницу, писатели смогли прикоснуться к удивительной красоте, и переполненные чувством необъяснимого восторга, впитать крупицы духовной силы храмов Рязанского Кремля, погрузиться, благодаря вдохновенным рассказам экскурсоводов, в его древнюю историю.
Здесь же, на следующее утро, 1 октября, в Христорождественском соборе участники Пленума застыли в поминальной молитве по ушедшим из жизни соратникам по перу. Службу вёл архиепископ Рязанский и Касимовский Павел, который, высказав слова приветствия русским писателям, обратился к пастве со словом о великом русском поэте, привёл аргументы и свидетельства близких Сергею Есенину людей, в полной мере убеждающие, что молиться за него надо как за убиенного, что он не самоубийца, что Сергей Есенин был глубоко верующим православным христианином… По завершении службы владыка благословил участников Пленума на предстоящие труды в надежде, что эти труды послужат укреплению доброго имени тружеников нашего государства, помогут воспитать в молодом поколении добрые чувства к предкам, патриотические настроения в отношении к нашему Отечеству. Писатели тепло поблагодарили владыку и преподнесли ему в дар от имени участников Дней российской литературы в ЦФО и пленума СП России картину фотохудожника А.Бояра "Никольский храм в Можайске" (с автографами писателей) с выставки "Рубежи России. Священная земля Можайская"… Прощаясь, Владыка Павел в знак благодарности за молитвы и внимание к Рязанской земле и, в частности, к Рязанской епархии, вручил В.Н.Ганичеву, как одному из сопредседателей Президиума Всемирного Русского Народного Собора, образ святителя Василия, епископа Рязанского, чтобы во время работы Пленума он напоминал писателям, что у нас есть молитвенники, защитники нашего Отечества…
Пленум продолжил свою работу в Рязанском театре для детей и молодёжи. В.Н.Ганичев, поздравив всех с приближающимся 110-летним юбилеем со дня рождения великого русского поэта, сына земли рязанской С.А.Есенина, пригласил к микрофону губернатора Рязанской области Г.И.Шпака:
"Уважаемый Валерий Николаевич, дорогие гости, друзья!
Для нас очень большое событие и большая честь — проведение в Рязанской области Дней российской литературы в Центральном Федеральном округе и Пленума Союза писателей России в те дни, когда вся Россия отмечает 110-летие со дня рождение великого русского поэта Сергея Есенина.
Рязань — это самый центр России, духовный стержень её. В этом благословенном краю родились и творили великий Павлов, Салтыков-Щедрин, Циолковский, выходец из рязанской земли генерал Скобелев, здесь, в селе Новосёлки, что неподалёку от есенинского Константинова родились и выросли такие знаменитые певцы как братья Пироговы. Их было пятеро, трое из них пели в Большом театре. Расскажу вам интересный эпизод из жизни братьев. Их отец, протодьякон, созывая сыновей на ужин, выходил на высокий берег Оки и подавал свой голос, и этот голос был слышен в Солотче, до которой 16 километров… В Рязани и области жил и творил, быть может, не широко известный, но очень интересный человек Худяков, поэт, писатель, друг Чехова, написавший либретто к "Баядерке" и уже только этим прославивший себя во всём мире…
Край удивительной красоты — Окский заповедник. Он известен всему миру тем, что научные работники этого заповедника создали зону, неприступную для деятельности человека, десятки лет в этой зоне не ступала его нога. Они наблюдают, изучают эволюцию самой природы…
Мещера. По красоте и занимаемой площади в Европе нет ничего подобного. Она считается лёгкими Европы. С запада на восток нашу область пересекает великая русская река Ока…
И вот в этой красоте, среди необъятных просторов, появился воистину поэтический гений Сергей Есенин. Его имя по праву занимает достойное место в ряду таких имён как Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Тютчев… Маяковский, Твардовский… Это удивительная личность, противоречивая, но очень яркая. Его поэзию любят во всём мире. Сотни людей изучают русский язык только для того, чтобы читать Есенина на родном языке.
Мы очень признательны нашим поэтам и писателям, которые прославляют наш удивительный край. В составе Рязанской писательской организации СП России 30 человек, ярко, творчески работающих. В этом году представлена на премию Центрального Федерального округа в области литературы и искусства работа Б.Шишаева "Горечь осины" — это удивительное произведение. Когда я начал читать, то не мог оторваться… Многие рязанские поэты, воистину, продолжатели дела, завещанного их великим земляком Сергеем Есениным.
Дорогие друзья, я приветствую всех участников Пленума Союза писателей России на Рязанской земле, желаю вам здоровья, творческих успехов, благополучия во всех своих делах!".
В.Н.Ганичев тепло поблагодарил губернатора за сердечный и радушный приём, и от имени всех писателей России вручил Г.И.Шпаку картину Бородинского сражения (работы А.Бояра), на обратной стороне которой оставили автографы все участники Пленума.
Со словами приветствия и пожелания творческих успехов от представителя Президента России в Центральном Федеральном округе Г.С.Полтавченко к участникам Пленума обратился один из руководителей аппарата А.И.Макаров:
"…Весьма закономерно, что Пленум Союза писателей России, посвящённый проблемам современной поэзии, проходит на благословенной Рязанской земле, в исконно русском поэтическом крае, освящённом именем Сергея Александровича Есенина. Россия во все времена была страной, в фундаменте которой лежали не столько материальные, сколько духовные ценности, поэтому роль наших поэтов всегда была неизмеримо выше, чем роль всевозможных менестрелей и трубадуров в странах Европы. Если основная задача большинства европейских поэтов заключалась в том, чтобы поразить своего слушателя изощрённостью стихотворной формы, изысканностью поэтического слога, то задача русских поэтов была совсем иной. Наши Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Некрасов и многие другие поэты, включая гения земли Рязанской Сергея Есенина, писали для того, чтобы пробудить в своих читателях гражданскую совесть, чувство любви к родине, восприимчивость души к прекрасному. И даже такой трибун революции как Маяковский не отошёл от этих этических заповедей, хотя и понимал их исключительно как борьбу за торжество нового строя…
Сергея Есенина можно с полным основанием назвать генератором лиризма, пробуждающим своими стихами всё самое тонкое в человеке — жажду настоящей любви, упоения красотами русской природы…осознание неразрывной связи со своим народом и желание быть необходимым своей Родине. Его стихи ещё и потому чрезвычайно близки читающей России, что в них отчётливо слышится эхо многовекового народного творчества — отзвуки русских былин, песенные народные мотивы, темы фольклорных праздников…
Сегодня, когда русский менталитет претерпевает сильнейшие изменения под воздействием входящего в нашу жизнь рыночного прагматизма и расчёта, есенинская нота в поэзии есть единственное, что могло бы способствовать сохранению лирических качеств души, которые всегда были присущи русскому народу. Ставя духовное выше материального, Россия всегда прислушивалась к голосам не столько политиков, сколько писателей, поэтов. Как известно, слово Пушкина, Лермонтова… разносилось по стране скорее любых официальных новостей, и производило в обществе гигантскую внутреннюю воспитательную работу. Так же, как, по словам Ф.Достоевского, нельзя быть русским, не будучи православным, так и нельзя называться Россией и при этом не любить поэзии — они как тело и душа… неотделимы друг от друга. Будет утрачена поэзия, поэтическое мировосприятие бытия, исчезнет из мира и сама самобытная Россия. Так что сегодняшний Пленум… имеет такое же государственное значение, как и заседание наших органов государственной власти. Все помнят слова из популярной песни "Нам песня строить и жить помогает", которые стали не просто красивой поэтической метафорой, а, в буквальном смысле, формулой жизни той поры, ибо слово, действительно, обладая способностью перепрограммирования, является уникальной формой воздействия на материально осязаемую реальность, превращаясь из акта художественного творчества в реальную суть нашей повседневной жизни.
Поэтому, к вам, участникам Пленума, я обращаюсь с призывом писать только о том, что вы хотите увидеть в своей реальной завтрашней жизни. Учите своих читателей не унынию и пессимизму, а вере в завтрашний день и стремлению приблизить его наступление, закладывайте в сознание людей образы той страны, которую вы бы хотели оставить своим детям… Предопределяйте своими книгами развитие нашего общества, подталкивайте его к такому варианту развития, который вам кажется наиболее счастливым, ведите народ к созиданию, будьте его духовными лидерами, пусть вас осеняют имена наших великих творцов…"
Работу Пленума продолжил В.Н.Ганичев:
"Дорогие друзья!
Сегодня на поэтической исторической земле Рязани мы открываем Дни русской, российской литературы в ЦФО и проводим пленум СП России. Первые дни отечественной литературы в ЦФО по предложению Г.С. Полтавченко и нашему желанию мы провели в прошлом году в Орле одновременно со съездом СП России…" Далее В.Н.Ганичев рассказал о сверхнасыщенной событиями сегодняшней жизни писателей России — прошедших региональных семинарах молодых писателей, итогах литературных конкурсов, о литературных праздниках (Дни славянской письменности и культуры, зачинателями которых были писатели Маслов, Шуртаков, "Белые журавли" (Дагестан), "Тургеневское лето" (Тульская обл.), "Прохоровские чтения" (Белгород), Аксаковские дни (Уфа) и др.), о награждении наших лучших писателей литературными премиями (Большой литературной премией России, премией "О Русская земля!", Всероссийской литературной премией имени Александра Невского "Не в силе Бог, а в правде" и многими другими), о присуждении Китайским издательством народной литературы премии Валентину Григорьевичу Распутину за повесть "Дочь Ивана, мать Ивана" (в номинации "Лучший зарубежный роман"), об укрепляющихся связях Союза Писателей с Русской Православной Церковью, о проведённых совместно Соборных встречах, Ушаковских чтениях в Ярославле, "круглом столе", посвящённом 400-летию патриарха Никона, о проходящей в СП православной фотовыставке А.Бояра "Рубежи России", о Волгоградском пленуме, прошедшем под девизом "Ни шагу назад! Не отдадим нашу Победу!", о мероприятиях, осуществлённых СП при подготовке к празднованию 60-летия Победы (итогах Всероссийского литературно-художественного конкурса для детей и юношества "Гренадеры, вперед!") и 100-летия со дня рождения Михаила Александровича Шолохова, о предстоящих значительных литературные юбилеях — 200-летии Гоголя, Гончарова, 100-летии Мусы Джалиля, 300-летии Михаила Васильевича Ломоносова. В связи с последним, особо отметил В.Н.Ганичев, 15— 17 июля 2005 года в Архангельске был проведен выездной расширенный секретариат СП России "Архангельский Север — форпост духовной культуры России", ставший полноценным Пленумом, на котором совместно с архангельским отделением Всемирного Русского Народного Собора было принято обращение "Вперед к Ломоносову", в котором отмечены примеры дерзновенного прорыва в важнейших сферах, осуществленных гением академика и так необходимых сегодняшней России, писатели России обратились в Президенту РФ с предложением принять решение о широком праздновании юбилея М.В.Ломоносова и придать ему статус государственного и всенародного праздника…
"…Здесь, в Рязани, — сказал, завершая свой обзорный доклад В.Н.Ганичев, — присутствуют поэты из Москвы и Петербурга, Самары и Волгограда, Архангельска и Смоленска, Белгорода и Нарьян-Мара, Якутии и Дагестана, Кемерова и Новосибирска…
Для нас Рязань — это родина Сергея Есенина.
Поэзия Есенина — это универсальное средство от безразличия, умирания, успокоения, возвращающее русскому человеку его национальную, историческую и культурную память. Если наши души перестанут откликаться на стихи Есенина — значит, мы с вами уже скорее механизмы, а не люди, наделенные душой и сердцем.
Линия Есенина была продолжена в последние десятилетия стихами Николая Рубцова, Николая Старшинова, Владимира Кострова, Николая Дмитриева, Виктора Смирнова, Евгения Юшина, Евгения Семичева, Бориса Сиротина, Николая Зиновьева, Геннадия Фролова, Константина Рябенького, Валерия Шамшурина, Владимира Шемшученко, Михаила Зайцева, Светланы Сырневой, Владимира Макеева, Дианы Кан, священнослужителей о.Леонида Сафронова и о.Владимира Гофмана, Александра Ивушкина и целого ряда других поэтов.
Наверное, читателям в равной мере нужна и идейная, и душевная линия в поэзии. И творчество таких авторов как Марина Струкова, Леонид Корнилов, Нина Карташёва или Виктор Тимофеев показывает, что стихи этого рода тоже могут поднимать человека ввысь, нести в себе высокие идеи и выполнять активные агитационные функции, настраивающие читателя на некие конкретные действия по осуществлению заложенной в стихотворении идеи. И наверное, спасительна сегодня и для каждого человека в отдельности, и для России в целом есенинская линия в поэзии, напоминающая человеку о душе, а народу о его исторической самобытности. Стихи о полях и берёзках только кажутся описательными и наивными, а на деле они несут в себе мощный код нашей национальной сути, включая в каждом читающем их — через систему узнаваемых символов — бездействующий до поры до времени генератор народного духа.
И ещё одна мысль, которая приходит в связи с разговором о Есенине и которую хотелось бы донести до некоторых из нынешних стихотворцев, обоготворяющих западную цивилизацию и мечтающих перебраться за океан. Будучи ещё фактически в возрасте многих из сегодняшних студентов (всего-то 27 лет от роду!), Сергей Есенин увидел Запад и без всяких подсказок разглядел его душегубительную, мертвящую сущность. И он бежал не в Америку, а — из Америки! Потому что, как бы ни было здесь у нас плохо и трудно, а только здесь, на родной российской почве, душа русского поэта чувствует себя дома и способна выражать чувства, созвучные всему народу.
Мы сегодня открываем поэтическую страницу отечественной литературы и благодарим рязанцев за то, что они предоставляют нам эту возможность в эти есенинские дни."
Далее на Пленуме прозвучали обстоятельные доклады с глубоким анализом состояния современной отечественной поэзии Л.Барановой-Гонченко и Г.Красникова (Москва); с сообщениями, проблемными вопросами, репликами, выступили В.Костров (Москва), Н.Харлампьева (Якутия), Н.Молотков (Рязань), Н.Зиновьев (Краснодар), о.Сергий (председатель историко-архивного отдела Рязанской епархии), А.Бобров (Москва), А.Созаев (Кабардино-Балкария), С.Есин (Москва), И.Янин (гл. ред. газеты "Гудок", продемонстировавший изданный им в великолепном подарочном исполнении, в коже и золоте, однотомник Сергея Есенина), Б.Шишаев (Рязань), А.Щербаков (Астрахань; он с коллегами выпустил в свет двухтомную литературную хрестоматию для молодёжи), Р.Харисов (Казань; представивший нового руководителя писательской организации И.Ибрагимова), В.Дементьев (Москва), В.Петров (Ростов; рассказавший о первом Вёшенском форуме молодых литераторов России), М.Дудина (Сыктывкар), Ст.Куняев (Москва).
После окончания работы Пленума все отправились на митинг к памятнику Сергея Есенина, где после возложения цветов начался поэтический концерт и продолжилось то долгожданное, удивительное по яркости впечатлений общение. К слову сказать, каждый пленум, столичный или выездной секретариаты, по сути своей, долгожданный праздник — приятия, взаимопроникновения национальных культур, но самое главное, это праздник простых человеческих сердец, наполненных любовью к литературе, друг к другу, это та дополнительная взаимоподпитка, которая даёт прибыток духовных, творческих сил на долгие месяцы необщения… Ну где ещё могли бы встретится А.Кердан из Екатеринбурга и Магамед Ахметов из Махачкалы, П.Явтысый из Нарьян-Мара и А.Созаев из Кабардино-Баларии, В.Тургай из Чувашии и В.Лихоносов из Краснодара, Виктор Смирнов из Смоленска и Наталья Харлампьева из Якутии…
Но тут подкатили "ГАЗели" и началась ещё одна интереснейшая страница Есенинского праздника — выступление писательских групп в районах области (правда, самая большая группа под руководством В.Н.Ганичева осталась в Рязани для творческой встречи с читателями в Областной библиотеке им.Горького и участия в торжественном вечере "Россия поклоняется Есенину") — Касимовском, Пронском, Рыбновском, Рязанском, Шиловском и городах Скопине, Ряжске, Касимове.
Автор данных строк побывал в городе Ряжске вместе В.Силкиным (уроженцем этого города), В.Шемшученко (С-Пб), Е.Муссалитиной, Б.Шальневым (Липецк). Б.Орловым (С-Пб), Ю.Лопусовым, Т.Кушнарёвой (Москва), Е.Артамоновым (Рязань). Поэтическая бригада была радушно встречена заместителем главы администрации МО "Ряжский район" С.Суриной, начальником отдела культуры Г.Соколовой, главным хранителем краеведческого музея А.Круцких, директором библиотеки Л.Медведевой, заведующей библиотекой железнодорожного техникума Н.Селезнёвой, а также незабываемыми сотнями ждущих детских и юношеских глаз в местном Доме Культуры, из которых никто до окончания встречи не ушёл… Незабываемо было и русское застолье после концерта.
Все группы вернулись в Рязань поздно ночью, зная, что выспаться не удастся, 2 октября дежурная подымет рано — и все в Константиново! На Всероссийский Есенинский праздник поэзии.
Правда, здесь будет заседать и наука — учёные-есениноведы из ИМЛИ им.Горького, других институтов, педагоги традиционно проводят в Константиново Международную научную конференцию "Есенин на рубеже эпох: итоги и перспективы". На неё отряжаем Сергея Куняева, Алексея Шорохова и Юрия Юшкина.
А все остальные участники Пленума после экскурсии по есенинским местам — на живописнейший берег Оки, где на сцене с исполинским портретом Сергея Есенина начинается праздник поэзии. Десятки телекамер разных каналов… Собравшихся приветствует губернатор Г.Шпак, он оглашает список лауреатов недавно учреждённой правительством Рязанской области премии по литературе и искусству им. С.А.Есенина (среди них — Алексей Хлуденёв (Рязань); творческий коллектив ИМЛИ, авторы своеобразной "есенинианы" — Ю.Прокушев, Н.Шубина, С.Субботин (Москва); О.Воронова (Рязань); Ст.Куняев (Москва); Н.Ибрагимов (Рязань); А.Сенников (Москва)), председатель Комитета по культуре Госдумы ФС РФ народный артист СССР И.Кобзон (чей концерт, так как поздравляющий сказал что "немножко поёт", видимо, не был запланирован), главный федеральный инспектор аппарата Полномочного представителя Президента РФ в Рязанской области ЦФО В.Кожемякин, Председатель Областной думы В.Сидоров, Председатель СП России В.Ганичев, вручивший от имени поэтов и писателей России картину командного пункта ратного поля России — Бородино работы А.Бояра и передавший её, как выразился выступающий, на командный пункт духовного поля России — Константиново…
Но, честно говоря, всех по-хорошему удивил Председатель Совета Федерации ФС РФ С.Миронов, который, поздравив от имени Совета Федерации с Всероссийским Есенинским праздником поэзии всю страну, всех гостей Константиново и выразив слова глубокой признательности благодатной, святой и прекрасной Рязанской земле, подарившей России великого русского поэта, обратился к собравшимся с размышлениями о творчестве Сергея Есенина:
"Оглядываешь эти просторы и перелески, и будто заново перечитываешь лирику Есенина. Сегодня околицы Константиново раздвинуты до границ страны и мира — таков вселенский масштаб творчества великого русского поэта. Не будет преувеличением сказать, что 110-летие со дня рождения С. А. Есенина отмечает сегодня вся Россия. Но главные торжества проходят здесь, на малой Родине поэта, на красивой, щедрой и гостеприимной рязанской земле.
Жизнь больших художников всегда драматична, а уж художников русских, в особенности. Но даже и в России трудно найти подобного Сергею Есенину поэта, судьба которого явила бы такой клубок противоречий — череду таких неожиданных бросков, вереницу таких неожиданных взлётов и падений… Да и сама смерть Есенина — загадка, над решением которой бьются биографы.
На удивление смело вошёл он в мир поэзии, который уже населён был громкими, необычайно громкими именами, и этот мир немедленно покорился ему. Но это не остановило его метаний по земле, а только усилило их. Несомненно, в этих метаниях — энергия великого дара Божия…
А разве не трагична в своей парадоксальности строфа, произнесённая совсем ещё молодым человек: "Увяданья золотом охваченный, Я не буду больше молодым". Человек, чья душа постоянно ушиблена этим отчаяньем бренности всего сущего, не может не чувствовать своего одиночества в толпе смирившихся и утративших способность воспринимать жизнь с трагической остротой, и это добавляет ему боли.
Мы потому так и воспринимаем строки Есенина, что они ещё раз дают нам почувствовать силу и власть простых, нестёртых временем и бытом чувств. И о том, что сегодня нам нельзя без Есенина, хорошо сказал другой великий русский поэт Георгий Иванов: "Значение Есенина именно на уровне сознания народа. В этом пушкинская незаменимость Есенина, превращающая и его грешную жизнь, и несовершенность стихии в источник света и добра. И поэтому о Есенине, не преувеличивая, могу рассказать, что он наследник Пушкина наших дней.
Мы не случайно сегодня объединились вокруг наследия Есенина. Его стихи просветляют душу, позволяют глубоко осознать принадлежность к великому народу, всю мощь наших сил и возможностей. Его творчество — является для всех нас ориентиром на пути обретения российской национальной идеи, о которой сегодня так много спорят. Убеждён, что эта идея должна быть по-есенински простой и ясной — любовь к Родине. И нужно любить её так, как любил её великий сын Серей Есенин: "Если крикнет рать святая, Кинь ты Русь, живи в раю, Я скажу, не надо рая, Дайте Родину мою!".
Быть по-настоящему великой страной, великой нацией — это значит помнить и чтить свою историю и культуру. Есенинское наследие — неотъемлемая часть российской исторической памяти, богатейшей национальной культуры. Наша общая задача сегодня — сохранить духовную опору Российского государства и передать потомкам её бесценные сокровища. От этого зависит будущее страны. Наряду с развитой экономикой, достойным уровнем жизни, доступным и качественным образованием — это залог процветания нашей прекрасной России."
Наш главный "молодогвардеец" Е.Юшин (в тандеме с Фондом поддержки творческой молодёжи) представил новых лауреатов Всероссийского поэтического конкурса им. Сергея Есенина — С.Щербакова и В.Хомякова.
Ведущий научный сотрудник ИМЛИ док. филол. наук С.Небольсин представил любителям поэзии (и выступил в роли переводчика) японского литературоведа Муцоми Кого, которая высказала мысль, что почитателей Есенина в России и Японии роднит любовь к матери.
Уже подходило время отъезда участников "поэтического" Пленума в Москву, а слова поэтам не давали. И, честно говоря, о том казусе, когда поэтов, съехавшихся сюда со всей необъятной России, организаторы, по сути, лишили слова, даже и вспоминать не хочется, ведь если такое из досадного "прокола" какого-то чиновника перерастёт в систему, то утратится сам смысл Есенинского праздника. Вот тогда уж забьём тревогу, не сомневайтесь!..
Есенинские праздники завершились 3 октября в Москве возложением венков к памятнику С. Есенину, поэтическим концертом, в котором СП России представил поэт А. Шорохов.
"О РУСЬ, ВЗМАХНИ КРЫЛАМИ!" А вечером 3 октября в Московском Международном Доме Музыки состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской литературной премии им. С.А.Есенина "О Русь, взмахни крылами!", учрежденной Союзом писателей России и Фондом развития культуры и туризма при поддержке Правительства Москвы. Церемонию награждения провели Председатель СП России В.Ганичев, поэт В.Костров, генеральный директор "Радио-Шансон" (объявившего 2005 год — годом Есенина) В.Маслов, критик Л.Анненский, заслуженный артист России В.Пресняков, директор Института проблем глобализации М.Делягин, главный хранитель Московского Государственного музея им. Сергея Есенина — С.П.Есенина (родная племянница Сергея Есенина, дочь сестры поэта Александры Александровны).
Лауреатами Всероссийской литературной премии "О Русь взмахни крылами!" объявлены:
В номинации "Песенное слово" —
Александр Новиков, русский поэт, автор и исполнитель.
В номинации "Взыскующим взглядом" —
писатель и критик Сергей Куняев.
В номинации "Русская надежда" —
Анна Минакова (Украина).
В номинации "За честь и достоинство" —
поэт Василий Казанцев.
В номинации "Лучшее издательство" —
издательство "Вече".
Большой литературной премии, которая присуждается номинанту за крупное поэтическое произведение или поэтический сборник, был удостоен Дмитрий Дарин за книгу "Сестра моя, Россия".
Всем лауреатам были вручены специально изготовленные скульптурные портреты "Сергей Есенин" работы народного художника России А. Бичукова.
Председатель комиссии по культуре Мосгордумы, народный артист России Е.Герасимов вручил почётный диплом "За повышение престижа русской литературы, её социальной значимости и роли в развитии общества и личности, за пропаганду поэтического наследия великого национального поэта Сергея Есенина" соучредителю премии — Союзу писателей России, такой же высокой награды был удостоен и второй соучредитель — Национальный Фонд культуры и туризма.
После завершения церемонии награждения прошёл гала-концерт с участием популярных артистов — А.Новикова, В.Преснякова, А.Маршала, Ю.Началовой, трио "Реликта", Ю.Кузнецова, ВИА "Самоцветов", Е.Терлеевой, А.Глызина, И.Слуцкого, С.Любавина, народной артистки России Н.Бабкиной и Московского государственного театра "Русской песни".
ЗДРАВСТВУЙ, ПЛЕМЯ МОЛОДОЕ! В ходе работы Пленума СП России "Сергей Есенин и поэтическая Россия сегодня" состоялась торжественная церемония награждения учреждённой Союзом писателей, Администрацией Волгоградской области и ОАО "Трубная металлургическая компания" премией "О Русская земля!" за лучшие произведения для детей и юношества о героическом прошлом и настоящем нашей Родины.
Церемонию награждения провели Председатель СП России В.Н.Ганичев и начальник управления ОАО "Трубной металлургической компании" А.Н.Михайлов, высказавшие добрые слова в адрес лауреатов премии.
В соответствие с решением жюри, первая премия присуждена Михаилу Николаевичу Алексееву (Москва) за повесть "Через годы, через расстоянья", вторая — Сергею Евгеньевичу Васильеву (Волгоград) за книгу "Именины у бабушки Нины", третья — Сергею Павловичу Куличкину (Москва) за книгу "Вставай, страна огромная".
Михаил Алексеев:
"Не могу скрыть великой радости после каждой встречи с вами, и от самой встречи, мои дорогие друзья! Где-то почти у истоков рождения нашего Союза посчастливилось и мне быть в какой-то степени участником создания нашего общего детища. Не правда ли, как хорошо, что у нас есть Союз, именно Союз, а не что-нибудь другое. Спасибо всем вам, в основном возрастом помладше меня, — братьям по этому тяжёлому и самому счастливому, даденному нам Богом ремеслу: быть художниками, вооружёнными самой богатейшей оттенками, самой великой краской — Русским Словом. Давайте же поклонимся ему, великому Слову, которое помогает нам быть полезными и друг другу, и нашему народу, и нашему Отечеству. С праздником, очередным вас праздником этого великого Русского Слова! Поблагодарим нашего молодого руководителя (Валерий Николаевич попытался было возразить. — А.Д.), он пришёл всерьёз, и, надеюсь, надолго останется с нами… Я как-то мысленно побранил свои ноги, а они в ответ заскрипели: "И тебе не стыдно, мы тебя провели по всем дорогам войны и ещё держим тебя более шестидесяти лет". Спасибо времени, в котором мы живём, спасибо всем вам, разделившим со мной это время!.."
БЛАГОДАРНОЙ ПАМЯТИ ПОСВЯЩАЕТСЯ 4 октября в Камерном зале Культурного центра Вооружённых сил России состоялось представление коллективного сборника "Москва поэтическая", посвящённого 60-летию Великой Победы (гл. редактор А.Дорин, составитель-менеджер А.Уральская).
Ведущие: поэты А.Парпара и А.Дорин.
Этот вечер начался и завершился молитвой, и был посвящён памяти героев Великой Отечественной и жертвам трагических событий 3-4 октября 1993 года (многие из присутствующих были участниками этих событий, в том числе поэты-военные (в частности, полковник В.Латынин), уволенные за участие в них из рядов вооружённых сил), а также памяти недавно ушедших от нас замечательных русских поэтов (авторов представляемой книги), друзей большинства из присутствующих — Игоря Ляпина и Николая Дмитриева.
В вечере приняли участие поэты — ветеран ВОВ, Герой Советского Союза Михаил Борисов, ветеран ВОВ, орденоносец Сергей Викулов, Владимир Костров, Полина Рожнова, Аршак Тер-Маркарьян, Николай Переяслов, Леонид Тризна, Валерий Латынин, Сергей Щербаков, Наталья Рожкова, Елена Муссалитина, Борис Лукин, Валентина Ерофеева, Владимир Полушин, Михаил Николаев, Алексей Шорохов, Михаил Гусаров, Ямиль Мустафин, а также многочисленные гости, члены поэтической студии при Культурном центре Вооружённых сил России.
Прозвучали песни "Рябина Победы" на стихи А.Парпары в исполнении Рената Ибрагимова и "Островок неповторимый" на стихи В.Орлова в исполнении Николая Кохова, а также авторские песни в исполнении Елены Муссалитиной.
Московских собратьев по перу поздравил и прочитал свои стихи гость вечера, руководитель Смоленской писательской организации СП России поэт Виктор Смирнов.
Весь вечер в Камерном зале не угасала поминальная свеча.
К микрофону выходили поэты, делясь эпизодами жизни, воспоминаниями о встречах с Игорем Ляпиным и Николаем Дмитриевым.
И светились слезами боли и радости, в ответ на благодарную память и тёплые живые слова, глаза двух женщин из предпоследнего ряда — вдовы и дочери Николая Дмитриева.
Днём раньше, 3 октября в музыкальной, бардовской атмосфере, прошла презентация этого сборника в малом зале ЦДЛ (ведущие поэт Л.Котюков и составитель-менеджер А.Уральская), ставшая особенно большим подарком для тех авторов "Москвы поэтической", которые делают первые шаги в русской литературе (лауреатам сборника вручались призы — фарфоровые чашки знаменитого Дулёвского завода).
(обратно)Ярослава Шумляковская РАВНО ПОДВИГУ
В Старом Крыму открыт музей К.Г.Паустовского. Это редкостное для нашего времени событие — открытие музея, здание для которого куплено частным лицом: двадцатилетней Александрой Садовской. Всего за 8 месяцев из ничего, из праха Надежда Семёновна Садовская — мама Саши — создала музей, отвечающий всем канонам музейного строительства. Музеем такого уровня могла бы гордиться любая столица мира.
Руководила ими страстная любовь к творчеству писателя, осознание необходимости существования музея Паустовского в Крыму. Здесь столько интересных экспозиций, экспонатов, что напрочь забываешь о времени, полностью погружаешься в эпохи, о которых ведётся повествование.
Идея создания музея любимого писателя, рыцаря литературы, воодушевила местную интеллигенцию. Их помощь — второй этап в становлении музея.
(обратно)Игорь Золотусский РОССИИ НУЖНЫ ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ. Накануне 75-летия известного критика с ним беседует Владимир Бондаренко
Владимир Бондаренко. Редакции газет "Завтра" и "День литературы" и все читатели от души поздравляют вас, Игорь Петрович, с 75-летием. Многие удивляются вашему творческому, да и физическому долголетию. Всем бы так бодро выглядеть в такие годы.
Игорь Золотусский. Спасибо за поздравление.
В.Б. Помните популярную строчку "Если жизнь начать сначала…"? Представьте, что вам дано было бы жить сначала, забудем о мелких бытовых ошибках и случайностях, но в главном своём что-либо пожелали бы изменить, пойти другим путем?
И.З. Я не жалею о прожитой жизни. Мне не на что жаловаться, я благодарен Богу. Лишь в одном упрекаю себя: слишком поздно понял то, к чему-то можно было бы прийти раньше. В молодости я был максималист. Жизнь уже в детстве обучила меня быть готовым к сопротивлению. Отобрав у меня родителей, бросив сначала в детскую тюрьму, затем в детский дом, она ожесточила меня. В детдоме человек или погибает, если он слаб (а я не был сильным, я был маменькин сынок), или превращается в маленького волка. На каждую попытку подойти ко мне, я отвечал легким рычанием. Физически я не мог главенствовать в детдомовской среде, но замкнуться и не подпускать к себе никого — смог. Это перешло потом и в жизнь, и в литературу. Обиды, которые накопились в детстве, обрекли меня на суровость в суждениях и о людях, и о книгах. Жалей не жалей об этом, но жизнь сложилась так.
В.Б. Кстати, может быть, у вас, как у критика, я и сам учился максимализму. Школа выживания, которую прошли и вы, и Владимир Максимов, и Виктор Астафьев…
И.З. Кстати, я дружил с ними…
В.Б. …и чуть помоложе — Игорь Шкляревский, Николай Рубцов, Леонид Бородин — дала вам не только максимализм и суровость. Да, вы были все маленькими волчатами, но вы все стали сильными личностями в жизни да и в литературе. Может быть, нужен такой максимализм в литературе? Или мягкость, толерантность по отношению к жизни, к оппонентам позволяет достичь большего?
И.З. Конечно, Гоголь был прав, когда говорил, что смирение — это знамя христианина. Но в критике мягкость и толерантность недопустимы. Снисхождение здесь равно как обману себя, так и читателя. Какой же ты критик, если поощряешь бездарность? Хотя мне дорого даже одно талантливое слово. Я готов поддержать его, и знаю, что приласкав писателя даже за малый успех, можно помочь ему. Хотя, как вы знаете, я из реальной критики давно уже ушёл.
В.Б. Этот ваш уход, может быть, был почти неизбежным. Критики — это сапёры, минеры, их век редко бывает долгим. Это, вероятно, ждет и меня, и моих коллег. Следить за литературным процессом с каждым годом всё труднее. Тысячи книг нужно хотя бы просмотреть, просортировать, понять все направления, все возможные вершины — для этого надо иметь огромную энергию. А без знания литературного процесса — ты не критик. Можно читать трех-четырех любимых писателей, издеваться над пятеркой ненавистных тебе оппонентов, но это не критика. Мало чувствовать слово, мало уметь самому неплохо писать, надо всё время видеть весь литературный процесс в целом, даже, когда говорят, что его нет. Говорят те, кто уже не в состоянии за ним следить. Наверное, и я уже на грани ухода из текущей критики, займусь историей литературы, любимыми писателями, жизнью замечательных людей, еще чем-нибудь. Реальная критика — это тяжелейший труд, прежде всего само прочтение книг. Это же жемчужное зерно надо выловить из потока грязи и мути.
И.З. Вы абсолютно правы. Мне всегда казалось очень важным, Володя (разрешите вас так называть по старой памяти руководителя литературной студии), даже при минимальном знакомстве с процессом всё-таки держать высокую планку. Не только преследовать псевдоталант, как рыбак острогой какую-нибудь щуку, но и по отношению к себе не терять строгости.
В.Б. Вы с какой-то завистью однажды сказали о молодых образованных нынешних литераторах. Пожалели, что вам такой легкости в жизни не было дано. То же самое мне как-то говорил Василий Иванович Белов. Я ценю его чувство самокритичности. Но, тем не менее, когда он, говоря о своей недостаточной культурности, завидовал ранней образованности Олега Михайлова, Виктора Петелина, Петра Палиевского, я слушал его, в чем-то соглашался и думал: где в истории русской литературы Василий Белов и где Олег Михайлов или Петр Палиевский? Я не против их культуры, но многого ли добились они, и в чем был их минус? Я сам крайний противник так называемого природного таланта, которому вредит мировая огранка культуры. Но вот этот жесткий режим выживания, о чём немало писал Виктор Астафьев, заставил их подняться на те вершины литературы, до которых наши элитарные мальчики практически не добирались. Всё-таки, привыкнув к мягкой элитной жизни, трудно перейти в солдатский окоп или лететь лава на лаву в кавалерийскую атаку. А без этого перехода большой литературы, в том числе и большой литературной критики, не бывает. Вот и ваш пример, пример Белинского, ныне всеми обругиваемого, пример Аполлона Григорьева. Вы не стали в 30 лет доктором наук, но эти нынешние молодые доктора способны ли стать сильными личностями?
И.З. Да, Белинский был недоучившийся студент — и выдающийся критик. К нему прислушивались и Гоголь, и Пушкин. О них он первым сказал то, что обязана была сказать русская критика. Я понимаю Василия Белова. Зинаида Шаховская рассказывала мне, как Бунин переживал, что у него не было законченного образования, он даже не закончил гимназию. Она ему говорила: "Иван Алексеевич, вы же Нобелевский лауреат, почетный член Академии, великий русский писатель". А он всё равно стыдился. Такое же чувство есть и у людей моего поколения, знания не помешали бы, в том числе и знание двух-трех языков. Но тем не менее, личность и в критике, и в литературе выше усредненной университетской культуры, от которой отсоединен опыт ума и сердца.
В.Б. И нет крепких моральных устоев, добавлю я, вспоминая ваше прежнее восхищение в "Литературном обозрении" высокой образованностью Виктора Ерофеева. И что ему дало знание творений маркиза Де Сада? Полный распад личности. И всё-таки, как этот маленький волчонок Игорь Золотусский стал матёрым критиком? Я не верю, что талант можно высидеть задницей, ежедневными десятичасовыми сидениями за компьютером ли, или с гусиным пером в руках. Он даётся свыше. Но человек должен его угадать, свой талант, свое призвание. Увы, множество талантов так и уходят не состоявшись. Что завлекло вас в литературную критику, а не в академическую науку, не в прозу? Как правило, люди, ушедшие сразу в аспирантуру, редко становятся реальными критиками, делая лишь редкие вылазки в современную словесность.
И.З. На меня очень повлияла мама, которая любила читать книги и пересказывала их мне. Потом это спасло её в лагере, где она пересказывала все эти книги блатным. Она была женщиной образованной, хотя и из крестьянской семьи.
В.Б. Кто она, откуда родом?
И.З. Маму звали Яна Яновна, она из болгарской семьи переселенцев-крестьян, которые из Бессарабии перекочевали на Дальний Восток. Она родилась на Дальнем Востоке.
Жили они в избе с земляным полом, на них нападали хунхузы, потому что это было на границе с Манчжурией. Мама, несмотря на то, что отец их бросил, всё-таки сумела кончить гимназию. И она меня приучила к книгам. И я уже в детстве решил, что буду заниматься литературой. Я знал, что литература — это моя судьба. Учась во втором классе, уже написал роман. О каком-то скрипаче, который начинал гадким утенком, а стал знаменитым музыкантом и получил орден трудового красного знамени. Тогда ордена и орденоносцы были в большой чести. Мальчишки бредили ими. Этот роман мои родственники носили чуть ли не к Маршаку. Таковы были мои первые попытки что-то писать. Кстати сказать, несмотря на то, что я был сыном "врагов народа" — это парадокс того времени, — я окончил школу имени Ленина в Казани, в которой учился сам Ленин, даже с серебряной медалью. Затем — Казанский университет, куда я поступил без экзаменов. Мне предлагали остаться в аспирантуре, но я поехал работать учителем на Дальний Восток. Понимаете, Володя, как это уживалось: обида на власть и совершенно искреннее чувство и желание послужить народу. Нас так воспитывали, и мы такими росли, что бы сейчас ни писали о том времени. И мама у меня так думала, и отец так думал… Он тоже служил родине, был разведчиком.
В.Б. Несмотря на разницу в возрасте, скажу, что и в моей семье было нечто близкое; и отец, украинец, неслучайно оказался сначала на первом строительстве БАМа, ещё довоенном, а потом на строительстве рокадной дороги от мурманки на Вологду, которая и дала возможность переправлять на фронт все грузы союзников, ибо мурманка была перекрыта финнами. И большего патриота России, чем мой отец, я в жизни не знал. Как-то не переносилась многими ненависть на неправедность властей на всю страну и на всё государство в целом. Да и с учебой не вам одному пришлось столкнуться с таким типичным парадоксом, и у более молодых "сорокалетних" родители оказывались в лагерях, а то и были расстреляны — у Леонида Бородина, у Александра Вампилова, у Валентина Устинова, но все они получили высшее образование. И, к примеру, всевозможные исключения из ряда вузов Венедикта Ерофеева я не связываю с арестом его отца. Это уже были его собственные заслуги. А что вы знаете об отце, где он работал?
И.З. Он работал за кордоном. В 1924 году закончил академию Генерального штаба, знал шесть языков, работал по всему миру. Сейчас вышла книжка "Внешняя разведка России", там впервые рассекретили его имя.
Как патриот я поехал в самую глушь, на станцию Амур… На берегу под Амуром Сталин велел построить тоннель. Чтобы на случай бомбежки моста поезда шли под водой. Зэки рыли тоннель, который потом, после победы не понадобился. Они жили в бараках, куда нас, после сноса лагеря, и поселили. В бывшей лагерной столовой располагалась школа. В этой школе я начинал работать. В университете нас учили латыни, польскому языку, старославянскому, а с детьми обращаться мы не умели. Поэтому я как педагог был полностью не приспособлен к этой работе. Наломал немало дров. В школе я начал писать… Сразу отрезал от себя беллетристику и прозу, понимая, что художественного таланта у меня нет. Хотя мои критические статьи, как мне кажется, не лишены некоторой образности. В 1961 году в Переделкино был семинар молодых критиков. Там были и Олег Михайлов, и Лев Аннинский, и Адольф Урбан, и Юрий Буртин, ныне покойный. Маститые советские критики над нами шефствовали. Вдохновляли нас на дерзость и свободу, извиняясь за свои былые грехи. Меня разыскал Корней Иванович Чуковский, Зазвал к себе на дачу и прочитал мою статью "Рапира Гамлета", где я достаточно сурово обошелся с прозой своих сверстников. И он меня благословил. Чуковский сказал: бросайте всё и занимайтесь критикой. Но я всё же написал повесть о том, как мы бежали из детского дома в Сибири в марте 1944 года. Это было единственное отклонение от избранного мною жанра. Я рассуждаю так: если ты судишь писателей и более того, соревнуешься с ними на их поприще, ты должен по крайней мере писать лучше их.
В.Б. Этот искус беллетристики или поэзии настигает время от времени любого критика. И надо быть сильным, уверенным и в себе, и в своем критическом даре, в своем художественном вкусе, уверенным в высокой роли критики как таковой, таким, как вы, или Михаил Лобанов, или Лев Аннинский, или рано погибшие Юрий Селезнев и Марк Щеглов, чтобы преодолеть этот искус беллетристики. Наверно, можно раз-другой поиграться, проверить, как это делается, но если ты не способен взойти на художественную вершину, стоит ли вливаться в ряды середняков? Тем более дар критика, на мой взгляд, — более редкий дар. Есть много талантливых прозаиков, гораздо меньше талантливых поэтов, и почти всегда — единицы талантливых критиков. Только средние, не очень одаренные критики, подобные, к примеру, Владимиру Новикову, легко меняют жанры, нигде не доходя до вершин. Поняв высшую значимость литературной критики, особенно в России, где она всегда сопряжена с общественной жизнью, с ролью мыслителя, отказаться от такой роли уже невозможно. И пусть сотни раз задаются вопросом: зачем нужна литературная критика. Кстати, каков ваш ответ на этот затасканный вопрос?
Может, и на самом деле, это неудачники в литературе с горя идут в литературную критику?
И.З. Литературная критика — родная сестра литературы. В России никогда не было литературоведения. Не было традиции литературной науки. Литературными критиками были Белинский, Писарев, Добролюбов, Иннокентий Анненский. Впрочем, от Пушкина до Блока никто из великих не брезговал этим жанром. Литературная критика была родной сестрой литературы и существовала с ней на равных. Конечно, литературная критика зависит от литературы, как, впрочем, литература зависела от неё.
В.Б. Более того, в период литературной пустоты критика и является тем мостиком от одного взлета литературы к другому, ибо ей всегда есть на что опереться, на великое прошлое, вновь осмысливая и оспаривая литературные константы прошлых эпох… Тем самым критика не даёт опускать планку высоты самой литературе, которая готова признать уже своими вершинами, скажем, Радзинского и Донцову. Лишь критика не позволяет им чувствовать себя новыми классиками, какие бы президенты ни восхваляли их творения.
И.З. Критика — это литература концентрирующейся мысли. Имеющая свой взгляд не только на конкретные сочинения писателя, но через них и на саму жизнь. Мне больно сегодня видеть, что критика стала прикладной, заказной, угодливо служащей денежным мешкам, в том числе и в литературе.
В.Б. Да, часть нынешних молодых критиков ушла в коммерсанты, в коммивояжеры скоропортящейся литературной продукции. И чтобы эта скоропортящаяся продукция не сгнила, её срочно надо раскрутить, внедрить в массовое сознание, ведь все склады переполнены тоннами книжной продукции, за хранение надо платить. Издателям выгоднее нанять за хорошие деньги толковых книжных риэлтеров. Почти исчезла полемическая размышляющая концептуальная критика, равно как в патриотических, так и в демократических журналах. Исчезла иерархия литературного таланта, когда прекрасно знали цену и Платонову, и Домбровскому, и Распутину. И тому же Сартакову, заодно с Чаковским. Когда не могли популярного и способного беллетриста Анатолия Рыбакова объявлять литературным гением. А сейчас книги рекламируют как памперсы или пиво "Три богатыря".
И.З. Да, такую литературу можно подавать только к пиву. Это уже какая-то заказная критика, которую я не могу считать критикой. Критик должен быть независим. И от писателя, о котором пишет, и от издателя. Деньги нужны всем, зарабатывать нужно, но не таким способом. Мне не раз мне приходилось сталкиваться с такого рода просьбами. Кстати, я хочу добром помянуть Георгия Мокеевича Маркова, который помог мне выпустить книгу о Гоголе, если бы не он, книга не вышла бы. Он был большой начальник, в ранге союзного министра. Вскоре после его поддержки книги о Гоголе мне позвонили из издательства "Советская Россия" и предложили написать книгу о Маркове, я сказал, что я не буду этого делать. Надо вновь отдать должное Маркову: наши отношения остались прежними. Такие предложения я получаю и сейчас, но я стал бы презирать себя, если бы откликнулся на них. В молодости, Володя, я даже не стремился к знакомству с писателем, о которых писал. Это всегда мешает. Если ты дружен с ним, то ты уже чем-то обязан ему, что-то не можешь сказать до конца.
В.Б. Это прекрасная привилегия молодых и дерзких критиков. Когда я начинал писать о Киме, Маканине, Проханове, Личутине и других так называемых "сорокалетних", я никого из них не знал. Но поневоле обрастаешь за годы и десятилетия литературной жизни знакомствами и дружбами, и уже мало кого ты лично не знаешь из ведущих литераторов, и уже меньше остается полной свободы. Ты можешь и должен не фальшивить, но, увы, иногда о чем-то ущербном умалчиваешь, пишешь между прочим. Хочешь большей свободы, переходи на молодых, которые тебе неизвестны, или же уходи в историю литературы, где ты можешь вольно выражать свои взгляды и сомнения. Знакомства с жизнью писателей, с процессом их творчества, с одной стороны обогащает, дает дополнительные знания о возникновении того или иного образа, а с другой стороны и закрепощает. Вот вы пишете о своем добром знакомом Георгии Владимове, вспоминаете встречи с ним, но вольны ли вы тогда в своих честных размышлениях о его творчестве?
И.З. В целом это так. Хотя в случае с Владимовым было иначе. Приехал ко мне его издатель. Он очень любил Владимова и попросил написать предисловие к его четырехтомнику — решил издать четырехтомник. Я написал большую статью. Признав "Верного Руслана" как замечательную вещь, я остальное оглядел критическим оком. Георгий Владимов попросил не печатать это предисловие. И его написал Лев Аннинский. Зная Владимова, уважая его, я не мог заставить себя писать апологию.
В.Б. На пороге значительного уже юбилея вы могли бы назвать лучшее из написанного вами? А от чего бы с удовольствием избавились, посчитав творческой неудачей? Итак, ваши удачи и ваши неудачи с сегодняшней точки зрения?
И.З. К неудачам я могу отнести лишь литературно несовершенные опыты. Не потому, что мне не нравятся какие-то мысли, там изложенные, а потому, что это плохо написано. Мне не нравится язык моих первых статей. "Молодой современник" или "Тепло добра" — что это такое? Какие-то абстрактные общие понятия. Хотя в книге "Тепло добра" была, скажем, статья о прозе Василия Белова, от которой я не отказываюсь. Или "Остриём внутрь" — о прозе Андрея Битова — совершенно нелепое и вычурное название. Мне кажется, Володя, я научился писать только сейчас. Я стал писать просто и ясно. А в молодости я отбивал фразы, как телеграфный аппарат. Для меня форма стояла на первом месте и зависела от тогдашних литературных образцов. То, что написано в поздние годы, остаётся для меня неизменным.
Я говорю о себе лично. Что касается
моих взглядов, я пришел к ним позднее, чем следовало бы. Поэтому теперь я не Зоил, предающий остракизму каких-то писателей. Даже ядовитые реплики о современной литературе я стараюсь закончить каким-то примирением. Подать руку тому, о ком я писал. Лучшее у меня — думаю, книга о Гоголе.
В.Б. Как вы, Игорь Петрович, пришли к Гоголю? Резкий, полемический критик, литературный рубака, максималист, уже не волчонок, а матерый волчище, один из несомненных лидеров литературной критики, и вдруг уходите от своего максимализма к такой загадочной, мистической, христианской фигуре Николая Гоголя?
И.З. У меня сложилась странная судьба в конце 60-х годов. Я появился в Москве, где существовало множество литературных партий и группировок. Тогдашние "левые" из "Нового мира" меня не приняли, я писал критические статьи о печатавшем там свои романы Юрии Бондареве, о забытом романе Паустовского, говоря, что это мармелад, а не литература, о поэме Евтушенко "Братская ГЭС", которую я назвал цитатой из неё же самой: "Поверхностность ей имя". Меня тут же записали в погромщики. И вдруг появляется моя статья о романе Юрия Домбровского "Хранитель древностей", о котором никто не отваживался написать. Статья появилась в "Сибирских огнях". И "левые" стали спрашивать: кто же этот тип, "наш" он или "не наш". Я оказался вне всяких партий. Был на отшибе. В какую-то минуту уже подумывал о тщете своих критических занятий. Тщете скорострельных ударов. Мне стало не хватать воздуха. Захотелось остановиться на чём-то крупном. И тут в мой дом вошёл Гоголь. Я пошел в архивы. Поехал в Киев, стал читать письма Гоголя. Потом очень долго работал в исторической библиотеке. Я осознал, что должен окончить ещё один университет. Благодаря Гоголю я ушел в девятнадцатый век. И на всё стал смотреть по-другому, с другой высоты, и на себя в том числе. Именно в эти годы я крестился в Церкви Святого Пимена на Новослободской. Это была не только литературная работа, но и движение души. Для начала я угробил свою рукопись, у меня ничего не получилось. Кончилось тем, что у меня открылось кровотечение здесь в Переделкино, и Гриша Поженян, Царство ему небесное, вытащил меня на своих плечах и отвез в больницу. Как ни странно, Володя, хотя я тогда сильно болел, это были самые счастливые годы в моей жизни, я начинал совсем по-другому писать практически новую книгу об открывшемся мне Гоголе. Всю комнату оклеил его портретами, объездил все места, где он жил. Иду по Погодинской улице, где он одно время жил, и мне кажется, что он выйдет сейчас из-за угла. Я и сейчас ощущаю его присутствие. Это огромный тяжелый труд, и огромное счастье. Закончил книгу в 1976 году, поверьте мне, Володя, упал на колени и благодарил Бога.
В.Б. Вы можете сказать, Игорь Петрович, какой Гоголь вам ближе — малороссийский, со всякой чертовщинкой и веселой сказочной мистикой времен "Вечеров на хуторе близ Диканьки", или же иной, питерский, времен "Шинели" и "Мёртвых душ"?
И.З. Мне, конечно, сейчас ближе всего поздний Гоголь, Гоголь, который решил открыть свою душу читателям. Вышел с исповедью, с "Выбранными местами…" и что получил? Хулу и насмешки.
В.Б. Так всегда и бывает, смеялись и над Толстым, и над выступлением Солженицына в Думе. Такова наша, да и мировая, образованщина.
И.З. А мне так хотелось его защитить! Хотя он, конечно, не нуждался в моей защите. Пусть он не создал положительного героя, которого пытались создать все русские писатели. Но он сам стал таким героем. Я убежден, что истинные герои русской литературы — её творцы. Они достойны поклонения. Они прожили достойную жизнь.
В.Б. А сейчас вам не хочется защитить Гоголя от нападок на него и на Украине, и на нашем телевидении с лунгинским пасквилем?
И.З. Сейчас прошел этот фильм о мёртвых душах. Кроме того, что это мерзость, я ничего сказать не могу. Не так давно читал книгу Ю.Барабаша, бывшего высокого партийного чиновника, о Шевченко и Гоголе. Он доказывает, что Шевченко выше Гоголя во всех отношениях. Во-первых, как писатель. Во-вторых, как патриот своей родины. Гоголь изменил Украине, а Шевченко нет. И он цитирует новые переводы Михаила Шевченко. Мы знали Шевченко по смягченным переводам Рыльского, Тычины и других советских поэтов. А сейчас его переводят заново. И сколько в его стихах нелюбви к России, к русскому человеку вообще? Откуда это? Ведь ему помогали русские люди — Жуковский, Лесков. Даже Белинский, сочувствовавший его судьбе, удивился, когда Шевченко стал материть императрицу. Сейчас на Украине его преподают как зарубежного писателя. Перевели на украинский "Тараса Бульбу", где казаки, погибая, вместо слов: "Да пусть стоит русская земля!", восклицают "Да пусть стоит украинская земля!". Я как-то спорил с поэтом Дмитро Павлычко, одним из зачинателей самостийности, так он уверял меня, что в Запорожской Сечи жили одни украинцы. Я опровергал его: но это были беглые крестьяне из России. Думаю, от таких перекосов теряет украинская культура. Ведь она имела выход в мир через русский язык.
В.Б. На мой взгляд, они собираются стать региональным народом с региональной культурой, но земли они отхватили, и русского и иного населения, как имперская держава. Они не имперский народ, и думаю, не переварят такой объем чужеродности. Я как-то спорил с одним из лидеров их радикалистов. Говорю, вам бы надо было самим отдать все москальское, и Крым, и Одессу, и Донбасс, дабы укрепить свою самостийность. Русская имперская культура от Одессы до Крыма, от Донбасса до Харькова, вплоть до самого Киева, никогда не украинизируется. Да ещё миллионы новых украинских гастарбайтеров в России, они же поневоле русифицируются. В самой Украине никто не читает украинских писателей, посмотрите по книжным магазинам даже Киева, и страшно подумать, Львова. По всей Украине нет ни одной видеокассеты на украинском языке, не покупают, рынок не берёт. В советское время на виду стояли книги на украинском языке, и лишь где-то в уголочке — на русском, сегодня же все первые ряды — русские книги.
И.З. Когда я жил в Васильевке, в деревне, где мы создавали музей Гоголя, то видел, что рядом живут прекрасные люди, не озабоченные никакой враждой с русскими. Одно тело, одна большая семья. То, что происходит с нею и с Гоголем печально и горько.
В.Б. Придётся ездить в Рим, где тоже так много гоголевских мест. Вы, очевидно, были в Риме на улице Треви, где в кафе выставлен автограф Гоголя, где чашечка кофе стоит 5 евро, где он писал "Мертвые души". Ради Гоголя я не пожалел эти 5 евро, сел за столиком под гоголевским автографом и как бы очутился в России.
И.З. Да, везде, где жил Гоголь, жила и Россия. И римский Гоголь — это самый русский Гоголь.
В.Б. Я сам против такого американизированного табеля о рангах, первый, второй, третий… Но если взять четыре или пять наиболее известных во всём мире русских писателей: Гоголя, Толстого, Достоевского, Чехова, Тургенева, может быть, Лескова (я не беру поэтов, Пушкина, Лермонтова, Тютчева и так далее), то чем, на ваш взгляд, Гоголь отличается от других наших великанов русской литературы?
И.З. Думаю, с Гоголя начинается христианизация русской советской литературы. Конечно, Федор Достоевский — его ученик, все темы, которые он затрагивал в своих книгах, он взял у Гоголя. Гоголь наметил темы для всех романов Достоевского. В "Выбранных местах из переписки с друзьями" — о страшной опасности обезбоживания народа, о "гордости ума", о пагубе фанатизма. При этом Гоголь, по крайней мере в своей прозе, — поэт. Достоевский психоневролог и патологоанатом, он погружается в подполье души человеческой, но человек не может всё время находиться в подполье. От постоянного присутствия тьмы он слепнет. У Достоевского отрицатели, сомневающиеся, подпольные почти всегда убедительнее, чем те, кто им противостоит. Этим, в частности, и объясняется популярность Достоевского на Западе. Она связана не только с тем, что Достоевский разоблачил "бесов" и угадал будущее, но и с тем, что его отрицатели близки современному сознанию западного человека. Он скептик, он разочарован. Если в каждом человеке сидит смердяковщина, то на что и надеяться. Я как-то написал статью о Чехове и Толстом. Именно о их духовной связи. Вы, Володя, упомянули и Николая Лескова. Это — величайший писатель. Лесков написал "Соборян", кстати, печатавшихся в один год и в одном и том же журнале с "Бесами" Достоевского в "Русском вестнике". Ничего подобного Достоевский не написал. Вот откуда бьет сноп света. Может, поэтому Федор Достоевский никогда и не был любимым в народе писателем. Толстой был. Лермонтов, Пушкин. Даже Гоголь, Чехов... А вот Достоевского народ никогда не любил в массе своей, не чтил, как своего. Это писатель для интеллигенции. Есть, конечно, исключения. "Повесть о молодом герое", которую он написал в Петропавловской крепости. Замечательная вещь. О первой любви мальчика к взрослой женщине. Почти тургеневская вещь. Достоевский еще в начале своего пути заявил, что я растопчу их всех. (То есть своих предшественников и современников.) Спишем это на молодой задор. Ибо в целом всё-таки линия у русской литературы была одна. Гоголь воскресает и в Толстом. В его дневниках. Неудовольствие одним лишь искусством. Его недостаточно, чтобы изменить что-то в жизни.
В.Б. Это, по-моему, чисто русская литературная традиция. Эстетство никогда не побеждало. Даже Игорь Северянин закончил стихами о родине. Даже Чехов поехал на свой остров Сахалин. Владимир Маяковский наступил на горло собственной песне. Александр Солженицын не позволил себе "баловаться" чисто художественными поделками. Я уже не говорю о Льве Толстом, который просто отказался от своего творчества, прорываясь напрямую к народу. Да и Николай Гоголь не случайно написал свои "Выбранные места…". Русские гении, доходя до высших пределов художественного творчества, ищут уже прямого разговора со своим народом. Даже эстет Иосиф Бродский не случайно написал свое стихотворение "Народ", которое Анна Ахматова сочла гениальным.
Вы, Игорь Петрович, сказали, что пришли к Николаю Гоголю, задыхаясь от мелкотемья текущей литературы. Сейчас уже ХХ век становится историей. "Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии". Вот на расстоянии начала третьего тысячелетия, что вы можете сказать о литературных великанах ХХ века? Может быть, литература ХХ века в целом не менее значима, чем литература века девятнадцатого? Или вы и сейчас скептически относитесь к литературным итогам ХХ века?
И.З. В ХХ веке, во-первых, я очень высоко ценю "деревенскую прозу", о которой сам много писал. Она продлила на сто лет жизнь русскому языку, который ныне умирает вместе с крестьянством. Это замечательные писатели Василий Белов, Валентин Распутин, Василий Шукшин, Виктор Астафьев, Фёдор Абрамов. Они прямо продолжили великую традицию своих предшественников.
Но самая крупная величина ХХ века, несомненно, равная и Гоголю, и Достоевскому, — это Андрей Платонов. Сын железнодорожного слесаря, который уверовал в мировую революцию и посчитал коммунистов — людьми, сошедшими на землю по велению Христа. Он видел в Ленине посланца Бога. Отчаяние и трагедия Андрея Платонова, понявшего, что произошло, придало величие всем его книгам. Он перешел в третье тысячелетие без потерь, в отличие от многих его современников. Это высший пик русской литературы ХХ века… Затем "Тихий Дон" Шолохова, который я тоже очень люблю. Владимир Набоков, особенно его роман "Бен Финистер", в русском переводе вышел под названием "Под знаком незаконнорожденных". Некоторые считают Михаила Булгакова великим писателем ХХ века. Думаю, что он блестящий беллетрист. Всеми хвалимый роман "Мастер и Маргарита", безусловно, уступает классической "Белой гвардии".
В.Б. Тут вы — единомышленник Иосифа Сталина. Впрочем, помните, мы обсуждали весь этот дьявольский замысел Булгакова на нашей литературной студии, где я противопоставил абсолютно христианской "Белой гвардии" антихристианский роман "Мастер и Маргарита". Дьявол для него оказался благороднее, чем советская власть.
И.З. Я помню то наше обсуждение. Но вот в энциклопедическом словаре, вышедшем года три назад, есть портрет Булгакова, но нет портрета Платонова.
В.Б. Может, еще чересчур близкое временное расстояние от ушедших. И плюс нынешняя петросянизация поголовно всего народа приводят к восторгу от булгаковской сатиры и иронии. Петросяновщина близка буффонаде из романа. Сравнивают по уровню "Золотой телёнок" Ильфа и Петрова и роман "Мастер и Маргарита". Я подумал, может, они и правы, и это — романы одного уровня, одной темы. Когда-то и Фаддей Булгарин был популярнее Пушкина, а Боборыкин известнее, чем Чехов. Думаю, при всём моём уважении к Михаилу Булгакову, со временем определится и его законное место в литературе. Конечно же, вслед за Шолоховым и Платоновым. Даже вслед за Набоковым. Ведь люди нынче читают "Мастера и Маргариту", скорее, ради абсолютно искренних и даже драматических попыток воссоздать историю Христа, а не еретически наслаждаясь похождениями воландовой компании.
И.З. Евангельская линия в романе эстетизирована и заземлена. Сама мысль о том, что Бог посылает дьявола на землю, чтобы восстановить справедливость, двусмысленна. Получается, что зло можно победить только злом. Что положительного в воландовской компании, они отрезают головы, насылают на людей смертельные болезни. Никогда бы Христос не благословил все эти деяния.
В.Б. На ваш взгляд, Игорь Петрович, обращение ко Христу в светской литературе дозволительно? Есть ли какой положительный пример?
И.З. Я был в Ново-Валаамском монастыре в Финляндии, когда преподавал там три года, и обратился к настоятелю монастыря с подобным вопросом. Он сказал: "Христос должен оставаться в "Евангелие". Абсолютно с ним согласен. Можно поставить под сомнение его появление в "Легенде об инквизиторе". Достоевскому нужно было поставить Христа перед судом реальности. Ты свободы хотел, говорит ему инквизитор, а людям не свобода нужна, а хлеб. Весьма своевременная мысль. Свобода от чего и для чего? Свобода материться, кощунствовать, воровать? Осчастливила ли она Россию? У Достоевского Христу нечем ответить на этот вопрос. Но Христос никогда не считал свободу своеволием, по нему высшая свобода — это самоограничение. И потому, считаю, Христос должен оставаться в "Евангелие".
В.Б. Мы заговорили о современной России. У нас было в ХХ веке две попытки капитализации России. Первая закончилась Октябрем 1917 года. Чем закончится вторая? А ведь капитализация в начале ХХ века шла примерно таким же путём, как и сегодня. Таким же воровским, криминальным, коррупционным. Неплохо зная современный Запад, признаюсь, что к шведскому, датскому, немецкому капитализму отношусь абсолютно положительно. Немного другое отношение к американскому варианту, более хищническому и жестокому и поныне. Но я понимаю, что ни шведский вариант, ни датский, ни немецкий, ни даже американский нам не грозит. Невозможно взять и перенести все немецкие порядки, уклады и законы на нашу землю. Для этого Россию надо заселить немцами, а у нас выезжают последние поволжские немцы. Наверное, надо истребить всех русских людей и заселить другим народом, и тогда строить капитализм. Может быть, эта советская жестокая кровавая утопия, тем более во главе с восточным человеком, и продлила жизнь Святой Руси ещё на столетие? Даже мученики христианские своим мученичеством прославляли и поддерживали веру в Православие. Чем закончится сегодняшний безжалостный опыт? Тогда, в советское время, как вы признаете, даже при репрессиях и ограничениях свободы была надежда у народа, был оптимизм, была хоть и утопичная, но мечта о всемирном счастье. Сегодня народ вымирает, мораль отрицается, веры нет ни во что, даже богачи не надеются на будущее, и скупают имения в Европе. А если бы дали возможность советскому режиму эволюционизировать? Ведь и у христианства была инквизиция, она же не отрицает ныне само христианство. Мы же были выше Китая во всех отношениях, сейчас одна провинция Китая дает прибыли больше, чем вся Россия. Сейчас мы завидуем индийским научным центрам. Скоро будем завидовать Эфиопии и Сомали. И ни пришли бы мы неизбежно к модели христианского социализма, без всяких либеральных революций 1991 года? И ни обогнали бы мы тогда и по развитию, и по нравственному состоянию весь мир? Ни пора ли признать ценность советского, пусть и тяжелого, опыта? Тогда, в советское время, все, от Солженицына и Сахарова до Брежнева и Андропова, верили в то или иное, но будущее России. Сейчас большинство населения и даже многие из наших духовных лидеров уже не верят в будущее России. Я нынче уверен, что без советской власти Россия погибла бы еще почти сто лет назад, а проиграв в Великой отечественной войне, она бы и весь мир погребла под собой. Неслучайно умные евреи в Израиле до сих пор держат у себя дома портреты Сталина. Их бы не было совсем, как нации. Но и нас бы не было. Вот я и спрашиваю вас, Игорь Петрович, хоть ваши родители и были репрессированы, впрочем, и мой отец отсидел положенную десятку на БАМе и на русском севере, но не лучше ли было сохранить советскую власть?
И.З. Вы знаете, Володя, получилось то, что обычно бывает в истории. Люди приходят с добрыми намерениями, а кончается большой кровью и крахом. Все-таки советская власть сохранила духовную вертикаль, которая всегда была в России. На первом месте была идея, были духовные ценности, а уж деньги и успех стояли гораздо ниже. Сейчас эта вертикаль перевернулась. И она разрушительна и чужда русской традиции. Всему тому, чем жила Россия многие века. Сейчас всё и в душе, и в обществе разрушено гораздо серьезнее, чем после 1917 года. Святая вера куда уходит: даже не в монастыри, а в скиты. Происходит отделение культуры от церкви, что тоже страшно для нашей культуры. Разделение произошло еще при Петре... Но великая русская литература пыталась вновь соединить культуру и христианство. И пока христианская вера пребывала в душах, была и надежда на будущее России, а сама литература стала, по словам Гоголя, "незримой ступенью к христианству".
В.Б. Может быть, и советская литература, вернее русская литература советского периода, дополнила в сознании людей потерянное или подавленное христианство и была той "незримой ступенью" к Богу? Может быть, величие литературы советского периода и заключалось в сохранении духа христианского? Вот устроил Виктор Ерофеев и ему подобные "поминки по советской литературе", но это оказались поминки по погибшей русской душе. Может, мы ещё и оценим как следует всё величие и сложнейшую духовную роль литературы ХХ века?
И.З. Хорошо бы написать статью "Поминки по антилитературе".
В.Б. Даже антисоветская лите
ратура была частью той же советской, была высокой литературой идей, борьбы идей. Страшнее нынешняя физиологическая литература, литература о полном крахе человека вообще. Это и есть подлинная бесовщина, страшнее любого кощунства Блока или Есенина.
Есть еще любители обозначать всё талантливое как "антисоветская литература", а всё бездарное как "советская литература". Чушь полнейшая. Была единая великая литература ХХ века с её страстями и трагедиями, с её "про" и "контра". "Двенадцать" Блока и "Лебединый стан" Цветаевой, "Тихий Дон" Михаила Шолохова и "Солнце мертвых" Ивана Шмелева. Даже книги Фадеева и Катаева, Леонова и Паустовского были книгами идей. Сегодня выдвигают нагло и по всем государственным каналам литературу физиологических подробностей, литературу земляных червей. Это страшнее любой "антисоветской" или "советской" литературы. И на этом фоне ещё рельефнее вырисовывается ушедший материк литературы советского периода.
И.З. Русская литература советского времени способствовала тому, чтобы оттаяла душа русского человека. Чтобы ушло ожесточение периода гражданской войны и коллективизации. Чтобы помягчала душа фронтовика, поневоле принимавшего участие в убийствах врага. Поздний период советского времени был гораздо гуманнее нынешнего. Либеральные вожди — гораздо более жестокие люди, чем наши заикающиеся члены политбюро и генсеки. Я уже говорил вам о Георгии Маркове: министр, член ЦК КПСС и всё такое, он мог посочувствовать, помочь. Я не видел подобной помощи со стороны либеральствующих литературных начальников. Впрочем, они не были добрыми и сострадательными и в пору своей "левой" молодости. Я любил Володю Максимова, потому, что он был совсем другой человек. Он мог сказать: "Я чувствую себя виноватым", что никогда не скажет ни один либерал. И Федор Абрамов, и Василий Белов, и Валентин Распутин — они всё-таки в своей прозе тепло несли, столь необходимое людям. Как ещё Андрей Платонов говорил: "Дайте истории отдохнуть хотя бы 50 лет и всё само собой устроится". Пока не получается. Не нужна была эта либеральная революция, режим бы неизбежно эволюционизировал, и мы бы не пришли к такому ожесточению душ. Ненависть всегда ведет в тупик.
В.Б. Вы, Игорь Петрович, несомненно, человек ХХ века. Каким этот век оказался для России?
И.З. На мой взгляд, ХХ век был последний романтический век в истории России. Хотя было и смешение. На чем поднимается политический романтизм? На обезбоживании народа. На волне обезбоживания расцвел красный революционный романтизм, который дал, с одной стороны, высокие примеры и в искусстве, и в науке, и в политике, с другой — расстрелы и кровь. Я не знаю другого века в русской истории, кроме эпохи раскола, когда бы так высоко взлетела жертвенность народа. Эта жертвенность и спасла мир. Не только от Гитлера. От всеобщего разрушения и полного безверия. По крайней мере, на некоторое достаточно длительное время. Вспомните послевоенные годы. Расцвет искусства, Феллини, неореализм, новые поэты, подъем в самом народе. Хотя еще везде стояли лагеря. Помню, был на Куйбышевской ГЭС, весь котлован обнесен проволокой, шагающие экскаваторы, и по всему периметру плакат: "Да здравствует Сталин!". Всё перемешалось. Жертвенность и преступность, героизм и палачество, высокая энергия и сострадание. И прежде всего жертвенность русского народа, без которой мы бы никогда не выиграли войну. Никакой другой народ не пошел бы на такие жертвы. Но ХХ век — это сверхжертвенность, смешение героического, трагического и палаческого. Этот романтизм дал свои вершины и в литературе, и в кино, в архитектуре — везде. И дал вершины человеческого духа, всеобщий подъем, который длился почти полвека, вплоть до Гагарина. Но была и свирепость романтизма. Русский народ бросил себя на костер истории. Почему сегодня такая апатия и усталость? Силы истощились. Нужно, чтобы два-три поколения жили спокойной жизнью. Революций уже хватит. Расправ и гражданских войн хватит. Как остановить вакханалию разрушения?
России нужны великие люди, которые бы объединили народ.
(обратно)Глеб Горбовский “В РОССИИ — РАЗГУЛЯЙ-ПОГОДА!..”
***
В России — разгуляй-погода!
Все месяцы — мужского рода.
Взять хоть бы нынешний февраль:
сулил с похмелья стужу, враль,
а на дворе — весной дохнуло,
и всё проснулось, что уснуло.
Зато зелёный май, бывает,
в снега ландшафты одевает.
Короче, русская природа
взяла немало от народа,
от широты души и сердца:
нет-нет и выкинет коленца!
***
Мы недотёпы и мерзавцы,
себяубивцы, дети тьмы,
но разве мы… христопродавцы?
Его распяли… разве мы?
Всё было не по протоколу,
а с чьих-то дальнобойных слов.
Он, на кресте обвисший, голый,
смотрел на мир поверх голов.
И взгляд его окровавленный
молчал, не проклиная нас...
Ведь кто-то должен во Вселенной
исполнить жертвенный наказ!
***
Очередной банальный Новый год.
Вагончик жизни — всё на тех же ржавых рельсах.
Душа в мозаике обыденных забот
подвержена всё тем же интересам:
прожить еще денёк,
прочесть, точнее — пробубнить молитву.
Всяк — одинок, хотя бы и сам Бог,
и все одну свершают тризну или битву:
с самим собой, омыв лицо и душу,
идти на смертный бой,
чтоб устоять, ещё мгновенье... Сдюжить!
ПОСЛЕДНИЙ ЛУЧИК
Заволакивают тучи
небо жизни... постепенно.
Наконец, последний лучик
просочился из Вселенной:
знак любви, надежды, веры?
Для чего сквозит, не гаснет?
Я-то знаю: без химеры,
без обмана — нету власти.
...Заволакивают тучи
небо жизни окаянной...
Правда, есть Последний лучик —
милосердный, но… обманный!
ЯНВАРСКОЕ СОЛНЦЕ
Хоть, солнце и холодновато,
но так лучисто в январе!
Над лесом — вспышка! Словно атом
распался — взрывом — на заре.
Снега, пропитанные светом,
стволы деревьев — как в огне...
И в доме выпуклы предметы,
сплошь пребывавшие во сне.
Ну, а глаза — как бы прозрели,
освободясь от пелены...
И зазвучали птичьи трели
из горней спаленки Весны!
ЭФТАНАЗИЯ
Парализован был не мозг,
не руки-ноги отказали,
но как бы... обвалился мост —
посредник духа и реалий.
Быть иль не быть? — одно из двух
по Гамлету... А крах — мятежен!
Когда парализован дух,
уход из жизни — неизбежен.
Осталось подыскать врача,
не палача, но — духоведа.
...В церквушке сельской, где свеча
пылала негасимым светом, —
явился старец и во тьму
моих сомнений — фразу бросил:
"А где твой ангел? Вот к нему
и обращайся... с просьбой".
ДИАГНОЗ
Нет ни смазки, ни клея
для починки мозгов...
Я сегодня болею,
а диагноз таков:
не шурупят шурупы,
и в сосудах — мороз.
(На ходячие трупы
ограниченный спрос.)
Да к тому же моторчик
с похмела барахлит.
Плюс — душевные корчи
и затравленный вид.
Приослабли пружинки,
"Да" и "Нет" — на весах.
…Но таятся смешинки
в хулиганских глазах!
НОЧНЫЕ ЛЮДИ
Я слышу говор... Что-то в нём
нездешнее... Спи, неврастеник.
Ночные люди под окном
передвигаются, как тени.
И в два, и в три, и даже в пять,
касаясь сморщенной панели,
те люди не дают мне спать!
И ведь — не духи: в шапках, в теле.
Причина? Под окном скамья:
троллейбусная остановка.
Влюблённые? А как же я?
Мне их подслушивать неловко.
***
Над вымыслом слезами обольюсь...
А.С.Пушкин
Рисунок линий на ладони
скучней, бледней по красоте
смешенья красок на картоне
иль — на промасленном холсте.
Сплетенье линий или красок —
что впечатляет нас мощней?
Что реставрирует наш разум,
ржавеющий в пучине дней?
Искусство красок — кто отринет?
В них ласка жизни и борьба.
Но линии — неповторимей:
в них зашифрована судьба.
НАРУЖУ
Ты уже проснулся как бы,
но в глазах восторга нет...
Сквозь задымленный декабрь
продирается рассвет.
То ли утро, то ли вечер...
На ветвях в саду, как клей,
полумрак разлит... И нечем
сделать долю веселей.
Непролазье разум полнит.
За окном — унылый вид…
Маята... И тут я вспомнил,
что дорога предстоит!..
На плечо забросил сумку,
запахнулся поплотней
и нырнул в зовущий сумрак —
в неизвестность... Ей — видней.
УСПЕТЬ
Любить людей, а также птиц,
зверюшек, рощицу… Любить без фальши,
любить в пределах жизненных, границ...
А после жизни — всё послать подальше?!
Жестоко слишком... Что-то предпринять
необходимо — до сошествия в пучину:
родить ребенка, птичку не поймать,
березку воспитать или рябину.
Пока связует с жизнью нить —
во тьме вселенской пару слов нашарить
и песенку на небо запустить,
игрушечную, как воздушный шарик...
МОЖЕТ, ВСЁ ЖЕ...
Умопомрачительная весть:
я ещё "не "там", а где-то здесь!
Вот она — цепочка от сортира,
унитаз, изгибистый, как лира.
Вот моя рябинка подросла —
лапкою душистою трясла.
Вот моя соседка — сто пять лет —
бдит, перекрестившая рассвет.
Умопомрачительная власть
нами, глухарями, занялась:
вдалбливает в замшевое ухо, —
может, всё же — удалась житуха?
***
Я сговорчивый теперь:
до стакана дотянулся.
Уходя, поглажу дверь,
чтобы мир не содрогнулся.
Предрекали, что зима
нынче женственною будет.
От зимы я — без ума:
ходуном сугробы-груди!.
Я иду наискосок
парка... Дерзости не прячу.
Совершаю марш-бросок,
молча — в сторону удачи.
А удача — не беда,
всё равно, в каком обличьи,
лишь бы рядом, а куда...
да хоть к черту на кулички!
***
Ударил друг по тормозам,
истошно заскулили шины...
Я на шоссе в безлюдье, сам
послушно вышел из машины.
Махнул приятелю рукой,
и тот умчался, в даль влекомый.
В моей душе возник покой
и мир, доселе — незнакомый.
Торчат дорожные столбы,
и свист железный — вдоль дороги,
И, заглянув за край судьбы,
не смог я сдвинуть с места ноги.
***
Чья-то старость — резон.
Чья-то старость — трезвон!
А моя — летаргический сон…
Слышу: капает кровь —
рассекаема бровь.
А я грешному миру шепчу: будь здоров.
Вереница писак,
за отсутствием слов,
занята обретением шляп — не голов…
Мир меняет не музыку мозга,а ритм.
Власть желудка над всем вездесущимцарит!
Не читают с амвона молитвы —бубнят.
Не ласкают поэты стихами —звенят!
Ну, а я не поэт — летаргический сноб,
невидимку поглубже напялил на лоб.
(обратно)Владимир Шемшученко “НОЧЬ ЗАЧИТАНА ДО ДЫР И ЗАШТОПАНА СТИХАМИ...”
***
Увели их по санному следу,
Возвратились — забрали коня.
Ни отцу не помог я, ни деду,
Вот и мучает память меня.
Хватит, сам говорю себе, хватит.
Раскулачили — значит, судьба.
Только пусто в душе, словно в хате,
По которой прошлась голытьба.
Нынче всякий и рядит, и судит,
Прижимая ко лбу три перста.
Дед с отцом были русские люди —
Ни могилы у них, ни креста.
За отца помолюсь и за деда,
И за мать, чтоб ей легче жилось —
У неё милосердье комбеда
На разбитых губах запеклось.
***
Ночь зачитана до дыр
И заштопана стихами.
Занавески с петухами
Спят за окнами квартир.
Светофор из лужи пьёт
И мигает жёлтым глазом.
Прочь! Пускай теперь, зараза,
Без меня баклуши бьёт.
Предрассветный полумрак
Мной ничуть не потревожен.
Стал с людьми я осторожен —
Сочиняю для собак.
Не обманут, не солгут
Кобели, щенята, суки…
Как стихи, бегут, бегут,
Чтоб лизнуть чужие руки.
***
Я просыпаюсь. Мой костёр погас.
Лишь уголёк в золе едва мерцает.
Звезда, сгорая в небе, созерцает
Меня и этот мир в последний раз.
Трава в росе. Выходит из тумана
Осина и чуть слышно шелестит.
Повремени… Прошу… Еще так рано….
Еще дорожка лунная блестит.
Еще волна песок не разбудила,
И чайка не расправила крыло,
И тайну мне ромашка не открыла,
И воду не тревожило весло.
Еще чуть-чуть… Настраивают скрипки
Кузнечики… К травиночке-струне
Прильнула нотка маленькой улитки…
А я ее не слышу в тишине.
Еще мгновенье… И среди ветвей
Защелкает, раскатится, зальется,
Вступая из-за такта, соловей,
За ним другой… И рассмеётся солнце!
О, утро, несравненный музыкант!
Как можешь ты рождать такие звуки!
В отчаянье заламываю руки…
Вот мне бы на секунду твой талант!
***
Я всякого в стихах наговорил,
Пренебрегая сводом строгих правил,
Не золотил строку, не серебрил,
И вряд ли уважать себя заставил.
А жизнь идёт. Залаял рыжий пёс.
Вбежал сынишка. Притащил котёнка.
И со слезой, взволнованно и звонко
Вдруг выдохнул: "Достал из-под колёс…"
"Четвёртый кот! Ведь я же запретил!"
А сын, прижав к груди живой комочек,
Глядит в глаза… (Запомнил восемь строчек,
Что я любимой кошке посвятил.)
Как хорошо, что сын мой дорожит
Комочком грязной шерсти… Не напрасно
Я жизнь люблю неистово и страстно,
Не ставя ни во что уменье жить.
В окно стучат ночные мотыльки.
Творит луна приливы и отливы.
Котёнок спит, а рядом спит счастливый
Поэт, не написавший ни строки.
***
Скоро утро. Тоска ножевая.
В подворотни загнав тишину,
На пустой остановке трамвая
Сука песню поёт про луну.
Вдохновенно поёт, с переливом,
Замечательно сука поёт.
Никогда шансонеткам сопливым
До таких не подняться высот.
Этот вой, ни на что не похожий,
Этот гимн одинокой луне
Пробегает волною по коже,
Прилипает рубашкой к спине.
Пой, бездомная, пой, горевая,
Под берёзою пой, под сосной,
На пустой остановке трамвая,
Где любовь разминулась со мной.
Лунный свет я за пазуху прячу,
Чтоб его не спалила заря.
Плачет сука, и я с нею плачу,
Ненавидя и благодаря.
***
Стало страшно читать и писать,
К нелюбови людской прикасаться —
Потерявший желанье спасать,
Обретает желанье спасаться.
Спит дочурка, спит маленький сын.
Ночь звезду за звездой зажигает.
Разжигаю стихами камин.
Мне жена помогает.
***
Империя не может умереть!
Я знаю, что душа не умирает...
Империя — от края и до края —
Живет и усеченная на треть.
Оплаканы и воля, и покой,
И счастье непокорного народа.
Моя печаль — совсем иного рода,
Она созвучна с пушкинской строкой.
Пусть звякнет цепь, пусть снова свистнет плеть
Над тем, кто воспротивится природе...
Имперский дух неистребим в народе,
Империя не может умереть!
***
Петь не умеешь — вой.
Выть не сумел — молчи.
Не прорастай травой,
Падай звездой в ночи.
Не уходи в запой.
Не проклинай страну.
Пренебрегай толпой.
Не возноси жену.
Помни, что твой кумир —
СЛОВО, но не словцо...
И удивленный мир
Плюнет тебе в лицо.
***
По черному — белым, по красному — черным
Рисует мой сын. Содрогнулась душа.
За все, что мне раньше казалось бесспорным,
Сегодня не отдал бы я ни гроша.
Усилием воли себя возвращаю
Туда, где стоял на песке босиком,
И жизнь прожитую в песок превращаю,
И рваный башмак наполняю песком...
И все, что случилось, становится ясным:
Никто, никому, никогда и нигде…
По белому — черным, по черному — красным...
Услышь мя, Идущий ко мне по воде!
(обратно)Борис Орлов “СОТНЯ МОНАХОВ С МЕЧАМИ В ПЕРВОЙ ШЕРЕНГЕ СТОИТ...”
***
Конец походу — рюмки всклень полны.
В квартирах наших — жены, а не вдовы:
Вернулись все — ни мертвых, ни больных!
И флаг трепещет, и скрипят, швартовы.
Зачеркивали дни в календаре —
И жизнь быстрей летела, чем в романе.
Нас берегла любовь — на корабле
Кружились тени из воспоминаний.
Святое дело — выпить двести грамм,
Приправив парой боцманских историй.
Мы пили за любовь, за милых дам.
И только после — тост: "За тех, кто в море!"
ПАМЯТИ РУССКОГО ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II
Голодным — хлеб и русский квас,
Бездомным отворите двери.
В Нагорной проповеди нас
Христос учил любви и вере.
Над Иорданом день погас,
Как над Мологой и Тунгуской.
Христос был рус, голубоглаз,
Он — добр и справедлив.
Он — русский…
Восходит русская звезда,
На небосклон в преддверьи чуда.
Но в кресло слева от Христа
Всегда стремится сесть Иуда.
Наш путь — к духовной чистоте,
С него не уведут химеры...
Мы под крестом и на кресте
Не отрекаемся от веры!
***
Юрию Шестакову
Битва за веру. Ручьями
Льется кровь... Шепот молитв.
Сотня монахов с мечами
В первой шеренге стоит.
Крепче и камня, и стали
Вера... Я верой клянусь!
Черною сотней назвали
Тех, кто сражался за Русь.
В битвах не ведали страха.
Вижу сквозь отзвуки гроз
Черные рясы монахов —
Смотрит с хоругвий Христос.
...В наших каютах и кельях
Молится Родина-мать.
В рясах и флотских шинелях
Нам за Россию стоять!
***
День сумрачен. Ветер в объятьях кустов
Ленив. Кофе черен и горек.
Букет незабудок — небесных цветов
Поставлю в стакане на столик.
Окно распахну. Молча сяду на стул.
Старинную книгу открою.
Прочту, как в гетеру влюбился Катулл,
Как воины грабили Трою.
А здесь ни мечей, ни бренчанья монет...
Уютно избушки убранство.
Как в детстве, ни смерти, ни времени нет,
А есть лишь печаль и пространство.
***
Синеет колокольчик на полянке,
У муравья букашка на горбу.
И, как цыплята, бледные поганки
Бредут передо мной через тропу.
Летят по небу стаи синих кружев,
Лес освещен, как лампа, изнутри.
Прогрело воду в лягушачьих лужах,
И, как перед грозой, земля парит.
Хотя и душно, дальний гром не слышен.
Но гул работ плывет из деревень.
И нахлобучив драночную крышу,
Спиной сторожка подпирает день.
***
Щебечут птицы. Солнечно с утра.
Спит на крыльце накормленная кошка.
Вернуться б в детство... Сладкий дым костра.
Друзья, шалаш, печеная картошка.
Блестит в реке ленивая вода.
Идиллия. Все в мире совершенно.
Душа чиста...
И жаль, что никогда
Не станет жизнь божественно блаженна.
***
Разлад. Предчувствие разлуки.
Скупая речь. Прохладный взгляд.
Меня в любви топили руки,
Как топят в проруби котят.
Не с медом чай — с обидой пили,
И не был разговор фальшив.
Хотя меня в любви топили,
Я на земле любовью жив.
***
Грибы сошли. И птицы улетели.
Октябрь ботву по огородам жжет.
Душа всегда заботится о теле,
Но тело плохо душу бережет.
Мир выцветет и станет черно-белым,
В кюветах лужи вымерзнут до дна.
Когда греховно выстывшее тело,
Тогда душа бескрыла и больна.
***
Мне дороги звуки и флейты, и горна,
Но мир неустроен земной.
Хранят меня ангелы — белый и чёрный:
Два ангела рядом со мной.
Я жизнью испытан на смелость и крепость,
Невзгоды — стена за стеной.
Два ангела — два обитателя неба
Парят у меня за спиной.
И мудрые старцы, и глупые дети —
Сгорает эпоха дотла.
Меня вырывают из пламени смерти
Два ангела, как два крыла.
(обратно)Андрей Ребров “НЕРАВНОГО СРАЖЕНЬЯ СМОЛКЛИ ЗВУКИ...”
ПОЭТ
Забыты имена, истлели кости.
И ратные оратаны поля…
И вновь взрастают нивы на погосте —
С крестьянским вечным именем — Земля.
А он стоит средь нив, забыв про время,
И слышит битв грядущих голоса,
И, словно в Вечность брошенное семя,
Растет стихами к тихим небесам.
РАТНИК
Неравного сраженья смолкли звуки.
И вран кружит над тучей мертвых тел…
А он лежит ничком, расправив руки,
Стяжавший оперенье вражьих стрел;
Лежит — крестом — под скорбным небом бледным,
Как будто землю силится обнять.
И ждет его в свой светлый сонм победный
Пернатая Архангельская рать.
***
Хоронили юношу-солдата…
И старик, счищающий с лопаты
Сыру землю вечного пути,
Обронил как будто виновато:
"Жизнь прожить — не поле перейти".
И лицом, иссушенным увечьем,
Полыхнув, как плачущие свечи,
Юный воин, выживший в той сечи,
Возразил на старческую речь:
"Не хватило жизни человечьей,
Чтобы поле сечи пересечь".
ПАМЯТНИК ПУШКИНУ.
Октябрь 1993
Он стоит
один
среди
Шумных древ,
как в поле бранном,
И краснеет
свежей раной
Лист кленовый
на груди.
ПАМЯТНИК НЕИЗВЕСТНОМУ
СОЛДАТУ
Вот ястреб реет над равниной…
И мстится — взор твой соколиный
Тем прежним возрастом сродни
Неистребимой ястребиной,
Сквозной во времени тени,
Что, словно призрак "мессершмидта",
Штурмует долгие луга.
И вновь,
теперь уже гранитной
Своею грудью, — от врага
Ты заслонить готов их спешно
На все лихие времена. —
Как будто в той тени кромешной
Идет священная война.
НА БРАНЬ ПОСЛЕДНЮЮ…
Преосвященнейшему Константину
епископу Тихвинскому
Золотилось небо спелой рожью,
А в полях синели васильки.
Шел монах сумняшеся ничтоже
Вековой тропой и кулики
Щебетали в долах васильковых
Под ржаною вязью облаков.
И лучилась к полю Куликову
Тропка летописною строкой.
Шел чернец строкой незавершенной,
Посох предержа в руце своей,
Мимо новорусских вавилонов,
Мимо стойких дедовых церквей.
А издалека, сквозь птичье пенье,
Сквозь халдейский ропот городов,
Доносился грозный гул сраженья:
Гром гранат, глухой, как стук щитов,
Посвист пуль, звучащий, словно эхо
Впившихся в просторордынских стрел,
Лязг проклятых танковых доспехов,
Трубный гуд страстных монастырей.
(обратно)Николай Рачков “А Я ПРИЖМУСЬ К ЖНИВЬЮ РЖАНОМУ...”
***
В войну крестили и растили
В селе, где бед не истолочь...
Меня учить любви к России?
К Отечеству? Подите прочь.
Я знаю, чем душа согрета,
И сколько в ней сорвали струн.
Пусть корчит из себя поэта
На все лады политкрикун.
А я с годами тише, тише,
Я знаю цену громких фраз.
А мне все ближе, мне все ближе
В селе состарившийся вяз.
А я прижмусь к жнивью ржаному
До слез, до крови на щеке.
Я знаю: боль сильней по дому,
Когда от дома вдалеке.
***
Много света, много стали,
Много хлеба,
Звездный взлет...
Все кричали: вы отстали!
А Россия шла вперед.
Шла сквозь ливни и сквозь вьюги,
Набирая ход такой,
Что все недруги в округе
Потеряли вновь покой.
Становился рев неистов:
Что Россия, как не миф?
Подкупили машинистов,
Тормознул локомотив.
Свет зеленый, это зримо,
Зажигается другим.
Все другие мчатся мимо,
Ну а мы стоим, стоим...
Сколько мается народу,
Лют душевный неуют.
Поезд наш рванул бы сходу,
Только ходу не дают.
Но когда он в поле мглистом
Тронет с места, господа,
И помчит вперед со свистом,
Где вы будете тогда?
***
Даль моя ты вешняя!
Что там? Жизнь неспешная.
Сенокос да пахота,
пятистенный дом.
Там и банька с веником,
и сарайчик с сенником.
Там сундук прабабушкин
под двойным замком.
В сундуке окованном,
молью облюбованном
много бедной всячины —
не свезет возок:
поясок набедренный,
книга "Князь Серебряный",
платье подвенечное,
темный образок.
Вот оно, наследие,
через все столетие.
Никакого золота,
никаких серег.
Там с войны бесстрашные
письма карандашные.
Жаль, что этой памяти
я не уберег.
Нынче это времечко
лишь толкнется в темечко,
глянешь в щелку прошлого,
вот оно! — замрешь.
Как цветочек маковый
на шкатулке лавовой —-
сколько ни рассматривай,
не сорвешь...
ПОМНЮ, ПОМНЮ...
Восторгаясь страной великою,
Как никто в стране голодны,
Мы на поле колхозное викою
Набивали тайком штаны.
Будет лучше ли, будет хуже ли? —
Как могли, наедались впрок.
Мы животиком проутюжили
Каждый комышек, бугорок.
Может, нас в темноте не видели,
Поворачивались спиной
Сторожа, наши сельские жители,
Покалеченные войной?
Рубашонку от грязи вымою...
Каждой клеточкой пацана
Помню, помню землю родимую,
Как спасала тогда она.
***
Что сказать мне под шум листопада
И под шорох в сухом камыме?
То, что жизнъ не спасти от распада,
От разлада в усталой душе?
Что сказать?
То, что мы не ценили
Каждый день, каждым новый рассвет?
То, что вечного нет в этом мире,
Что и мира-то вечного нет?
Разве эта любовь бесполезна,
Разве эта бесплодна тоска.
От которой качается бездна,
Где планет — как в пустыне песка?..
***
Там все тщеты и травы роены.
Там все ручьи золотоносны,
Там бабка вешает на кросны
Льняную прячу давних лет,
Там лошадь распрягает дед,
А мама стряпает обед,
А на обед опять окрошка,
Там на окошке наша кошка,
Там я сидел бы у окошка...
Да вот пока мне места нет.
« * *
Что мне хитрые думские трюки,
Что отравный парламентский чад!
У меня вон разбойные внуки
"Деда! деда! — призывно кричат, -
Кто кого победит без обману?" -
И уронят меня на траву.
И устану от них, и устану,
И почувствую я, что живу...
***
Лихорадочно ищут броды
Сквозь беспутные времена
Вырождающиеся народы,
Возрождающиеся племена.
Звезд стремительных льется пламя,
В небе тоже все до поры.
Погибают миры над нами,
Чтоб иные взошли миры.
***
Такая тихая деревня,
Такая темная изба.
Такие древние деревья
И на окне избы резьба.
Такая ветхая старушка
Глядит из крайнего окна.
И на погосте, где церквушка,
Растет такая тишина...
***
И сразу станет горько,
И жалко вместе всех,
Подумаю лишь только
Об этих и о тех.
О тех, кто не по праву
Присвоили в свой час
Чужое "на халяву"
Уже в который раз.
Об этих, кто бесстыдно
Раздеты догола.
Слепому даже видно
Золу такого зла.
Вновь вызревает мести
Вулкан в родном дому.
Вот если б сели вместе,
Решили, что к чему.
И чтоб без всяких третьих,
Без каверз и помех
Подумали о детях
Об этих и о тех...
***
Все становится платным
и взвешенным.
Не успеть мне за временем бешеным.
И зачем? Не хочу. Мне не нравится,
Как вульгарно смеется красавица.
Как мужчина с глазами недобрыми
Крутит так вызывающе бедрами.
Очень многое в жизни изменится,
Если совесть недорого ценится.
Я скажу: это самое страшное,
Если честь —
только слово пустяшное.
Если Родина — лишь территория
Или просто субъект, категория.
Нет, с понятьем таким несогласный я.
Есть во мне этим дням неподаластное.
Слишком много во мне и домашнего.
Вы меня уж простите, вчерашнего...
***
Мне ничего не жаль. Каких прорух
Не избежал я в романтичном дыме!
Но стариков жалею и старух
В глухих избушках с крышами худыми.
О этот сон забытых деревень!
Такой покой, что душу рвет на части,
И даже месяц в кепке набекрень
Молчит о том, какие нынче власти.
Все, все молчит. Заросший огород.
Сарай и двор, такой немой на диво.
И старенькая верба у ворот
Вот-вот на землю рухнет молчаливо.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Солнышку кто ке не рад? —
Хочешь паши, хочешь сей.
Встанет весною солдат
В ржавой шинелькн своей.
Дома-то, братцы, милей.
Он не любимый ли сын?
Сколько в России полей,
Сколько лесов и долин!
Сколько пройдет городов,
Сколько пройдет деревень.
И под родительский кров
Встанет прозрачная тень.
"Слава Те..." Вот он пришел,
Вот прислонился к стене.
Невыносимо тяжел
Был его путь на войне.
Только от прежней поры
Здесь не осталось следа.
Там, где стояли дворы,
Глухо шумит лебеда.
Запах душистых берез,
Свежесть полночной росы...
Не утирай ему слез,
Господи, в эти часы.
Знаешь Ты все о бойце.
Был он рисков и горяч.
Сядь на незримом крыльце,
С ним, если можешь, поплачь.
(обратно)“СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ОЧЕНЬ РАЗНООБРАЗНА...” С главным редактором журнала “Новый мир” Андреем Василевским беседует Регина Бондаренко
— Андрей Витальевич, вам исполняется пятьдесят. Эта круглая дата для вас что-нибудь значит, или вы равнодушны к круглым датам?
— Я вообще-то равнодушен к ритуальной, так сказать, стороне жизни, но эта дата вызывает у меня некоторую нервозность, поскольку, с одной стороны, я внутренне абсолютно не чувствую своих пятидесяти лет, а в то же время это несомненная реальность, с которой, видимо, надо как-то примириться...
— И как вы пытаетесь с этим примириться? Подводите итоги? Или строите новые планы?
— Скорее планы, чем итоги. У каждого человека есть время, которое он психологически считает своим: для кого-то это шестидесятые годы, для кого-то — семидесятые, восьмидесятые, девяностые. А у меня такое ощущение, что мое время еще не наступило, оно впереди.
— Вы возглавляете "Новый мир" уже семь лет...
— ...А работаю в "Новом мире" почти тридцать лет. Я пришел в журнал в 1976 году, и вот три десятилетия уже хожу по одному и тому же маршруту в один и тот же дом, только кабинеты меняются.
— Это значит, к тому моменту, как вы сели в кресло главного редактора, у вас уже было ясное представление, чего вы хотите от журнала и для журнала?
— Сегодня руководитель толстого литературного журнала — это не кресло, в котором можно "сидеть" и перелистывать рукописи, не должность, которую можно "занимать" за какие-либо прошлые заслуги, а ежедневная, будничная, зачастую не творческая работа, связанная в значительной степени и с вопросами финансовыми, юридическими, организационными; ведь само существование таких журналов в настоящее время никем и ничем не гарантировано. А возвращаясь к 1998 году… важно было не то, чего я хотел и хочу, а то, что я к тому моменту абсолютно ясно понимал, как эта "машина" работает, видел изнутри, как функционирует, во-первых, вообще толстый литературный журнал, а во-вторых, именно этот журнал. Я думаю, это сыграло роль в избрании меня главным редактором.
— Вы считаете себя продолжателем традиций или у вас было намерение привнести в журнал что-то новое?
— Я не революционер, и революционных намерений у меня изначально никаких не было. Внутренний алгоритм "Нового мира" сложился очень давно, во второй половине двадцатых годов, почти одновременно с рождением журнала. Один из первых главных редакторов Вячеслав Полонский, руководивший журналом с 1926 по 1931 год, собственно, и сделал "Новый мир" "Новым миром", заложив в него очень прочную "матрицу" осевого, как сказали бы сейчас, мейнстримного журнала, отсекающего какие-то крайности и справа и слева. Об этом можно много говорить, но главное — "матрица" эта работала на протяжении всей восьмидесятилетней истории журнала, разумеется, с поправками на обстоятельства эпохи. Поэтому с "Новым миром" невозможно совершить революцию. За эти 80 лет сложилась настолько мощная, настолько сильная традиция, что её невозможно сломать, не уничтожив журнал. (Воистину, "Нео, ты завяз в Матрице…") Другие журналы, с какой-то другой историей, с другим внутренним устройством могут себе позволить в какой-то момент сказать: "Мы не будем такими, как были всегда, как были раньше; мы изобретём что-то совсем новое, начнем с нуля". С каким-то иным журналом это действительно возможно, но не с "Новым миром". Поэтому в "Новом мире" все изменения должны носить эволюционный характер и происходить со скоростью самой жизни.
— Сейчас принято говорить о кризисе толстых журналов. Что вы можете сказать по этому вопросу?
— О смерти толстых журналов начали говорить с начала девяностых годов в связи с тем, что появилось множество новых, оперативных книжных издательств. Общая мысль наших оппонентов была такова: сейчас издательства возьмут на себя функции толстых журналов, и журналы станут не нужны. Но оказалось, что это не так. Во-первых, мы видим, что ни один из толстых журналов Москвы и Петербурга не закрылся; во-вторых, выяснилось, что конкуренция с издательствами происходит исключительно по линии большой прозы: романа и большой повести, которые издательствами действительно востребованы. Практически все остальные жанры находят свое прибежище именно в толстых журналах. Не будет же рассказчик писать в стол книгу рассказов, ждать, когда она у него соберется и только потом приносить в какое-то издательство? Он написал рассказ. Куда ему идти? Разумеется, в толстый журнал. Поэт тоже не будет писать в стол новую книгу стихов и только потом выходить с ней на публику. Ему нужно, абсолютно необходимо, если у него сложилась подборка или цикл, донести это до читателя. Куда идти? Опять же, в толстые журналы. Пространная, не газетная эссеистика, многие литературно-критические жанры, большие рецензии, тяготеющие к статье, с подробным аналитическим разбором новых книг — все это может сегодня существовать только в толстом журнале. Поэтому если уйдут толстые журналы, вместе с ними уйдут целые жанры современной словесности.
— В "Новом мире" всегда была сильная публицистика. С вашей точки зрения публицистика — это еще литература или скорее уже политика?
— Смотря какая публицистика. Есть авторы, чьи тексты читаются как литература, а есть публицисты, чьи тексты могут быть актуальны по содержанию, но не имеют самостоятельного литературного значения. Мы помним, что во второй половине восьмидесятых годов толстые журналы с их астрономическими тиражами играли абсолютно не свойственную им роль средств массовой информации, с ударением на слове "массовой". Их читали как газеты, из них черпали новую информацию об истории и современности. В них печатались острые статьи, политические декларации, проекты, обсуждались вечные вопросы "Что делать?" и "Кто виноват?" Сегодня совершенно другая ситуация, и толстые литературные журналы не в состоянии, да и не должны конкурировать с телевидением, радио и ежедневными газетами — по охвату аудитории, по оперативности. Функция политического руководства читательскими массами для литературных журналов неактуальна, и это к лучшему.
— Вы сказали, что "Новый мир" — это журнал, который стоит в центре. Но, как мы знаем, картина современной русской литературы настолько пестрая, настолько разнородная, что порой правая рука не то что не имеет представления о том, что делает левая, она порой отказывает левой в рукопожатии....
— Я могу продолжить вашу реплику: это не противоречит осевому положению "Нового мира", потому что, насколько бы разнообразной ни была новая словесность, любое ее явление можно тем или иным образом позиционировать по отношению вот к этой условной срединной линии, на которой находится "Новый мир". Да и новым авторам, новым изданиям нужна какая-то сетка координат для самоидентификации — хотя бы и критической по отношению к "толстожурнальной" литературе.
— Значит ли это, что, несмотря на все расхождения и разногласия, на то, что даже писательских союзов сейчас два и отношения между ними порой складываются негладко, вы все-таки воспринимаете русскую литературу как единое целое, что бы об этом ни говорили с той или с другой стороны? Или это все-таки две разбегающиеся галактики, как считают многие?
— Ну, во-первых, литературных полей не два, а гораздо больше. На самом деле внутри нашей литературы присутствует много литератур. Некоторые из них существуют почти автономно, как, скажем, современная российская фантастика, которая сама на себя замкнулась и у которой есть свои читатели, свои писатели, свои кумиры, свои литературные премии, свои конгрессы — такой вот интересный в своем роде автономный мир. Есть какие-то сектора, которые могут себя друг другу противопоставлять, но тем не менее существуют в соприкосновении и взаимодействии. Современная литература очень разнообразна, и надо сказать, она мне вся интересна.
— А каковы у вас критерии отбора авторов? Возможна ли такая ситуация, когда, прочитав яркий текст, написанный талантливым автором, вы, тем не менее, отдаете себе отчет, что в "Новом мире" этот текст никогда не напечатаете?
— Это бывает, во-первых, по техническим причинам, например, когда издательство параллельно с нами берёт роман и хочет напечатать его быстро, к какому-нибудь мероприятию, предположим, книжной ярмарке, — а у нас другие планы. Мы не можем сломать весь свой график, всю свою сетку и вне очереди напечатать этот роман. Как бы нам ни хотелось его напечатать, приходится отказываться. Возможен и другой вариант: даже с нашими постоянными авторами бывают случаи, когда автор приносит нам любопытный текст, но мы видим, что в наш контекст он не ложится, что лучше было бы напечатать его в каком-нибудь другом журнале. Вот, к примеру, Эдуард Зибницкий, серьёзный публицист, историк, пишущий о Церкви. Одну его статью мы напечатали, он принес следующую, но мы решили, что будет лучше, если она появится не у нас. Он напечатал эту статью в десятом номере журнала "Знамя", и она прекрасно смотрится в общем контексте "Знамени".
— И все-таки, каким образом складывается круг авторов "Нового мира"?
— Круг наших авторов не является результатом рационального выбора, подгонки под какие бы то ни было умозрительные критерии. Большая часть нашего авторского актива сложилась, так сказать, исторически. Это люди, которые и раньше сотрудничали с "Новым миром", наши постоянные авторы, со многими из которых, именно в силу многолетнего общения, нас связывают уже и дружеские, личные отношения. Все, что пишут, они в первую очередь приносят нам. Не всегда это печатается именно у нас, но, в любом случае, свои новые произведения они стараются первыми показать нам. Постепенно круг наших авторов расширяется, но расширяется он медленно, эволюционно, не радикально, и это правильно…
— Какие вы можете назвать известные имена, которые впервые прозвучали у вас в журнале?
— Если посмотреть на последние лет десять, то каждый год приносит новое имя в том или ином жанре, которое потом обретает свое автономное существование. Кто-то продолжает сотрудничать с нами, кто-то уходит в другие журналы. Прозаики Олег Павлов, Сергей Шаргунов, поэт Максим Амелин… Перечисление можно продолжить. Из последних, свежих имен назову критика Валерию Пустовую. Я думаю, что ввести в литературный процесс за год одно новое имя — это уже очень много.
— Вы назвали известные имена, а теперь я попрошу вас выдать своего рода аванс, назвать несколько имён, пока ешё не известных, но, с вашей точки зрения, имеющих перспективы.
— Я назову два имени. Во-первых, в сентябрьском номере "Нового мира" состоялся дебют питерского автора Евгении Мальчуженко. Она работает в консалтинговой фирме, со своим литературным творчеством на публику, кажется, и не выходила… Наш автор, поэт Марина Бородицкая, отвечая на анкету "Литературной России", упомянула о существовании этого неизвестного нам автора, мы заинтересовались, связались... И напечатали этот роман "Крупа и Фантик", роман очень эпатажный, странный, можно сказать стёбный, представляющий из себя абсолютно мистифицированную от первого до последнего слова переписку Надежды Крупской и Фанни Каплан. Эта публикация уже вызвала совершенно яростную критику с самых разных сторон, будь то Андрей Немзер в газете "Время новостей" или Сергей Казначеев в "Литературной газете". Критики попросту недоумевают, как вообще нам пришло в голову напечатать это в "Новом мире". В то же время есть и положительные читательские отзывы. В Евгении Мальчуженко, я думаю, есть определенный потенциал. Я уверен, что роман "Крупа и Фантик" будет издан отдельной книжкой и вполне возможно откроет новое имя в литературе. Другая любопытная публикация у нас предполагается в январском номере. Автора зовут Наталья Ключарева, она у нас выступает впервые, ее имя в общем не очень известно. Роман называется "Россия: общий вагон". Роман реалистический, его центральный персонаж Никита — современный молодой человек, который психологически себя осознает и ощущает революционером в этом мире. Роман Ключаревой — это очень добротная, интересная, хорошая проза о современности.
— Андрей Витальевич, вы ведёте библиографический раздел в "Новом мире", в вашем Живом Журнале — онлайновом дневнике — тоже значительное место занимает библиография, хроника текущих литературных событий. Нет ли у вас желания сделать нечто вроде путеводителя, атласа современной русской литературы?
— Ну, вы знаете, этим занимается главный редактор другого литературного журнала Сергей Чупринин, и я думаю, что на этом поле неплодотворно с ним конкурировать. Надо заниматься чем-то другим.
— Сейчас большинство журналов существует как в бумажной, так и в электронной, онлайновой версии. Какие при этом возникают новые возможности, и какие новые сложности, подводные камни?
— Плюсом бесплатных электронных версий является существенное расширение аудитории людей, читающих журнал. К сожалению, эти люди не платят денег за чтение. Сложность не только в том, что трудно технически взять с них деньги, хотя такие способы существуют: можно закрыть наши электронные ресурсы для бесплатного чтения, устроить туда платный вход. Главная проблема в том, что эти люди в большинстве своем не будут платить деньги за чтение "Нового мира", они просто переключатся на какой-то другой аналогичный бесплатный литературный ресурс, и мы, не приобретя покупателей, потеряем читателей. А ведь само существование постоянной читательской среды, людей, которые привыкли регулярно читать "Новый мир", очень важно сегодня для толстого журнала даже независимо от получаемого дохода или убытков.
— В связи с публикацией разнообразных текстов в интернете приобретает особую остроту вопрос об интеллектуальной собственности, о защите авторских прав. Дело уже не ограничивается горячей полемикой, а доходит до судебных прецедентов, каким явилась тяжба между "Кириллом и Мефодием" и "Библиотекой Мошкова"...
— Я в курсе того, что эта тяжба существовала, но в её подробности не вникал. Что касается наших электронных ресурсов, здесь все очень просто. Заключая с автором договор, мы не покупаем авторских прав. Мы покупаем право на первую журнальную публикацию, и в стандартном бланке договора есть пункт, где оговаривается, что в понятие первой журнальной публикации входит выставление данного литературного текста в электронной версии "Нового мира". Таким образом, публикация текста в интернете предполагается автоматически, здесь никакого юридического конфликта не может быть. Бывает, что некий автор готов напечатать произведение в бумажном "Новом мире", но по каким-то своим причинам заранее отказывается выставлять этот текст в "Новом мире" электронном… Это тоже возможно, но на моей памяти нашелся только один такой писатель.
— И разумеется, в этом случае воля автора — закон.
— Безусловно. Надо сказать, что и при редактировании произведений мы никогда не забываем, что хозяином текста является автор… Любые изменения при создании так называемых журнальных вариантов романа или при редактировании любого текста возможны только по согласованию с автором. За ним остается последнее слово. Бывают случаи, когда автор не соглашается на какую-то правку, считает ее неправильной или излишней, и, если мы очень заинтересованы в этой публикации, нам остается только подчиниться его воле, а если не очень заинтересованы, что ж — можно и вернуть автору рукопись.
— Вы изложили свою издательскую позицию. А как автору, что вам ближе и важнее: доступность вашего текста для широкого круга читателей или охрана своего права на этот текст, в том числе права на материальное вознаграждение?
— Здесь нет противоречия. Конечно, базовым понятием является безусловное право автора на собственное произведение, если только он не продал его на все оставшиеся времена какому-нибудь агентству или издательству. Автор — хозяин своего текста, и он на всех этапах имеет право им распоряжаться. Другое дело, что именно как хозяин своего текста он может себе позволить бескорыстные шаги, предоставляя, скажем, возможность бесплатно читать этот текст в интернете. Но в любом случае этот шаг должен диктоваться решением самого автора.
— Еще одна сторона вашей жизни — фотография. Судя по тому, что даже онлайновый дневник юзера avvas носит имя "Фотограф-любитель", это не просто хобби, а нечто большее?
— На самом деле я активно занимаюсь фотографией года полтора.
— Неужели? Даже не верится!
— Я не очень увлекался фотографией, пока не появились цифровые камеры. Почему-то обычные оптические фотоаппараты не вызывали во мне такого теплого чувства. А купив года полтора назад цифровую камеру, я вдруг заболел фотографированием. У меня два основных направления, одинаково мне дорогих. Во-первых, это создание галереи современных писателей. Я посещаю очень много всяких литературных мероприятий, и всё время ношу с собой фотоаппарат, он и сейчас у меня в портфеле. А второе направление — это природа, цветы, пейзажи, разные интересные объекты вроде ржавого железа.
— А где-нибудь помимо вашего Живого Журнала эти фотографии выставлялись? Есть ли планы и намерения?
— В интернете у меня есть отдельный фотоальбом () , где все структурировано, разложено по папочкам. Хотелось бы сделать выставку писательских портретов. Я думаю, когда-нибудь это будет, просто надо этим вплотную заняться. Бывают случаи, когда газеты просят у меня фотографии с какого-нибудь мероприятия: допустим, печатают репортаж, срочно нужна фотография, а фотограф от этой газеты не пришёл. Было несколько случаев, когда мои фотографии использовались таким образом.
— Еще один личный вопрос: каково это — жить в писательской семье? Пишете вы, пишет ваша жена, и даже сын — студент Литинститута. Это в первую очередь ощущение единомышленников, поддерживающих друг друга, или бывает творческая зависть, конкуренция?
— Каждому творческому человеку нужно уединение, каждому порой хочется покоя, сосредоточенности для собственной работы, и не всегда удается совместить интересы. Но, с другой стороны, в такой жизни есть плюс, потому что всегда рядом есть человек, с которым можно обменяться впечатлениями, мыслями.
— Сейчас, в преддверии вашего юбилея, у вас берут разные интервью. Есть ли среди задаваемых вам вопросов неожиданные, заставляющие задуматься, возможно, что-то переосмыслить?
— Я теперь уже заранее знаю все вопросы, которые мне зададут. Абсолютно все, без исключения. И у меня в голове, признаюсь, уже лежат готовые ответы на все вопросы, которые мне могут задать. Я не помню за последние годы ни одного неожиданного вопроса, который застал бы меня врасплох.
— И наконец традиционный вопрос: ваши пожелания газете "День литературы" — ее сотрудникам, авторам, ее читателям.
— Я, как постоянный читатель самой разнообразной периодики, бумажной и электронной, непременно читаю и "День Литературы". Могу сказать, что при всех "но", при всех оговорках, возможных в отношении этой газеты, я думаю, что она является необходимым элементом того спектра литературной периодики, который сегодня сложился у нас, в России. И если бы вдруг по каким-то причинам, не дай Бог, "День литературы" исчез, то для меня образовалась бы какая-то лакуна, пустота, мне бы чего-то в этом спектре не хватало.
(обратно)Харт Крейн МАРТИН ИДЕН АМЕРИКАНСКОГО МОДЕРНИЗМА
В начале 70-х годов прошлого века в одной из антологий американской поэзии мне попалось стихотворение Харта Крейна (позже узнал, что это вступление к его поэме "Мост"), заворожившее меня причудливой цепью ассоциаций и ажурной гирляндой рифм. Перевод мой кочевал в "самиздате"; помню, что он сильно нравился Парщикову, с которым посещали литинститутский семинар Ал. Михайлова; доходили смутные слухи, что он понравился Бродскому; в конце концов, перевод с неизбежными опечатками был опубликован уже в конце 70-х в журнале "Памир", где находила приют тогдашняя изгойская зарубежная поэзия.
Многие годы собирался увеличить свой корпус переводов из Крейна, сначала были проблемы с элементарным поиском его книг, но вот, пожив в Лондоне пару недель два года тому назад, приобрел и несколько книг загадочного американца, и свежевышедшую его биографию. Сейчас остаётся вопрос времени и сил.
Крейн родился в июле 1899 года в штате Огайо в семье фабриканта. Отец оставил семью. У юноши в свою очередь тоже семейная жизнь не сложилась.
Первый стихотворный сборник "Белые здания" вышел в 1926 году, знаменитая поэма "Мост", посвящённая Бруклинскому мосту как самому яркому символу тогдашней американской цивилизации (наподобие Эйфелевой башни в Париже), была опубликована в 1930 году. Призрачные видения и неотчётливые аллегории и сегодня будоражат воображение. Надо бы, наверное, сравнить строки поэмы со стихами Маяковского, посвящёнными этому же мосту, только вот тоже руки не доходят.
Не дожив до возраста Христа, в конце апреля 1932 года Харт Крейн, словно Мартин Иден из одноимённого романа Джека Лондона, покончил жизнь самоубийством в Карибском море. Вскоре был канонизирован отечественной критикой в качестве одного из важнейших мэтров модернистской поэзии. Предлагаю вниманию читателей свою давнюю работу и два совершенно свежих перевода.
Виктор ШИРОКОВ
БРУКЛИНСКОМУ МОСТУ
Как много рассветов помнишь, как много ночей холодных,
Крылья бессонных чаек роняют перьями шум,
Над скованной сизой гладью зарёванных вод Свободы
Металлическим мозгом захлёбываешься, тугодум.
Взмываешь ажурным телом, глазу недосягаем,
Как призрак, как наважденье свободной от плоти души,
Как букв перегруппировавшихся неожиданное слиянье;
Сверхскоростным лифтом из будней нас вырвать спеши…
Я думаю о киношках, о панорамных трюках
С толпами, искривлёнными простынями зеркал,
В которых, себя не видя, торопятся в пропасть рухнуть,
Предсказывая соседям на тех же экранах провал.
И Ты — через гавань — вытянувший серебряные ходули,
Как будто солнце роняло слитки твоих шагов,
Энергию не растративший в тяжеловесном гуле,
Свобода — твоё призвание, свобода — твоя любовь!
Подземка к тебе выносится, гадая — чердак или клетка,
Сумасшедшие скорости заучили парапеты твои,
Здесь металл бессмертию молится, тлеющей сигареткой
Шутка вываливается из губ скоростных шутих.
Стены Рассвета спрессованы из полдня и скрещенных балок,
Зубы последние скалит небесный ацетилен;
Всё утро летящую тучу ворочал подъёмный кран, балуясь…
В твоих кабелях Атлантический неожиданно присмирел.
И неясно, как это иудейское небо
Тебя наградило… В рыцари, посвятив не с руки,
Неизвестным временем орудуя, как неводом:
Отмена смертного приговора превратилась в спектакль для реки.
О алтарь и арфа, взбесившаяся электросварка,
(Как можно было пытаться выровнять струны твои!).
Ужаснейший миг экстаза, измученная весталка
Не сдерживает восторга, и молитва парии —
Снова трагическим светом твои отливают скорости,
Как дыхание звёзд, неразделимо сожительство идиом.
Твой путь — конденсат вечности: скрижали новой истории,
И мы на твоих плечах совершаем ночной подъём.
Под тенью железных свай я длю своё ожидание;
Всегда твоей чистой тенью была одна темнота.
Петарды ночного Города уже прекратили мерцание,
Лишь ледяные годы трутся об опоры моста.
О Бессонница, как река, перепрыгнувшая
В море — под тобой — землю изрыв,
К нам, невидным, смятённым, смущенье ещё не отринувшим,
Чтоб лекалом корабля дать взаймы Богу миф.
ЛЕГЕНДА
Такая же безмолвная, как зеркало, верное
Реальностям, погружённым в молчание…
Я не готов ни к раскаянию,
Ни к равновеликим сожалениям. Для мотылька,
Изогнутого, не более чем тихо
Умоляющее пламя. И судороги
Белых падающих хлопьев,
Целующихся —
Такова цена всех дарений.
Для узнавания —
Этого рассекания и этого горения,
Но только одним тем, кто
Израсходует себя вновь.
Дважды и дважды
(Снова дымящийся сувенир,
Кровоточащий фантом!) и еще раз вновь.
Пока блестящая логика не победит
Неслышимо, как зеркало,
Достоверно.
Тогда, капля за едкой каплей, идеальный крик
Свяжет некую постоянную гармонию —
Безжалостный прыжок для всех тех, кто шагает
Легендой юности в зенит.
ЧЕРНЫЙ БУБЕН
Соблазны чернокожего в подвале —
Знак приговора и угода злу.
Роятся комары в тени бутылки,
И таракан штурмует щель в полу.
Эзоп, устав от дум, освоил небо,
Зрил зайца с черепахою разлад;
В сени животных спит его могила,
И заклинанья в воздухе кипят.
Тот чернокожий одинок в подвале,
Его мечтанья королевски лгут
Меж дирижёрской палочкой и бубном,
И в Африке, где мухи вздымут труп.
(обратно)Александр Тутов УЧУ ЛЕТАТЬ
Я знал, что она меня не видит. Да и кому нужно забираться в подобную глухомань? Кроме, конечно, меня. Но она-то этого не знала.
Забавно было смотреть, как она, подпрыгнув, пытается зависнуть в воздухе. Получалось, но ненадолго, не больше, чем на пять секунд. Но и это кое-что. Иногда она пыталась сделать несколько шагов, но получалось не более трех, да и то на высоте сантиметров максимум десять-пятнадцать. Но она старалась. Я представляю, что испытала она, впервые заметив, что на какие-то секунды может преодолеть земное притяжение. И как не верила сама себе. Сам когда-то через такое прошел. Жаль, что от большинства людей приходится это скрывать. Не поймут, а то и не простят — того, что ты можешь, а они нет. Если бы таких, как я, было большинство! Я верил, что не один такой. Искал, но мне не везло. И я затосковал. Летать одному интересно лишь первое время. Жаль, рано погиб мой учитель!
И уже почти перестав надеяться, вдруг увидел ее. Легкая, стремительная, она садилась в "пригородку". И я, поддавшись интуиции, последовал за ней. Сердце стучало: "Она! Она! Она!"
Сердце не ошиблось. Теперь я боялся выйти — нельзя испугать человека: испуганный никогда не сможет летать. Так говорил мне учитель, когда я был еще совсем маленьким.
Собравшись, я приподнялся над землей примерно на метр и пошел по направлению к ней. Девушка, увидев меня, вздрогнула, побледнела. Но я уже подошел к ней, улыбнулся и произнес:
— Учу летать!
И протянул руку. Она какое-то время недоверчиво смотрела на меня, потом улыбнулась в ответ. Ее ладонь доверчиво легла на мою.
(обратно)Александр Яковлев РАССКАЗЫ
ЧЕРЕПОВЕЦ Мне было девятнадцать лет. Мне было девятнадцать! Тот, кто жил по-настоящему, знает, что это такое. Мне так все было любопытно. Странно, удивительно и интересно. И все происходящее воспринималось, как приглашение к открытию тайны.
Поезд привез меня в Череповец. Он мог привезти меня еще куда-нибудь. Ну, куда хотите... Но он почему-то привез меня в Череповец. Это там, где Вологда-гда.
Я первый раз была в Череповце. Мне ужасно нравилось слово "была". Оно придавало моей жизни весомость прошлого.
Ах, какой день был в Череповце. Такого в Москве не дождешься. Очень жаль, что в Москве такого не дождешься. Правда, жаль. Такого снега и такого солнца нет.
Снег, замешанный на солнце, покрывал Череповец пышным безе с хрустящей корочкой, над которой искусно размещались шоколадно-добротные древние дома и хрупкие бисквитные храмы...
— Девушка, можно вас спросить?
Я обернулась. Зная, что увижу в глазах незнакомца. Увижу разочарование. Увы, с недавних пор мне стало ясно, что красотой мне пока не блистать. Ах, не блистать...
Но и этот солдатик, лопоухий, стриженый, был такой простой-простой и незаметный, словно занесенный куст при дороге. Занесенный, но не засыпанный, не спрятанный в сугробе.
И никакого разочарования в его глазах я не увидела. Наоборот, облегчение. Оттого, что я пока не красавица. А такая же — простая и незаметная. И мы оба знали, как пользоваться в жизни этой незаметностью, пусть у нас были и другие тайны. Но эта тайна нас объединяла.
— Как тебя зовут-то? — спросил он так, словно мы давным-давно познакомились, но долго не виделись, и он успел позабыть мое имя.
— Света, — сказала я. — А тебя — Петя?
— Нет, это папаню так звали. А меня...
— А я тебя буду звать Петрович, — почему-то поспешила перебить его я, хватаясь за мою почти угадку, как за счастливую находку, как за серебряный полтинник, вмороженный в лед под ногами.
— Тут, понимаешь, Светк, дело такое. Маманя ко мне приехала, — деловито пояснил Петрович. И был он весь основательный и рассудительный, как председатель крепкого колхоза. — И уж больно ей охота увидеть, что девчонка у меня знакомая есть. Городская, — почему-то вполголоса добавил он, оглянулся и покраснел. Всем лицом, ушами и шеей.
И я, конечно, же поняла, что никакой знакомой девчонки у него нет. Городской. И я тоже покраснела. И он тоже понял, что у меня нет знакомого парня.
— Пошли, — выпалила я и очень решительно взяла его под руку, ощущая всю негнущуюся колючую грубость его шинели.
— Да никуда идти и не надо, — сказал он. — Вот она, моя маманя.
Я обернулась испуганно. Метрах в пяти от нас, на заснеженной скамеечке сидела старушка. Вернее, она сидела на спинке скамеечки, примостившись, как птичка, так много снегу было в этом Череповце. И из этого снега глядели на меня, на нас блекло-голубые глаза, глядели с любовью, заволакиваясь слезами нежности, отчего весь мир терял резкость очертаний, погружаясь в ласку и милосердие.
Но вот старушка сморгнула, меняя декорации. И на меня строго и оценивающе посмотрела Мать. Она смотрела на меня как на Невесту, и я ощущала стыдливость (потупленный взор) и слышала легкий шелест фаты на плечах и колокольный звон и скрипуче-протяженое из полумрака, озаренного густым желтым свечным огнем: "Господи, помилуй мя!" Особенно трогало меня это "мя". Я чуть не расплакалась...
Но следующий взор ее уколол меня и испугал. На меня смотрела Женщина. Смотрела с ревностью... Я застыла, как при встрече с большой незнакомой собакой. Меня обнюхивали. Я затаила дыхание. Хоть бы кто-нибудь пришел на помощь, хоть бы кто-нибудь...
Петрович кашлянул. Сухо и слабо разнесся звук этот над хрустким снегом в далеком Череповце, отзываясь эхом в той деревне, где ждали старушку соседки ("И так я вам скажу, деушки, совсем мой-то мужчина стал, да видный! От девок отбою нет!" — "Ох, испортят его городские-то шалавы!"). И за что они меня так невзлюбили?
— Ну, мамань, пойдем мы, — затоптался на месте Петрович.
— На танцы! — вдруг озорно сказала старушка. — Ну, ступайте, ступайте, дело-то молодое...
И она пригорюнилась, вспоминая свое старое молодое дело.
Я торопливо ткнула рукой куда-то в колючее шинельное, и мы пошли. Чуть не побежали. Я едва поспевала за Петровичем, за его молодым делом-телом.
А когда мы забежали за какой-то домик с пронзительно-зелеными наличниками, Петрович резко остановился и чуть ли не оттолкнул меня. Мне показалось, что я противна ему. И всю жизнь была противна. Омерзительна и ненавистна.
— Ну, все! — почему-то злобно выдохнул он с облачком пара, улетевшего вверх, к голубым-голубым небесам.
— Все? — спросила я, прислушиваясь к собственному голосу, и ничего не слыша.
Петрович стремительно развернулся и побежал, путаясь в полах шинели.
Бежал солдатик с поля боя. Оставив врага смертельно раненым и немилосердно недобитым. Уродливые армейские башмаки копытами грубого животного впивались в снег. Снег жалобно вскрикивал. Так мучителен был этот звук. И так пронзительно-зелены были наличники дома, у которого меня бросили. Бросили впервые в жизни.
Будь я постарше, а это мне еще только предстояло, я бы подумала и сообразила, что этот несчастный солдат Петрович просто голубой или... или вообще никакой. И может быть, сейчас он бежал на свиданье с таким же несчастным и лопоухим.
Пока же я со странным чувством оглядывала себя со стороны и ощупывала душу свою. Меня... бросили? И... и что же?
И я побрела по улицам, приходя в себя и начиная с прежней страстью впитывать в себя, присваивать по-воровски и этот снег, и это солнце, и домик Северянина. Черт возьми! Мне всего лишь девятнадцать лет, а меня уже бросили! О, каким опытом я уже обладала! И еще сколько всякого разного предстояло мне испытать. Ведь мне обязательно нужно было стать красивой и знаменитой, любить и расставаться. И при этом — в разных городах и странах! Сколько же на это понадобится сил. Где их взять?
А пока был Череповец. Почему-то именно он. Неважно. И было мне пока девятнадцать.
Пока.
ШКОЛЬНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ — И она грит, запомни, грит, день этот памятный. И сама, не вру, ей Богу, купила мне бутылку эту.
Cерега с хлопком сдернул пластиковую пробку и приложился к горлышку. По тамбуру электрички поплыл запах дешевого портвейна. Вставной челюстью лязгнула неисправная стальная дверь.
Долговязый малый с ликом раскаявшегося душегуба сначала не верил. А когда поверил, осудил, да тяжко так:
— Как же можно мать-то родную? Иль совсем мозги пропил?
— Во-во, — поддакнул Серега. — И она мне так же грит: запомни, грит, день этот памятный. И сама бутылку-то... Будешь ли?
— Стало быть, в богадельню старушку определяешь? — весело сказал третий попутчик, крепенький старичок с корзиной, постоянно вытиравший лысину платком. — Ай молодца! Во жисть пошла!
— Так что ж, — разводил руками Серега. — Какой из меня матушке подмога-утешение на старости лет? Вот и порешили мы с ней. По согласию сторон взаимно... И отчего это бывает, что так весело бывает?
Серега даже что-то такое выпляснул. Лихое, как ему казалось. На самом же деле его тщедушное тельце в обтерханном пиджачке лишь жалко передернулось.
— Дела, — сплюнул долговязый малый и затоптал окурок. — Да ты поди врешь, — на всякий случай еще раз усомнился он.
— А ты глянь, глянь на матушку на мою, — не обиделся Серега. — Вон в платочке сидит, вон в синеньком.
Малый еще больше посуровел.
— Стало быть, мать на людей чужих. А сам?
— А сам квартиру пропьеть! — радостно подхватил старичок. — Ай молодца!
— А и пропью, — куражливо повел плечами Серега. — Чем кому доставаться, лучше пропить. Все одно обманут. Знаем!
Тут он вдруг пригорюнился.
— И отчего это бывает, что вдруг грустно так бывает?
Подумав, продолжил:
— На работу устроюсь, вот чего, — нерешительно проговорил он. — А там и заберу матушку. Выпей со мной, дедок, а?
В окна электрички били лиловые и жирные, как черви, струи дождя.
— Отпил уж я свое, милок. Э-эх, да так ли отпил! — прочувствованно крякнул старичок. — Да только от таких вот напитков — одна срамота в организме. Чистое дело — срамота, — смачно повторил он.
Серега опять приложился к бутылке. Веселей стало, да только ненадолго. Потому что пошли контролеры и стали требовать билеты. А билета у Сереги не было, и он пытался объяснить, что билет у матушки, а у самой матушки билета нет, потому что она пенсионерка, вон в платочке, вон в синеньком. А контролеры сказали, что нечего тут распивать. А Серега спорил: мол, вся Россия гуляет, а ему, что, нельзя!?
— И то, — вмешался старичок, — ну какой у него может быть билет? Он мать в богадельню везет. Какой уж тут билет? Не может у него быть билета.
А день памятный продолжался. Только уже на остановке автобусной. И пока сидели там в ожидании, под грохот ливня по железной крыше, Серега жалобно так попросил:
— Пивка бы, ма...
— Сейчас, дитятко, сейчас родненький.
Да так под дождем и сходила к палатке, принесла пару бутылочек. Жалко Сереге ее было, промокла вся. Но в автобусе ему ехалось от пива радостно.
Затем долго пришлось брести вдоль какого-то длинного бетонного забора. Забор все не кончался, за шиворот противно текло, а матушка все приговаривала:
— Уж потерпи, сыночка, потерпи. Скоро уже, скоро.
И Серега плелся, машинально переставляя ноги и тупо размышлял: отчего это бывает, что приходится терпеть? Всю жизнь терпеть?
В проходной плюхнулись на скамеечку, отдышались. Появился мужчина в белом халате, доктор должно быть, решил Серега. Это хорошо, уход будет за матушкой. Развернула старая тряпочку, подала документы-справочки.
— Ну и ладно, — сказал доктор. — Ничего. Все уладится. Прощайтесь, да пойдем.
Мать встала, перекрестила Серегу и сухими губами поцеловала в щеку. Серега прослезился.
— Запомню, — вымолвил отяжелевшим языком, — запомню день этот памятный.
И тут взяли Серегу под белы руки, да крепко взяли и повели, чуть не понесли. Он не сразу сообразил, а когда сообразил, не стал рваться, а только оглянулся, словно ища защиты.
— Ступай с Богом, — проговорила негромко матушка. — Ступай. Да лечись хорошенько, слушайся.
И вспомнилось вдруг Сереге, как мать провожала его в школу, в первый класс. День тогда стоял солнечный, памятный...
(обратно)Людмила Макеева ПЕЛЬМЕНИ ПО-СИБИРСКИ
— К нам бабушка приехала. Мяса всякого навезла. Завтра пельмени лепить будем. Придешь? — спрашивала меня рыженькая Катюха, подружка из далекого детства.
Еще бы не прийти! Пельмени в семье Зотовых — праздник. Ведь они, как-никак, мясо требуют, плюс муки да яиц к тесту. А где все это взять, если работающей была одна мать — стрелочница, на пятерых подрастающих ребятишек. Ну, еще, конечно, пенсию получали за погибшего от несчастного случая отца. Только денег этих всегда не хватало. Вот и приезжала, время от времени, из деревни бабушка Фрося, мать погибшего кормильца. Она привозила в чистом "крапивном" мешке огромные куски мяса, успевшие оттаять в духоте поезда, но не утратившие своей свежести. Так бывало каждой зимой, после осеннего закола скотины. На Алтае короткая осень, отблещет в сентябре, а там и морозцы нагрянут. Порубленную скотинку замораживали, а зимой, к Рождеству — пожалуйста, ешьте досыта пироги с мясом, да щи из квашеной капусты, с одуряющим запахом мозговых костей и уж, конечно, сибирские пельмени!
Вот тогда-то бабушка Фрося отбирала лучшие куски говядины и свинины, а к ним — бруски, пересыпанные крупной солью розоватого, с нежными прожилками свиного сала. Заворачивала все в чистую холстину и укладывала в мешок. Надо сирот подкормить, да не абы как, а самым лучшим продуктом.
И, когда на школьных переменах, изрядно отощавшая на летних огородных кормах зотовская ребятня доставала из своих сумок шаньги и пирожки, мы все понимали, что приехала бабушка Фрося.
Шаньги шаньгами, а пельмени, или как она их называла "пельмяне", были ее особенной гордостью.
В воскресенье, с утра, наскоро позавтракав, семья Зотовых приступала к долгожданному, крайне увлекательному занятию.
Поначалу ребятня — два парня и девчонки, усаживались на лавку и ждали бабушкиных указаний. Их мать была подручной у своей свекрови. Обе, завязав головы до самых бровей белыми платками, чтобы ни один волос не упал в тесто, сноровисто брались за дело. Пока молодая — тетя Нюра, тщательно отскребала ножом с доски фанеры старые насохшие корочки, бабушка насыпала в широкую керамическую корчагу заранее просеенную муку. На две горсти белой — одну ржаной. Это чтобы тесто было покруче, не разваливалось при варке. Да и поэкономнее так-то, чего уж скрывать!
Тщательно перемешав муку, бабушка высыпала ее горкой на фанеру и делала на верхушке холмика углубление. В него насыпалась щепоть крупной сероватой соли и выливалась пара сырых яиц. Муки было много и замес должен получиться изрядным. Вон орава-то какая! Бабушка "творила" тесто.
— Ты, девка, — строго обращалась она к невестке, — водичку-то подогрей, да с молоком смешай. Так-то послаще будет.
— А ты мужик, тебе работа потяжельше, — это уже к старшему внуку, — мясо рубить станешь. И совала ему на колени деревянное корытце, до краев наполненное чистыми крупными розоватыми ломтями говядины.
Вот ведь какое дело! Не было в те, послевоенные годы в наших семьях мясорубок, а потому фарш для пельменей, пирогов, будь то из мяса или картошки, рубили в таких вот корытцах сечками или, как их еще называли, "тяпками". Корытца делали мужички-умельцы, выдалбливая из деревянных чурбанов. Выходили они белыми, звонкими, отшлифованными, разной величины. А сечки были из нержавеющей стали, отточенными как бритва, и по виду здорово напоминающими старинные алебарды, которые держат на своих плечах валеты на игральных картах. Кому интересно, взгляните. Валеты остались, а вот сечек и в помине нет.
Тюкать по мокрому мясу — занятие, конечно, нехитрое, особой квалификации не требует. Да вот только вскорости рука начинает уставать, а сечка — казаться непомерно тяжелой.
— Рука скоро отвалится, — угрюмо сообщает пацан.
— Тоды одной левой пельмяне в рот таскать станешь, — по-сибирски окая, насмешничает бабушка.
Но корытце, все же, переходило к другому внуку, тому, что помладше. Он, радуясь, что ему досталась не самая тяжелая работа (мясо-то почти измельченное), бодро начинал тюкать. И тут же, гася его радость, в корытце падали куски белой свинины.
— Постное мясцо с жирным вполовину должно быть, — поясняла бабушка.
И, когда фарш, казалось, доходил до полной готовности, и его количество умещалось лишь в половине корыта, а рука рубщика падала плетью, туда, к мясу, добавлялось несколько ровно очищенных сырых картофелин, немного, штуки три-четыре и пара крупных, с кулак подростка, белых луковиц. Это для сочности и особого вкуса.
И тут уж дорубливала баба Фрося. Она придирчиво перемешивала фарш. Подслеповато вглядываясь, достаточно ли мелко получилось. Но перемельчить тоже было нельзя, это вам не манная каша! Мясо вкус потеряет. И ведь что еще — Боже вас упаси положить луковицы на порубку подмоченные, мелкие или, того хлеще, с гнильцой. Все, считай, пропало мясо. Испорчено и не поправить. Нет, луковицы должны быть глянцевыми, хрусткими, весело крошащимися под сечкой.
Теперь доводим фарш до "ума". Немного соли, еще меньше молотого перца, разбавим водичкой, той самой, на молоке, и ну размешивать, взбивать огромной деревянной ложкой!
В то время, пока внуки управлялись с мясом, бабушка Фрося уже колдовала над тестом. Разведя муку водой, она замешивала его на доске, подгребая ножом мутные ручейки. Она мяла, катала, переворачивала огромный образовавшийся кусок и так и этак. После его уже домешивала тетя Нюра. И когда он становился в меру мягким, упругим и не прилипал к пальцам, образуя собой пышный каравай-сырец, его накрывали чистым полотенцем и давали отлежаться. Пусть отдыхает, вон ведь как бока наминали!
— Ну, девки, ваша работа, — обращается к нам, сидящим без дела, бабушка.
— Да космы-то приберите, все-то вас щунать надо, — ворчит она, глядя на наши растрепанные головы.
Тесто разделяется на длинные жгуты и нарезается мелкими ровненькими кусочками. Они вылетают из-под ножа, очень похожие на карамельки-"подушечки".
Двоим-троим из нас вручаются деревянные скалки, остальные лепят пельмени. И это дело столь же ответственно, что и приготовление фарша. Сочни должны быть не слишком тонкими, но и не расхристанными, ровненькими, кружочек к кружочку. Чтобы к доске не прилипали, муки подсыпай, да в меру, иначе края не слепятся. А сами пельмени должны форму держать боевитую! Окаймляющий кружавчик — торчком, как шапочка на младенце, а "ушки" завязаны. Чтобы тощими не были, а чуть пузатенькими, но не чересчур, начинку должны легко вбирать, схватывая ее мягкими губками. Мелкие не годились.
— Что это за пельмянь? Маета одна, — выговаривала бабушка, если у кого-то выходила этакая мелочь.
— А ты куда таку галошу слепила? — еще пуще гневалась она, видя особо крупную "продукцию".
И вот, ряд за рядом, усыпанные мукой, бочок к бочку, выстраивали пельмени на все имеющиеся в доме доски. Часть из них будет сварена сейчас же, часть вынесут на мороз, чтобы поесть завтра, а если останется, то и послезавтра.
Пацаны, видя, что стряпня уже подходит к концу, вовсю шуровали в печи, подкидывая новые поленья. Проворно ставили на плиту, прямо на открытый огонь, здоровенный чугунный казан, наполовину заполненный водой. Когда вода закипала, баба Фрося со словами "Сусе-Христе, благослови!" осторожно стряхивала в нее мягкие пельмени. Дожидалась, когда они всплывут, подсаливала воду, осторожно перемешивала варево и для дополнительного аромата опускала еще туда лавровый листик.
И он плыл, этот аромат, заполняя собой нехитрое жилище — кухню и горенку, вырывался из щелей двери в сени — крепкий, сытный, кружащий голову.
А тут уже кукушка из часов подает свой хрипловатый голосок. В самый раз к обеду управились!
Наконец дымящиеся, истекающие соком, нежно просвечивающие нутром, пельмени выкладывались на "блюдо" — огромную, плоскую эмалированную тарелку. А рядом появлялась миска с разведенной в этом же отваре готовой горчицей. Туда добавлялся уксус и мелко порубленный чеснок. Это была пельменная приправа.
Каждый из нас цеплял своей вилкой горячий пельмень, осторожно окуная его в эту "гремучую" смесь и так же осторожно отправлял его в рот. И, едва не захлебываясь обжигающим соком, с выступившими на глаза слезами от яростной жгучести приправы, от нежной горячности пельменя, от восторга перед столь вкусной и сытной пищей, мы жевали медленно, врастяжку, всласть, упоенно...
И сейчас вспоминаю те пельмени и рот наполняется предательской слюной. "Нельзя, диабет у тебя", — подсказывает разум, а шалый дух, поднявшийся над тарелкой с горячими, дразнящими пельменями уже проник в сознание и забродил в крови. Теперь и стряпать не надо. Вон, в любом магазине — и "царские", и "боярские", и "от Дарьи", и "от Марьи", и "сибирские", между прочим, тоже есть. А есть крошечные, как мотыльки, "равиоли" какие-то!
"Не пельмянь это вовсе, а так, маета одна", — вспоминается далекое.
Несу домой пакетик — промороженных, постукивающих, как костяшки старых счетов, со сроком хранения — до морковкина заговенья. В кипяток их скорее! Ага, всплыли, поднадулись. Уже в тарелке лежат — ровненькие, технологичные, ни за что зотовским так не слепить! Только праздника нет. И вкус трухлявый какой-то.
А впрочем, мне ли огорчаться? Уж я-то знаю, как их готовить! Мясо в соседнем магазине всегда парное, мука-яйца под рукой. Раз-два и готово! Ан нет, совсем не тот коленкор. Кухонный комбайн (скажи кому про такое в те пятидесятые годы, не поверят, засмеют), он тебе и фарш мясной — в две минуты, и тесто вымесит, как надо. Но только не заменит он, ни в коей мере старое деревянное корытце с мясом, порой со щепой (и так бывало) и бабушкины узловатые руки, бережно "творящие" тесто, и кастрюля, будь хоть трижды "цепторовская", не проварит так, как закопченный чугунный казан. А мясо-то? Фермерские животные в наш "нечистый" век никогда не нагуляют того сладостного аромата от алтайских лугов, что источали бабушкины "пельмяне". И, как говорится, та же мучка, да разные ручки, чего уж греха таить. Откуда-то, из-за пелены десятилетий, смотрит баба Фрося на мои потуги и головой качает, осуждает: "Ноне бабы такие. Ничего делать толком не умеют".
(обратно)Валентина Ерофеева ЖИЗНЬ ЖУРНАЛОВ
Обзор сентябрьских номеров журналов "Новый мир", "Наш современник", "Москва", "Знамя".
"НОВЫЙ МИР" решил угостить читателя своего типично осенним фруктом — развесистою клюквою, воспитанной в аммиачно-сернистой ауре болотистых местечек. Клюква столь несъедобна, что вряд ли стоило и упоминать о ней, но поскольку в журнале ей отведено почётное, средь прозы, первое место, да и занимает она ни много ни мало семьдесят убористых страниц журнальной книжки, то придётся замолвить словечко. Клюкву эту на блюдечке с каёмочкой преподнесла Евгения Мальчуженко из Питера. "Крупа и Фантик" — бесцветная этикетка на ней. И приписка бесцветным, на конспиративном молоке, курсивом — документальная дезинформация . Дезинформация эта охватывает около сотни имён, скромненько обозначенных в "Персоналиях". И не просто имён, а имён — от Владимира Ленина и Надежды Крупской до Наполеона и Антуана Чехова (так у автора. — В.Е. ). Ни фабулой, ни пересказом сюжета, пожалуй, себя не озаботим, а вот о лексике, поскольку она здесь — царица, сказать придётся. Далеко не будем уходить — прямо из "Персоналий": Зиги Фрейд, Карлуша Маркс, Верка Засулич, малыш Карацюпа, Шурик Керенский. Чуть глубже — из текста: гадина Инеска, толстуха Землячка, скряга Вовка, зараза Маняшка… Уф, хватит! Уловили музыку?.. Прям "Семь сорок" — молодое недозрелое вино, две местечковые шалашовки на кухне, снимающие с него пробу и параллельно промывающие косточки родным, знакомым, близким — и неблизким. Ну, а самое главное — это форма, в которую всё облачено: а именно, переписка Крупы (Наденьки Крупской) и Фантика (Фанечки Каплан). Каково!.. Додуматься надо… И додумалась, ещё раз повторим, Евгения Мальчуженко, а теперь внимание! — в девичестве Каплан . Вот где вся собака и зарыта, но видимо, неглубоко — отсюда и запах…
Вероятно, чтобы нейтрализовать его хоть как-то после первых семидесяти страниц, всё остальное в девятой книжке "Нового мира" — и поэзия, и проза — весьма достойного качества. Это и рассказы Сергея Солоуха, слегка кокетливо изощрённые по стилю вначале, но через героя своего — через его "природную, неисправимую сознательность", через испытания брезгливостью к собственному нечистоплотному начальству — приближающиеся к открытию, что "нет ничего чудесней простоты" и растворения — в чём? — читатель разберётся сам, дочитав их до конца. "Незаметные праздники" Алексея Смирнова — это наброски с натуры, где "всё, что казалось когда-то таким протяжным и беспомощным, таким медленным и неуклюжим, разрозненно ползущим вкривь и вкось, теперь убыстрилось, выровнялось, схватилось в памяти преображённо, нерасторжимо и прочно, как будто одно неиссякаемое мгновение". И в мгновении этом и "белая уточка", и "каньки" (которые так-таки и пишутся через "а"), и "лимонная церемония", и волны беспричинного детского счастья, выносящие и спасающие нас всю оставшуюся сознательную жизнь от многих тягостных катаклизмов и крушений.
Поэтические имена Инны Лиснянской и Владимира Рецептера в особой рекомендации не нуждаются. "И памяти воображенье Снов ясновидческих сильней" у Лиснянской и "Уйду на озеро Кучане; на мокрое его молчанье, на свежую его тоску. А там и радуга повиснет, и вновь меня любовь притиснет к той цапле, к красному глазку" в "Цапле на озере Маленец" Владимира Рецептера растворяют нас в стихии волшебных ритмов русского стиха, где меж формою и содержанием гармония "нетварной сути торжества". А выплеск неженской боли Ларисы Миллер: "Земля — это гиблое место. Не надо ни оста, ни веста. Спасайся, кто может, беги, Покинув земные круги. Но как с них сойти добровольно? А жить и опасно и больно, И новый вращается круг Для новых терзаний и мук" , уравновешивается смиренной мудростью Владимира Берязева — "Тихо пей всё, что Богом дано, Причащайся последнему счастью, Благодати земной причащайся. Завтра — поздно, потом — всё равно. Там — потом, даже днями темно, Лихо там без любви и поруки… Вот и листья от счастья и муки Золотые — ложатся на дно" .
Ну и самый пиковый, самый значимый материал номера, на мой взгляд, — публицистические статьи Елены Ознобкиной и Татьяны Касаткиной о проблеме отмены смертной казни, отличающиеся мужеством гражданским и интеллектуальной честностью и являющиеся, скорее, приговором современному обществу, в котором, безусловно "всё связано со всем", и оттого, "если наша социальная жизнь часто нарушает каноны простой справедливости и человечности, давайте хотя бы повременим со смертными казнями".
Типично осенний фрукт предлагает читателю и "НАШ СОВРЕМЕННИК" , но это не пресловутая клюква развесистая, а гриб настоящий , вернее даже — "Грибной царь" Юрия Полякова — горькая, умная, тонкая пародия и на любовный роман, и на детективное чтиво одновременно. Без явных (или потаённых) детективных элементов не обходится теперь ни один сколько-нибудь уважающий себя писатель. Юрий Поляков спародировал это повальное увлечение столь талантливо точно, что некоторые литературные аналитики, на этот крючок и попавшись, уже с урчанием вцепились в роман, приняв пародию за истину и серьёз первой инстанции. Жаль, что современная суррогатная во многом жизнь подвигает настоящих писателей к такому вот защитному рефлексу в её отображении. Иначе — опасность подхватить эту заразную безумную бациллу самому.
Чистоту и, видимо, почти зеркальность отображения действительности удалось сохранить другому прозаику — Альберту Лиханову: "а потом я немножко вырос и началась война". Сквозь призму детских воспоминаний о былом в повести "Те, кто до нас" всплывает многое. Чуткое сердце ребёнка видит кумира своего не только здесь и рядом, но и "где-то ещё, в пространстве незримом, но существующем для него: ведь он потому ничего и не замечает, что одновременно обитает в другом мире, в каком-то отражённом царстве, которое ясно видимо только одному ему", и — "важная подробность: в моих видениях доктор был не один. С ним рядом всегда находился я. …Чаще всего мы молчали в том, не нашем отсутствии, но иногда всё-таки говорили". Этими внутренними диалогами-монологами и взращивает себя юный герой до таких вот философических, позднее, умозаключений: "не надо думать, что война — только беда. Война вроде как чан с кипятком, и все до единого в него прыгают. Люди гибнут, и тоска о них бесконечна и неизбывна. Но люди ещё и выбираются из котла. Одни — навек предавшие. Самих себя. Другие — омытые, очищенные, посильневшие, как Иванушка со своим Коньком-Горбунком".
Поэзия Глеба Горбовского и Владимира Кострова везде и всюду говорит сама за себя. И хотя "Жизнь прожита. Горит Господне лето. Осталось только поле перейти" (В.Костров), но — "Что вынес я из жизни сей? Мне в жизни повезло; Имел свой угол и друзей Трёхмерное число. Носил по комнате скелет, Он у меня стальной! И девяносто девять лет — Соседке за стеной. Друзья? Один живёт в Москве. На Балтике — другой. А третий… с неких пор в траве Могильной. Чтит покой. Но иногда мы всем числом Сойдёмся у стола. И третий с нами за столом… И трапеза — светла!" (Г.Горбовский). Константин Рябенький, известный русский поэт, живущий в Твери, также, по народному, оптимистичен: "Душу терзают наветы, чтоб не пойти мне ко дну — выдохну горькие беды. Радость земную — вдохну" . Сложнее осетину Ахсару Кодзати, живущему "на острове отчаяния" , над которым "Небо хмуро — солнце не очнётся, птицы улетают в край, что мил… Родина без крыльев остаётся — из трясины выбраться нет сил!" Что ж, актуален будет ещё, наверное, на многие лета вперёд призыв Глеба Горбовского: "Мужайтесь, россы!"
Сентябрьская книжка "МОСКВЫ" полна пристального внимания к литературе подмосковного Зеленограда. Стоит отметить зрелую смыслонасыщенную прозу Ольги Бересневой, Валерия Передерина, Владимира Лебедева, Светланы Ковалёвой, Игоря Голубева, небезуспешно экспериментирующего с формой. Владимир Зайцев покоряет своей коротенькой новеллой, в которую успевает вложить попытки "ощутить вечное дыхание Земли, испытать и услышать то, что испытывали и слышали далёкие прапредки". Мария Елифёрова — автор самый юный и, возможно, самый перспективный (не по причине молодости — по причине таланта). Рассказы её настолько живы, что нескоро отпускают читателя от себя, достаточно долго поглощают его эмоции (или подпитывают?) и внимание.
Нина Карташёва — поэт с неординарным, давно уже состоявшимся именем, дебютирует (во всяком случае, для меня) в этом номере в прозе. Классическая манера её стиха здесь плавно перетекает в классическую же — прозы.
Искренне жаль, что слишком малы поэтические подборки Николая Кастрикина ( "Немотствующий дух страдает и в раю" ) и Михаила Новожилова-Красинского ( "Нет, знает путь любовь туда, где смерть!" ). И так же искренне жаль, что нашлось место для витиеватой зауми Татьяны Фёдоровой ( "Зажму в ладони горсть земли И упокою, как ладан, на груди — Спаси рассеянное и огради На всякий День грядущий" ) вкупе с её американско-триллеровыми, белым стихом, сновидениями. И великолепна по болевой зрелости подборка СМОГовца Александра Васюткова ( "Мне дали ранимую душу. Бессильна такая душа" ).
Помимо зеленоградцев журнал предоставил возможность выступить на своих страницах поэтам Владимиру Кострову и Борису Спорову, и — публицисту Игорю Шафаревичу с новым исследованием "О вокальном цикле Шостаковича "Из еврейской народной поэзии"": "Я помню сильнейшее впечатление от этой музыки... Человек я отнюдь не сентиментальный, но там стал шмыгать носом и под конец чуть не разревелся. Впечатление было какое-то горькое, безысходное, но чисто эмоциональное, никак не осмысляемое". В этой статье Шафаревич и пытается сейчас (постфактум) осмыслить и выразить словами те давние эмоции.
Поэтические страницы девятого номера "ЗНАМЕНИ" настраивают с первой страницы, что "в этом номере мы публикуем стихи поэтов, входивших в круг общения Татьяны Бек". В "круг общения" вошли Максим Амелин ( "Словно случайная рифма в прозе, звякнула и запропала, — Русь!" ), Ирина Ермакова ("Среди привычной пошлости и прозы когда борей несёт свою пургу махнёшь рукой и — вспыхивают розы кустарные в растоптанном снегу" ), а также целый семинар поэтический, который вела в своё время Татьяна Бек, из Григория Сахарова ( "свобода/ свобода/ свобода свобода/ свобода бля/ свобода для?" , Данила Файзова (у которого "утро придёт с востока" , а всё остальное — "безмолвие. Скука. Молчанье" ), Евгения Лесина ( "Сели вдвоём и слёзы ручьём Сели втроем и слёзы ручьём И вчетвером слёзы ручьём И впятером" ), Петра Виноградова ( "И слова рассыпав из строки, Я в строку их не смогу вместить… И моё бескрайнее "Прости" Бесконечно сможешь ты простить" ) и Ивана Волкова, которого хочется подать именно так:
И я, может быть, до могущества знака
Смогу дорастить умоляющий звук,
Поэзия — общий магический круг,
Защитное поле, вакцина от рака,
И всё, что не так в этом мире, не так, —
Наш производственный брак.
Ну и наконец, сама Татьяна Бек с последним циклом своим, провидчески названным "На прощание", и с признанием — тоже последним: "Блаженствуя в нечистой полутьме И контрабанду разместивши в трюме, Любила то, чего в своём уме Любить нельзя. Но я была в безумье. ...Когда теперь, изрядно постарев, Я вглядываюсь в ужас эпилога, То вижу порт, разинутый, как зев, И кутерьму, не знающую Бога".
Леонид Зорин в маленьком романе "Обида" изливает немалые свои обиды и претензии к так называемым "национально озабоченным" и заставляет своего главного героя Женечку Грекова внедриться по-журналистски прямо в логово этих "озабоченных". Женечка должен высветить нечто, "что именно — он представлял ещё смутно, и тут не обошлось без подсказки". Вот и Леонид Зорин, ломая своего героя, всё силится что-то подсказать, куда-то на протоптанную, избитую тропу выправить. Но проблема "национально озабоченных" (вы, верно, уже догадались, что речь идёт просто о русских , но с дорисованными традиционно атрибутами копытец и рогов) настолько стала (во вроде бы русском нашем государстве) велика и болезненна, что как бы ни направляли её в нужное русло, она так и норовит, болезная, то ручку, то ножку высунуть оттуда на волю, а то и головкой повертеть по сторонам. А даже и возопить страдающе-громко: "Что ж вы меня так-то, то нелюдью, то фашистом! Неужели только за то, что для меня "личная жизнь преходяща, а жизнь государства священна, ибо без него нет истории", а для вас — "государственность — как печь, пышущая льдом", посягающая на персональную тайну вашу, на сомнение вечное, на старчество ваше изначальное — вы ведь родились уже стариками! Неужели только за это?.."
(обратно)Евгений Лесин “Я ВЫШЕЛ НА ПОИСКИ БОГА ПОД ПРОИСКИ ВРАЖЕСКИХ СИЛ...”
***
Вчера бродил
возле дворца бракосочетаний.
Ничего — многие даже улыбаются.
Полны поцелуев и обниманий.
Цветы и пустые бутылки всюду валяются.
А все равно страшно,
И опять же — исполнение долга…
А страшно все, что навсегдашно
Или просто надолго.
***
Твои достоинства несметны,
Грехи похожи на игру.
Пока мы вместе, мы бессмертны,
А я и вовсе не умру.
***
В деревне Бор
41 двор.
А в деревне Петров
Восемь дворов.
Три старухи и дед.
Гроб с кислородом.
А времени нет,
Одни времена года.
***
Был город, и были храмы.
А теперь сортир да музей.
И гунны пришли, и хамы.
И рухнул ваш Колизей.
Ну да, купола сверкают,
И утром над речкой дым.
Но жители уже знают,
Что город стал неживым.
Игрушечным, для туристов.
И для вестей властям,
Что продают со свистом
Историю по частям.
***
Кирилло-Белозерский монастырь
Вологодская область
Река Шексна
Старый фашист
Карябает на стене
То, что не успел в 43-м
Здесь был Дитрих
Все оплачено
Куплено
Продано
Девочка играет калинку-малинку
Весь монастырь испещрен
Дитрихами
Английскую речь
Воспринимаешь, как русскую
Потому что повсюду дойч
Не довоевали
Понравилось
В Сиверском озере не искупаешься
Всюду тевтоны
Правь
Британия морями
Нам
Речки оставь
Пошли в кино
Стояли крепостные стены.
Пришла любовь. И все разбила.
Любовь Париса и Елены.
Любовь Патрокла и Ахилла.
Обманом греки Трою взяли.
Война окончилась красиво.
Сидела Лена в кинозале
И плакала в бутылку пива.
В духе Игоря Северянина
Мороз и пиво ледяное.
И тьма кромешная вокруг.
Жизнь от запоя до запоя
Нам суждена, мой милый друг.
Там, за дорогой кольцевою
Пускай резвится Третий мир.
Ведь над рекою над Москвою
Ночной эфир струит зефир.
И что нам всем паденье Трои?
Что нам Калуга и Нью-Йорк?
Какое пиво ледяное!
Какой мороз! Какой восторг!
***
Вс. Емелину
Вот пройдешься по городу
И тоска на душе:
Все, что было так дорого,
Не родное уже.
И не радует сердце нам
Храм Христа на воде.
Где ты, улица Герцена?
И Мархлевского где?
Город наш заминирован.
Только шаг — и привет:
Нету улицы Кирова,
Метростроевской нет.
Все разбито, порушено.
Всюду Новый Арбат.
Даже в Северном Тушино —
Довоенный Багдад.
Где ж ты, тихая улица
И вино под грибком?
Если кто и целуется,
То мужик с мужиком.
И стоят, улыбаются
Продавцы у дверей.
Купола наливаются
Новых русских церквей.
Все доступно, недорого
И везде есть места.
Так пройдешься по городу
Да и прыгнешь с моста.
***
На самом краю ойкумены
Стою, опьянен красотой.
Какие тебе перемены?
Какой тебе берег родной?
И чем ты еще недоволен?
К чему надувание щек?
Ты жив и почти что не болен.
НУ ЧТО ТЕБЕ НАДО ЕЩЕ?
***
По городу ходят шахидки
И бомбы несут в рукавах.
Маруси, Наташи и Лидки,
И Ольга Исаевна Швах.
Глазастые, с белою кожей
И стройные, как тополя.
— Скажи, незнакомый прохожий,
А как тут пройти до Кремля?
Милиция страшные пытки
Готовит им и произвол.
А в спальных районах шахидки
Уже накрывают на стал.
И стелят постель образине —
Небритому мужу-козлу.
Шахидки стоят в магазине,
Автобуса ждут на углу.
Мечтают о кафельной плитке
И чтобы не выло в трубе.
По городу ходят шахидки
И ищут шахида себе.
***
Какая к черту беспричинность?
Опять проклятая семья.
Семья несчастная моя.
Еженедельная повинность.
И я, наверное, умру
От злобы и несовершенства,
Когда с семейного блаженства
Черты случайные сотру.
А осень тает золотая.
Собаки лают: абырвалг.
Я все на свете оборвал.
И ничего не залатаю.
***
Твои руки — мои наручники.
Твои ноги — мои наплечники.
А в зрачках притаились лучники
И вострят свои наконечники.
Смерть империи
Тут стояла палатка с мороженым,
Ну а в булочной — хлеб. И потом —
Были вилки. И мы, как положено,
Проверяли на мягкость батон.
Здесь лежали лотки деревянные.
Помню запах от теплой доски.
А теперь здесь одни окаянные
Супермаркеты, где на куски
Хлеб разрезан уже. Плюс доверие —
Каждый сам все, что хочет, берет.
Жизнь прошла. Умирает Империя.
Ну, так вечно никто не живет.
***
Плевать, что плохая дорога
И кто-то пургу замесил.
Я вышел на поиски бога
Под происки вражеских сил.
Не видя пути и ночлега,
Не зная, что будет потом,
Я верю: мне хватит и снега,
И речки, что спит подо льдом.
***
Самолет в ночи горит.
Стюардесса говорит:
"Выходите из вагона.
Летчик дальше не летит.
Надевайте парашюты.
Вылетайте из каюты.
Потому что вам осталось
Жить не больше полминуты.
Не вернетесь вы назад
Ни в Нью-Йорк и ни в Багдад…"
Вот те нате, хрен в томате!
— Пассажиры говорят.
« * *
Старушка едет в трамвае.
Чистая, как игрушка.
Куда собралась — не знает.
Забыла о том старушка.
Стою и переживаю.
Только помочь не в силах.
— Где ты живешь?
— Не зна-а-ю...
— Едешь куда?
— Забы-ы-ла...
И так она горько плачет,
Что прочие плачут тоже.
Трамвайчик весело скачет.
Ничем он помочь не может.
***
Новогодние телодвиженья.
В новых тапочках, новом белье.
В телевизоре: Надя и Женя.
На закуску салат "Оливье".
Холодец уж разрезан на части.
Бьют часы, и шампанское бьет.
Посулил бесконечное счастье
Президент нам на будущий год.
Ну а мы, мы не против. Спасибо
За хорошие, в общем, слова.
Завтра будет все та же Россия,
И такая же будет Москва.
Доедим новогодние сласти,
Распакуем последний презент.
Ну а счастье… Да мы и без счастья
Проживём, господин Президент.
***
Идем по сказочной Итаке
На самом краешке земли.
И лапы мерзнут у собаки.
Сама просилась, не скули.
И не нужна команда "голос":
И так все лают и пищат.
Стволы берез и снег по пояс,
И санки старые трещат.
Зима по Тушино гуляет,
Как Афродита в пене дней.
И пудель шелти догоняет
Средь белых лыжников и пней.
Ледянки, шапки, снегоходы,
Хвосты в сугробах мельтешат.
Канал и улица Свободы.
Метро "Планёрная" и МКАД.
***
Тихо и уютно на земле,
Так что просто некуда деваться.
Чай и мармеладки на столе,
И собака лезет целоваться.
***
Березы и сосны глядят на закат.
И снег улыбается с веток.
А рядом гудит и беснуется МКАД,
Как раненный зверь напоследок.
Но здесь еще лес, и петляет лыжня.
А там уже парни из стали.
Украли полцарства, забрали коня,
И бешено жмут на педали.
***
От любви до злобы — один шажок.
От любви до гроба — один прыжок.
От любви до дружбы — один глоток.
От любви до службы — один кивок.
И самой любви-то — всего чуток.
Не разбей корыто, смотри, дружок.
***
На Восточном трамваи гуляют,
Людям проще на Западный мост.
А за ГЭС уже Сходня петляет,
Подымая приветливо хвост.
Улыбается редким прохожим,
Закрываясь от грузовиков.
Мы ведь тоже и были моложе,
И рвались изо всех берегов.
Скоро будет тепло от деревьев,
И прохладно от тихой воды.
И бомжи приползут на кочевье,
Открывая беззубые рты.
Будет небо и будет красиво,
Будут яблони снова цвести.
Лишь бы только сберечь свои силы —
И дожить, дотянуть, доползти.
***
А. Подушкину
В тоске подземных переходов.
Живем, по сути, под Москвой.
И дождь смывает пешеходов
С недружелюбной мостовой.
Стоят высокие бараки
Среди озлобленных реклам.
И бродят стаями собаки
По старым каменным дворам.
Окна РОСТА
Собака, страстно подвывая,
Влюбленно смотрит на меня.
Начало тушинского дня,
Конец вселенной, окна рая.
***
Бог на хлеб себе намажет
Маслом ниточки судьбы.
Фирма веников не вяжет,
Фирма делает гробы.
По московским кабакам
(Читая Андрея Платонова)
На работе вконец умаясь,
Поглядеть как живет страна,
Захожу в кафетерий "Аист"
Возле площади Ногина.
Воскресенье. Народу мало.
А точней, почти ни души:
Водку втягивают устало
Поседевшие алкаши.
Две сосиски торчат из плошек.
На мобильный звонит жена.
На гарнир — пюре и горошек,
Как в советские времена.
А на улице жизнь лютует.
Тихо пью я питье свое.
Бесшабашно собой торгуют
Проститутки и пидорье.
Мент глядит на меня, стесняясь,
Своего, так сказать, труда.
И по городу, улыбаясь,
Я иду — все равно куда.
Все равно-то, оно, конечно.
Все равны у нас — что скрывать.
Круглосуточной "Чебуречной"
Все равно мне не избежать.
Малость водки, бутылка пива.
И, конечно же, чебурек.
И идет по Москве Счастливой
Осчастливленный человек…
***
Нет больше смысла, одни слова.
Тела потеют и сохнут души.
Когда-то здесь был бассейн "Москва",
Куда вплывали, помывшись в душе.
Теперь тут златом прикрыли грязь,
Трясут кадилом у телекамер.
Братва наелась и напилась,
И вышла в город, а город замер.
Молчат подъезды, молчат дома,
Молчат бульвары, молчат проспекты.
Молчит столица, она сама
Нас собирает из гетто в секты.
Из подворотен и катакомб,
Из непрестижных навек кварталов.
На город хлынут потоки бомб,
Сметая мэров и генералов.
Сметая хохот слепых витрин,
Рекламу вечной дороги в мекку.
И нам останется маргарин
На хлеб намазать и кинуть в реку.
***
Жара. Надуваются губки
У птички, у рыбки, у зайки.
Такие короткие юбки,
Такие короткие майки.
На радость галдящей семейке
В деревню, где вишни и груши,
Мужчина в разбитой "копейке"
Везет их огромные туши.
Жена, надрываясь хохочет.
Ребенок вопит, надрываясь.
Мужчина повеситься хочет.
И видеть, спокойно качаясь,
Не грубый оскал душегубки.
А то, что хотел, без утайки:
Такие короткие юбки,
Такие короткие майки.
(обратно)Анатолий Байбородин УТРОМ НЕБО ПЛАКАЛО, А НОЧЬЮ ВЫПАЛ СНЕГ. Рассказ-притча
Уже бо и секира при корене древа лежит.
Евангелие от Матфея 3, 10
По городу волочился выживший из ума облезлый пес, которого хозяин взашей выпихнул со двора. Нет, вначале он увез его на городскую свалку, где среди пестрого хлама шатались, словно тени из преисподней, тощие одичавшие псы с изможденной сукой — обвисшее, докрасна воспаленное, истерзанное вымя ее тащилось по мусорным холмам. Хозяин вышел из легковой машины и надтреснутым, прерывистым голосом поманил пса; и тот сполз с заднего сиденья, присел подле хозяина, который закурил, брезгливо косясь на свалку. Потом нервно кинул сигарету, растер ее сапогом и, хлопнув дверцей, быстро поехал. Пес, еще ничего не понимающий, заковылял было следом на своих остаревших лапах, но тут же, запыхавшись, высунув красный, парящий язык, остановился и долго смотрел в ту сторону, где пропала машина с хозяином. Пес ничего не мог понять, а чтобы не рвать душу горькими думами, поплелся в город.
Вскоре, отощавший — кожа да кости, измученный, лежал у калитки, возле богатого подворья, которое сторожил весь свой собачий век. Когда хозяин приметил пса, то в сердцах, больше уже не церемонясь, стал гнать его от калитки, кляня старую псину на чем свет стоит. Пес, приникнув к земле, еще полз к хозяину, в котором души не чаял, и даже хотел облизать его пыльные сапоги, виновато и заискивающе глядя в остуженные хозяйские глаза. Но тот прихватил суковатую палку и отогнал пса подальше от калитки, за которой носилась и гремела молодым лаем черная немецкая сука.
Пес, наконец, понял, что, верно и любовно отслужив свой век этим родным для него людям, больше уже не нужен им; а догадавшись об этом, поплелся, не ведая куда и зачем, не чая ни теплой похлебки, ни мягкой подстилки, ни ласки, да и сил не имея думать об этом.
***
По городу шел старик. Шел тихо-тихо, и желтоватое лицо его, усохшее и костистое, светилось покоем. Глаза слезились и водянисто синели — ласковые, но безмолвные и отрешенные. Он вышел из церкви. Трижды перекрестившись, трижды, касаясь перстом оземь, поклонившись крестам и прошептав Иисусову молитву увядшими, синеющими губами, малое время посидел на студеной каменной паперти среди убогих. Но не христарадничал, как обычно. Ныне старик не просил милостыню Христа ради, а лишь посидел, чтобы после заутрени улеглась дрожь в коленях; затем встал, с хрустом разогнул немеющую спину и пошел, томительно шаркая подошвами. И Бог весть, куда он теперь ковылял на своих истомленных, сношенных ногах.
Небо, набухшее мороком, тяжело и сумрачно лежало на крышах каменных домов, и город сжимала пепельная мгла. Хотя уже приступил самый канун Казанской зимней Богородицы, было тепло и грязно, потому что перед заутреней моросил дождь. Но старик помнил, что толковали в его давно уже сгинувшей деревне: ежели на Казанскую небо заплачет, то следом за дождем поспеет и снег.
Осеннюю грязь месили сотни сапог и полусапог, озабоченных и суетливых. Ногастая, похожая на болотную цаплю, долговязая девица выскочила из парикмахерской, сослепу ткнулась в старика, испуганно шарахнулась и оторопела. Но тут же и очнувшись, манерно помахала возле брезгливо сморщенного носа когтистыми пальцами и всунулась в тупорылую заморскую машину. Старик, кажется, хотел ей что-то сказать — ласковое слово уже легонько колыхнуло своим теплым дыханием его опавшие губы, — но не успел и теперь виновато глядел вслед машине, обдавшей его вонючим жаром.
Он шел по городу; авоськи и баулы испуганно обтекали его. Под стариковское линялое пальто поддувал сырой ветер; он же порой зло теребил и вздымал по-младенчески пушистые и насквозь проглядные, инистые волосы, обнажая овраги висков, какие бывают у лошадей, когда они падают в изнеможении.
***
Вот так же осенью сорок первого волочились солдаты, отходя в российскую глубь по грязным и топким разбитым дорогам. Пала в обозе надсаженная лошадь, и молоденький лейтенант, матерками отгоняя от себя жаль, своеручно пристрелил ее; и старик — тогда еще не мужик и уже не парень — глядел на палую лошадь сквозь слезную заволочь, потому что вырос в деревне при конях. Потом нагляделся на смерти; и слезы, пролившись в душу, закаменели в ней, и много нужно было послевоенных дней и молитв, чтобы они растопились и пролились в душу теплым дождем, и там, робкая еще, как вешние травы, народилась любовь.
***
По улице тупо и медленно, сплошным и грозным потоком, словно в атаку, ползли машины; хищно сверкали нездешней, несвычной пестротой, сыто, но жадно урчали; и колыхался над ними тяжкий, угарный гул. Но для старика уже все стихло, и вместо уличного гула из пепельной, миражной бездонности — словно из-под церковного купола, словно с голубых небес, — сухим и теплым ладаном опускались, наплывали покойные, чистые звуки и, похожие на далекий-далекий перезвон колокольный, грели стариковскую душу.
***
Такие же небесные звуки потоком хлынули на них, когда со скрежетом распахнулись ворота немецкого лагеря — прямо в синюю небесность, прямо в церковный купол; и шли они равнодушные к жизни — может, не люди, а светлые тени, оставившие плоть позади, где бездымно темнели печи — редкие зубы в провале старческого рта, черные и голые дерева на пожарище.
***
Старый пес — теперь уже бездомный, бродячий — плелся по городу, припадая на ослабшие, хворые лапы и робко, просительно, с вялой надеждой заглядывая в подворотни староиркутских одряхлевших усадеб. В одной из них, чужеродно выпячиваясь, степенно похаживал дог, под гладкой, лоснящейся кожей которого дыбилась, властно играла упругая злая сила.
И тут, может быть, старому псу привиделось далекое-далекое, гаснущее в сумраке лет, когда он, вот такой же молодой, матерый, но смирный и заласканный детишками, все же оборонил своего хозяина, защитил без всякого клича, рискуя в прыжке угодить на нож. И пес был счастлив редкой удаче — спас хозяина, выказал собачью преданность; и он бы, наверно, захлебнулся в предсмертном восторге, если бы, заслонив хозяина, пал наземь, теряя дыхание и кровь.
Дог смотрел в его сторону. А тут из калитки, легкая, словно одуванчик, выбежала вприпрыжку синеглазая девчушка и, хлопая белесыми ресницами, уставилась на печального старого пса. Потом улыбнулась — будто посреди осенней мороси засветилось летнее солнышко — залепетала, пришепетывая, на своем детском поговоре, сунула псу надкушенный пряник, и тот бережно взял угощение, прижал губами, но не сглотил — то ли от удивления, то ли от робости и смущения. Девчушка присела перед ним на корточки, погладила, все так же лепеча — словно шелестели на тихом ветру полевые цветы и травы; и пес неожиданно улегся перед ней, положил морду на лапы и блаженно прикрыл слезящиеся усталые глаза.
Долго ли, коротко ли тянулось это блаженство, но тут из калитки торопливо вышла женщина — видимо, мать девчушки, — ярко наряженная, но чем-то раздраженная; она схватила дочь за руку и со злостью отдернула от собаки:
— Ты что это, хочешь какую-нибудь заразу подхватить?! Ну-ка, пошла отсюда, старая псина... помойка ходячая! — она замахнулась на пса, потом ворчливо сказала дочери: — Пошли скорей, а то опоздаю из-за тебя...
И подволакивая захныкавшую девчушку, женщина засеменила по улице, нервно стуча острыми каблуками. Тем временем дог, щурясь уже враждебно, со зловещей неторопливостью пошел на бродячего пса, и тому ничего лучшего не оставалось, как уйти от назревающей брани.
***
Людская река выплеснула старика к торговым рядам, где лавки, словно гнезда осиные, лепились одна к другой, где торговали чем-то нерусским и режущим глаза, а чем — старик уже давно не понимал. Да он не смотрел на эти лавки и раньше, а теперь и подавно. Хотя вдруг остановился возле молодой цыганки с черными до жгучей синевы, текущими на плечи, густыми волосами, с ночными, круглыми глазами, в которых плавали, играли приманчивые светлячки, будто звездочки в глубоких омутах. Торговка скалила белопенистые зубы, потряхивала вольной, полуоткрытой грудью и, весело заманивая покупателей, продавала медные нательные крестики с Христом распятым и Царицей Небесной, которые свисали с руки на блескучих цепочках. Возле нее мялись парни в толстых, мешковатых штанах и о чем-то бойко договаривались. Торговка, играя плечами, постреливала своими сумеречными глазами, и с губ ее, пухлых, будто вывороченных наружу, не сползала многосулящая улыбка. Но когда парни со смехом и гомоном подались прочь, осерчалая цыганка плюнула им вслед, замешав плевок на забористом русском мате. Тут же в сердцах набросилась и на старика:
— А ты чего здесь торчишь, старый... ?! — она прибавила словцо, от какого вянут, словно прибитые инеем, даже крепкие мужичьи уши, и старик, хоть и не обиделся, все же пошел от греха подальше.
Он еще остановился возле широкой деревенской бабы, которая торговала картошкой. Вдруг дивом дивным увидев деревеньку своего полузабытого детства, хотел было заговорить с бабонькой и сказать ей, что утром небо плакало, а ночью Господь зимушку пошлет. Но та испуганно отпрянула от старика и будто даже осенила себя незримым крестом. Кажется, ей почудилось, что на нее дохнула смерть, и не стариковская, а смерть вообще, которая нынче пошла бродить по городу. Но бабонька тут же и спохватилась — словно голос ей был, — сунулась под прилавок и выудила оттуда деревенскую творожную шаньгу, затем, подумав, прибавила к ней брусничную. Весь этот гостинец, прозываемый в деревне подорожниками, уложила в пакет, а коль старик стал отказываться от угощения, то и сунула ему в широкий полуоторванный карман пальто. Старик поклонился бабоньке и, перекрестив ее, прошептал: дескать, спаси тя Боже.
***
В торговых рядах гремела и билась в припадке шалая музыка, а уж на каком поговоре там пели, старик не разумел. Раньше эта одичалая музыка напоминала ему лай и рычание озверевшей, кровожадной своры собак, которые сопровождали пленных и рвались с поводков, чтобы дотерзать этих полуживых людей. Но сейчас старик не слышал магнитофонного рыка и лая; глухим нимбом обволакивали его бездумные, пахнущие ладаном и могильным покоем, небесные звуки.
По городу шел старик, седой, изможденный, и когда ветер распахивал его пальто, изветшавшее, грубо, нитками внахлест зачиненное, то взблескивали вдруг медали, прицепленные прямо на выжелтевшую, темнеющую рваными дырами, будто простреленную, исподнюю рубаху.
Неожиданно старик свернул в сумрачную арку; утомленно припал к грубо отесанной каменной стене, и острые щербины впились в его щеку, поросшую реденьким седым волосом. Он оглядел арку, похожую на могильный склеп, и на глаза ему попал деревянный решетчатый винный ящик, перевернутый вверх дном, — видимо, кто-то здесь уже переводил сморенный дух. Старик присел на ящик, откинулся к стене и прикрыл глаза тонкими, в синей паутине, дрожащими веками. Бог весть, долго ли тянулось это обморочное забытье, но неожиданно старик ощутил, что к рукам его, безжизненно опавшим на колени, к холодному лицу, прикоснулось что-то ласковое, теплое, влажное, до сладостной боли родное, приплывшее в город из далекого деревенского малолетства, которое вернулось к нему, увиделось и наполнило душу птичьей легкостью. Еще боясь поверить, боясь спугнуть оживающее видение, старик не открывал глаза, вытягивал наслаждение, потом медленно отпахнул веки и по-детски солнечно улыбнулся — подле него сидел такой же ветхий, как и он, сиротливый пес, только что облизавший ему лицо и руки. Младенчески беззубая и бездумная улыбка тронула синеющие стариковские губы, будто неведомый и случайный среди морока солнечный луч согрел восковое лицо старика; и, как бывало в его деревенском детстве, неспешно и протяжно погладил, почесал за ушами, висящими словно лопухи. А уж потом вспомнил о подорожниках, которые сунула ему в карман сердобольная деревенская бабонька; вспомнив, тут же и достал творожную шаньгу и протянул псу. Тот бережно взял угощение в зубы и, положив на землю, уставился на старика вопрошающим, слезливым взглядом. Старик обнял его за шею — опять же как в своем далеком деревенском малолетстве,— прижался лицом к лохматой морде и, блаженно укрыв глаза, снова впал в забытье. Разбудил его посвистывающий шепот, из которого вырывался ломкий, куражливый басок. Старик очнулся, вошел в житейскую память и, кажется, догадался, что рядом целуются молодые. Они возились близко, за углом....
Не ведая зачем, старик поднялся с ящика, пошел к ним на негнущихся, одеревенелых ногах и стал молча смотреть влажно синеющими из потаенной глуби, удивленными глазами; и молча же слушал, как умолял и клялся парень, как тяжело и прерывисто дышала его подруга.
Молодые полусидели-полулежали на широкой садовой скамейке, ради греха и втиснутой промеж каменной стены и густых зарослей одичалой сирени. Прямо на земле, устланной жухлыми листьями, усыпанной сигаретными окурками и клочьями бумаги, красовалась тонкогорлая, уже почти допитая бутылка вина. Молодые оторопели, словно им явилось бледное, бескровное видение из тоскливого, замогильного мира; потом девушка зябко передернула крутыми плечами и, оттолкнув парня, села прямо, натянула на острые колени юбку. Парень — синеглазый, с коротким и настырным ежиком волос — закурил сигарету и досадливо, выжидающе уставился на старика. А тот, может быть, каясь и виноватясь, вдруг ясно и живо увидел своего сына, убиенного, не успевшего путем отведать жизни и давно уж оплаканного, отпетого. Вот поэтому старик и подошел к парню ближе и потянулся к нему рукой, усохшей, мелко и часто вздрагивающей. Девушка испуганно отпрянула, парень же оглядел пришельца от войлочных ботинок до седой головы студеным и острым взглядом, затем процедил сквозь желтеющие фиксы:
— Топай, топай, батя!.. Здесь не подают.
То ли не расслышав, то ли просто не вняв просьбе, старик еще стоял с протянутой рукой и с негаснущей улыбкой, но парень жестко и хлестко повторил:
— Я кому сказал?! Дергай отсюда. Ну, пошел, пошел...
И старик пошел из глухого каменного дворика, заросшего голой, тоскливой сиренью. В глазах его светились слезы.
***
Когда, обессилевши, старик осел на заледенелую землю, забылся, то привиделась заснеженная, вьюжная степь, по которой, извиваясь мрачной и жалкой рекой, растянувшись на много верст, бредет отступающая армия, и он, молоденький солдат, за несколько месяцев постаревший на десять лет, волочится, угибая лицо от пронизывающего ветра. Потом вдруг оттеплело и, словно с небес, увидел он себя, малого, в белой посконной рубахе чуть не до пят, бегущего среди светящихся росных трав и цветов, бегущего прямо к утаенной в тумане реке, из которой выплывает румяноликое солнце.
***
К вечеру небо опустилось ниже и глухо прижало город к земле, и всю ночь до рассвета тихо и густо шел снег, и город, утопая в нем, будто вымер. Только слышался в торговых рядах сиплый собачий вой... Там, между двумя железными ларьками, пожилая баба-дворничиха и нашла старика. Он лежал присыпанный снегом, словно уже обряженный саваном для вечного и блаженного покоя, а рядом сидел пес, при виде живой души переставший скулить.
Дворничиха — много перевидавшая на своем долгом веку, — не испугалась покойника; лишь вздохнула и, отмашисто перекрестившись, слезливо глядя сквозь заснеженный город в свои печали, подумала вслух:
— И то слава Богу, прибрал Господь бедного, — она перекрестила старика. — Опять же сказать, чем такая нонешняя собачья жись, дак лучше уж...— она не осмелилась продолжить, словно кто-то упреждающе шепнул прямо в ее душу, что этим один Господь ведает, и грех тут вольничать, беса тешить и дразнить да подманивать пустоглазую. — Опять же, крути, не крути, а надо померти... Прости мя, Господи, грешную...
Она еще раз шумно вздохнула, глянула на старика, белого, как лунь, лежащего на таком же белом и чистом снегу, будто уже слившись с ним.
(обратно)Юрий Павлов ВЛАДИМИР ЛАКШИН: ЗНАКОМЫЙ И НЕОЖИДАННЫЙ…
11 МАРТА 1967 ГОДА ТВАРДОВСКИЙ записывает в рабочей тетради: "основная точка — Лакшин". Назначение его своим замом Александр Трифонович рассматривает как условие и гарантию дальнейшей жизни "Нового мира". Более того, В.Лакшина А.Твардовский прочил в свои преемники, а в самый сложный период 1969 года готов был жертвовать практически всеми сотрудниками журнала, кроме Владимира Яковлевича.
В статье В.Лакшина "Четверть века спустя" немало точных суждений о критике, которые опускаю. Приведу одно, вызывающее вопросы, быть может, только у меня: "Критик лишен обольщающей надежды. Он весь в современности, в нынешнем виде и часе литературы, и если его голос не прозвучал в полную силу для читателей-современников, то, наверное, не будет услышан уже никогда. Оттого, кстати, нельзя представить написанной "в стол" критической статьи".
Как определить, прозвучал голос в полную силу или нет? По какой реакции, по востребованности, издаваемости?.. Тогда, конечно, В.Белинский и Н.Добролюбов в XIX и большей части ХХ века были "услышаннее", чем ранние славянофилы Н.Страхов, К.Леонтьев и многие другие. Однако востребованность Белинского и Добролюбова в конце 80-х годов прошлого века иссякла и, думаю, навсегда. Что есть благо для русской мысли и критики, ибо их статьи (Белинского — большинство, Добролюбова — все) мешают пониманию русской и мировой литературы, истории. Услышанность К.Аксакова, А.Хомякова, Н.Страхова и других критиков (слово, конечно, узкое) возрастает и будет возрастать по мере выздоровления русского народа. (Хотя нет никакой уверенности, что оно произойдет.) Эти авторы "вели" себя так, как должен поступать любой русский критик. Он не должен быть "весь в современности", как считает В.Лакшин, в "нынешнем виде и часе литературы", у него должны быть только "ноги", "голова" же должна находиться в "вечности". С позиций тысячелетней истории и вечных — православных — ценностей русский критик оценивает современную литературу.
По поводу утверждения, что "нельзя представить написанной "в стол" критической статьи", лишь замечу: я 20 лет пишу преимущественно "в стол"…
В ЗАПИСИ ОТ 5 ДЕКАБРЯ 1971 года дается совершенно неожиданный диагноз разгрома "Нового мира", который не встречается в статьях и мемуарах самого Лакшина, его единомышленников и противников. Главным виновником случившегося называется не власть, не Ю.Мелентьев, не "молодогвардейцы", не авторы известного письма (привожу наиболее расхожие версии), а либеральная интеллигенция, предавшая журнал: "Новый мир" и в самом деле был пригашен вовремя. Либеральная интеллигенция, напуганная в 68 году, уже отшатнулась от него, с раздражением смотрела, как мы все еще плывем, будто в укор ей.
Совершился общественный откат, "Новый мир" стал лишним не только для начальства, он и интеллигенции колол глаза и не давал заняться своими тихими гешефтами — "распивочно и навынос".
Интересны и точны индивидуальные портреты представителей этой интеллигенции, от преуспевающего Е.Евтушенко (который просит у Л.Брежнева журнал, получает дачу и рассказывает очередные байки о собственном героизме), до "балаболки" О. Чухонцева, упрекающего "Новый мир" Твардовского в том, что журнал занимался не литературой, а политикой.
ЧЕРЕЗ 18 ЛЕТ ПОСЛЕ АНТИЛИБЕРАЛЬНЫХ дневниковых выпадов В.Лакшин в самый разгар журнальных сражений времен "перестройки" выдвигает принципиально иную версию разгрома "Нового мира", совпадающую в главном с расхожей "левой" трактовкой событий. Виновниками называются обиженные "Новым миром" писатели, критики и цензура. Под их давлением брежневско-сусловский аппарат "вынужден был" "решать вопрос" с журналом.
Версия эта опровергается, в том числе, многочисленными дневниковыми свидетельствами тех же "новомировцев", Твардовского, Лакшина, Кондратовича. Во-первых, "обиженные" писатели тут ни при чем. Предложения об уходе и реформировании журнала начали поступать Твардовскому еще до появления "письма одиннадцати", которое имеется в виду в данном случае.
По версии Алексея Кондратовича, мысль о разгоне возникает в феврале 1969 года, а 24 марта в разговоре с Воронковым поднимается вопрос о реформировании редколлегии, что называется "первым приступом к разгону". 14 мая 1969 года Воронков предложил Твардовскому подать заявление об уходе. Авторы же письма, опубликованного 26 июля, достигли, по словам А.Твардовского, обратного результата: "таскают камни для памятника "Новому миру". А по словам В.Лакшина, "вся эта шумиха сделала только то, что сейчас уже Твардовского снять стало совсем невозможно".
Во-вторых, среди цензоров были и новомировски настроенные работники. Например, цензор 4-го отдела Главлита Эмилия Проскурнина и начальник Главного Управления при Совете Министров СССР по охране государственной тайны в печати Павел Романов. Более того, Эм или Эмилия, как называют Проскурнину Кондратович и Лакшин, информировала руководство "Нового мира" о тех или иных готовящихся акциях, публикациях и т.п. Например, в дневнике Владимира Яковлевича от 24 июля 1969 года и 18 февраля 1970 года читаем: "Эмилия звонила мне и рассказала о статье, которая готовится в "Огоньке" в воскресенье"; "Света приехала специально с работы, чтобы передать информацию, полученную от Эмилии. Это результат ее воскресных прогулок в пансионате с Альбертом Беляевым". Знаменательно и то, что Эмилия Алексеевна ушла с работы после разгрома "Нового мира", и еще более знаменательно, что ушла в "Юность", в "филиал" "Нового мира".
В-третьих, в сусловско-брежневском аппарате, который называет В.Лакшин, были и сочувственники, и единомышленники журнала типа А.Яковлева, И.Черноуцана, Ю.Кузьменко. Приведу записи из рабочих тетрадей А.Твардовского, которые свидетельствуют о разных уровнях "контактов" с названными товарищами: "Черноуцан дал мне понять, что письмо, на чье бы имя я его ни послал, читать будет Мелентьев. И докладывать будет он"; "зашел к Бакланову … , бутылки, закуски. Это у него был Кузьменко из отдела (под Беляевым), о котором я слышал от своих, что хороший, хотя и безвластный парень".
Естественно, что в подобных свидетельствах многое остается за кадром. Но их достаточно для понимания того, что у "новомировцев" были "длинные руки". Они были отнюдь не небожителями, как часто их представляют, у них была и крепкая хватка, и связи, вплоть до выходов на Брежнева. В подтверждение приведу записи из дневника В.Лакшина от 9 января, 3, 6, 27 февраля 1970 года: "Стало известно, что два дня помощник Брежнева — известный Голиков, запросил у Романова материалы о задержанных в цензуре за последний год материалах "Нового мира"; "Стало известно через знакомых людей из Иностранной комиссии и Секретариата, что есть такое указание: снимать Твардовского … "; "Виноградов прибежал вдруг с известием, что есть способ передать письмо в собственные руки Брежнева"; "Стало достоверно известно, что Секретариат ЦК, утвердивший Косолапова, состоялся лишь во вторник 24-го. Не было ни Брежнева, ни Суслова, ни даже Демичева".
В ДНЕВНИКЕ В.ЛАКШИНА ЗА 1971 ГОД не раз возникают имена Михаила Бахтина и Сергея Аверинцева — кумиров московской интеллигенции, и не только московской. Владимиру Яковлевичу неприемлемо — и это здоровая реакция — наукоблудие, возросшее на почве увлечения Бахтиным и Аверинцевым, все эти "полифонии", "открытые структуры", "структуры мысли" и т.д. Данный феномен Лакшин объясняет так: "Бахтин для них бог, потому что идея "полифонии", многоголосия Достоевского ведет к той же неопределенности. Добро и зло — равнозначны … , цели и смысла нет. И пусть Достоевский бьется головой о стену и сгорает от внутреннего ужаса и тоски — они видят лишь многоголосие".
Конечно, следует отличать М.Бахтина и С.Аверинцева от их последователей и якобы последователей, от всех тех, кто, как омела, паразитирует на их творчестве, выдавая на гора многочисленные публикации, не имеющие никакого отношения к ним. В.Лакшин о подобной градации не говорит. Его же замечания в адрес Бахтина по смыслу совпадают с тем, что позже говорилось Владимиром Гусевым, Михаилом Лобановым, Сергеем Небольсиным.
ЕСТЕСТВЕННО, ЧТО В РАЗМЫШЛЕНИЯХ Владимира Яковлевича о Бахтине, Аверинцеве, Достоевском, современных либералах и т.д. встречаются мысли ошибочные, утверждения, требующие коррекции разной степени. Например, Ирина Роднянская, слушательница упомянутой лекции о Достоевском, почему-то попала в разряд либеральной интеллигенции. Если и "выходила из себя от злобы", как утверждает Лакшин, Роднянская (правда, интуиция подсказывает мне, человеку, знающему Ирину Бенционовну только по работам, что слово "злоба" к ней неприменимо), то, предполагаю, от суждений Владимира Яковлевича о "Вехах", Боге, Достоевском и т.д. Так, привязка либерализма, неверия к "Вехам" — подтверждение точности свидетельства Александра Солженицына о том, что "Вехи" Лакшин изучал по Ленину, то есть долгое время не читал их вообще, доверясь Ульянову. Или как без возмущения воспринимать мысли Лакшина о Достоевском из работы "Солженицын, Твардовский и "Новый мир" (1975)? Не исключаю, что нечто подобное звучало и на лекции: Достоевский — эгоцентрик, он "бранил евреев, грубо льстил Победоносцеву…".
НЕМАЛО МЕСТА В ДНЕВНИКАХ ЛАКШИНа 1969-1971 годов отводится медленной агонии "Нового мира", тому, как сдавали позиции, предавали, приспосабливались многие сотрудники, авторы, соратники журнала: Ю.Буртин, Е.Дорош, А.Марьямов, И.Борисова, Н.Бианки, С.Залыгин, В.Жданов и т.д. Владимир Яковлевич сознательно фиксирует различные мелочи, ибо они-то, с его точки зрения, и проясняют ситуацию. Два свидетельства в данном контексте, думаю, заслуживают особого внимания.
Во-первых, в происходящем для Лакшина нет ничего неожиданного: ситуацию, от которой ему противно и стыдно, "следовало ожидать".
Во-вторых, по мнению некоторых сотрудников "Нового мира", всему виной — сам Лакшин, который хотел только печатать свои статьи и не думал о журнале. Владимир Яковлевич так реагирует на данную версию: "Я всегда им был чужой, и даже когда они меня ласкали и хвалили, знали в тайне души, что я презираю их московский либеральный кружок, всех этих благодушных Цезарей Марковичей … и что мы из разного леплены теста".
Об этом журнальном резус-конфликте в статьях и воспоминаниях Владимира Лакшина, и не только его, — ни слова…
В связи с действительно бесславным поведением многих в узком и широком смыслах "новомировцев", "шестидесятников" вспоминается прогноз спецкора "Правды" Н.Печерского, зафиксированный в рабочих тетрадях Твардовского. На предположение Александра Трифоновича, что соредакторы "Нового мира" уйдут вместе с ним, спецкор ответил: "Никуда они не уйдут, покамест их не погонят, и то не всех, лишь тех, которые не сумели приспособиться…". Твардовский Печерскому не поверил, объяснив диагноз спецкора его принадлежностью к иному миру.
Если в комментариях В.Твардовской к рабочим тетрадям отца и в ее большой статье "А.Г.Дементьев против "Молодой гвардии" (Эпизод из идейной борьбы 60-х годов)" нет и намека на недостойное поведение "новомировцев", то в дневниках В.Лакшина им достается "по полной программе". Вот только несколько примеров.
Публикацию в девятом номере "Нового мира" за 1970 год "Деревенского дневника" Дороша Лакшин оценивает как "поступок, равноценный предательству", и характеризует Ефима Яковлевича с позиций верности "старому" "Новому миру", соответствия слова и дела: "И ведь как красно говорил об "исторической роли журнала" — в феврале витийствовал и резонерствовал пышнее, торжественнее всех, даже неловко становилось от его "высоких" слов. А сейчас, когда А.Т. погибает, Дорош украшает своим именем журнал Косолапова…".
Через год после увольнения Твардовского, Лакшина и других Л.Озеровой и А.Берзер предложили подать заявление об уходе. 16 февраля 1971 года Лакшин записывает в дневнике следующее: "И жалко, и противно. Все сбылось, как по нотам. Из них выжали все, что хотели, и теперь выбрасывают вон — достойная сожаления участь".
Неожиданной для Владимира Яковлевича является занятая по отношению к "Новому миру" Косолапова позиция В.Тендрякова, В.Некрасова, Ю.Трифонова, В.Жданова, В.Огнева и многих других. В.Огнев, например, к которому Лакшин всегда относился с симпатией, высказывается за сотрудничество с новым главным редактором, дает ему согласие стать членом редколлегии журнала и обвиняет Владимира Яковлевича в максимализме.
Уже после смерти Лакшина в мемуарах Огнева, вышедших в 2001 году, эта ситуация выглядит так: узнав об отрицательной реакции Твардовского и Лакшина на предложение Косолапова, Огнев отказывает ему. На самом деле, как уточняет в "Попутном" к дневнику Владимира Яковлевича его супруга, Владимир Огнев не отказался, а его не утвердили в Союзе писателей…
В НЕПРОСТОЙ СИТУАЦИИ, когда Лакшин лишился трибуны в "Новом мире", Владимира Яковлевича огорчала реакция коллег из дружественных журналов на его статьи. Те, кто помогал, например, Ст.Рассадину в "Юности" и "Вопросах литературы", В.Лакшина встречали, мягко говоря, прохладно. Из записи, сделанной 25 июля 1971 года, следует, что работа о Достоевском, предложенная в "Вопросы литературы", вызвала у главного редактора Лазаря Шинделя глубоко спрятанное недоброжелательство.
Из замечаний Шинделя приведу лишь то, которое является иллюстрацией либерального высокомерия, пустопорожней претензии на ум, научности и т.п.: "Но 1-я часть слишком популярна для такого высоколобого журнала, как наш". Вывод же, к которому в результате общения с главным редактором журнала пришел В.Лакшин: "Как будто приличные люди, но я не "свой" для них", — перекликается с мыслями Алексея Маркова о кастовости уже "Нового мира" Твардовского-Лакшина: "Как правило, приди ты окровавленный, упади на лестницу "Нового мира", — но ты чужой, не свой — тебя и не заметят!"
О "ПЬЯНСТВЕ" ПАТРИОТОВ — РЕАЛЬНОМ И МНИМОМ — ходят легенды, с которых часто начинается и заканчивается разговор о них. Что, дескать, с этих алкоголиков взять. "Левые" же — это якобы совсем другое дело: и пьют красиво, и пьют, задавленные "тоталитаризмом"…
"Новомировцы" пили, мягко говоря, много. Александр Твардовский в рабочих тетрадях и Алексей Кондратович в дневнике предельно редко говорят об увлечении "зеленым змием", Владимир Лакшин в дневнике — очень часто, как будто составляет досье на Твардовского, Дементьева, Кондратовича, Саца, Закса и т.д. или является представителем натурализма в литературе. Что стоит за таким пристрастием к фиксированию нередко неприятных подробностей, которые опускаю?
Владимир Лакшин как умный человек понимает: данный вопрос возникает неизбежно у читателей его дневников, поэтому он сам его задает и сам отвечает: "Иногда думаю: хорошо ли, что я пишу обо всем этом, ничего не скрывая о бедственном положении Александра Трифоновича, его несчастной слабости? Вдруг эта тетрадь попадет когда-нибудь в руки чужого, равнодушного человека и он использует во зло откровенность этих записей. Но нет, Трифоныча ничего не может уронить и унизить. Разве он пил бы так сейчас, если бы видел для себя хоть лучик надежды? Он уже трижды, четырежды вышел бы из запоя, если бы хоть что-то светило ему. А сейчас он боится возвращаться в реальность, нарочно замучивает себя, почти сознательно добивает". Подобную аргументацию использует Лакшин, когда 18 ноября 1971 года фиксирует в дневнике, что Кондратович допился до белой горячки.
В том, что Владимир Яковлевич, как и все "новомировцы", прилежный ученик В.Белинского и Н.Добролюбова, последователь "реальной критики", духовного спида XIX-XX веков, руководствовался логикой "среда заела", нет ничего удивительного. Также естественно, что логика эта не срабатывает, о чем свидетельствует прежде всего признание самого Александра Твардовского. 16 декабря 1968 года он приводит запись 25-летней давности: "Третьего дня в результате глупейшей и пошлейшей попойки в беспамятстве разбил лицо, нос, лоб — так что невозможно показаться на люди. Кажется, что это недвусмысленный подсказ: кончай. Все дурное, пошлое, вредное, нечистое, что бывало со мной, все, что мешает мне жить достойно, — от пьянства, распущенности, если не алкоголизма".
Понимаю, что пьяный Твардовский был "приятнее" и умнее многих в трезвом состоянии. Однако "максималисты" В.Лакшин и А.Солженицын правы: эта "слабость" Твардовского губила "их" дело. Эта "слабость", добавлю от себя, губит и "наше" дело: большая часть русских писателей, критиков и т.д. пропила Россию…
В РАССКАЗЕ ЮРИЯ КАЗАКОВА "Старый дом" авторское "я" выражается через мысли героя — композитора, живущего в России XIX века: "Если что-нибудь на свете стоит преклонения, стоит великой, вечной, до слез горькой и сладкой любви, так только это — только эти луга, только эти деревни, пашни, леса, овраги, только эти люди, всю жизнь тяжко работающие и умирающие такой прекрасной, спокойной смертью, какой он не видел нигде больше".
Подобное видение крайне чуждо "левым", ибо герой обретает свою веру, находит точку опоры в мире, который, в самом мягком варианте, называется ими "оплотом косности и животных страстей" (Г.Белая). И все же некоторые "левые" периодически прозревают, в первую очередь, сердцем. Так, 4 мая 1969 года В.Лакшин записывает в дневнике: "Я впервые испытал такое резкое, подлинное чувство любви к нашей природе, к полям этим и березовым рощицам, к каждому сарайчику, крытому почерневшей от дождей щепой".
И вполне возможно, что именно это проснувшееся чувство любви к русской природе, помноженное на страшные реалии либеральной современности, незадолго до смерти проросло во взглядах Владимира Лакшина неожиданными всходами. Он в статье "Россия и русские на своих похоронах" (1993) выступает против несправедливой критики всего "русского", против того, что "понятие "русский" мало-помалу приобрело в нашей демократической и либеральной печати сомнительный, если не прямо одиозный смысл. Исчезает само это слово. Его стараются избегать, заменяя в необходимых случаях словом "российский", как несколько ранее словом "советский".
Юрий Селезнев еще в 70-е годы обратил внимание на то, что в кратком этимологическом словаре русского языка отсутствуют слова "родина", "Россия", "Русь", "русский". Владимир Лакшин в 1993 году говорит о сходном явлении: в библиографических списках "Книжного обозрения" раздел "Русская художественная литература" заменен на "Общенациональная художественная литература". Критик не только ставит справедливые, естественно возникающие в этой связи вопросы, но и в духе Ю.Селезнева — М.Лобанова — В.Кожинова отвечает на них.
Один из ответов, если бы он был озвучен названными авторами, точно квалифицировался бы "левыми" как антисемитский: "И пока мы стесняемся слова "русский" (точнее, не хотим, потому что ненавидим — Ю.П.), американцы спокойно употребляют его для обозначения поселенцев из России на Брайтон-бич".
На схожее российское явление В.Лакшин указал еще в 1971 году. 17 марта этого года он записал в дневнике: "Пропала, рассеяна, почти не существует русская интеллигенция — честная, совестливая, талантливая, которая принесла славу России прошлого века.
Нынешняя наша интеллигенция по преимуществу еврейская. Среди нее много отличных, даровитых людей, но в существование и образ мыслей интеллигенции незаметно внесен и стал уже неизбежным элементом дух торгашества, уклончивости, покладистости, хитроумного извлечения выгод, веками гонений воспитанный в еврейской нации. Очень больной вопрос, очень опасный, но не могу не записать того, о чем часто приходится думать в связи с житейской практикой".
Опуская спор об "исторической" интеллигенции, отмечу то, что звучит неожиданно в устах В.Лакшина и в чем он, несомненно, прав. Идея о сущностных изменениях, привнесенных евреями в образ мысли и облик русской интеллигенции, сродни многочисленным высказываниям Василия Розанова. Понимаю, что такое утверждение покоробило бы и оскорбило бы Владимира Яковлевича, находившегося в плену "левых" стереотипов в восприятии Розанова, якобы "антисемита".
Показательно, что еврейский вопрос В.Лакшин определяет как "очень больной, очень опасный". И невольно, а может быть, вольно (ведь сам он говорит о частых раздумьях на эту тему, которые, правда, в дневниках не запечатлены) Владимир Яковлевич приведенным высказыванием впервые дает повод зачислить его в разряд "антисемитов", то есть беспристрастных и смелых мыслителей.
Свидетельством поправения взглядов Лакшина в конце жизни является его отношение к высказываниям Льва Аннинского, Александра Иванова, Михаила Берга, Дмитрия Галковского о русском народе, отечественной истории и литературе. Эти высказывания, которые убедительно оспаривает Владимир Яковлевич в указанной статье, — общее место в перестроечных "левых", русофобских изданиях, где он не только печатался, но и трудился. Значит, в той или иной степени, данные взгляды разделял.
Удивительно-неудивительно, что оценки и аргументация В.Лакшина совпадают с оценками и доказательствами "правых" второй половины 80-х годов: Вадима Кожинова, Анатолия Ланщикова, Михаила Лобанова, Владимира Бондаренко и других. Так, Майя Ганина, отталкиваясь от романа В.Гроссмана "Жизнь и судьба", одна из первых указала на следующую неприемлемую закономерность: "Не слишком ли часто русскому народу с легкостью приписывают грехи грузинов Сталина, Берии, еврея Кагановича, русских Хрущева, Брежнева? Перекладывают на него ошибки и преступления власти". Власти, уточню от себя, которая, начиная с февраля 1917 года, никогда не была и не является сейчас выразительницей идеалов и интересов русского народа.
Владимир Лакшин, полемизируя с Львом Аннинским, который, как и многие до и после него, видит корни большевизма в русском мире, говорит о западной интернациональной родословной его, что во многом созвучно пафосу нашумевшей статьи Вадима Кожинова "Правда и истина" ("Наш современник", 1988, № 4).
Критик в отличие от "левых", которые в таких случаях говорят о чеченских, татарских, украинских и т.д. жертвах "имперской" политики, делает упор на первую и главную жертву социального эксперимента — русских. К тому же В.Лакшин, как и многие "правые", уточняет, что большевики — дети разных народов. "И хотя я не придавал бы решающего значения тому, что среди идеологов и вождей большевизма русские не оказались в большинстве, утверждать противное вряд ли было бы честно".
В своем развитии Владимир Лакшин по сути повторил путь основателя "ордена русской интеллигенции" Виссариона Белинского. Если в последний год его жизни друзья-западники упрекали своего лидера в "тайном славянофильстве", то Владимир Яковлевич Лакшин итоговой статьей "Россия и русские на своих похоронах" дал повод "левым" для многих обвинений. Русофильство — самое мягкое из них. Скажем спасибо критику за его прозрение на краю жизни.
(обратно)Алексей Левадний АККОРДЫ РУССКОГО ДУХА
"Песнь о Русском Слове" композитора Юрия Алябова, названная автором "Симфоническая поэма-кантата на стихи русских поэтов", — это прорыв в современной музыкальной культуре.
Алябов давно известен своими работами в кино, театре, на радио и на телевидении — им написана музыка более, чем к двадцати фильмам, последний из которых "Я не вернусь" недавно с большим успехом прошел на канале СТС. Кому-то до сих пор памятна его песня "Путь-дорога дальняя", с которой начиналась программа "Красная стрела " на НТВ, а кому-то — музыкальные заставки программы "Точное время" радиостанции Маяк. Зрители-театралы узнают его по музыкальному оформлению спектаклей "Девичник", "Рикошет" и "Ведьма", с успехом идущих сейчас в Москве. Кстати, музыкальный материал к "Ведьме" лег в основу сольного компакт-диска, выпущенного в прошлом году актером Сергеем Безруковым. А спектакль "Маскарад" по Лермонтову, в постановке кишиневского театра "Лучафэрул", с музыкой Алябова, дважды удостаивался Гран-при на международных театральных фестивалях в Трабзоне и Бресте.
И вот новый творческий этап в жизни композитора — полноценная крупная форма как по замыслу, так и по выразительным средствам. По словам автора, инициатива создания кантаты принадлежит исполнительному директору ялтинского фестиваля "Телекинофорум" Александру Беликову. В сентябре 2003 года, в международный год Чехова, в рамках фестиваля планировалось открытие памятника великому писателю на одной из набережных Ялты. Вот для церемонии открытия Беликов и предложил Алябову написать "что-нибудь соответствующее". Композитора вдохновила эта идея, но свою задачу он увидел гораздо шире. "Чехов — неотъемлемая часть русской культуры, но русская культура — это не только Чехов. Более того, русская культура — это только часть того загадочного явления, которое называют в мире Русский дух. Мне показалось интересным отразить в музыке именно это явление", — говорит композитор.
На мой взгляд, Алябову это полностью удалось. Первое впечатление, которое остаётся после прослушивания "Песни" — это абсолютно русская музыка, но написанная в начале 21 века. Музыка, покоряющая, иногда даже пугающая своей мощью, широтой и глубиной.
Разумеется, искушенный слушатель легко сможет провести параллели с великими музыкальными предтечами композитора — Рахманиновым, Мусоргским, Бородиным, Свиридовым.
Но при этом в каждой ноте ощущается яркая индивидуальность автора, его искренность и преданность общей идее произведения. В значительной мере это определяется подбором поэтического материала — глубоким и тонким. Это, с одной стороны, великие поэты прошлого — Гумилёв, Ахматова, с другой — наши современники, некоторые из которых совсем еще молодые люди — Каргашин, Ларикова. А для финала кантаты стихи были специально написаны поэтом Кириллом Ковальджи.
Начинается "Песнь о русском слове" Зачином — инструментальной миниатюрой, написанной для фортепиано, оркестра и чтеца. Суровая, скупая мелодия главной темы делает еще более выпуклым мистический смысл гумилевских строк "...Солнце останавливали словом, словом разрушали города...". И затем как взрыв, как вспышка — тема, проходящая у оркестра, переходящая в виртуозную фортепианную каденцию. Точка. И после такого начала надо бы перевести дух, да некогда — зритель уже втянут в мистические перипетии всего, что связано с Русским словом как высшим проявлением русского духа и его проекции во внешний мир — истории, культуры, философии, мировоззрения.
"Богатырская"— вторая часть — в исполнении солиста театра им. Станиславского Михаила Урусова — дань русским былинным традициям. Дремлющая удаль, восхищение родной природой, готовность отдать все, и немалые, силы в борьбе против зла — вот позиция наших дедов и прадедов, дошедшая до сегодняшнего дня. И в борьбе с этой силой враг не остановится ни перед чем — коварство и предательство — вот его главное оружие. Об этом повествует третья часть — "Мы были сильными" — на стихи Сергея Каргашина. Эта часть, по-видимому, самая "хитовая", выражаясь современным языком. Жесткий трехдольный ритм, четкие структурированные фразы, мощная, плотная хоровая фактура — все это создает ощущение надвигающейся беды, от которой мороз пробегает по коже. А всему виной излишняя доверчивость русского народа — "...на стол все лучшее гостям мы ставили, смиренно слушали их речь лукавую...". Удивительные, пророческие слова, так хорошо объясняющие многие факты прошлого и настоящего нашей страны. Печален и финал третьей части — "...мы были сильными — проснулись слабыми, проснулись слабыми, в цепях и с лапами". И чтобы сохранить себя как народ, как нацию, нужно приложить немало сил, отдать немало жизней своих сыновей.
Их памяти посвящена пятая часть — "Пули-Гули" — пронзительное антивоенное произведение в исполнении замечательной певицы Стеллы Аргату. И, наконец, финал, который предваряют стихи Ахматовой — “...мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне...” — своего рода приговор сегодняшнему состоянию культуры в России и тем, кто за этим стоит.
Но русский дух не сломлен, и будущее — за силами добра и света — таков мощный финальный аккорд, завершающий кантату.
В советские времена было такое явление — произведения, написанные "в стол". Сейчас другая цензура — цензура псевдорынка. Те, кто диктуют стране свои правила игры, объясняют это якобы экономическими механизмами — народ потребляет то, что ему нравится. При этом у людей толком никто не спрашивает, а попросту навязывают многократными эфирными ротациями низкопробное культурное "мыло". Хочется верить, что "Песнь о русском слове" всё-таки прорвётся, дойдёт до широкого зрителя. По крайней мере, на мой взгляд, это произведение, гораздо более достойно представлять Россию на серьёзных международных форумах, типа Московского кинофестиваля. А то как-то обидно за державу, когда в зале сидит Энио Морриконе, а на сцене Россию представляет группа "Фабрика". Как будто нет хора Минина, "Виртуозов Москвы", Евгения Кисина и многих других артистов и музыкантов, которых сегодня на Западе знают гораздо лучше, чем дома.
И хочется верить, что "Песнь о русском слове" — это не последняя ласточка, возвещающая весну возрождения русской культуры.
(обратно)

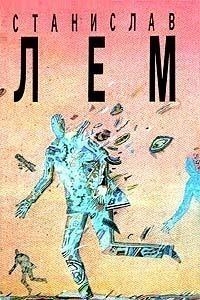
Комментарии к книге «День Литературы, 2005 № 10 (110)», Газета «День литературы»
Всего 0 комментариев