Владимир Бондаренко МЕЖДУ ВОЛКОМ И СОБАКОЙ (К 50-летию Юрия ПОЛЯКОВА)
Мне всегда был загадочен одновременно коммерческий, политический и общественный успех при всех властях незаурядного русского писателя Юрия Полякова. Поражала независимость его суждений при достаточно высоком официальном статусе.
Прирожденный лидер — скажете вы. Согласен, но таких-то власти и не любят, предпочитая опираться на сереньких мышек. Этим не объяснить редкое сочетание остро-критических, сатирических произведений, от которых должны беситься все чиновники и лизоблюды, всегда взвешенных точных аналитических статей, неизменное — может, даже подсознательное — тяготение к патриотической оппозиции и при этом уважительное отношение любых властных структур.
Догадка пришла сейчас, в дни его пятидесятилетнего юбилея.
Все официальные средства информации поздравляют его именно 12 ноября. Да и в паспорте черным по белому написано — 12 ноября 1954 года. А на самом-то деле родился Юра 13 ноября, как раз на чертову дюжину. Родители, простые советские труженики из рабочей среды, как и положено по тем временам, считали себя атеистами, но всякой нечисти по старинке побаивались и в приметы верили. Никак не хотели они своего ребеночка записывать на чертову дюжину. Боялись его несчастной судьбы в будущем. И уговорили в загсе записать сыночка на 12 ноября, дав этим ему хорошую защиту на всю жизнь.
12 ноября — это своеобразный оскароуальдовский портрет Дориана Грея. Всегда добропорядочный, всегда лояльный, всегда политкорректный.
Под знаком 12 ноября идет у Юрия Михайловича Полякова вся его благополучная номенклатурная жизнь.
Под знаком 12 ноября он становится в советские времена комсоргом всей писательской организации.
Под знаком 12 ноября его делают редактором газеты "Московский литератор" и предлагают пойти работать в ЦК комсомола.
Под знаком 12 ноября он после разгрома СССР становится на какое-то время одним из прорабов перестройки, входит в новые постсоветские официальные круги.
Под знаком 12 ноября уже в путинское время его назначают главным редактором вконец провалившейся радикально-либеральной "Литературной газеты".
И, наконец, под знаком 12 ноября он становится членом президентского совета по литературе.
Но все эти годы какой-то чертенок тащит его с этих официальных кресел в темную подворотню. Где жизнь идет по законам 13 ноября.
Тут-то начинается другая, настоящая, подлинная жизнь писателя Юрия Полякова.
Тут-то комсомольский, партийный работник пишет разгромную правдивую повесть о развале комсомола.
Тут-то любимец Министерства обороны, летописец фронтовой поэзии пишет свои нашумевшие "Сто дней до приказа".
Тут-то прораб перестройки, уважаемый всеми либерал Поляков пишет буквально на другой день после расстрела Дома Советов в октябре 1991 года статью "Оппозиция умерла. Да здравствует оппозиция!", а вскоре публикует совершенно антилиберальную повесть "Демгородок", которую можно считать призывам к свержению ельцинского режима..
Тут-то литературный функционер пишет издевательскую, блестящую сатиру на писательские нравы "Козлёнок в молоке", после которой писательская масса дружно отвернулась от автора. Последствия успеха "Козлёнка в молоке" он ощутил на съезде писателей России.
Тут-то приближенный к демократическим властям писатель свободно печатается в газетах "День" и "Завтра", в своих полемиках и сатирах становясь наравне с бунтарями Прохановым и Лимоновым…
Это будто добрейший Андрей Донатович Синявский в одной жизни преподает в театральном вузе, работает в академическом институте, печатается в толстых литературных журналах. А в другой жизни разудалый Абрашка Терц творит совсем уж непотребные ни для советской власти, ни для добропорядочных граждан сатирические повести и "Прогулки с Пушкиным". Но в Синявском сидел русский подпольный человек Достоевского.
У нашего юбиляра никакого подпольного человека нет, рожденные в два разных дня писатели носят одно и то же имя — Юрий Михайлович Поляков.
И всё-таки есть в его жизни эти две не скрещивающиеся линии. Одна линия — 12 ноября, в официальный, защитный от всех напастей по желанию родителей день рождения, эта благополучная линия не нарушается при любой власти, и без каких-то провалов ведет Юрия Полякова вверх и вверх по официальной лестнице.
Это, условно, линия собаки. Добропорядочного пса, не лукавого, не подличающего, но законопослушного и исполнительного. Её-то и отметят 12 ноября на первом юбилейном вечере дюжина помощников Лужкова, дюжина помощников Путина и другие официальные лица. Я принимать участие в этом первом юбилее отказался. Да не очень-то и звали.
Вторая линия — подлинный день рождения 13 ноября 1954 года, эта линия и сделала Юрия Полякова настоящим писателем, блестящим сатириком, жестким публицистом, независимым русским мыслителем. Это линия волка, легко перепрыгивающего через все красные флажки. Я давно знаю, как бы ни нашептывали поляковские недруги и завистники, — эта линия у него главная, с этой линии он не сойдет. При столкновении 13 ноября с 12 ноября всегда победит линия непредсказуемого вольного творчества. Вот за эту линию жизни я и подниму свой бокал 13 ноября в Доме Литераторов.
Говорят, высокий британский чиновник Свифт тоже поражал подчиненных и начальников своими вольнодумными ироническими книгами.
Говорят, и вице-губернатор Салтыков-Щедрин приводил в недоумение, а то и в ярость чиновных коллег своими резкими сатирическими произведениями.
В этом сочетании двух дней и кроется разгадка читательского успеха Юрия Полякова. Пишет-то свободные, разящие, ироничные книги автор, рожденный в чертову дюжину, но прикрывает его, находит пути распространения и пропаганды книг и пьес всегда благополучный, всегда энергичный именинник дня двенадцатого.
О нём не любят писать ни левые, ни правые критики, но книжки-то его точно почитывают. А это главное.
Да и в своей официальной жизни Юрий Поляков всегда опирается на ту линию, которая идет от его подлинности. Вот почему и "Литературная газета" так резко изменилась, обрела вольное русское дыхание. Валентин Распутин даже назвал это подвигом.
Я -то думаю, что настоящий день рождения всегда, ещё со школьных времен, заполнял всё содержимое тех должностей и обязанностей, которые торжественно вручались высоким начальством писателю по двенадцатым числам. Но собака щедро делится с волком, а волк водит собаку по своим тайным лесным тропам. Волк с собакой давно уже подружились, и вместе расчищают русский лес.
(обратно)ЕЩЕ СТО ЛЕТ ДО ПРИКАЗА!
В дни юбилея Юрия Михайловича ПОЛЯКОВА ему, по-настоящему хорошему русскому писателю и главному редактору известнейшей "Литературной газеты", придётся (а к моменту выхода в свет этого номера "Дня литературы" — наверняка уже пришлось) принимать такое множество поздравлений, что в этом согласном хоре трудно будет различить какие-то отдельные голоса, если, конечно, они идут не с самых высоких вершин политической власти. Но везде, во всех слоях нашего общества: и сверху, и снизу, и посредине, — у Юрия Полякова есть свои читатели и почитатели. На таких, как он: рабочих, крестьянах, солдатах, — испокон веков держалась Русь. Его творчество всегда — объединяющее, а не разъединяющее, он всегда — на шаг впереди основных сил, впереди главной колонны. Ровно на шаг — не на два и не на десять, не где-то в стороне и не где-то сзади. Счастливое свойство лидера. Возможно, именно поэтому его человеческая и литературная судьба никогда не становилась игрушкой в чьих-то чужих руках — Юрий Поляков всегда твердо стоял на земле: той самой земле, которой чужой — не нужно ни пяди, но и своей — клочка не отдадим. Эта воинская самостоятельность, эта верность своим принципам, своей присяге, присуща юбиляру в той же мере, что и какому-нибудь "батяне-комбату", сверх всяких сроков тянущему свою служебную лямку в одной из многочисленных "горячих точек" на границах России. Литература — такая же "горячая точка", и война здесь идет не на шутку. Так что еще сто лет до приказа, Юрий Михайлович! Здоровья и новых творческих достижений!
Редакция газеты "День литературы"
(обратно)Владимир Винников «ЭТО РУССКАЯ ЖИЗНЬ БЕЗ ОТВЕТА...»
Прошел год со дня смерти Юрия Поликарповича Кузнецова. В подобной ситуации даже нельзя сказать, что, мол, "большое видится на расстояньи" — как большое и особенное явление русской поэзии Юрий Кузнецов был хорошо виден и при жизни своей. Да и год — еще не "расстояние". Но — уже время для несколько иного, не сиюминутного, взгляда на творчество поэта.
70-е и начало 80-х годов при Горбачеве было принято называть "застоем". Велик был соблазн и литературу того времени представить "застойным царством номенклатуры". Не менее велик был и другой соблазн: представить ее, литературу, в диссидентско-модернистской части своей, чуть ли не "буревестником перестройки и демократических реформ". На следовании двум этим соблазнам до сих пор строится практически вся концепция литературного процесса того времени, принятая в нынешних "либеральных" кругах. В кругах же патриотических едва ли не господствует прямо противоположная и, соответственно, реактивная (не путать с реакционной!) установка: всё было просто замечательно, и если бы не сволочные "демократы"-модернисты с "нацменами" вкупе, то и оставалось бы замечательным по сию пору.
Но всё это — внешние и даже второстепенные обстоятельства, уводящие нас далеко от сути дела. 70-е годы характерны не столько "застойностью" своей, сколько "мифологичностью". Думать, будто миф не имеет ничего общего с реальностью — как минимум, заблуждение.
Так, рассматривая особенности античной мифологии, А.Ф.Лосев, один из "трех китов" отечественной эстетики (наряду с М.М.Бахтиным и Э.В.Ильенковым), прямо связывал их с родо-племенным строем, с невозможностью для тогдашнего человека объяснить мир иначе, нежели через семейно-бытовые отношения. Говоря о патриархальности русского крестьянства, естественным было бы предположить и здесь перенос семейных, в лучшем случае — общинных отношений на общество и мир в целом. Фразеология типа "многонациональной семьи", "республик-сестер", "старшего брата" и даже "отца народов", — вовсе не случайность и не "метафорический ряд", но ряд именно мифологи-ческий, который для носителей патриархального, традиционного мировоззрения имел вполне определенное, самоценное и действительное содержание.
Впрочем, мифология "сталинского" периода принципиально не сводима ни к античным, ни к любым иным прототипам, хотя еще в "Диалектике мифа" (1930) тот же Лосев с изрядной иронией писал о всевозможных "акулах империализма" и "гидрах контрреволюции", плотно заселяющих сознание множества его современников. Смысл мифотворчества — в ином. Как выясняется, без собственной "мифологии" немыслима любая возникающая общность людей. Мифология знаменует собой характерный именно для этой общности опыт непосредственного восприятия мира и дает своего рода "аналогическую причинность" важных, значимых для данной общности явлений и событий, которые определяют ее аксиологию, ее систему ценностей. "Мифы рассказывались отнюдь не с развлекательными целями, хотя сюжеты и были очень интересны. Мифы связаны с культами. Культы должны были воздействовать на божества, а божества — помогать людям. Разница между мифами и сказками есть, следовательно, разница социальной функции",— писал, в частности, В.Я.Пропп. Ту же, по сути, точку зрения высказывал и такой специалист, как И.М.Тронский: "Миф, потерявший социальную значимость, становится сказкой".
Характеризуя с этих позиций "сталинскую" мифологию, мы обнаружим попытку уникального синтеза остаточной мифологии народной сказки — причем сказки не только русского народа — с партийной мифологией, так сказать, революционного интернационала. Сюда же плюсовалась мифология инженерно-технологическая, совсем уж новаторская — даже во всемирном измерении. Кстати, в близком ключе происходило "оживление мифологии сказок" немецкими романтиками в первой половине XIX века — но, разумеется, без двух последних составляющих, замененных мифологией "единой Германии".
Столь сложная и внутренне противоречивая структура "сталинской" мифологии, несомненно, отражала сложную и внутренне противоречивую социальную практику советского общества тех лет. А создание мощного слоя "ново-городского" населения объективно требовало совершенно иной мифологии как орудия социальной адаптации. Формирование этой новой мифологии шло — возможно, данное утверждение покажется неадекватным — абсолютно стихийно: в мире тогда просто не было систем, освоивших социальную практику такого уровня, на который вышло советское общество. А, следовательно, и манипулировать соответствующей символикой — подобно тому, как эллинистические общества манипулировали мифологией римлян, — не имели возможности ни США, ни Европа, ни весь Запад в целом.
Другое дело, что формирование этой новой мифологии, будучи делом стихийным, стихийно же обращалось к готовым "мифологическим формулам" прошлого: как собственного, так и западных обществ, примеряя их на себя. Почему "впору" показалась отравленная одёжка мифологий "свободного рынка" и "общечеловеческих ценностей" — это совершенно отдельный и долгий разговор. В 70-е годы такой выбор еще предстоял и, по большому счету, вовсе не был предопределен.
О поэзии Юрия Кузнецова немало писали и спорили критики, специально отмечая мифологизм ее. Но этот мифологизм рассматривался как некая личная особенность автора, ничем не обусловленную — ну, разве что родственной близостью к античной Тавриде. На деле, как явствует из вышеизложенного, это было далеко не так. Именно связь героя поэзии Ю.Кузнецова с мифологическим, ирреальным, но воспринимаемым как действительный, миром — важнейшее достижение поэта, ибо его прямое обращение к "традиционной" народной мифологии в противоход официозу мифологии социальной отразило общую "мифологичность" 70-х как основное качество той эпохи.
И, поскольку поиски "нового национального мифа" или "новой национальной идеи" еще не окончены, творчество Юрия Кузнецова продолжает оставаться жгуче современным и даже за-временным, принадлежащим в большей степени даже будущему, чем прошлому или настоящему...
Если обратиться к ранним стихам Ю.Кузнецова, то очевидной станет весьма своеобразная эволюция его поэтики.
Бумажного змея пускаю в зенит.
Как он поднимается быстро!
Обрывки газет нанизавши на нить,
Я ввысь посылаю, как письма…
А может быть, змея давно уже нет?
Но слышу я: дергаясь прытко,
Натянута тонкая-тонкая нить, —
Та, к детству ведущая нитка…
Куда он взлетает, мой мир молодой,
Обычному глазу не видно,
Вот только сильнее мне режет ладонь
Суровая длинная нитка...
Уже здесь видна склонность поэта к аллегории: нитка змея — нитка к детству, то есть образ нити несет двойную смысловую нагрузку, представляет собой не только некий реальный объект, но и другой, параллельный образ. В дальнейшем аллегории у Юрия Кузнецова "уплотняются" до символа, когда "параллельный" образ представлен уже не в ином образе, а — всего лишь — в элементе его: в словосочетании, даже отдельном слове. Вот, например, из стихотворения "Муха" (1979):
Отпусти,— зазвенела она,—
Я летала во все времена,
Я всегда что-нибудь задевала.
Я у дремлющей Парки в руках
Нить твою задевала впотьмах,
И она смертный стон издавала…
"Нить" — уже не "простой" художественный образ, но образ-символ, который, будучи сведен до единственного слова, уже на правах элемента "встроен" в иной образ, а через него — в образную структуру всего произведения. Впрочем, такое инобытие символа, несущего в себе семантику всего представленного в нем образа, как бы раскрывает перед читателем другое измерение, другое, уже символическое пространство и время, в котором обычная муха, пролетая возле реально дремлющей Парки, способна оборвать нить чьей-то жизни. "Муха" рвёт — "игла" сшивает…
На том иль этом берегу
Она блеснула мне.
Я отыскал ее в стогу
На отчей стороне.
Она звенит в руке моей
Залетным соловьем.
Уже толпятся сто чертей
На кончике пустом.
— Скажи, игла, какой тщеты
Идет твоя молва?
Каких одежд касалась ты?
Какого покрова ?
Или скажи, в какой конец
Далёко-далеко
Скакал удалый молодец
Через твое ушко ?
— Я помню вечную швею
Среди низин и дыр.
В моё ушко продев змею,
Она чинила мир.
Я прошивала крест и круг ,
И тот, и этот свет,
Меняя нитки , как подруг,
И заметая след.
("Игла", 1978).
Сравните:
Латать дырявый мир — удел таков
Сапожников, врачей и пауков…
("Змеи на маяке", 1977).
Я вынес пути и печали,
Чтоб поздние дети смогли
Латать им великие дали
И дыры родимой земли…
("Знамя с Куликова", 1972).
Здесь, в ретроспективе и пунктиром, обозначена только одна линия символических образов в поэзии Юрия Кузнецова, ее постепенное оформление и насыщение смыслом. Но таких линий в его произведениях возникает много (выделены выше полужирным курсивом. — В.В.), они ветвятся, пересекаются, совмещаются, создают новые смыслы, — так что в этом созданном мире оказывается трудно сориентироваться и самому поэту. Порой его "я" с напряжением и мукой выламывается из мифа, созданного, по сути, тем же "я" — и тогда возникали строки, которые не обошел стороной, пожалуй, ни один критик, писавший о творчестве Юрия Кузнецова:
…Звать меня — Кузнецов. Я один.
Остальные — обман и подделка.
или
…Я пил из черепа отца
За правду на земле…
"Единственное препятстви
е, всерьез стоящее на пути Юрия Кузнецова — это "образ Кузнецова", "лирический герой". И путь этого поэта непредсказуемо далек. Что возобладает: явно бесценное для поэта и далеко не чуждое ему народно-нравственное начало или столь же явная печать индивидуализма, нравственного вивисекторства, ячности, — покажет время", — писал некогда Ю.Кашук ("Вопросы литературы", 1988, №6). Время показало, что два эти качества в поэзии Ю.Кузнецова взаимообусловлены, как два полюса магнита, потому что решиться выступить против "советской" мифологии можно было только отстранившись от нее, ощутив себя — хотя бы отчасти — "свободным атомом", вылетевшим за пределы этого общества.
…Не говори, что к дереву и птице
В посмертное ты перейдешь родство, —
Не лги себе. Не будет ничего.
Ничто твое уже не повторится…
В подобном ощущении, осознании и утверждении особенности, исключительности, а также тесно связанного с ними одиночества собственного "я" поэт был вовсе не одинок — семидесятые годы вообще являлись временем активнейшего индивидуального мифотворчества под маской "продолжительных и бурных аплодисментов, переходящих в овации". И одна из сторон этого двойственного бытия неминуемо воспринималась как инфернальная, "темная", оборотная, зеркальная, отчужденная, но столь же равноправно присущая бытию собственного "я", как и внешняя. Зачастую они менялись местами, и тогда отчуждение приобретало уже социально-политический характер. Всё диссидентское движение было, по сути своей, суммой индивидуальных мифологий, различно локализованных во времени и пространстве (от праславянского, "арийского" язычества до мифологизированной Америки), но отрицающих мифологию "советского образа жизни" — и уровень собственной социальной адаптации зачастую приносился в жертву этим — не мифам, но мифологемам. Чуть позже данное явление приобрело массовый характер и, соответственно, более стертые в художественном отношении черты "поколения дворников и сторожей", почти целиком ушедшего в "эмиграунд" — андеграунд и эмиграцию.
Но среди поэтов предыдущего периода, "когда всё только начиналось", эта особенность была сильнее всего выражена именно у Юрия Кузнецова, в его творчестве она получила самое яркое и острое воплощение. "Мы" для поэта попросту не существовало, неминуемо разделяясь и даже распадаясь на бесконечно далекие друг от друга "я" и "они":
Мы по кольцам считали у пня —
Триста лет расходились широко.
Русским князем назвали меня,
И сказал я потомкам Востока…
Исключения — редки и однозначны. Даже к отцу, погибшему на войне, Юрий Кузнецов предъявлял свой собственный счет:
Отец! — кричу. — Ты не принес нам счастья!
Впрочем, это — не просто счет, и это — не обвинение. Это именно крик, это просьба о помощи, которой уже не будет, и о счастье, которого никто, кроме отца (и Отца — с большой буквы), не в силах принести. Это крик в пустоту — вернее, даже в инобытие, в то самое иное измерение бытия, — без надежды на ответ, но с надеждой быть всё же услышанным, с надеждой на само существование такого измерения.
Кузнецовская Русь, Россия только благодаря этому измерению, получает способность, даже утратив всякую земную опору, не провалиться в тартарары, но висеть в небе без единого гвоздя, быть самодостаточной и не зависеть ни от чьих ответов на свои слова. Столь четко выписанный в творчестве Юрия Кузнецова путь из "отечества земли" к "небесному отечеству" через "отечество слова (Слова)" и делает его поэзию столь значимой для современной русской литературы и культуры в целом.
Владимир ВИННИКОВ
(обратно)Юрий Кузнецов ЗНАМЯ С КУЛИКОВА
Сажусь на коня вороного —
Проносится тысяча лет.
Копыт не догонят подковы,
Луна не настигнет рассвет.
Сокрыты святые обеты
Земным и небесным холмом.
Но рваное знамя победы
Я вынес на теле моём.
Я вынес пути и печали,
Чтоб поздние дети могли
Латать им великие дали
И дыры российской земли.
(обратно)ХРОНИКА ПИСАТЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ
СТАЛИНГРАД — ИМЯ ПОБЕДЫ
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.В. ПУТИНУ,
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Участники пленума Союза писателей России обращаются к Президенту и Федеральному Собранию Российской Федерации с призывом вернуть имя Сталинград городу, ставшему легендарным символом противостояния фашистской агрессии и предопределившему подвигом своих защитников Победу над человеконенавистническим гитлеровским режимом.
Сталинград вошел в сознание всех свободолюбивых народов мира образом героизма и духовной стойкости единого в борьбе с захватчиками народа. Его именем названы десятки улиц в странах европейского сообщества, в наследии национальных культур сохранены полотна, книги, поэмы, воспевающие величие военного и гражданского подвига России.
У всякого воинского подвига есть свое неотъемлемое имя — Бородино и Куликово поле, Фермопилы и Ватерлоо, Курская дуга и Севастопольское сражение. Есть и пребудет в веках имя великой битвы на Волге — Сталинградское сражение. Возвращение великого подвига в сознание современной России в возрожденном имени города-героя станет достойнейшим подтверждением нашей негаснущей памяти о тех, кто, не щадя живота своего, отдал жизнь за Отечество и за други своя.
Мы убеждены, что возвращенное Сталинграду имя укрепит единство, волю и дух народа, ни на минуту не забывавшего о том, что с этим именем он пронес Победу до стен Берлина, и возрождение Сталинграда стало началом восстановления разрушенной в огне войны страны. С именем Сталинграда наши дети и внуки будут тверже стоять на защите рубежей и исторических интересов России.
Одно из имен нашей Великой Победы — СТАЛИНГРАД. И это имя должно вернуться городу на Волге в год шестидесятилетия памяти о подвиге его защитников.
Участники Пленума Союза писателей России, посвященного 60-летию Победы
Волгоград — Сталинград,
5 октября 2004 г.
ПЕРВАЯ УШАКОВСКАЯ СОБОРНАЯ ВСТРЕЧА
В День Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября 2004 года Ярославль принимал гостей из разных городов и весей России, прибывших на торжества, посвященные прославлению в лике святых Русской Православной Церкви праведного Феодора (Ушакова) Освященным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви.
Гости Ярославской земли, по благословению Высокопреосвященного Кирилла, архиепископа Ярославского и Ростовского, собрались в Администрации Ярославской области для участия в Первой Ушаковской Соборной встрече Всемирного Русского Народного Собора.
Открылось высокое собрание словом представителя Президента Российской Федерации в Центральном Федеральном округе Г.С.Полтавченко: "Сердечно поздравляю Вас с открытием в святых городах Ярославле и Рыбинске, по благословению Высокопреосвященного архиепископа Ярославского и Ростовского Кирилла, Соборной Ушаковской встречи в рамках Всемирного Русского Народного Собора, посвященной вопросам духовной безопасности России. В ЗАЩИТУ ПИСАТЕЛЯ
В связи с уголовным преследованием члена СП России, писателя и публициста, бывшего министра печати РФ Б.С.Миронова в правление Союза писателей России поступило следующее письмо писателей России с требованием довести его до сведения Генерального прокурора Российской Федерации В.В.Устинова:
Генеральному прокурору Российской Федерации
Устинову В.В.
Глубокоуважаемый Владимир Васильевич!
Писатели России встревожены попытками судебного преследования члена Союза писателей Миронова Бориса Сергеевича за изложение им размышлений об общественно-политической ситуации в стране.
Странным кажется, что вместо того, чтобы разбирать и исправлять недочеты, разрешать назревшие проблемы гражданских прав и свобод, социального неравенства, захлестнувших общество коррупции, бессовестного бандитизма и преступности, органы надзора за законностью в Новосибирской области занимаются организацией преследования за инакомыслие.
Право писателя — высказывать свои взгляды, мысли и даже предположения, которые следует учитывать, принимать к сведению или не принимать.
Считаем совершенно недопустимым преследование писателя Б.С.Миронова за его инакомыслие и взгляды. Это противоречит нормам гражданского общества и правам человека.
М.Алексеев, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий,
Ю.Бондарев, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий,
В.Бондаренко, главный редактор газеты "День литературы", лауреат Большой литературной премии России,
Л.Бородин, главный редактор журнала "Москва", лауреат Большой литературной премии России,
В.Ганичев, Председатель правления СП России, лауреат Большой литературной премии России и им. С. Т. Аксакова,
В.Гусев, лауреат премии Правительства Москвы,
А.Дорин, руководитель Пресс-центра СП России,
Н.Дорошенко, главный редактор газеты "Российский писатель", лауреат премии им. М.Н.Алексеева,
Г.Иванов, лауреат премии им. Ф.И. Tютчева,
Е.Исаев, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии,
С.Котькало, главный редактор журнала "Новая книга России", лауреат премий им. А.Суворина и "Национальный резерв",
А.Ларионов, лауреат Международной премии им. М.А.Шолохова,
В.ЛиЧутин, лауреат премии им. Л.Толстого,
С.Лыкошин, лауреат премий им. А.Толстого и Ленинского комсомола,
И.ЛЯпин, лауреат премий "Сталинград" и Ленинского комсомола,
Н.Переяслов, лауреат премии им. А.Платонова,
М.Попов, лауреат премии Правительства Москвы,
А.Проханов, главный редактор газеты "Завтра", лауреат премий "Национальный бестселлер" и Международной им. М.А.Шолохова,
А.Сегень, лауреат Большой литературной премии России,
К.Скворцов, лауреат премии им. М.Ю.Лермонтова,
В.Сорокин, лауреат Государственной премии РСФСР,
О.Шестинский, лауреат премии им. Кирилла и Мефодия (Болгария).
Это знаменательное событие проходит в дни, когда Архиерейский Собор Русской Православной Церкви определил причислить к лику общецерковных святых и включить в Месяцеслов Русской Православной Церкви имена преподобного Феодора Санаксарского (Ушакова) и праведного воина Феодора (Ушакова), уроженцев Ярославской земли.
Опыт и подвиг жизни праведного воина Феодора (Ушакова), адмирала флота Российского и его дяди преподобного Феодора Санаксарского (Ушакова) явственно показывают, что безопасность России всегда находилась в прямой зависимости от людей, стоящих на страже духовных устоев Отечества.
Вопрос, поставленный на повестку дня высоким собранием участников Соборной Ушаковской встречи, является прямым свидетельством незыблемости Российского общества. Я желаю вам успешной работы и верю, что плоды трудов Ваших падут на плодотворную почву и дадут хорошие всходы по врачеванию душ россиян, в условиях, когда весь народ России лицом к лицу столкнулся с откровенным вызовом мирового терроризма.
Духовная безопасность России — это залог ее государственной целостности и незыблемости, это счастливые и радостные лица наших детей, это выполнение исторической миссии России в современном мире".
В работе Круглого стола на тему "Духовная безопасность России" (г.Ярославль, Администрация Ярославской области) приняли участие и выступили с докладами и сообщениями: Председатель Союза писателей России, заместитель Главы ВРНС В.Ганичев, вице-губернатор Ярославской области, профессор Н.Воронин, сопредседатели СП России С.Лыкошин и С.Перевезенцев, руководитель департамента полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе А. Макаров, советник аппарата полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе С.Колов, Председатель Калужского морского собрания, вице-адмирал О.Фалеев, секретари правления СП России В.Середин, главный редактор журнала "Новая книга России" С.Котькало и руководитель пресс-центра СП России А.Дорин, капитан I ранга В.Овчинников (Институт военной истории МО РФ), главный редактор журнала "О Русская земля" М.Ганичева, историк и публицист З.Чавчавадзе, ученые Ю.Юшкин (ИМЛИ им. Горького), Г.Аксёнова (РГБ), И.Иноземцева (Всероссийский научно-исследовательский Институт документоведения и архивного дела), Н.Никольская, профессор М.Мусин (Московский университет), главный редактор журнала "Виктория" С.Паршиков и многие другие участники из разных городов России.
По завершении работы Круглого стола, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, высказав слова благодарности В.Н.Ганичеву за то, что он, много лет занимаясь фундаментальными исследованиями жизни и деяний во благо Отечества адмирала Феодора Ушакова, довел эту тему до тех пределов, которые позволили обратить на неё внимание и Освященного Архиерейского Собора, принявшего решение о канонизации адмирала Фёдора Ушакова, владыка Кирилл наградил Валерия Николаевича памятной медалью святых Ярославских чудотворцев Фёдора, Василия и Константина.
В оставшееся время дня и вечера участники Встречи совершили паломническую поездку по родным местам адмирала Федора Ушакова. В деревне Хопылёво (находящейся в трёх верстах от сельца Бурнаково — родины Ф.Ушакова) в полуразрушенном храме Богоявления-на-Острову, где крестили будущего великого флотоводца, архиепископ Ярославский и Ростовский Кирилл вместе с епархиальным священством отслужили благодарственный молебен, посвящённый памяти святого праведного воина Феодора Ушакова.
Участники Соборной встречи возложили цветы к памятному кресту, воздвигнутому на высоком волжском берегу, выполненному скульптором в виде якоря.
Этот крест (автор проекта В.В.Кольга, штурман Ярославской флотилии юных моряков) установили нынешним летом члены Православного молодёжного движения "Вектор" Ярославской епархии совместно с ребятами из флотилии имени адмирала Фёдора Ушакова.
Паломники успели помолиться и приложиться у святых мощей и чудотворных икон в Фёдоровском кафедральном соборе г.Ярославля, Толгском монастыре, Воскресенском соборе г.Тутаева (до 1918 г.— Романов-Борисоглебск).
15 октября, в день, когда Русская Православная Церковь чтит память святого праведного воина Феодора Ушакова, в Георгиевском храме г.Рыбинска архиепископ Ярославский и Ростовский Кирилл в сослужении сонма священнослужителей г. Рыбинска и Ярославской области совершил Божественную литургию, в которой молились совместно участники Ушаковской встречи и все рыбинцы.
Затем в Концертном зале Дворца культуры Рыбинского моторного завода открылась научно-практическая конференция "Феодор Ушаков — праведный воин Отечества", посвящённая памяти и духовному подвигу уроженца земли Ярославской святого праведного воина Феодора (Ушакова), адмирала флота Российского. С докладами и сообщениями выступили архиепископ Ярославский и Ростовский Кирилл, губернатор Ярославской области А.Лисицын, Председатель СП России В.Ганичев, сопредседатель СП России, доктор исторических наук С.Перевезенцев, вице-адмирал О.Фалеев, секретарь СП России, главный редактор журнала "Новая книга России" С.Котькало, историк и публицист З.Чавчавадзе, начальник отдела истории воспитательной работы Института военной истории МО РФ капитан I ранга В.Овчинников. На конференции присутствовали представители военной науки, высшего и среднего образования, литераторы и журналисты, учащиеся школ, ВУЗов, военных училищ.
В ходе конференции было предложено назвать одно из речных училищ и среднюю школу в Ярославской области именем святого праведного воина Феодора Ушакова. Губернатор Ярославской области Анатолий Иванович Лисицын поддержал инициативу участников встречи и обещал, что решение о присвоении имени прославленного адмирала школе и речному училищу в области — не заставит себя долго ждать, а учащимся этих учебных заведений будет поручено шефство по восстановлению храма Богоявления-на-Острову и дальнейшему его благоустройству, а также поддержанию надлежащего порядка в д.Хопылево.
Завершилась Первая Ушаковская Соборная встреча Всемирного Русского Народного Собора возложением её участниками цветов к первому в России памятнику великого флотоводца, установленному в г.Рыбинске (архитектор — Н.А.Лосев, скульптор — Е.А.Пасхина) и пением согласно и соборне: "Величаем, величаем тя, святый праведный воине Феодоре и чтим святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего!"
Пресс-центр СП России
ВЫСТАВКА В РГБ
"Непобедимый адмирал флота Российского, святой праведный Феодор Ушаков и его время" — так называется выставка, открывшаяся 28 октября 2004 г. в Российской государственной библиотеке, посвящённая прославлению адмирала флота Российского Феодора Ушакова в лике праведных общецерковных святых. В связи с тем, что, несмотря на настойчивые попытки Союза писателей России сдвинуть с мёртвой точки вопрос о принятии Закона о творческих союзах, его решение встречает упорное сопротивление на различных этажах государственной власти, Секретариат СП России направил в адрес руководителей региональных организаций СП следующее письмо:
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Несмотря на декларируемую нашими властями приверженность демократическим принципам жизни и гарантированное Конституцией РФ обеспечение равных прав ВСЕХ граждан Российской Федерации, на сегодняшний день писатели России по-прежнему остаются выброшенными из той категории населения, на которую распространяется действие Основного Закона нашего государства и федеральных законов о труде! Около семи тысяч членов Союза писателей России (не говоря уже о других творческих союзах) пребывают сегодня приравненными к членам всевозможных обществ собаководов и любителей пива; написание книг не имеет гарантированной оплаты и не считается общественно полезным трудом, писательская работа не засчитывается в трудовой стаж, и из-за этого крупнейшие сегодняшние поэты и прозаики оказываются лишенными своего конституционного права на пенсию.
Кроме того, в отличие практически от всех других категорий работающего населения, у писателей в настоящий момент фактически отсутствует минимальный размер заработной платы, хотя давно уже можно было установить в законодательном порядке минимальный размер авторского гонорара за публикацию литературных произведений, что положило бы конец издательскому произволу в отношении писателей.
Есть также целый ряд других проблем, касающихся жизни и работы людей творческого труда, которые требуют самого неотложного законодательного решения и которые уже давно могли быть разрешены, если бы был принят Закон о творческих союзах или Закон о статусе творческих работников. Однако в течение нескольких последних лет проекты таких документов всеми силами и способами блокировались то в Государственной Думе, а то и на уровне президентской власти, и сегодня, похоже, уже почти окончательно похоронены в коридорах российской власти.
В связи со сложившейся ситуацией, секретариат Союза писателей России считает необходимым рекомендовать вам срочно обратиться к представителям ваших областей и регионов в Государственной Думе и Федеральном Собрании РФ с требованием в кратчайшие сроки поставить вопрос о принятии Закона о творческих союзах и Закона о статусе творческих работников, а также просить их создать для разработки таких законов специальную Комиссию из числа авторитетных писателей России, и как можно скорее устранить эту дичайшую несправедливость, лишающую мастеров слова законодательной базы для творчества и выводящую их из-под защиты Российской Конституции. Просим связаться с представителями других творческих союзов и предложить им сделать то же самое.
Крайне важно не откладывать осуществление этой задачи в "долгий ящик", так как отсутствие Закона о творческих союзах и Закона о статусе творческих работников уже сегодня осложняет жизнь (и весьма существенно!) всем тем, кто живёт писательским трудом и рассчитывает на поддержку своего творческого союза. К сожалению, неоднократные обращения секретариата СП России в Государственную Думу РФ с требованием рассмотрения данного вопроса так до сих пор и не дали положительных результатов, поэтому мы и решили воспользоваться помощью региональных депутатов. У нас нет ныне других помощников, кроме нас самих, а потому надо действовать всеми имеющимися у нас законными способами. Ваше обращение к своим депутатам в Госдуме с одновременным озвучиванием сложившейся ситуации в средствах массовой информации — это действенный шаг к тому, чтобы подтолкнуть высшую власть России к рассмотрению жизненно важных для нас законов.
Искренне рассчитываем на понимание вами серьёзности данной ситуации и надеемся на вашу оперативность.
Секретариат Правления Союза писателей России,
Высший творческий совет СП России,
редакции журналов "Наш современник",
"Роман-журнал XXI век",
газеты "Российский писатель"
и других изданий СП России
Эта книжно-иллюстративная выставка, рассказывающая об истории создания императорского морского флота, о жизненном пути адмирала Фёдора Ушакова, его крупнейших морских победах, о прославлении имени праведного воина русским народом и Русской Православной Церковью, организована РГБ, Союзом писателей России, Всемирным Русским Народным Собором и Центром духовно-патриотического воспитания имени Святого праведного воина Феодора Ушакова.
На выставке представлены уникальные издания, такие как "Книга Устав морской, что касается к доброму управлению в бытность флота в море" (1724), "Искусство военных флотов или сочинения о морских эволюциях" (1764), учебники по геометрии и географии, по которым учился в Морском кадетском корпусе будущий флотоводец, "Записки Учёного комитета Морского штаба Его Императорского Величества" (1830), "История русской армии и флота" (1913), книги по истории флота, Русско-турецкой войны 1787-1791 гг. и Средиземноморского похода 1798-1800 гг. из библиотеки Генерального штаба… Многие уникальные издания (газеты, книги, гравюры) предоставили Отдел газет и Музей книги.
Специальные разделы выставки посвящены важнейшим политическим и духовным событиям: провозглашению адмиралом Ф.Ушаковым независимой греческой Республики Семи Соединённых островов, восстановлению там православного епископата, а также прошедшему с 3 по 8 октября 2004 года в Москве, в Храме Христа Спасителя, и в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре Архиерейскому Собору Русской Православной Церкви, определившему причислить к лику общецерковных святых и включить в месяцеслов Русской Православной Церкви имя праведного воина Феодора Ушакова.
Выставку украшают гравюры XVIII—XIX вв., работы современных русских художников, в том числе, офорт заслуженного художника России В.Ю.Желвакова "Праздник на Неве в Петербурге в середине XVIII века".
На торжественной церемонии открытия выставки с приветственным словом выступили директор РГБ В.В.Фёдоров, подчеркнувший, что выставка, посвящённая одному из выдающихся сынов нашего Отечества, адмиралу Ф.Ушакову, безусловно, станет заметной вехой в жизни современной России, внесёт значительный вклад в дело воспитания подрастающего поколения граждан России, в укрепление её обороноспособности; автор глубоких и фундаментальных исследований биографии и подвижнических трудов в служении Отечеству адмирала Ф.Ушакова Председатель Союза писателей России В.Н.Ганичев, рассказавший о жизни и деятельности великого флотоводца, святого подвижника, милосердного, добродетельного и праведного человека Феодора Ушакова, чьё служение Отечеству позволяет вновь обратиться к славным страницам истории Государства Российского, поделился воспоминаниями о первом прославлении тогда ещё местночтимого святого праведного Феодора Ушакова, совершённом архиепископом Саранским и Мордовским Варсонофием три года назад, 5 августа 2001 г., в Рождество-Богородичном Санаксарском монастыре, где хранятся его мощи, а также о прошедшей 14-15 октября на Ярославской земле, где родился и был крещён будущий адмирал, первой Ушаковской соборной встрече (в Ярославле и Рыбинске), о первой Божественной литургии, совершённой архиепископом Ярославским и Ростовским Кириллом в Георгиевском храме г. Рыбинска 15 октября, посвящённой почитанию памяти святого праведного воина Феодора Ушакова, причисленного определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви к лику общецерковных святых; протоиерей Александр, представитель Отдела Внешних Церковных Связей РПЦ, зачитавший присутствующим приветствие от митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, подчеркнувшего, что такие выставки для многих заново открывают неизвестные страницы великой истории России, слава которой всегда была неразрывно связана с Православной Церковью, с верой; Председатель Общероссийского Движения Поддержки Флота, капитан I ранга запаса М.Ненашев, отметивший удивительную современность многих мыслей и идей адмирала Ф.Ушакова, являвшегося выдающимся военным руководителем и организатором, которых так не хватает в наше время; иеромонах Венедикт (Санаксарский монастырь), много лет занимающийся исследованием жизни и духовного подвига Ф.Ушакова, передав поздравления от архиепископа Саранского и Мордовского Варсонофия, наместника обители архимандрита Варнавы и братии, рассказал о последних годах жизни выдающегося флотоводца, поселившегося в д. Алексеевка, неподалёку от монастыря, ставшего местом его неустанных молитв и постов, о той силе веры, которая определила его внутреннюю чистоту, ведь, как сказано в писании "Дух Божий веет, где хочет…", но избирает чистое жилище, чистую душу, о влиянии на Ф. Ушакова его дяди, ныне преподобного Феодора Санаксарского (Ушакова), восстановившего монастырь, также причисленного в лику общецерковных святых определением Архиерейского Собора РПЦ 2004 г., всю жизнь сопровождавшего выдающегося флотоводца своим молитвенным покровом; о. Сергий, настоятель строящегося храма Владимирской иконы Божией Матери в Южном Бутово, рассказавший о работе открытого им филиала Центра духовно-патриотического воспитания имени Святого праведного воина Феодора Ушакова и др.
В завершение церемонии открытия выставки, её организаторы ответили на вопросы представителей электронных и печатных СМИ.
(обратно)ПОСЛЕДНИЕ СТАНУТ ПЕРВЫМИ (“Круглый стол” писателей и критиков. Ведущий — В.Бондаренко. Участвуют: Л.Аннинский, М.Замшев, А.Иванов, В.Личутин, А.Шорохов)
Владимир Бондаренко:
Ушла советская эпоха. Ушла советская литература, оставшиеся могикане живут прошлым и не приемлют настоящего, не видят будущего. Какая литература формируется сегодня в России? Молодые уже не учатся у классиков советского периода. Смотрят, как на нечто устарелое, даже на наших великих классиков. Они чувствуют себя новыми варварами, впервые взявшимися за перо. Что представляет из себя эта новая русская литература? Где её почва? Где её традиции?
Александр Иванов:
Очень важно сказать о том, в какой ситуации наш разговор идёт. Россия, испытав невероятное поражение в девяностые годы не то, что распрямляется, но начинает делать выводы из своего горького поражения. Одна из наших опор на будущее — великая русская литература. Можно продать всю русскую нефть, весь газ, всё золото и алмазы, вывезти всех молодых женщин в бордели всего мира, но Толстого и Достоевского, Пушкина и Чехова у нас никто не заберет. Это наша Благодать. Может, мы и не заслужили такую великую литературу. Может, выстрадали. Она как Благодать на нас спустилась. Немцы свою классическую философию, что ли, заслужили? Тоже не особо. Это тоже немецкая Благодать. Итальянцы свою музыку… И вот мы имеем на все времена такую Благодать в нашей истории. Но зато и прошлое у нас, у России — это, мама, не горюй!
Кризис в литературе начался с того, что все толстые журналы, и левые и правые, стали публиковать всё запрещённое наследие. Кто-то публиковал Набокова, а кто-то Солоневича и Шмелева. Представляете, что происходило с молодыми литераторами, которые в это время входили в литературу? С кем им приходилось конкурировать? Оля Славникова конкурирует с Набоковым. И её нет, исчезает как комар. Или Слава Дёгтев конкурирует со Шмелёвым…
Этот вал публикаций уничтожил современный литературный процесс. Все времена, от Карамзина до Солженицына, сошлись в одной точке. Вовремя не прочтённые Набоков, Шаламов, Шмелев стали нашими современниками. Есть такая логика: вовремя не прочёл, потом уже бесполезно читать. Не прочли вовремя Джойса, сейчас его получили, и никакого влияния на нашу литературу он не оказал.
Ещё одна проблема, в которой мы все находимся до сих пор. Неожиданно в конце 80-х годов перед всей страной встал банальный выбор: или великая литература или нормальная бытовая жизнь. За великой литературой всегда такая кровушка стоит. Такие тонны страданий. И авторских, и народных. Так было от Данте и до Толстого. Гений Толстого взращен на гари и пороховом дыму и Отечественной войны 1812 года и Крымской войны 1854 года.
Конечно, большинство выбрало нормальную жизнь. Вдруг люди открыли, что жить интереснее, чем читать. Каждый стремился что-то сделать. Все девяностые годы люди просто выживали. И, конечно, в этом режиме выживания литература терпит поражение. Литературой становится сама жизнь. Все эти новые реалии: бандюганы, рекламы, проститутки на улицах, мерседесы, новые русские — это уже часть нашего нового языка. Мы не можем отвернуться от него, и сказать — это не наше. Это вошло в наш быт, в наше сознание. Даже в противостоянии мы взаимодействуем с новой реальностью. Это выбор между великой литературой и нормальной жизнью будет повторяться постоянно. Разрешить его невозможно, о нём не надо забывать. Но и напряжение этого выбора создает возможность новой великой литературы.
Хочу вернуться к словам одного из моих любимых писателей Владимира Личутина об интеллигенции. Представьте, что идет какая-то читательская конференция, и Валентина Григорьевича Распутина спрашивают: где сейчас добро? И он бы ответил: там-то и там-то в иркутской области, на берегу Байкала. Вот и Личутин ответил примерно также: добро в деревне. Но, к сожалению, как мне подсказывает жизнь, у добра исчез адрес. Добро лишилось прописки. Мы не можем сегодня любому телу приписать функции добра, красоты и правды. Где место литературы в этом мире, лишенном адресного добра. Я вспоминаю мысль Хайдеггера, который говорил о стихах Гёльдерлинга, немецкого поэта 18 века, что из жизни исчезли боги. Боги ушли и их место пустует. И жизнь — говорит Гельдерлинг в этом стихе — стала не поэтической. Интересная мысль, считает Хайдегерр, слово "не поэтическая" может употребляться в двух смыслах. Скажем, мы говорим — алгебра непоэтична. Это слитная непоэтичность. Но есть "не поэтическая" через дефис — говорит Хайдегерр. Когда где-то была поэзия, но она оттуда ушла. Было добро, но оно оттуда ушло.
Самое тяжелое, это понять, что место поэтического, и место самого прекрасного сегодня такое, что мы там себя представить не можем. Сегодня поэзия живет в самых нечеловечных местах. В супермаркете, где нет ничего русского или любого другого национального, где всё обезличено. Одна моя знакомая эмигрантка, живущая в Швеции, говорит, что когда на неё находит ностальгия, она идет в "Макдональдс". Везде всё так или иначе шведское, а "Макдональдс" обезличен, можно чувствовать себя как бы в Москве. И, оказывается, негры, цветные тоже идут в "Макдональдс" заглушить ностальгию по родине. Там нет ничего, что говорит о чужбине, о том, что ты в Швеции. "Макдональдс" есть везде. То же самое происходит с Интернетом, с огромными аэропортами, с развязками дорог. Новые места для поэзии.
Наша русская литература должна быть смелой, чтобы эти места осваивать. Как были смелы Толстой, Чехов и Достоевский. Это потом их назвали великими русскими писателями. Они были на переднем крае борьбы, осваивали новые зоны жизни и придавали им поэтичность. Проститутка Сонечка Мармеладова, распивочная в "Преступлении и наказании" — это отвратительные места, где человек унижен, где он оскорблен. И там наши великие классики находили место поэзии. Сегодняшние писатели, за ними тянется шлейф великой русской литературы. У молодого писателя такие родители, что мало не покажется. Тяжело с этим прошлым молодому писателю жить. Мой совет: ребята, немножко освободитесь от великого прошлого. Идите туда, где поэзии ещё не было, и находите её. Березки, лужайки, сибирские реки, к сожалению, уже не вами опоэтизированы. Вы ничего не добавите.
Владимир Бондаренко:
Ты правильно говоришь только об одном, Александр — в Швеции и Германии, в Испании и Англии эмигранты идут в "Макдональдс". Потому что всё остальное пространство подчинено национальной традиции и национальной культуре, английской ли, шведской, испанской. Вот и у нас в России всё должно русским, национальным, традиционным, и пусть у нас эмигранты тоже идут ностальгировать в "Макдональдс", ибо всё остальное, в том числе и культура, должно развиваться согласно нашему национальному менталитету. Если бы в Швеции всё было занято аэропортовско-макдональдским пространством, не было бы самой Швеции. В том числе и достаточно самобытной шведской культуры. Если в России всё станет обезличенным, исчезнет и понятие "Россия", и никакой новой русской литературы не будет. Надеюсь, такого никогда не случится. В "Макдональдсах" разрешат продажу спиртного, и они сами станут русским явлением, где уже не поностальгируешь по родной Германии, вот тогда и появится в них русская поэзия. Русский народ всё умеет русифицировать, от петровских реформ до большевизма.
И потом, не вижу я дилеммы: или нормальная жизнь — или великая литература. Жизнь-то у нас все эти годы идет явно не нормальная, загадка в другом: почему эта ненормальная жизнь новыми писателями почти не описывается. В такой жизни должна царить самая актуальная литература. В поисках утерянного добра и справедливости тоже можно создавать великие книги. Такие идут войны и трагедии: Чечня, Беслан, закрытые заводы, брошенные города, бандитские разборки, и ничего этого нет в литературе, нет этих новых героев. Почему так всколыхнули народ фильмы "Брат", "Война" и "Бумер"? Там же выведены эти новые герои, плохие ли хорошие, но идущие от нашей действительности.
В каждой Чечне, в каждом Беслане кроме предателей и трусов было множество подлинных героев. Мировая литература вся держится на героях. От Гомера и до наших дней. И любой аэропорт, любой "Макдональдс" оживет, посели туда русского героя. Я думаю, и в детективах нынешних читатели ищут эту правду жизни, этих героев, которых нет в серьезных книгах, ушедших в крутую депрессию и параисторические сюжеты. Нынешняя русская жизнь с её крутизной, по-моему, обязана дать новую великую литературу. Почему мы так ценим чеченских "героев" Басаева, Бараева, Абу-Бакара и не хотим видеть наших — от Шаманова до полковника Буданова? Разве что Александр Проханов в одиночку тянет на себе груз новой героики, и ему нет пока серьезной альтернативы. Хотя хороши рассказы Вячеслава Дёгтева, появился совсем молодой Захар Прилепин со своими "Патологиями" — романом о чеченской войне. Вот она — новая поэзия.
Молодые наши оказываются в тупике, они отказываются от традиций советского большого стиля, им кажется устаревшей наша великая классика. И они часто копируют того же Чарльза Буковски или Иона Бэнкса, становясь изначально вторичными. Действительность Беслана куда страшнее, чем самый грязный реализм Чарльза Буковски.
Алексей Шорохов:
Хочу кое-что заметить Александру Иванову. Сам Хайдеггер, если мы его касаемся, знал, где живет правда абсолютно точно. И ездил к своим любимым швабским крестьянам, просиживал в их хижинах и проводил с ними все свободное время. И правду видел в них.
Во-вторых. Возвращаясь к теме актуальности литературы. Если она задевает за живое, она обречена быть прочитана всеми. То, что Рубцов просто сформулировал — для "всех тревожных жителей земли". Уловить тревогу сегодняшнего дня крайне важно. Если говорить об Александре Проханове, то мне дорог отнюдь не распиаренный "Господин Гексоген", а скорее "Идущие в ночи", где он пытается описать подвиг Жени Родионова. Эту вещь его я читал с трепетом. Всё, что пишется о Чечне, прочитывается с особым трепетом. Боль нашего времени находится там.
Что касается супермаркетов и прочих мест глобального обезличенного пространства, которые предлагается опоэтизировать, то до "Преступления и наказания" все питейные места, проституток и бомжей Петербурга описала наша натуральная школа. Достоевский был лишь прилежным учеником. Отнюдь не нов был и батализм Льва Толстого, он многому учился у Стендаля, о чем очень хорошо ещё Жирмунский написал.
Я глубоко сомневаюсь, что новая русская поэзия родится в супермаркетах. Она может там родиться, если юноша признаётся девушке в любви. Но эта любовь мало зависит от обстановки. Недавно я вернулся из родных мест, из Орловщины. Ловили там с сыном налимов. Поймали двух и окуня, сидели у печки, потом вышли на крыльцо, смотрели на звёзды. Было удивительное звёздное небо. Этой поэзии, милостью Божиею на одной шестой части света, которая называется Россией, столько рассыпано, что на всех хватит. И даже жители мегаполисов время от времени сбегают к этому звёздному небу и родным просторам. Как сбежал удивительный Юрий Казаков.
Чувственный характер русского человека, о чём говорил Владимир Личутин, определяет всю русскую литературу. Именно реализм я имею в виду, когда говорю о чувственной литературе. И акцентированность на правде сегодняшнего дня. Деревня уходит, с этим нельзя не согласиться. Однако все нынешние герои чеченских и иных баталий — уроженцы или деревень или маленьких провинциальных городов. То добро с конкретной адресной пропиской, которое потерял Александр Иванов, живет сегодня в русских малых городах. Самая большая рождаемость среди русских — опять-таки в этих маленьких городах.
Владимир Бондаренко:
Так какова же новая почва у русской литературы? Глобалистские объекты типа аэропортов и "Макдональдсов" или же малые города России? Новых деревенщиков уже не предвидится, скорее будут литературные эпигоны Белова , Распутина и Астафьева. А вот новая почва очевидна, без неё не будет никакой литературы.
Ни в какой стране мира нет безнациональной и беспочвенной литературы, почитайте всех именитых западных писателей, разве там царит аэропорт? Глобалистские объекты появляются лишь для разрушения и тотального разоблачения, как у того же француза Бегбедера.
Александр Иванов:
Помню, на меня в юности произвела огромное впечатление книга Льва Александровича Аннинского о Николае Островском и его романе "Как закалялась сталь". Тема, которую мы ещё слабо затронули, в этой книге была очень ярко выражена: литература всегда живёт героем. Всегда есть некая энергия героизации. Не обязательно герой пафосный, жертвующий собой. Это может быть и такой герой, как битовский улетающий Монахов. Бездеятельный, рефлексирующий. Любой герой. Герой — это некий персонаж, который подгоняет время под себя. Другой темпоритм времени задает. Проблема в том, что у нынешних популярных авторов — Пелевина, Сорокина — у них нет героя. Выдуманный, картонный герой. Это их не заботит. У них нет установки на героя.
Какие появились за последние годы герои в литературе? Акунинский Фандорин, безусловно, герой. Он сто раз, может быть, тоже выдуманный, но в герое всегда есть этическая составляющая. И я скажу, может быть, наперекор всем, вся наша трэш-литература — те же Донцова, Дашкова — почему читается? Да потому, что там есть герои. Каменская — герой, безусловно. А серьезная литература потеряла своего героя. Вместе с ним и читателя. То, что герой узнается, есть с кем себя отождествить, и делает такую литературу читабельной. И с Фандориным себя можно отождествить. А русская природа, так любимая Шороховым, без героя уходит на дальний план. И у Тургенева, и у Аксакова, и у Лескова всегда были герои.
Владимир Личутин:
К власти пришли стяжатели. А стяжатели обычно существа мелкотравчатые. У них бог — мамона. Они героев презирают и ненавидят. Герои заставляют шевелиться. Поэтому стяжателям нужна литература мелкотравчатая, совершенно пустая. Чтобы там не было национального героя. Эта зараза, идущая в нашу литературу сверху, окружает как чаруса, всё общество.
Люблю полемизировать с Львом Аннинским. Он считает, что если народ читает массовую литературу, значит, так и нужно. Значит, такая литература необходима. Ситуацию в любом обществе создает определенная группа людей, которые добровольно берут на себя роль пастырей. Они сочиняют обстоятельства, и потом бедный народ заставляют эти обстоятельства разрешать.
Когда кучка людей взяла власть в 1917 году, народ ещё был наполнен внутренним христианским православным содержанием. Это внутреннее христианское содержание и не дало взбунтоваться аду в человеке. Социализм у нас наполнился христианским содержанием, поэтому его и отвергли в девяностые годы уже как русскую национальную ересь. Я всегда был антикоммунистом, но теперь понимаю, что внутреннее содержание общества было христианским.
В душе всегда живут ад и рай. Безнравственность давит на общество, но добродетель ещё долгое время сдерживает. И человек старается читать добродетельные книги, добрые книги. А когда общество давит на добродетель, и ад в душе торжествует, все начинают читать греховные книги. Стяжатели улавливают эту тенденцию. Ад в душе пробужен, бесы торжествуют. Всё заполняется грехом и пороком. Герой не нужен в это время. И те, кто пытается заслонить народ от греха, предаются осмеянию. Всё зависит от пастырей. И деревня русская, её жизнь или её смерть тоже зависит от пастырей. Конечно, надо делать всё, чтобы деревня выстояла, но сами по себе мы её не спасём. Буквально один-два пастыря заменятся наверху, и жизнь может по другому руслу пойти. Пришел Николай первый — одно содержание жизни, пришла Екатерина — другое содержание, и так далее. С царями или без царей.
Александр Иванов:
После выступления Личутина я вспомнил об одном понятии. Бывает в культуре и в жизни такой универсальный образ "оставленного поста". Владимир Личутин живет внутри этого образа. Армия проиграла сражение, уходит, но забыла снять часового. Забыла снять пост. Как у Льва Толстого батарея Тушина была забыта, армия уходит, а Тушин продолжает стрелять. Он не знает, что сражение проиграно. В этом величайшая драма и величайшее торжество литературы. Литература выживает, как ни странно, потому что о ней забыли проигравшие полководцы. Если мы выберем нормальную жизнь, тогда у нас в России не будет ничего, ни нормальной жизни, ни литературы. Но если мы выбираем литературу, то мы выбираем путь в бессмертие. Владимир Личутин — оставленный часовой. Уже армия проиграла битву, а Личутин всё сражается до самого конца.
Владимир Личутин:
Нельзя говорить, что я — последний часовой в России. Таких, как я, — миллионы. Десятки миллионов русских людей исповедуют такие же мысли, как я, и ничего не знают и знать не хотят о проигранном сражении. Они не хотят признавать гибели России. Какую газету не откроешь, все говорят о гибели, даже патриоты. Разве надо смущать людей? Надо говорить о борьбе, о сражении, но не о гибели. Тогда и выстоим. Если таких батарей Тушина будут тысячи, нам никакой Наполеон не страшен. А люди просто не могут нигде высказать свои мысли. У них нет ни газет, ни телевидения.
Лев Аннинский:
Володя Личутин, ты — такая же власть. Ты — агент влияния. Ты говоришь — тебя слушают. Ты издался — тебя читают. Не преуменьшай.
Другая частность. Спасибо. Саша Иванов, что вы выудили героя в моей книге об Островском, но мне влетело за клевету на этого героя в своё время. Как Иванов Иванову, скажу я вам, что мне хочется откомментировать солидарно вашу мысль о том, что великая литература и культура очень дорого стоят. Мы, конечно же, всегда будем выбирать нормальную жизнь. Но история за нас нам такое выберет, что мы наплачемся, и тогда будет великая литература. Скорее всего, будет в литературе и Чечня, и Беслан. Но не спеши, Володя Бондаренко, дай отойти. Лев Толстой тоже отошел от войны 1812 года. Дай Бог, чтобы в литературе это было. Но стоить всегда будет очень дорого.
Алексей Шорохов:
Сегодня у нас, на мой взгляд, состоялся очень полезный разговор. Всплыли какие-то важные вещи при всей разности наших оценок. Вот в герои, в последние герои, выдвинули Владимира Личутина, который стоит на последнем посту, от чего он открестился, и сказал, что таких людей много.
Проблема современного героя — на самом деле одна из важнейших. И не только для литературы. И, конечно, это не обязательно человек, живущий в деревне. Но для меня герой и та сельская учительница, которая идет за свои полторы-две тысячи рублей в месяц учить детей. И таких много, они идут и за свой счет оклеивают обоями класс. Это и русские офицеры, которые за гроши выполняют свой долг перед Отечеством. На таких и стоит современная Россия. Она стоит не на супермаркетах и не на тех людях, которые её разворовывают, а на тех "последних постовых", которые не уходят со своего поста. Не могут в силу тысячелетней традиции, понятия долга бросить свой пост и сказать: да пропадай оно всё пропадом. И податься в Америку. Во-первых, у них там никого нет. Во-вторых, они просто так не могут поступить.
Вот это и есть современный герой. Насколько он интересен для читающей публики, которая выбрала для себя хорошую жизнь, этого я не знаю. У такой читающей публики герой может вызвать угрызения совести. Герой создает необходимое нравственное напряжение между теми, кто выбрал колбасу, и теми, кто стоит на своем посту до конца. Есть такие герои и в современной литературе. Это Дмитрий Ермаков, Лидия Сычева, поэты Борис Лукин, Андрей Наугольный. Огромная масса хороших провинциальных писателей, до которых, увы, московским издателям, тому же Александру Иванову, нет дела. Есть прекрасные современные писатели. Тот же Иван Рыжов, живущий в Орле, младший товарищ Распутина и Белова, тот же Михаил Тарковский. Слухи о смерти русской литературы, как всегда, оказались преувеличенными. Она есть, и о ней надо писать.
Максим Замшев:
Продолжая разговор о герое, я скажу, что героем является сегодня и сам писатель. Сегодня пытаться быть писателем, это значит — отказаться от нормальной жизни, какую бы литературу ты ни писал. Особенно для нашего поколения это уже шаг к геройству. Сейчас появляется так много молодых писателей. Кто-то видит Сергея Шаргунова с Максимом Свириденковым, кто-то видит своих товарищей в провинции. Время покажет, кто из них более талантлив. Но все они выбирают по-своему геройскую жизнь. Зная, что их частная жизнь, за исключением десятка счастливчиков, будет весьма плачевной. Думаю, что сейчас у молодых лидирует поэзия. Поэзию сегодня можно найти везде. И в супермаркетах, и в лесу, и в деревушках, и в мегаполисе. Главное — ни что писать, ни где писать, а как писать. Любая картина художника вторична по сравнению с самим пейзажем. И потому важно, как художественно это сделано. Увы, пока многие молодые идут по пути простого отображения реальности, повторяя ошибки натуральной школы. Мне кажется, в этом плане поэты сейчас выглядят посерьезнее. Прозаики ещё придут к своим романам. Иные молодые говорят: ты что, это же так долго писать, а жить на что? Они выбрали себе нормальную жизнь, и вряд ли у таких что-нибудь серьезное получится. Жалко, что у Союзов писателей мало времени остается на молодых. И потому полезны любые совещания молодых, любые слёты. Где ещё узнаешь, что делается в молодой прозе России?
Александр Иванов:
Я приехал два дня назад из Франкфуртской книжной ярмарки, каждый год туда езжу. Есть какое-то представление, как нас воспринимают, как мы воспринимаем.
До последнего времени процентов 80 покупаемой в Европе литературы было англо-американской. Сейчас этот процент уменьшается с каждым месяцем. Издательства всё меньше закупают англо-американских авторов. Больше издают своих.
Входят в моду и в Германии и во Франции толстые книги. Большие романы. По 400, по 500 страниц. Нельзя говорить о повышении интереса к чтению, но те последние солдаты чтения, которые есть в каждой стране, опять заинтересовались большими крупными романами.
Еще одна тенденция — огромный интерес к познавательной литературе. Это проза вымысла, но чтобы там были какие-то исторические знания. Человек хочет в одной книге получить кроме сильного художественного впечатления еще и познавательные исторические или географические или политические знания, приметы времени. Мишель Уэльбек, французский писатель, говорит: в романе должно быть всё: и философия, и наука, и любовь, и политика.
На упреки в свой адрес. Вполне доверяю и верю, что в провинции очень много талантливых людей. Мы нашли одного — Володю Козлова в Могилеве и уже издаем третью его книгу. На всех у нас явно не хватит сил.
Проблема в другом. Писатель сегодня — это человек, продуваемый всеми ветрами. Литература сегодня делается на ветру, в открытом поле. Она никогда не делается на чердаке, в подвале или в лесу. У западных коллег есть такой термин о писателе: "хайли промоутен". Это значит, не просто хорошую книгу написал, а и говорить умеет, и интервью может дать, и выглядит неплохо. Выжить литература может только вступив в поединок со всеми ветрами нашего времени, книжными,телевизионными, политическими. Спрятавшись в землянке, в лесу, в реке, литература теряет свой шанс победить. Наша почва никуда от нас не денется. Но чтобы почва была плодородной, нам надо по-мичурински какие-то дички прививать к саженцам. Иначе литературы просто вскоре уже не будет. А я искренне этого не хочу.
Владимир Личутин:
Казалось бы, писателям очень плохо жить, их число должно уменьшиться. А число писателей растет. Это говорит о духовности нашей нации. И станет выгодно книги издавать. Было десять-двадцать издательств. Теперь тысячи издательств в стране. Если бы народ на самом деле был в тоске и безверии, то не взялся бы за перо.
И второе. Герои сохранились в России. Примеров героизма уйма. Спецназовцы в Беслане детей закрывали своими телами. Они стояли как изваяния, все изрешеченные пулями. Вот о ком писать надо. Сегодня я лишь у Александра Проханова вижу в прозе таких героев. Что же другие-то молчат, а Проханова ругают. Так напишите сами… Конечно, часто героизм уходит не туда. Тысячи молодых сильных ребят гибнет в разборках, это же самые смелые и мужественные люди, не боящиеся смерти. Их бы в хорошее дело втянуть, они бы столько подвигов совершили, но власть ныне подавляет всё хорошее и поневоле заставляет ребят идти в банды для своего выживания, особенно в провинции, где нет никакой работы, нет училищ, нет стимула для жизни. Вот про таких и поставлен фильм "Бумер": "Не мы такие, а жизнь такая". Они идут в разборки и убивают друг друга. Этих актов ненужного мужества творится тысячи каждый день по стране. У нас до сих пор самый мужественный народ. Героизм в русском народе неиссякновенен. Ему только направленность надо дать национальную созидательную.
Владимир Бондаренко:
Надеюсь, что наши последние посты, последние писатели, последние герои, вновь, совсем по-библейски, станут первыми… Батарея Тушина продолжает сражаться. А нынешние первые уйдут в никуда.
(обратно)Игорь Малышев “ПАЛЁНАЯ” КЛАССИКА
Классика (от лат. classicus — образцовый, первоклассный) — образцовые, выдающиеся произведения литературы и искусства, имеющие непреходящую ценность для национальной и мировой культуры.
Из энциклопедии "Кирилл и Мефодий"
Классику у нас по-прежнему любят. Или уж, по крайней мере, если не любят, то относятся с уважением. Классические книги раскупаются не так быстро, как детективы, зато спрос на них стабилен и вложенные в их издание деньги рано или поздно вернутся с прибылью. Интеллигенция, которая является основным покупателем такой литературы, — прослойка немногочисленная и небогатая, зато очень верная в своих пристрастиях. Надпись "классика" на обложке книги — всегда приманка для ценителя хорошей литературы. Это слово — своего рода брэнд и, плюс к тому, что-то вроде "знака качества" советских времён. Издатели это, естественно, знают и активно этим брэндом пользуются.
Не так давно зашел я в книжный магазин и приобрел сборник произведений Ю.Нагибина, вышедший в 2004 году в серии "ХХ век. КЛАССИКА". Издательство "ОЛМА-ПРЕСС", выпустившее книгу, не поскупилось: твёрдый переплёт, хорошая бумага и полиграфия, неплохое оформление. В общем, все признаки уважительного отношения. Из информационного листка в конце книги я узнал, что в этой же серии изданы М.Шолохов, М.Булгаков, А.Куприн, И.Бунин, К.Симонов, А.Толстой и т.д. Одним словом — цвет русской литературы. До этого я читал несколько рассказов Нагибина из жизни Баха, Чайковского, Рахманинова. Рассказы эти оставили очень хорошее впечатление, каждый из них в самом деле нёс на себе некую печать монументальности и долговечности. Поэтому я не особенно удивился, обнаружив книгу Юрия Марковича в одной серии с такими произведениями, как "Тихий Дон" или "Мастер и Маргарита". Если тут и была некая натяжка, то она не показалась мне чрезмерной.
Приступил я к чтению книги. Первым шел сборник рассказов "Остров любви". Сюжеты этих рассказов построены на эпизодах из жизни протопопа Аввакума, Пушкина, Анненского, Лескова, Тредиаковского и уже упомянутых мной Баха, Чайковского, Рахманинова. Написано всё очень живо, увлекательно, прочёл с большим удовольствием. А вот дальше началось то, что побудило меня написать эту заметку.
Вторая часть сборника называлась "Любовь вождей". На мой взгляд — ужас и позор. Чтобы не быть голословным, позволю себе вкратце изложить сюжеты некоторых из этих творений.
Сюжет первый. Сталин периодически вызывает к себе в резиденцию для утех некую балерину из Большого театра. Непосредственно во время половых контактов он смотрит на фотографию Гитлера и произносит, обращаясь к нему, нежно-трагические монологи.
Сюжет второй. Ева Браун во время первой брачной ночи с Гитлером обнаруживает у него полное отсутствие гениталий. Далее следуют размышления по этому поводу и мелкая философия.
Сюжет третий. Брежнев, превращенный усилиями медиков в биоробота, умирает, испытывая ощущения сношающихся гомосексуалистов.
Ну, как вам? Мощно, классично?
Может быть, стоило написать на обложке вместо слова "классика" что-то другое — чтобы не ставить подобный трэш в один ряд с "Тихим Доном" и "Мастером и Маргаритой"? Или отточенный на издании "нетленки" Дарьи Донцовой вкус издателей не видит разницы? Впрочем, хрен бы с ними, с издателями. Бизнес есть бизнес, деньги не пахнут, в общем — капитализм. Но у данной серии есть еще и редколлегия, то есть люди, непосредственно решавшие, какие книги в серию войдут, а какие — нет. перечислю ее членов, страна должна знать своих "героев". Вот они: С.Б.Рассадин, С.Н.Есин, А.Н.Латынина, Г.В.Ряжский, Л.Е.Улицкая.
Дамы и господа, положа руку на сердце, я потрясен вашим отношением к делу. "Спасибо", как вы понимаете, я не говорю.
Однако, вернёмся к Юрию Марковичу нагибину и его книге. Следующим в сборнике шло произведение "Тьма в конце тоннеля". Про страдания человека (автора, как я понял из вступительной статьи К.Кедрова), всю жизнь считавшего себя евреем и неожиданно выяснившего, что он чистокровный русский. Весь "еврейский" период своей жизни этот несчастный, естественно, страдал от антисемитизма. В итоге герой сделал для себя определенные выводы. Позволю себе привести несколько цитат из этого опуса, которому дамы и господа из "ОЛМА-ПРЕСС" поторопились присвоить статус классического.
"И всё же есть одно общее свойство, которое превращает население России в некое целое, я не произношу слова "народ", ибо, повторяю, народ без демократии — чернь. Это свойство — антисемитизм" (с.499).
"И скажу прямо, народ, к которому я принадлежу, мне не нравится. Не по душе мне тупой, непоколебимый в своей бессмысленной ненависти охотнорядец. Как с ним непродышно и безнадёжно!" (с.500).
"Что же будет с Россией? А ничего, ровным счетом ничего. Будет всё та же неопределенность, зыбь, болото, вспышки дурных страстей. Это в лучшем случае. В худшем — фашизм. Неужели это возможно? С таким народом возможно всё самое дурное" (с.507).
Симпатично, не правда ли? Я не пытаюсь сейчас поднять тему русофобии или антисемитизма. Ни-ни. На этой почве трудятся другие люди, не мне чета (Солженицын, например). Я всего лишь хочу задать один простой вопрос: хорошо ли издавать подобное в России, на русском языке и называть классикой, автоматически ставя в один ряд с Пушкиным, Гоголем, Толстым, etc.? В этом есть что-то от плевка в лицо, вы не находите? Как частное мнение отдельного человека, писателя, я бы это еще если не принял, то понял — с каждым может случиться, но как классику, как образец — увольте!..
Последней составители дали повесть "Моя золотая теща": про любовные заигрывания и игрища молодого человека со своей тещей. Этакая "Лолита" наоборот. Не шедевр, но, по крайней мере, не вызывает немедленного желания выкинуть книгу в мусорное ведро.
Посмотрим, что получается в итоге, насколько подходят данные произведения под определение "классики", представленное в начале статьи.
"Образцовые"? Возможно. Но только как образец дурного вкуса вперемежку с русофобией (эта характеристика, конечно же, не относится к "Острову любви").
"Выдающиеся"? Да — как попытка редколлегии выдать свои пристрастия за суд времени.
"Общепризнанные"? Ну, вот тут — нет, ни с какой стороны. По-моему, классика — это то, о чем можно говорить в любой компании, включая женщин и детей. Об "Острове любви" можно говорить везде и со всеми. А вот за прилюдное обсуждение сюжетных тонкостей "Любви вождей" или "Моей золотой тещи" могут выгнать из приличного общества. Такая вот "общепризнанность" и "непреходящая ценность".
И напоследок. Уважаемые издатели и составители подобных серий! Прекратите швыряться словами, прекратите заниматься подменами, прекратите врать, наконец! Или пишите конкретно, к классике какого жанра относится издаваемая литература: порно, эротика, политсатира, трэш и т.д. Не надо обобщать, не надо втирать очки читателям. А то ваш поход к бизнесу сильно напоминает торговлю "палёной" водкой: главное — сделать правильную наклейку, и товар пойдёт. Конечно, от "палёной" литературы вроде бы еще никто не умирал, но не все настолько богаты, чтобы безболезненно покупать чёрт-те что (и недешёвое черт-те что, надо сказать!), обманувшись рекламой.
Обращусь и к читателям. Не верьте надписям на книгах. Понятия обесценились. Слово "классика", написанное на обложке, больше не гарантирует качества содержания. Оно обозначает лишь модель работы маркетинговых структур издательств по отношению к данной группе и указывает на "таджет груп" (целевую аудиторию), которой пытаются продать данный продукт. Читатель, "Бди!", как говаривал классический персонаж Козьма Прутков.
Игорь МАЛЫШЕВ
(обратно)Марина Сергиенко НЕВЗОШЕДШАЯ ЗВЕЗДА
Олег Осетинский — создатель кинотрилогии "Судьбы России" ("Михайло Ломоносов", "Звезда пленительного счастья", "Взлёт"). Теперь он (раньше русскоязычные Госкины ставить ему не давали) — еще и кинорежиссер, снявший ручной камерой не только утонченнейший фильм "Веня, или Дорога в Петушки", обошедший все ТВ-экраны России, но и "Тихий город Нью-Йорк сити", показанный 11 сентября по Первому общественному каналу США.
Олег Осетинский (Пашков), этот русский (вернее, казацкий — по матери он донской казак, но награжден и орденом кубанского казачества) пасионарий, делал в своей судьбе неожиданнейшие зигзаги — например, в 1980-81 годах был художественным руководителем ансамбля "Аквариум", куратором личностного и профессионального роста Б.Г. и Майка Борзова — я свидетель его яростных репетиций с ними.
Сегодня Олег Осетинский — новый виток судьбы! — известный журналист, автор знаменитой статьи "Если б я Бен Ладен был", поразительно актуального для России текста, появление которого в респектабельных "Известиях" (куда его позвали "поднять тираж") наделало шума не меньше, чем падение Пизанской башни, если бы таковое произошло.
Вот что говорит об Осетинском-журналисте даже столь жёсткий человек, как Николай Губенко: "Олег Осетинский — русский публицист, пророк и истинный патриот, глубоко анализирующий жизнь России и дающий удивительные, абсолютно аргументированные рецепты спасения страны, — вот кого бы в советники Путину!"
А вот на Западе Осетинский широко известен прежде всего... как вокальный педагог, занимающийся с крупнейшими певцами "Метрополитен-опера" и уникальный фортепианный педагог. Вот что еще в 1990 году сказала корреспонденту "Московских новостей" виднейший фортепианный педагог Нью-Йорка Нина Светланофф: "Олег Осетинский — абсолютный гений. Мы просто не знаем, сколько ему платить!"
Отрывок из книжки Осетинского "Роман-Ролан": "В 1946-м мне ударом крышки парты уродуют руку. Итог — костная мозоль на третьем пальце, палец навсегда лишен качеств. Рыдая, записываю в дневник: "Прощай, музыка!.. Но когда-нибудь у меня будет дочка — и я сделаю ее великой пианисткой". Как же осуществилась мечта Олега Осетинского?
АНГЕЛ ПЕРЕСТРОЙКИ
Первую дочь, Наташу, Олегу Осетинскому удалось забрать у бывшей жены в 1968-м. После двух лет занятий с отцом Наташа — без всякого блата — поступила сразу в 4-й класс Центарльной музыкальной школы г.Москвы — предмет вожделения родителей всех вундеркиндов. Учитывая, что у Наташи от природы не было никакого слуха и тяги к музыке, а также то, что в 10 лет она стала чемпионкой Москвы по большому теннису (что категорически противопоказано пианисткам!), это достижение ее педагога-отца можно считать просто невероятным. Наташа успешно проучилась в ЦМШ один год, после чего ее мать решила, что отец свое дело уже сделал и снова забрала девочку к себе. И — несмотря на то, что с Наташей занимались знаменитые педагоги ЦМШ, — музыкантом она быть перестала, теперь занимается недвижимостью...
Осетинский снова стал ждать. И в 1980-м ему удалось выпросить для занятий у другой бывшей жены пятилетнюю тогда дочь Полину. И уже через четыре года у Полины Осетинской была мировая известность. Впервые девятилетняя девочка с блеском и вдохновением сыграла за один вечер(!) два сложнейших классических концерта — Шумана и Пятый Бетховена. В 10 лет — Третий Рахманинова, Второй Сен-Санса, прелюдии Дебюссии и т.д. — 15 часов музыки наизусть!
Бедная квартира Олега Осетинского в переулке Васнецова стала Меккой музыкального мира. На одном из домашних концертов Полины одна шведская дама-профессор потеряла сознание, а, очнувшись, сказала: "Зачем я всю жизнь училась игре на рояле, если эта девочка в 9 лет может сделать то, что я не могу в 45?" Даже самое консервативное в мире Министерство культуры СССР было вынуждено признать феноменальные достижения педагога Осетинского, присвоив его ученице Полине в 10 лет тарификацию "солиста-инструменталиста 1-й категории". Такая же была тогда, к примеру, у Николая Петрова, и даже легендарный Евгений Кисин получил эту тарификацию только в 14 лет!
Два года подряд Полина, "ангел перестройки", еще до выхода фильмов "Из Италии в Россию — с любовью", "Сон о России" и др., — признавалась в США "девочкой года". Сниматься с ней приезжали самые знаменитые звезды Америки — Крис Кристофсон, Сюзен Эйзенхауэр, Пол Винтер, Джордж Сорос, Иегуди Менухин, сэр Исайя Берлин и другие. Величайший пианист современности Альфред Брендель специально задержался в Ленинграде, чтобы услышать репетицию и концерт Полины, а потом сказал при свидетелях и ТВ-камере: "В Америке вас разорвут на куски. Вы станете миллионерами".
И вот, в июльском (1987) номере газеты "Московские новости" появилось письмо самого богатого музыканта мира, пианиста и композитора Гордона Гетти, который просил у Председателя Фонда культуры СССР Раисы Горбачевой "поделиться с Америкой музыкальным чудом ХХ века" и приглашал Полину в сопровождении ее учителя Олега Осетинского (он должен был в Сан-Франциско читать лекции о своей методике обучения) на гастроли в Америку, с подписанием контракта на 12 концертов — за каждый по 50 тысяч долларов.
24 декабря 1988 года отец и дочь Осетинские должны были отбыть на американские гастроли, где Полину ждали фантастические подарки — например, в штате Арканзас позолоченный рояль "Yamaha" стоимостью 250 тысяч долларов. Корреспондент "New-York Times", который должен был сопровождать Осетинских в полете, сказал Полине: "Когда ты войдешь в дом Гетти, ты будешь самой знаменитой девочкой в Америке, а когда выйдешь оттуда — самой богатой".
На последний перед отъездом Полины в США концерт в Большом зале Ленинградской Филармонии 6 декабря 1988 года было продано 2500 билетов — на 300 больше, чем на концерт Владимира Горовица! Но ни этот невероятный концерт, ни фантастическая поездка не состоялись. "Ангел перестройки" в Америку не улетел.
ПОБЕГ ИЛИ ПАДЕНИЕ?
Полина утром убежала из дома отца вместе со специально приехавшей матерью, навсегда погубив возможность великой, невероятной карьеры. Олега Осетинского, вмиг поседевшего от горя, переставшего есть и спать, друзья просто связали и сумели отправить на лечение в Италию, в монастырь "Руссикум". Несколько дней беглецы прожили в Москве у некоего "священника", а затем группа "доброжелателей" упрятала девочку в "северную столицу". Эти люди были уверены, что Полина возьмет их в заокеанское турне. А когда выяснилось, что МИД СССР без отца Полину в США не выпустит — девочку банально выбросили на улицу. Вернуться к отцу ума у нее не хватило — зато хватило совести выступить по телевидению в программе А.Невзорова с заявлениями, приведшими зрителей в шок. В результате Полина оказалась в интернате Ленинградской ЦМШ. Школьная программа для нее, с невероятной даже для взрослого пианиста техникой и фантастическим репертуаром, была — просто семечки. Естественно, и школу, и Ленинградскую консерваторию Полина закончила шутя — и помчалась по заграницам юной дивой, которую еще помнили как "ангела перестройки", охотно рассказывая, какие у нее теперь телохранители и за сколько тысяч долларов куплена очередная шуба или бриллианты...
В это время ее несчастный отец, бывший атлет, а теперь инвалид с хронической гипертонией, совершенно сломанный, скитался по больницам. Два года он не мог выйти на улицу, жил на пенсию в триста рублей, врачи предрекали скорый конец. Для тех, кто помнил Олега Осетинского как человека, полного невероятной энергии и душевного сияния, это было страшное зрелище. Но, несмотря на все те мерзости, которые Полина регулярно выливала на отца в своих "интервью", он никогда не звонил дочери, а когда ему советовали рассказать, наконец, правду, шептал в ответ: "Она еще маленькая — не ведает, что творит".
И вот, прошло тринадцать лет. Сверстники и приятели Полины: Кисин, Венгеров, Федотов, Репин, Луганский, — выиграли все мыслимые конкурсы, стали звездами мировой величины. А Полина? Посудите сами — в Большом Зале Московской консерватории она до сих пор не сыграла ни одного сольного концерта (а ведь это — общепризнанный "знак качества" для пианиста), не выиграла ни одного конкурса и сегодня даже не входит в десятку лучших пианистов России — что уж говорить про весь мир?! Рецензии на ее выступления даже в "северной столице", мягко говоря, кисло-сладкие. Так что же, тот давний побег стал началом падения так и невзошедшей звезды? Я спросила об этом у Олега Осетинского.
— Как Полина?
— Увы!..
— По-вашему — ничего прежнего, волшебного в ее игре не осталось?
— Ну, пальцы ещё бегают. Иногда ритмическая свобода. Игра, не глядя на руки… Но — часто огрубленный звук. Не "с клавиш". Скучная, гасящая пульсацию, посадка. Мертвые, "правильные" руки... С оркестром ещё кое-как иногда заводится, но сольные!.. — примитивная пустота, кошмар! Полину оставляет даже её "фирменная" публика в СПБ, которая помнит её моим сияющим ребёнком. А хамская программа — Десятников перед Дебюсси! На самом деле плевать, кто перед кем, страшно не это, а страшно то, что великий Дебюсси звучал как ничтожный Десятников! Полётность и подлинный артистизм в игре моей бедной дочери исчезли — а появились приторные ужимки. Нет музыкального события, понимаете, нет "мессиджа", послания. Отсутствует главное — духовное проникновение.
— Что же с ней будет дальше?
— Будет аккомпанировать всякой шушере. Запад уже потерял к ней интерес. Красивая мордашка примелькалась, сливки с имиджа "ангела перестройки" давно сняты. Ни духа, ни сосредоточенности, ни гения. Года через три забудут вообще. А потом… лучше не говорить.
— И что — она ни разу не позвонила вам за эти годы?
— Один раз — когда ей показалось, что умирает от кровотечения. Сказала буквально следующее: "Прости, папа, я лгала про тебя столько раз! — это ее фраза. — Я была в капкане, я полностью зависела от твоих врагов... Сегодня я вспоминала Таллин, тебя, стало так больно… Я поняла, что я должна быть с тобой, ты одинок и я одинока… могу приехать…"
— И что же вы?!
— Я? Я сказал, что я её как маленькую девочку, которая по глупости погубила великий проект, простил, но раз она опозорила меня и оклеветала на весь СССР по ТВ — то и просить прощения должна перед телекамерами на всю страну… Она вздохнула: "Папа, я не могу этого сделать, по разным причинам не могу", — я бросил трубку
— О, Господи! Может, надо было простить без всяких условий?
— Не знаю. Может быть... Но ложь — конец душевной карьеры музыканта. Спасти может только — правда и совесть, говорил великий Софроницкий. Полине надо вернуться к чистоте, к правде. К Богу. К совести. И к отцу. Но — быдло...
— Что — быдло?
— Быдло, которое растлевало Полину столько лет, не допустит её Воскресения. У нее не хватит мужества вырваться из поганого мира Мержевских, Таймановых, Горностаевых, Десятниковых… Она болталась по сумасшедшим домам, больницам и пьянкам.. Вот они — плоды интерната, плоды работы с аморальным педагогом Вольф — эта Вольф читала мои телеграммы, адресованные лично Полине — по телевидению, рвала их, бросала на пол! Да в любом нормальном обществе такую учительницу выкинули бы с волчьим билетом из всех школ без права вообще работать с детьми!
— Что вы чувствуете сегодня, когда думаете о Полине?
— Жгучий стыд — за неё. И такое, знаете, бесстрастное скрытое горе — как в "Паване" Равеля. И угрызения совести — не смог укрепить в ней ничего святого. И досаду — если б я пришёл в то страшное утро раньше! Уверен, я смог бы всё исправить! И если бы Полина призналась мне, что упала, ударилась головой... Я ведь об этом сотрясении мозга узнал только через 7 лет!.. Ложь — вот причина всего…
Горько, что не сбылась великая мечта. Больше всего жалко — музыки. Нашей с Полиной. Если покается — вернется к отцу, Богу, музыке — приму. Но я не вечен. Два инфаркта, два инсульта. Глаз у меня остался один. Без меня музыки у Полины не будет никогда. И той сияющей, ангельской, моцартовской Полины — не будет. И просто не будет Человека. И смысла всего… И все — молчат! И моя бедная дочь всё врёт и врет — подлецам на радость, себе на горе. Как страшно присутствовать при духовной смерти любимого ребенка, которого пожирает банда негодяев и растлителей… Это хуже, чем если бы она умерла...
(обратно)Юрий Архипов СМАК, МРАК, СРАМ...
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?..
А.С.ПУШКИН
Мы делаем это десятки лет…
Однажды мир прогнется под нас…
А.В.МАКАРЕВИЧ
Куда подевались физиогномисты-демонологи? Исчезли вместе со Средними веками? А жаль. То-то в наше время у них была бы пища для наблюдений. Куда ни глянь — сплошное мелькание-кружение ликов-масок: как под копирку одинаковых, тайно угрозливых, скользко улыбчивых, вполне, по-старому говоря, инфернальных. Небрежно, косовато надвинутых на наготу-пустоту. В однотипности своей словно сбивающихся в один дробный образ. Включишь иной раз телевизор — и не сразу поймешь, кто же перед тобой на сей раз; согласись, читатель, что и тебе требуется некоторое напряжение, чтобы распознать: Буш это или Блер (или Жириновский?), Элтон Джон или Б.Моисеев (или Радзинский?), Жванецкий или Познер (или Гусинский?), Новодворская или Толстая (или Швыдкой-Боровой?)…
"Раскрутить", как выяснилось, в наш дурашливый век можно кого и где угодно. Разве не были мы свидетелями того, как за считанные недели поднимали рейтинг горе-политика с нуля до необходимых солидных процентов? Разве не смеялась вся страна над "чудесным спасением" иных футбольных команд? Разве удосужился кто-нибудь объяснить, каким образом стал международным мастером по шахматам, а там и видным шахматным функционером адвокат Макаров (с личиком тоже весьма прикровенным)?
Сродни Макарову и Макаревич. Этакий литл-битл, "переложенный на русские обстоятельства" (Салтыков-Щедрин). Еще один торговец воздухом. Сколько их! Куда их гонят?.. Заполонили подмостки, телеэкран, издательства, прессу. Жируют, тусуются, чавкают. Более всех, похоже, процветают те, что заняты пустоватенькой галиматьей под незамысловатое механическое бренчанье. "Машина времени" — это ж надо было так угадать с названием. На воре и шапка…
Символический смысл сего поименования открылся мне сразу, как только я впервые соприкоснулся с макаревичевским "творчеством" — как они, на эстраде, любят теперь называть свой шоу-бизнес. В середине 80-х было, летел я из Алма-Аты, накатавшись с гор в Чимбулаке; настроение держалось прекрасное. Пока не испортили его на борту, все четыре часа промучив записями "Машины времени". Видать, командир корабля "запал" на модную группу. Мне, воспитанному не только на Моцарте и фольклоре, но и на таких качественных бардах, как Высоцкий, Галич, Ким, Новелла Матвеева, всё не верилось, что может нравиться такой заведомый третий сорт — слабенькое эхо случайных баловней славы битлов (а может и не случайных — ведь на дряхлеющем по старости Западе давно уже наступило время пустоголовых, до которого нам, по молодости нашей, должно бы отстоять еще так далеко!) вперемешку с изводом претенциозного Дольского. Поозирался я в недоумении вокруг — салон внимал школярским упражнениям с сонным равнодушием, только лукаво усмехался в усы сидевший неподалеку от меня композитор Птичкин. Подумалось: казус.
Но шли годы, Макаревич лез в уши всё больше и больше, слава его росла. Достигнув к нашему времени высот небывалых: миллионер, аквалангист, живчик, классик, герой нации, которую, глупую, учит смаку. Перебирал тут намедни перед сном радиопрограммы, так там какой-то (какая-то?) Чиж не то Стриж сыпал(а?) о нем прямо как о гении всех времен и народов.
Их, однако, гениев голосящих, теперь пруд пруди. Один из них, покойный Башлачев, и впрямь не лишен был искры. Есть очевидные удачи у Сукачева, склонного, правда, разменивать дар на медяки (а при случае даже прогибаться перед такой куклой на чайнике, как Пугачева). При большом напряжении ума можно еще как-то понять и объяснить — хотя бы с социологической точки зрения, раз уж бессильна эстетика — успех Бутусова, Шевчука, Летова, Гребенщикова. Но прочие "звезды", но Макаревич... Почешешь затылок.
Думалось, впрочем, — может, впечатления мои слишком отрывочны и случайны, может, чего-то важного в его "творчестве" я не знаю. Но вот вышел в "Эксмо" сборник "стихов и песен" Андрея Макаревича "Семь тысяч городов" и наш гений предстал во всей своей заголившейся красоте. Предлагаю читателю вместе со мной пройтись по страницам издания.
Название, опять-таки, по-своему символично.
Семь городов в античной древности спорили о первородстве. Семь тысяч городов ныне лежат у ног Пустоты. Это ли не образ — чуть ли не апокалипсисом начиненный. Антихрист не за горами, трубы его трубят прямо нам в уши. "Антихрист в Москве" — уже с десяток лет бьет в набат своими брошюрами с таким названием один достойный православный храм.
Но не ждите ничего зловещего, жуткого, озаренного пламенем преисподней. Нынешнее мелкобесье так безобидно, незаметно, безлико. Ничегошеньки такого в нем нет. Как нет и вообще никакого. Одна пустота. "Пузыри земли" (Шекспир), пар над бездной.
Если год назад я мог не замечать,
Как быстро пролетают дни,—
Теперь я вижу это сам.
Дни летят вперед, как в море корабли,
Теряясь в голубой дали,
И нету им пути назад.
И каждый раз мне, однако,
Хочется горько заплакать,
Как вспомню я былые дни…
Вот такое мурлыканье. Под стишками, кстати, рисунок — кот, играющий на гармошке; изделие многостаночника-автора. Или:
Это новый день,
Он несет нам радость
И сомнений гонит тень,
Он нас зовет вперёд.
Как я хочу знать,
Куда он нас зовёт…
Ну, и так далее. Беспомощность неправдоподобная. Могут сказать: но это ведь ранний, незрелый Макаревич. А "в молодости все мы чирикаем", как заметил классик. Да, но потом, чуток повзрослев и спохватившись, всякий не случайный в деле человек — примеров не счесть — бегает потом по книгопродавцам, разыскивая свои злосчастные изделия, чтобы их сжечь. Страх зрелого возраста перед позором как плата за юный порыв к славе. А тут пятидесятилетний мужчина, улыбающийся, правда, с экрана по-прежнему как дитя (иной раз — почти как дитя природы), ничтоже сумняшеся отдает в печать эти… даже не вирши — "тексты" что ли, любят раскрученные пустомели это "постмодернистское" слово. Полагая, видимо, что "пипл" со смаком схавает всё — раз уж таким скопом набивается в гигантские залы это всё слушать.
А главное — и дальше-то, с годами, ничего не прирастает. В чем нетрудно убедиться, полистав пухлую книжицу в четыре с лишком сотни страниц. Одни гимназические подражания, перепевы-переделки с выпирающим и небогатым набором ориентиров: дурные переводы с английского в 70-е годы, всякие псевдоро- мантические корабли с парусами под сымитированный надрыв Высоцкого — в 80-е, кое-как переложенная на актуальные реалии и происшествия "гражданственность" Галича в 90-е годы, "нежный шрам на любимой попе" в наши, багрово-закатные дни. "Мы делаем это десятки лет"… Оставаясь на своем меленьком уровне на протяжении всей жизни. Ничего и ни в чем не прибавляя. Но слава растет — потому что сама культура вокруг стремительно валится вниз и, вопреки всей вековой мудрости, заторчавшего на одном месте деятеля выносит наверх как пробку. И мир "прогибается" — под них. Знай себе смакуй барыши, тридцать лет потоптавшись ножками на детсадовском пятачке — "от туманной поэтики — к бытовой математике".
Ведь и самая пустая голова — не просто хаотическая свалка чего ни попадя, а "констелляция", как учит современный концептуализм. А раз так, не нужно ничего оживлять ни словом, ни звуком — любое случайное сочетание сваленных в кучу предметов само даст эффект "эстетический", поелику любые слова и вещи давно "нагружены" смыслами прежней культуры. Так что перебирай себе их механически — что-нибудь, как-нибудь да заискрится. Хочешь — спой гимн забору:
Душой и сердцем я горю —
Забору славу я пою,
Который стойкостью своей
Являет нам пример,
Который крепок и силен,
Который верен, словно слон,
Надежен, словно милиционер.
Капитан Лебядкин отдыхает. Козьма Прутков посрамлен. Зато посверкивает очочками удоволенный Дима Пригов. А может, нам понадобилось так пасть, чтобы на этом фоне уразуметь, что лебядкинский "стакан, полный мухоедства" — творение по-своему гениальное? Но то было про забор. А вот, не угодно ли, про дом за забором:
Но лишь потом
Я вспомнил дом.
И темной ночью,
И самым светлым днем
Так хорошо иметь свой дом.
"Ах, если б мы были взрослей…" Вот именно! А то все затянувшиеся инфантильные "гуси, гуси, га-га-га". Или козленочки в молоке. Роман Юрия Полякова "Козленок в молоке" и впрямь невольно всплывает в памяти, когда в очередной раз сталкиваешься с эдакой раскруткой нуля до кумира. У коего "паузы в словах" заменяют сами слова.
"В начале было Слово". Но это у Бога. У его фиглярствующего противника не Слово, а Пауза. Пустота.
И одна у меня забота:
Разобраться хотя бы раз ( ? — Ю.А. ) —
Это мы играем во что-то,
Или кто-то играет в нас.
Неужели и впрямь так трудно разобраться, ребята? Хотя бы раз. Но раз уж вы так озабочены, поясню: лукавый в вас и играет. Не сомневайтесь.
Церковно-православная тема, кстати, стала прямо-таки повальной модой на нашей эстраде. Пошлость та еще — почище будет всякого воинствующего атеизма. Причем пошлость двоякая: тут и сентиментально-душевное завывание вместо покаяния, и горделивое отталкивание от оного — все, мол, ринулись теперь в церковь, с рогами и копытами, а я не такой, я выше, я — над. И над погрязшей в пороках церковью тоже.
Из добра здесь остались иконы да бабы,
И икон уже, в общем-то, нет…
Всегда — при упоминании всего высокого и святого — какое-нибудь, пусть мелко лягушачье, но лягание. И по поводу ширящегося восстановления храмов у Макаревича, несостоявшегося архитектора, свое, "гражданственное" мнение: не надо, мол, стирать следы безобразия, пусть они останутся назидательным памятником эпохи (эдакий необольшевизм навыворот — как всё у нынешних наших либералов):
Пусть Соловки хранят
Студеный ветер тех недавних лет.
И в божьем храме против царских врат
Пусть проступает надпись "лазарет".
Я слышал, реставраторы грозят
Весь этот остров превратить в музей.
Я вот боюсь, они не сообразят,
Какой из двух музеев нам важней.
"Они" не сообразят, где им. И "пооткрывают вновь церквей", к вящему неудовольствию Макаревича. Грамматика его, не придуманная. Видимо, так, коверкая русский язык, изъясняется тусовка, именующая себя "высшим светом", элитой:
Пооткрыли вновь церквей,
Будто извиняются,
И звонят колокола
В ночь то там, то тут,
Только Бога нет и нет,
Ангел не является,
Зря кадилом машет поп
И бабушки поют.
Лягнуть "их" церковь, бабушек, народ — трепля банальную глупость, будто всякий народ достоин своих правителей. Это постоянно, это лейтмотив. Стишок (песенка?) "Владимиру Вольфовичу" — показательный образчик. "Их" (вот уж поистине!) телевидение просто за уши тянет, боясь выронить, "сына юриста", всячески помогая ему расписывать себя под друга народа, под глашатая и вождя.
Владимир Вольфович, примите поздравления —
Враги рыдают, а толпа ревёт.
Я вам скажу вне всякого сомненья —
Вы выбрали достойный Вас народ.
Ведь это ж мы, простые, как берёзки,
Склонились к Вам в предвыборной борьбе.
Мы так Вам верили, товарищ Жириновский,
Как, может быть, не верили себе.
Ну, и так далее — прием известный, называется "сказ" (а заодно и по-концептуалистски цитатный пере-сказ). Якобы от имени народа, но вливая — "по вкусу" — уксус и яд. Так же славословил Жириновского пригласивший его в свою передачу Вик.Ерофеев. Тот и вовсе сладко льстил вождю "простых, как берёзки" русских, сравнивая его с самим Розановым — и едва сдерживая смешок. Воображал себя, видимо, хитрющей кошкой, играющей с простоватой мышкой. (Вот когда речь заходит о, допустим, Жванецком, тут шутки в сторону, тут президент "их" академии телевидения Познер, сторонник легализации мата, на полном серьезе славит пошловатого хохмача и словоблуда как Гоголя наших дней. Мы привыкли ругать фосфоресцирующего домашнего супостата яко нечистую силу — но где б еще могли мы насладиться зрелищем самобичующей глупости, мнящей себя большой хитрованкой!)
И вот эти-то "берёзовые", деревянные русские, оказывается, "нас давили катком, и сгребали совком" — и т.д. и т.д. без конца. Бедные, натерпелись! Из песни в песню — весь тривиальный набор жалоб и стонов мальчиков, сладко поживших под опекой номенклатурных папаш.
Не мое дело педалировать эту тему. Ни я сам, ни мои друзья юности не были продолжателями дела отцов. Все до единого, кого ни упомню, относились к казенной советчине именно так, как она того и заслуживала. Но и в тогу гонимых страдальцев — люди-то не пустые — тоже никто не рядился. Ведь — положа руку на сердце — не найти достойную нишу для приложения ума или рук мог тогда только совсем уж никчемный человек. Все вокруг учили языки, просиживали от зари до зари в библиотеках, скупали у букинистов и штудировали книги русских религиозных философов, переводили и комментировали западных или восточных мастеров и мудрецов — заняты были по горло. При этом презираемые нами коммунисты неплохо оплачивали наш труд — смешно и сравнивать с теперешними якобы-демократами. "Какие хорошие люди наши начальники, ведь они терпят нас,— сказал мне Сергей Аверинцев со свойственным ему "эллиптическим" юмором тем ясным днем, когда нас с ним зачислили в ИМЛИ одним приказом по институту.— А ведь если б мы были их начальниками — мы бы не стали их терпеть!"
Да, начальники-коммунисты по своей глупости (у них ведь тоже шел тогда негативный естественный отбор, как теперь в культуре) лишили нас элементарных свобод — вероисповедания, книгопечатания, выезда за границу (да еще помучили несуразнейшим всего и вся дефицитом) — и тем обрекли свой натужный и странный режим на погибель. Но разве забыть, что на студенческую стипендию можно было неспешно объехать Золотое Кольцо, что в консерваторию и музеи пускали бесплатно, что трехтомник Пушкина, изданный тиражом в одиннадцать миллионов, можно было достать лишь как награду. От какой пошлятины нас ограждали, оказывается, — прямо-таки лелея тайную нашу свободу!
Не бывает такого времени, когда запрещалось бы думать, когда можно было бы по-настоящему такую свободу урезать. Всё это иллюзия шигалевых — и пустозвонов. Коим только и приходит в голову красиво, под гитару, страдать о попранной вольнице, отсидев разок ночь по пьяни в ментовке — пока не выручили орденоносные отцы. И чтобы всю потом жизнь снимать проценты с этих страданий…
С процентами, правда, у этих ребят всё в порядке, "бытовая математика" — их область. Чуть что — готовы немедленно "променять судьбу бунтаря и поэта на колпак поварской". Заваливая страну пельменями и макаронами, снимая навар с ресторанов, кафе, пивнушек. Не гнушаясь ничем. Теперь вот в виде Макаревича можно купить (за ЗЗ рубля) насадку на бутылку. Или крючок, на который вешают полотенца и поварешки. Разлившийся по всей стране кич обрел еще один "бренд", ходкий и хваткий. Макароныч — так теперь ласково именуют дедушку русского рока в желтой прессе.
Впрочем, и там начинают понимать, с каким явлением имеют дело. Куда погнали государственный корабль былые гонимые. Даже заметно пожелтевшая "Комсомольская правда" вынуждена была признать: "Путь русского либерала — к спрыснутому деньгами покою. В толщу лазурных берегов и сказочных кораблей. В винные погреба несказанной свободы. На дно океана, к туристическим камбалам и свежеприготовленным осьминогам" (номер от 12 февраля 2004 г., стр.9).
Не иначе как портрет нашего героя.
Одного из многих, бесчисленных, будто шипящими пузыриками вздуваемых со дна житейского моря. Право, когда ни включишь телевизор, картина именно такая — будто пришел к морю пушкинский Балда и давай море "морщить", а чертей "корчить", затеяв с ними суматошную "свалку". Вот уж который год у нас один нескончаемый шабаш "козлобородых гуру, гребнеголовых заек, борделетипажных примадонн, русофобствующих смехунов, воинствующих педерастов",— как писал в своем открытом письме президенту, так и оставшемся без ответа, славный бард Александр Новиков.
Липкий кич обладает свойством притягивать к себе всё вокруг — пожирать пространство культуры, как ряска. От каждого пузырика — клоны. Пусть рука мальчика-дедушки Макаревича устает перебирать струны, привыкая к разделочному ножу, но скольких подражателей он, подражатель, уже породил. Легкий да златотканный успех так заманчив. И вот уж скачет по сцене какой-то недозрелый гомункул, истошно вопя: "Я буду вместо, вместо, вместо нее, твоя невеста, невеста, йо, йо". Вместо Петровой Бабкина, вместо Лины Мкртчян Алсу, вместо Комова Церетели, вместо Рубцова и Соколова Иртеньев и Пригов, вместо Распутина и Личутина Сорокин и Ерофеев. Всё у них — вместо…
Я не случайно с вопроса о демонологии начал эти заметки. Без опоры на христианскую систему координат ничего не понять в нашем времени. Как и без опоры на пронизанную православием русскую классику. Ведь наблюдаемый нами шабаш был предсказан ею до деталей. Разве не к "либеральной кадрили", описанной в "Бесах", восходит нынешнее бренчание либеральной кумирни. Разве не предупреждал Константин Леонтьев о последствиях "вторичного упрощения", о всемирном разрушении культуры, которое "всенепременно приидет" с торжеством обывательских ("среднеевропейских" в его исчислении) ценностей. Разве не голосили хором все предки нам в назидание: "Без Бога — не до порога". Без иерархии, без идеала, без духовной вертикали — одна сплошная болотная горизонталь, где смешались критерии, где исчезли традиции, где позволено всё. Где нет ни низкого, ни высокого, ни правых, ни виноватых. Где правы все, и любой порок превозносится, как прежде святость. И царствуют былые низкопробные маргиналы, всплывшие на поверхность вместе с вместо-культурой.
Их царству вряд ли положат предел публицисты. И всё же у каждого пишущего нет иного призвания, как называть вещи своими именами. Даже если всё идет, как идет. Вернее, катится — сизифовым камнем с горы.
(обратно)Светлана Удинцова К КАРТИНЕ ЛЕВИТАНА И.И. “ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ”
По старому мостику к тихой обители
Я утром осенним с рассветом приду.
На древних иконах — вокруг небожители,
И к образу милому я припаду.
Светло на душе, и такая отрада!
И всё, что положено в жизни, приму.
И, кажется, Бог дарит сердцу награду:
Он здесь улыбается мне одному.
А старенький батюшка машет кадилом,
И в сумраке бликов иконы висят.
И я не забуду обители милой,
Где прямо в глаза мне — святые глядят.
(обратно)Игорь Тюленев ПО УМУ
* * *
Ю.Кузнецову
“Иди и слушай тишину!” —
Ты мне сказал, и я уехал
В полузабытую страну,
В страну из серебра и смеха.
Там ветер прячется в трубе,
А солнце прячется в лукошке.
Там папа с мамой обо мне,
Живые, думают немножко.
К душе землицы, накренясь,
Готовый с целым миром к бою —
Паду, как смерд, как русский князь,
Прикрою Родину собою.
Хотя б на миг ее тепло
Усталое ошпарит сердце,
И выбьет слово из него,
Как свет из-под закрытой дверцы.
Тогда услышу тишину,
Увижу ангелов колонну...
И всё ж мелодию одну,
Что детский слух ловил — не вспомню.
* * *
Родимая, желтые расы
С пяти наступают сторон.
Какие там к черту данайцы
С дарами — данаец смешон!
А русский не хочет плодиться,
В конюшне храпит, матерясь.
Словесности русской водица
Не смоет Великую грязь.
Сидят на печи повитухи
Да пиво крестьянское пьют.
Жужжат над старухами мухи,
В окошке качается пруд.
Сидит старичок на баркасе
И держит руками уду...
Клюет, но он рыбу не тащит,
А пьет из бутылки бурду.
Лишь я, над столом наклоняясь,
Как будто за плугом иду.
С востока подходит китаец
И в душу стучится мою.
ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ
Я с ним когда-то покорял Кавказ.
В горах отстала с водкой литдружина.
Мулла в ауле дожимал намаз,
Как в разреженном воздухе машина.
Он говорил над пропастью времен,
Что я обязан быть мудрей и старше...
И повторял: — Не забывай о том!
Как маршалу, передохнуть на марше
Не позволял себе и... в даль глядел.
И лишь один он там узрел такое...
О чем его спросить я не посмел.
Духовным зреньем небо фронтовое
Он прожигал до Божьего огня.
Вдруг, отшатнувшись от грядущей боли,
Спросил Творца: — А, Родина моя?..
Я рядом был не по своей юдоли.
А крики по ущелью вверх ползли,
Поспешно приближалась литркоманда.
Тут он очнулся и сказал: — Пошли.
Уединяться от людей не надо.
Все радости и горести земли
Душа держала, словно Русский Узел.
Смешавшись с дымом Родины вдали,
Она рванулась, разрывая узы.
Взлетела выше Золотой Горы
И потрясенных золотых потомков.
Где ждёт святой Георгий до поры
Кого-нибудь с военной подготовкой,
Пульсируют Карибские костры,
Народ впотьмах язык свой догоняет.
Всегда слова поэзии чисты,
Когда поэты говорят о рае.
Ты высоко, товарищ боевой,
Туда людская мысль не долетает.
Прощай, поэт! А встретиться с тобой
Когда-нибудь никто не помешает.
* * *
Отцовскую шляпу надену,
И шляпа сидит по уму.
На русскую выйду арену:
— Как шляпа подходит ему!
Подходит Байкал мне и Кама,
И профиль скалистый в Крыму.
Шаляпинская фонограмма.
Я тоже так рявкнуть могу!
По мне сталинградские степи
С расплавленной вражьей броней.
По мне пролетарские цепи
И те, кто был скован со мной.
И меркнет буржуйское семя,
Когда я в кабак захожу.
По мне это подлое время,
И тяга страны к мятежу.
Стихии железной глаголы
Стопой обопрутся на ять!
Беднейшие братья, монголы,
Нас скальпы научат снимать.
Напомнят, как делают чаши
Из срубленных вражьих голов.
На свете нет Родины краше!
И этих доходчивых слов!
(обратно)Геннадий Ступин И ВОТ...
Нашему давнему автору, прекрасному русскому поэту Геннадию СТУПИНУ — 70 лет!
Поздравления от “Дня литературы”!
1.
Я всё превосходил, и сам себя.
Великие даны мне были силы.
Лихая, но прекрасная судьба.
И вот стою я на краю могилы.
Не ропот, не унынье и не страх —
Спокойствие, хоть места нет смиренью.
Ты, Вечность, царства повергаешь в прах
И гениев ты предаешь забвенью.
И что тебе какой-то там поэт,
Укравший несколько твоих мгновений.
Пусть он ценою сумасшедших лет
Тебе оставил сонм стихотворений.
Рассеянная, их забудешь ты,
Засунув в пыльные свои архивы.
Лишь некто среди вечной суеты
Найдет их вдруг и удивится: живы...
И всё. И больше нету моих сил.
Бессмысленно мое существованье.
Я всё, и сам себя превосходил.
И с небом говорил. И вот — молчанье.
2.
В ничтожестве живу. Едва терплю.
И вдруг приступит злоба, как удушье:
Нет, жизнь, тебя я больше не люблю
В твоем самодовольном равнодушье.
Глухонемом. Без музыки небес.
Тебя я больше не превозмогаю.
И торжествует надо мною бес:
Весь мир — одна дыра твоя нагая.
Кроваво-ненасытная, без дна.
Начало и конец всего на свете.
Сосет меня, бессильного, она
Обратно, в темноту, в ничто и нети.
Души и плоти душный смрадный тлен.
Как чёрная дыра звезды остывшей.
Паденье сердца. Мысли мрачный плен.
Вне мира и времен. Вне воли вышней.
Я сам себя превосходил и всё.
Играючи, сумнящеся ничтоже.
И пережил себя. И вот свое
Ничтожество терплю. Помилуй, Боже.
3.
Нелепая и жалкая моща,
Влачусь, пластаюсь, к праху припадая.
Невольно смерти, хоть какой ища,
Но лишь ущербом вящим награждаем.
Смерть не берет, иль Бог не отдает,
Или они между собою спелись
Воздать мне за грехи мои. И вот
Вся жизнь моя ничто, и вздор, и ересь.
А и всего-то всех моих грехов:
Любви всесветной бешеная сила,
И что она сверх жизни сонм стихов,
А не бессчётных чад ей породила.
И вот: тестостерона нет в крови,
Игры гормонов — химии явленья.
И нет ни слез, ни жизни, ни любви.
И нет ни божества, ни вдохновенья.
А выражаясь проще — "не горит".
За стойкую любовь — вот наказанье.
И вот тебе за музыку, пиит,
Расплата — суесловье графоманье.
4.
Блажен, кого в зените смерть нашла,
Кто до бескрылой старости не дожил.
Поэт тем паче — несть таким числа —
До своей смерти доживать не должен.
Не для того он жил — чтоб умирать.
Да и не жил он этой жизнью бренной —
Горел он в ней, не волен выбирать,
Любви нетленной — искрою мгновенной.
И вот погас. Зачем же еще жив?
Воспоминанья, счетов ли сведенье,
Ума потуги, ярости прилив
Иль истуканское окамененье...
Всё — пустота. Когда безлюба плоть.
Когда она бездушна и безбожна.
И тяжести земной не обороть.
И тления избегнуть невозможно.
Я всё превосходил, ярясь, спеша
Гармонии достигнуть в завершенье.
И вот достиг. И кончилась душа.
Старение, и смерть, и разложенье.
5.
Уныл единый мировой закон.
Зиянье вечности, пространства полость.
Любовь и кровь, нуклон и ген, и клон...
И веры слепота. И знанья пошлость.
Дыра-америка поглотит мир.
Всю ноосферу засосет в пещеры.
Ракеты фаллос встанет как кумир,
Как идол новой первобытной эры.
На брег выбрасываются киты.
Спид рыщет по земле на героине.
И глушат музыку небес хиты.
Мозг сохнет в электронной паутине.
И демократ ли, пидор, педофил —
Подверженный тотальному изъяну,
Самой природе человек постыл,
Мутирующий в крысо-обезьяну.
Мир гибнет, или гибну только я?
И перед смертию виденья мрачны:
Пик бытия — в дыре небытия.
Движенья конвульсивны, звуки смачны.
6.
И бесконечности в виду слепой,
В самих себе бесчисленных вселенных,
Ничто любое время, мир любой,
Не говоря о наших жизнях бренных.
И невозможно превозмочь ничто,
Иль бесконечность, что одно и то же.
И сам ты, кто бы ни был ты, никто.
И так же бесконечен, как ничтожен.
Так что смири гордыню, человек.
Так протекают в мире миллиарды.
Хоть каждый сам себе и мир, и век,
Все — лишь мгновенных вспышек мириады.
И я пишу, превозмогая смерть,
В бессилии уже ярясь и ноя.
Чтоб только быть еще, и мочь, и сметь,
В пространство-время преходя иное.
Всю жизнь я рвался так — куда? зачем? —
Как будто знал — в полубезумном раже.
И вот изнеможен, и вот — не вем.
Растаяли прекрасные миражи.
7.
И — всё. Стоит безликое Ничто.
О жизнь и мир, иллюзия земная!..
Но кто-то нам дает её. Но кто?
Наверно, кто-то знает. Я не знаю.
Да это всё равно, в конце концов:
Всё — физики и химии явленья.
Бог — человек ли, курица ль — яйцо
И мир, иль только наше представленье.
Уже не человек, еще не прах,
Как видно, из ума я выживаю.
И ты меня не слушай, вертопрах,
А слушаешь — не верь, душа живая.
Как хочешь-можешь, только сам живи.
Люби, безумствуй, домоседствуй, странствуй.
Покуда сердце держит жар в крови.
Вперед без страха и сомненья. Здравствуй!
(обратно)Вадим Ковда ОНА ЖИВА — СТРАНА ЛЮБВИ...
* * *
Какие мы уже немолодые!
Как наши дамы сухи и стары,
издёрганные, злые, занятые,
лишённые кокетства и игры.
Как наше счастье призрачно и хрупко!
Какие проиграли мы бои!
Всё чаще мы — о деньгах, о покупках.
Всё реже мы — о долге, о поступках…
И никогда — о чести и любви…
* * *
"Ты тоже был женат на бляди..."
И.Бродский "Бюст Тиберия"
Знать, есть на то великие причины.
Такая жизнь! Чего уж лить елей?..
Ах, бедные забитые мужчины —
ругаем жен и хвалим матерей!
Приятен флирт — и для жены забава.
Устала дом лелеять и хранить...
Ты иногда имеешь все же право
жене своей пощечину влепить.
И вот, когда развод тебя потреплет,
добавит пищи сердцу и уму,
твоя жена всё в мире перетерпит,
чтоб было счастье сыну твоему.
И пусть ты смят, разбит и есть причина,
чтоб по щеке слеза текла в ночи,
не уподобься Бродскому, мужчина!
Да, уходи... И всё-таки молчи...
* * *
Смолкайте, пустые желанья!
Уйдите, пожалуйста, прочь!
Я отдан был вам на закланье,
но больше мне с вами невмочь.
Отблядствовал, отсуетился,
Словес наболтал на века...
И всё ж не сломался, не спился
и даже не умер пока.
Так полнитесь вечностью, строчки!
Кричи, суть, что зрела во мне:
о маме, о сыне, о дочке,
о Боге, любви и войне...
Я вновь отрицаю бессилье.
И вижу в глухом полусне
вздымается сфинксом Россия
вдали, предо мной и во мне.
ПОД МУЗЫКУ ВИВАЛЬДИ
(монолог женщины)
Пригласил: — У меня побывайте!
А когда я пришла "побывать",
ты поставил кассету Вивальди
и пытался меня целовать.
Ты трепался, как должно поэту...
и касанья сладки, и слова.
А я слушала музыку эту,
и кружилась моя голова.
И казалось, любовь полыхает.
И казался возвышенным трёп,
Я Вивальди впервые слыхала —
чаще рок, или рэп, или поп...
И когда обо всем я забыла,
и когда меня страсть повела,
Может быть, не тебя я любила,
может быть, я Вивальди дала.
Я расплакалась, я улыбалась...
И, не видя тебя пред собой,
я с Вивальди всю ночь целовалась
и любила его, милый мой.
* * *
Пастух проходит, рваный и худой.
Худые, утомленные коровы.
Их вымена — щетинисты, суровы.
Наверное, неважный с них удой...
И сумеречный свет бестеневой,
до горизонта тихая картошка...
И вдаль смотреть — чуть грустно, но не тошно —
как в серый небосвод над головой.
РЕПЕТИЦИЯ СМЕРТИ
После дикой, бессмысленной пьянки
Я уже ничего не хочу.
И как бес или сломленный ангел
сквозь тоннель в мирозданьи лечу.
И хохочут носатые черти.
И амурчик трубит в гнутый рог…
Для меня репетицию смерти
изобрёл осмотрительный Бог.
* * *
Живу, себя, родного, не любя.
Не сотворяю из себя кумира.
Я устаю от самого себя
Поболе, чем от остального мира.
С самим собой в безжалостном бою,
Со лжи в себе, с корысти рву покровы.
Но нету сил и снова устаю,
и снова ложью зарастаю новой.
* * *
Не слушайте! — всё болтовня.
Она жива — страна любви.
В не раз сожженных деревнях
всё те же спасы на крови.
И я хочу еще взойти
на белые её вершины,
и там открыться до кости,
до самой тайной сердцевины.
И оступиться, и упасть…
Повиснуть на краю ущелья.
Чтоб вновь дошла немая власть
её высокого ученья.
(обратно)Сергей Шаргунов ПЛОДЫ И ОГНИ
1
Пусть хрусты хранит толстокожий арбуз,
желания женские — дыня.
Когда я подкидывал царственный груз,
горела ладонь, как гордыня.
Холеная дыня, сегодня тебя,
в живот загорелый вжимая,
подумал, сырыми когтями скребя:
"А вдруг ты немножко живая?"
Сдавил тебя туго — и вынудил стон,
но был этот стон нереален.
Я каждый ломоть наблюдаю, как сон.
Ты в сумрак желудочных спален
пролейся, пролейся. Снотворно свети
всем внутренностям моим.
Уж много плодов я нашел на пути.
Но всякий путь повторим.
2
Держу я в серванте два дружных ножа.
И нож я сжимаю — а нож
из рук моих лезет в желтеющий жар
двух дынных разбуженных рож.
Встревожены жирные дыни,
хотят укатить далеко,
в пески золотые пустыни —
прикинуться тоже песком.
И хищно глазами сужен,
как путник пустынь варан,
я режу их в мякоть, в лужи,
в свистящие брызги ран!
И я их грызу, захватчик.
О, дыня, меня изнури!
Живот мой — большой одуванчик,
так желт он теперь изнутри.
3
Я дыню глотал запоем
впервые — мне было два,
но я ее не запомнил,
она для меня — слова.
А также на фотке липкой
в распахнутый детский рот —
слепя наивной улыбкой,
дынный кусок плывет.
К Алиночке Витухновской,
в семнадцать я был влюблен,
я шел — и на корке скользкой
вдруг полетел под склон.
Наша сломалась пара,
мир превратился в пар —
это я с тротуара
под машину попал.
Ту корку я не запомнил,
потом рассказали мне…
Летел я, как с колокольни,
нашел себя на спине.
И говорят, вчера вот —
снова ведь память спит —
плакал: "Меня отравят!",
дыню мешал и спирт.
Что я успею сделать,
если я ослабею?
Старости гнилоспелость
низко согнет мне шею,
станут слова седыми,
сердца удар — бледней.
Словно бы мякоть дыни,
эти остатки дней…
4
А может, выпасть, как выстрел,
в листья, плоды, огни?
Упасть на асфальт. И вырастет
вкруг черепа мокрый нимб.
Меня ожидала мама,
и наливалась дыней,
и черную мыла раму,
и ждет меня холм могильный…
Если рожден на свет я,
этот сырой и дынный, —
песенка будет спета,
сколь ни была бы длинной.
5
Прабабушку-индеанку
с Аляски привез прадед.
Через простую ранку
ушла она на тот свет.
Жую я с оглядкой фрукты,
как башковитый рус,
услышав, прабабку будто
срезал осы укус.
Индейская хохотушка,
по-русски она порой
звенела: "А где же грушка?
Мой грушка — такой сырой!"
Рассеяно грызла грушу —
влетела ей в рот оса,
и вынесла ее душу
в июльские небеса.
Натягивая крылышки,
нацеливая томагавк,
оса гробовую крышку
опустила стремглав…
С сумятицею фруктовой
проглочен укус змеи,
и болью — большой, багровой,
отняло от земли.
Расплавленно льется золото,
растравлено плачет медь!
Дрожь уже не от хохота —
от участи онеметь.
6
Еще мне отец рассказывал:
пошел он ребенком в лес,
а в зарослях там расхаживал
темный тяжеловес.
Был мальчик влюблен в малину,
и заполнял, любя,
наполовину корзину,
наполовину себя.
И двое в стороны разные
тянули малины куст…
И соки стекали красные
с медвежьих и детских уст.
И мальчик был — ноль внимания
на эту живую ночь,
свирепую, как Германия,
способную истолочь.
А раньше чтили медведя
как страшное божество —
в лесу его выла ведьма,
в лесу его выл и волк.
И пели люди, смягчая
сгущенье медвежьей тьмы:
"Красивый необычайно,
все его любим мы!"
И добавляли жалобно:
"Кушает он медок", —
ну а в глазах дрожало:
чёрен он и жесток.
И если замру сейчас я
(воют внизу авто),
если представлю счастье
встречи с медведем — то
то и я его дико,
всею душой боюсь.
Боюсь, боюсь его лика!
Мне бы — заяц да гусь…
Мне бы нарвать малины,
пускай, садовой кости,
но от лесного детины
кости свои спасти.
7
А мама мне рассказала
в эвакуацию, как
через грохот вокзала
кто-то к ней сделал шаг.
Двадцать дрожат вагонов,
ехать пора — и тут
писатель Андрей Платонов
шагнул из мира простуд.
И посмотрев доверчиво,
с четкой печалью скул:
"Это возьмите, девочка!" —
апельсин протянул.
8
Недавно я видел: скин
растоптал апельсин.
Фонтанами бил Манеж,
блестя серебром, как нож…
И вдруг завопили: "Режь!"
Подпрыгнула молодежь
гигантским одним прыжком…
под гогот колоколов…
сбегающим молоком
светлейших своих голов…
Ведь жаждет пацан мгновения —
когда бы в толпу попал,
и бурно бежит по вене
сквозь сердце его толпа.
Разделся один болельщик,
он "фак!" показал ментам,
нырнул он в фонтан — и хлещет
по голове — фонтан!
Его из фонтана в сети
вылавливают менты.
Но всюду пожары светят,
но всюду сверкают рты.
Торговцев мелькнули спины…
И кто-то с легкой руки —
радостно опрокинул
с фруктами их лотки.
Захлюпали под ногами
огненные плоды.
От них уже зажигали
автобусы, как сады.
Апельсиновой чащей —
среди белого дня
автобус промчал, трещащий
языками огня.
Назавтра все говорили
о том, что произошло,
о молодой горилле,
о совершивших зло…
Был день переполнен ветром.
В фонтане, что было сил,
не давая ответов,
танцевал апельсин.
9
Однажды же я в разгрузке
участвовал грузовиков —
и дыни гасили тускло
всю ярость моих рывков.
Те дыни мне в руки ловко,
закашливаясь, бросал
простой мужичок — без легкого
и с сигаретой в усах.
Мы оба через неделю
с работы этой ушли.
Я получил свои деньги.
Его — зарыли в пыли,
его закопали в глине,
а может, в песке, а мо… —
кинули в ворох лилий, —
то есть просто в дерьмо.
Ах, да — ошибка ума —
смерть — темнее дерьма!
Смеюсь я с задором панка
и мышцами стал я груб,
но и меня, как напарника,
тоже обнимет гроб.
А за неделю до смерти
он мне дыни кидал,
и я их ловил — не смейте
умирать никогда!
10
В Африке, хоть и северной,
но на такой жаре,
что не снискать спасения, —
был я в монастыре.
Дружат там с мертвецами —
трупы облив винцом,
сушат их месяцами.
Странно быть мертвецом.
Все пути продолжаются!
Со скоростью черепах
на камнях обнажаются
кости и черепа.
Все черепа ослепли,
в каждом скелете — свет!
Солнечные скелеты
в сумрачный сносят склеп.
Нет ни имен, ни спеси,
а из глазниц — простор!
В узеньком склепе спелся,
как в поднебесье, хор…
Полное винограда
блюдо подносит брат,
он с черепами рядом
этот ест виноград.
И головой Иоанна
— воображенья игра —
с блюда темнеет пьяно
виноградин гора.
Молвил монах: "Мир тесен" —
про черепа в склепу.
Я разобрал: "Смертей — всем".
Я уходил в слепую…
11
Видели ли вы ягоды
в горестный час грозы?
Они пролетают ядрами —
молнии сквозь разрыв!
Кустик бежит по кругу,
яркая суета…
Соскакиваю упруго
с ягодного куста!
Соскакиваю, соскакиваю
прямо с газет полос…
Череп себе раскраиваю,
ворох сорвав волос.
Ветер с подножки поезда,
сволакивает — пускай!
Оскаливаюсь без пользы —
вдребезги весь оскал…
И всё же, друзья, не зря
зрела во мне заря.
Не зря меня резал сок,
переходя на визг:
"Не улетай, сынок,
вниз-вниз-вниз!
Дальше среди людей
округляйся и рдей!"
Дальше? А что же дальше?
Жрать урожай на даче?
12
О, дыни — душистые желтые свиньи,
да будет свидание с вами!
Вы хрюкнули нежно. Свидание с дыней —
почти что свидание с дамой.
Пролейтесь, пролейтесь — чтоб сердце не скисло,
и взмок пересохший мой путь.
Я вас обнимаю, как волны морские…
Всему предстоит утонуть!
Ты, дыня, конечно, рассеешься дымом,
вплетаясь в желудочный сок.
Арбуз громогласно расколется Римом.
И ягоду сдернет едок.
(обратно)Станислав Золотцев «СТАНЬ, ЧЕЛОВЕК, МЕТАФОРОЙ МОЕЙ...»
Немало ныне развелось таких "русскоязычных" производителей стихов и прозы, а также их трубадуров от критики, которые утверждают: пишущий должен быть "общечеловечным", а всякие там "почва", "самобытность родного языка" и прочие проявления "квасного патриотизма" только мешают таланту. Подобные взгляды подкрепляются кивками на Запад: мол, в "цивилизованном мире" литература не опирается на национальные ценности. Что ж, взглянем на Запад.
Дилан Томас ! Один из крупнейших поэтов английского языка в ХX веке, признанный во всём мире как самый виртуозный мастер метафоры, как сложнейший художник стихотворных фантасмагорий и парадоксально-причудливых откровений, впервые в прошлом столетии с необычайной, возрожденческой мощью сказавший языком поэзии о неразрывности человека и природы и трагедии их разрыва. Его имя обычно ставят рядом с именем Т.С.Элиота, но Дилан Томас, в отличие от автора "Бесплодной земли", каждым стихотворением говорил людям, жившим в эпоху мировых войн и "холодной" войны, как много жизни (а не только гибельности), жизненности, плодоносности и жизнетворной красы в мире, в их смертном и бренном бытии, в каждом, созданном по образу и подобию Божию...
При всей немыслимой сложности Дилан Томас — единственный на Британских островах художник стиха в XX веке, кого можно назвать по-настоящему народным поэтом (и зовут ныне). Во многом это произошло потому, что в годы Второй Мировой войны он (подобно Ольге Берггольц в блокадном Ленинграде) стал первым "радиопоэтом", обращался к британцам по радио со своими жизнелюбивыми стихами — причём нередко под бомбёжками.
Да, общенациональный, общебританский (впрочем, его самозабвенно любят во всех англоязычных странах), но прежде всего — поэт валлийского народа. "Валлийский бард", "принц Уэльский от поэзии" — так звали и зовут этого сына страны древних кельтов, с ее "громокипящей" эпикой саг и песнопений. Дилан — все его звали только по имени — весь вырос из кельтского фольклора и эпоса, из их "водопада метафор", гиперболически-сказочных образов, темпераментной чувственности и возвышенной духовности валлийского языка. Сам Дилан писал на английском, но его язык каждой строкой говорил, что его автор — сын Уэльса. Вот почему после Второй Мировой войны Дилан стал символом валлийского Возрождения. После войны древний язык Уэльса вымирал — сегодня на нём говорят дети в школах, пишутся книги. Ежегодные праздники национальной поэзии и культуры, проходящие в Уэльсе, зовутся "фестивалями Дилана". Этой осенью поэту исполнилось бы 90, но он завершил свой земной путь, исполненный сумасшедших трудов и земного сумасбродства, в 39: возраст смерти гениев.
Непереводима любая поэзия, это общепризнанно. Поэзия Дилана Томаса непереводима абсолютно . Тем более её хочется переводить и дарить её русским читателям. Дарить её жизнелюбие и жизнетворность.
(обратно)Дилан Томас (1914 — 1953)
МОЩЬ, ВОЗНОСЯЩАЯ...
Мощь, возносящая цветок сквозь зелень стебля,
Возносит зелень лет моих; мощь, от которой
Деревья падают, грызёт меня пилой.
И я немой — и не скажу пожухлой розе,
Что молодость моя пожухла в той же хмурой дрожи.
Мощь, проносящая поток через гранит,
По венам гонит кровь мою, а та, что сушит реки,
Мне иссушает кровь и леденит.
И нем я, чтоб сказать моим живучим венам,
Что устье и уста источник единит.
Ладонь, порушившая гладь воды озёрной,
Взнесёт песчаный смерч; рука, что вихрь стреножит,
Навстречу ветру ставит парус мой.
И я немой — и не скажу я палачу с петлёй,
Что плоть моя ему смолой в петле послужит.
В исток столетий Время впиявилось губами.
И рушится Любовь, и возрождается; и кровь,
Пролившись, боль её убавит.
И я немею и сказать не смею ветру,
Как Время небеса на звёзды намотало.
И я немой — и не скажу останкам Евы и Адама,
Что тот же самый змей в постели крутится моей.
НЕ ГАСНИ, УХОДЯ...
Не гасни, уходя во мрак ночной.
Пусть вспыхнет старость заревом заката.
Встань против тьмы, сдавившей свет земной.
Мудрец твердит: ночь — праведный покой,
Не став при жизни молнией крылатой.
Не гасни, уходя во мрак ночной.
Глупец, побитый штормовой волной,
Как в тихой бухте — рад, что в смерть упрятан...
Встань против тьмы, сдавившей свет земной.
Подлец, желавший солнце скрыть стеной,
Скулит, когда приходит ночь расплаты.
Не гасни, уходя во мрак ночной.
Слепец прозреет в миг последний свой:
Ведь были звёзды-радуги когда-то...
Встань против тьмы, сдавившей свет земной.
Отец, ты — перед чёрной крутизной.
От слёз всё в мире солоно и свято.
Не гасни, уходя во мрак ночной.
Встань против тьмы, сдавившей свет земной.
1952
И У СМЕРТИ НЕ БУДЕТ МОГУЩЕСТВА
И у смерти не будет могущества.
Нагие мертвые воссоединятся
С живыми на ветрах, в лучах луны осенней.
Их кости белые в прах обратятся,
Но звезды воссияют в этом прахе.
В безумье впав, их разум здрав.
Они воскреснут, из морской пучины восстав.
Влюбленные расстались — любовь не стала тенью,
И у смерти не будет могущества.
И у смерти не будет могущества.
В штормовых корчах стихии
Не скорчатся замертво души живые.
И на дыбе, где суставы хрустят,
И когда колесуют — им страха не ведать.
В их дланях удвоится вера.
Единороги зла начнут их топтать,
Но и растоптаны, встанут они опять.
И у смерти не будет могущества.
И у смерти не будет могущества.
Пусть крика чаек они не слышат,
И волны им в лицо не дышат,
И цветы не полыхнут пожаром лепестков,
Раздавлены потоками дождя.
С ума сойдя и напрочь омертвев,
Они проломятся, пробьются из оков,
Будут солнце пить, пока оно не обрушится.
И у смерти не будет могущества.
РУКА, ПОСТАВИВШАЯ ПОДПИСЬ
Рука, поставившая подпись, город рушит.
Пять властных пальцев душат горла крик.
Удвоен мёртвых мир, а мир живых — распорот.
Владыку-Жизнь казнили пять владык.
Могучая рука горбом укоренилась,
Её суставы мертвенно-больны.
Полёт пера — палаческая милость,
Убийству разговоры не нужны.
Рука приказ подпишет — вспыхнул голод,
Чума и тля рождают смрадный дым.
И безымянный мир на плаху гонит
Всесильная рука, царящая над ним.
Пять властелинов счёт ведут погибшим,
Но не смягчатся: жалость им чужда.
Рука — не плачет. Власть её превыше
Небес, и ран кровавых, и стыда.
1937
МОЙ ТРУД, ВЗРЫВНОЕ ИСКУССТВО
Мой труд, взрывное искусство
В ночном покое творится,
Когда лишь месяц ярится,
И сжав подругу в объятьях до хруста,
Любовник готовит печаль в забытьи.
А я работаю певчей зарницей
Не ради славы и трапезы вкусной,
Не для того, чтоб свои
Хвалы мне пели эстетов слои, —
Но ради счастья пробиться
К людским неведомым чувствам.
И не про гордых жрецов златоустых
Взъярённо-лунные строки мои
На этих шершавых страницах,
И не для мёртвых, хотя и искусных
Творцов псалмов, где свистят соловьи, —
Но про влюблённых, в объятьях, как птицы,
Древнейшей боли скрывающих сгусток.
Им дела нет до искусства.
Оно им даже не снится.
ВОЗЖЕЧЬ БЫ ФОНАРИ...
Возжечь бы фонари, чтоб лик святой,
Плененный восьмигранным странным светом,
Угас, но стал юнцам вдвойне бы ведом,
Решившимся расстаться с чистотой.
Плоть грешная во мраке сокровенном
Предстанет, но обманчивый рассвет
Грим с женской кожи сняв, под простынею
Грудь мумии засохшей обнажит.
Меня влечет к раздумью сердце, но
В пути оно беспомощно, как разум.
Меня влечет к раздумью пульс, но он
Становится горяч, и время вскачь
Несется, и трава растет до крыш.
Забыв степенность, я штурмую время,
И ветер Африки мне бороду дерет.
Немало лет я внемлю предсказаньям
И в толще лет провижу чудеса.
Мальчишкой в небеса я бросил мяч —
И он еще не прилетел на землю.
* * *
Особенно когда октябрьский вихрь
Студёной пятернёй мне рвёт вихры,
В клешнях зари я развожу костры,
И крабом тень моя ползёт по рыхлым
Пескам приморья, птицы гомонят,
С шестов надрывно вороны вещают.
И стиховою кровью насыщает
Работа сердца слов летучий ряд.
Я вижу, заперт в башне слов моей,
Что на певучий лес у горизонта
Похожи женщины, и звёздным золотом
Горят глаза играющих детей.
...Творю тебя из буков говорливых,
Из перестуков зрелых желудей.
А то — из трав, колючек и корней,
А то — из песни вольного прилива.
Над папоротником висят часы,
Бесстрастный ход времён толкуя мудро.
Полёт их стрелок возвещает утро
И штормовой начало полосы.
...Творю тебя из луговых знамений.
По шороху растений узнаю,
Что червь зимы вползёт в судьбу мою,
Но ворон не склюёт моих творений.
Особенно когда октябрьский вихрь
(Тебя творят в Уэльсе из холмов
Паучье серебро, предзимний зов)
Кочнами лап поля дубасит лихо,
Из бессердечных слов тебя творю.
Нет больше сердца… Истекать устало
Оно словами спешки и металла.
А птицы шторм пророчат октябрю.
1933
НЕ ТЫ ЛИ МОЙ ОТЕЦ
Не ты ли мой отец, воздетою рукой
Разрушивший мою возвышенную башню?
Не ты ли мать моя, мученье и укор?
Прибежище любви — я — твой позор всегдашний.
Не ты ли мне сестра, чьих злодеяний высь
Лишь с башнею моей греховною сравнится?
Не ты ли брат мой, в ком желанья поднялись
Увидеть мир в цвету с высот моей бойницы?
Не я ли свой отец и свой растущий сын —
Плод женщины земной и продувного шельмы,
Что цвет её сорвал в песке морской косы,
Не я ль сестра, себе дарящая спасенье?
Не я ль из вас любой, на грозном берегу,
Где в башенных стенах клюёт ракушку птица,
Не я ли вами стал, вдыхая моря гул? —
Ни крыши из песка, ни крепкой черепицы...
Всё так, сказала та, что мне давала грудь.
Всё так, ответил тот, кто сбил песочный замок.
Как Авраам, он был к моленьям сына глух.
Все перешли в меня, кто скорбен был и зябок.
Я слышал башни крик, разбитой на куски:
Разрушивший меня застыл, к безумью близок!
По вязкому песку выходит мрачный призрак
На зов её творца из тростников морских...
Не ты ли мой отец среди руин и горя? —
Отец твоей сестры, сказал морской тростник.
Кровь сердца, соль земли в себя всосало море,
Оставив пресный лад, что чинно жить привык.
Хранить ли мне любовь среди вселенской зыби,
Под кровлей из ветров, страданиям учась?
Хранить! — звучит ответ. Пусть в ней таится гибель.
За это все грехи простятся в смертный час.
(обратно)Алексей Лаврентьев ЗВОНОК
Сегодня мне в дверь позвонили. В сломавшийся уже месяц назад звонок. Тот сиротливо свисал на двух красных, перемотанных синей изолентой проводах. Он не умер, просто решил отдохнуть. Только место для повешениия он нашел совсем неудачно. Гораздо приятнее висеть где-нибудь на природе, на пахучей сосновой ветке и чувствовать дуновение ветерка. Но тут уже выбирать не приходилось. Да и незачем людей пугать дверными звонками на соснах.
Открывая дверь, я уже мысленно пел дифирамбы электрику, который сумел-таки дойти до моей двери и починить звонок. Но за дверью меня ждал почему-то не электрик, а какой-то длинный господин в бежевом клетчатом и изрядно помятом пальто. На нем была коричневая вельветовая шляпа. И вообще он напоминал вешалку для одежды. Именно для той, которая была на нем одета. В руках господин держал чемоданчик из кожи, докторский. Во всяком случае, именно с таким чемоданчиком приходила ко мне наша участковая врач, когда у меня была ангина. Это было еще до войны. Давно то бишь. "А коридор всё такой же тихий, пыльный и темный", — подумал я. Посмотрел на господина, затем на звонок: он всё так же висел на двух хилых отростках из дырки.
— Здравствуйте, это вам удалось починить… — моя рука потянулась к кнопке, звонок молчал (значит, всё-таки не удалось), — …звонок. А, черт, все-таки не звонит!
— Здравствуйте, — отозвался гость, его голос был мягкий и приятный, теплый, как шерстяное одеяло, с такими, знаете, ворсинками.
— Как это не звонит? — с интересом, и очень-очень вежливо. — Только что же работал.
Теперь уже рука длинного коснулась звонка, и — о чудо! — тот затрезвонил, точнее должен был, но вместо этого он залился соловьем.
— Всё совсем как раньше, — умильно сказал господин, — о, простите, я забыл представиться, капитан Карпов, Сергей.
— Юрий. Может вы пройдете? Хотя нет, стойте. Послушайте, а как вы это сделали? — мои глаза не спеша прогуливались от господина до звонка, от звонка до Карпова, от Карпова до этого чертова соловьиного поломанного звонка. — Он же никогда так раньше не звонил.
— Как же не звонил, он всегда звонил именно так, — капитан удивленно пожал плечами, — всю жизнь.
Еще минута была занята тем, что я безуспешно пытался заставить звонок работать как раньше, или вообще работать — в моих руках он молчал. Он был сломан, черт побери!
Я резко обернулся в сторону длинного. Он невозмутимо стоял.
— А давайте теперь вы попробуете? — я смотрел на клетки пальто.
— Позвонить? Давайте, — длинные, ослепительно белые пальцы показались из рукава, и звонок снова залился соловьем.
Мне почему-то захотелось схватить этого горе-фокусника за лацканы и таскать до тех пор, пока он не откроет мне, в чем секрет этого непонятного представления. Но вместо этого я сказал:
— Может, все-таки пройдете внутрь? — и шагнул назад.
— Спасибо, — сказал гость мягко, его длиннющая рука потянулась к ручке и аккуратно прикрыла дверь.
— Вы наверно ждете от меня некоторых объяснений?
Я уже хотел выпалить: "Как ты сделал этот чертов фокус?", но просто кивнул.
— Мне не очень легко объяснить цель моего визита. Я жил в этой квартире раньше, до вас. И вот проснулась у меня какая-то ностальгия, захотелось посмотреть, как тут теперь. И знаете, я уже ощущаю это чувство. Кажется, будто здесь ничего не изменилось. И телевизор у нас стоял там же.
— Во время этой речи, произносимой все тем же теплым голосом, я проникся почти абсолютным радушием к своему гостю и даже чуточку прикоснулся к тому, что он описывал. И даже сказал:
— Знаете, я вас понимаю, не смущайтесь…
И тут я до меня дошла одна сумасшедшяя мысль: "У меня дома нет телевизора!!" Я едва не подскочил. Обернулся, мои плечи снова опали, там стоял телевизор — "Чайка", черно-белая модель. Я был согласен почти на всё.
Карпов тем временем вытирал ноги в прихожей.
— Хотите, я расскажу, как тут было раньше? — и прежде, чем я успел сказать "не надо", начал: — Как замечательно всё, вы почти ничего не меняли. Даже эту старинную швейную машинку не выкинули. На ней еще моя бабушка гардины подшивала. А это одеяло, которым застелен диван, он всё еще скрипит? — капитан перечислял всё новые вещи, которых тут никогда не было, но стоило только глянуть в ту сторону — и они уже были там. Вещей становилось больше и больше, слова были всё мягче и тише — у меня начала кружиться голова. И так до тех пор, пока я не очутился полностью в коконе беззвучия. Веки закрылись сами собой.
Но тишина была неравномерной, словно где-то далеко гудели провода. Долго гудели, бесконечно. Но вот шум стал громче и перерос во что-то родное и знакомое. О боже! Да это же мой звонок!
Я открыл глаза. Было утро. Сумерки. Никакого Карпова. Привычный, родной беспорядок в полупустой квартире. И трезвонит звонок.
Я бросился к двери, с опаской открыл. Электрик — просто день сюрпризов.
Он улыбнулся гнилой улыбкой и сказал:
— Крепко спишь, мужчина. Я тут тебе звонок починил. Деталей редких поставил. Дай трешку на бутылку?
(обратно)ЕВГЕНИЙ Бахревский «ПОЯС ШАХИДА» И НАШЕ ПОРАЖЕНИЕ
Незаменимая роль средств массовой информации в осуществлении террористических актов — давно обсуждаемая тема. С некоторых пор, в особенности после трагедии "Норд-Оста", СМИ стали "аккуратнее" освещать террор. Наверное, не обошлось без инструкций из соответствующих органов.
Тем не менее, все российские СМИ безостановочно используют один специфический термин, значение которого, по-видимому, не понимают! Хотелось бы довести его до сведения господ журналистов. Речь идёт о слове "шахид", а также всяческих его производных вроде "шахидка" и о знаменитом теперь "поясе шахида".
Слово "шахид" — арабское, в прямом переводе на русский язык означает "свидетель". Специальное, религиозное значение этого слова аналогично христианскому термину "мученик". Кстати, в греческом языке слово "мартис", означающее "мученик", тоже несёт значение "свидетельства". Мученичество, мартирион — свидетельство правоты своего исповедания под страхом смерти.
Значение арабского "шахид" практически то же. Шахид — это свидетель правоты мусульманства, доказывающий, что "нет никакого другого Бога, кроме Бога Единого (Аллаха) и Мухаммед — Его Пророк" собственной героической гибелью.
В современных языках мусульманских народов слово "шахид" может применяться и в иных значениях, без связи с религией. Например, оно означает воина, павшего на поле боя. Даже в том случае, если речь идёт, к примеру, о каком-нибудь турецком жандарме, погибшем в столкновении с курдскими повстанцами. Однако применение термина даже без учёта его религиозного смысла не отменяет всей его положительности. Шахид — этс безусловно ГЕРОЙ, погибший в праведной войне. Со словом "шахид" связаны исключительно положительные ассоциации для любого мусульманина.
Мне не очень понятно, как, собственно, проникло в наши СМИ это слово. Началось, безусловно, с "пояса шахида". Сначала я подумал, что российские журналисты попросту взяли готовый термин у западных собратьев или из Израиля. Но стоило мне "побродить" по англоязычным сайтам, как выяснилось, что там этот термин не употребляют. Вместо него пишется: "пояс-бомба", "пояс бомбиста-самоубийцы", "подрывной пояс".
В СМИ многих мусульманских стран употребление термина "пояс шахида" также невозможно по указанным выше причинам. Я спрашивал у турок, возможно ли в их СМИ произнесение этого словосочетания. Они были просто возмущены. Один мой эмоциональный друг из Турции, человек вполне религиозный, сказал так: "Какие они шахиды?!! Это — собаки!"
В СМИ арабских стран, особенно в Палестине, террористов-самоубийц действительно иногда называют шахидами. Далеко не всегда и не во всех СМИ, это зависит от их религиозной ориентации. Большинство мусульманских богословов не признают подобного мученичества и осуждают "живые бомбы" как самоубийц.
Только на интернет-сайтах самих мусульманских радикалов термин "шахид" используется точно так же, как в России...
Журналисты могут пользоваться любыми источниками информации — это нормально. Но ведь надо же понимать, что не всё оттуда следует переписывать слово в слово!
Мне могут возразить, что словоупотребление не так уж важно, что для русскоязычного читателя, радиослушателя и телезрителя слово шахид не несёт положительной нагрузки...
Однако вспомним, что значительная часть населения нашей Родины — мусульмане, не имеющие никакого отношения к ваххабитам, салафитам и пр. И для них слово "шахид" звучит совсем по-иному, нежели для русских.
И самое главное. Если мы перешли на терминологию врага, то он уже одержал победу. Пока — идеологическую. Если Россия признаёт, что бомбисты-смертники — шахиды, то мы проиграли. Ведь не именовало же советское Информбюро в 1941 году фашистские войска, к примеру, "непобедимой армией Третьего Рейха"!
Все, кажется, согласны с тем, что первую кампанию в Чечне Россия проиграла именно из-за полного разгрома в информационной войне. Как показывают последние события, наша теперешняя антитеррористическая операция только начинается. Информационный фронт на этой войне — важнейший. Ни шагу назад!
ЕВГЕНИЙ БАХРЕВСКИЙ, востоковед
(обратно)Сергей Зхус Я ЭТОТ ВОЗДУХ ПИЛ
***
Опять тяжёлая атака
Моих невидимых лисиц.
Сейчас я выгляну из мрака
Чредой неуловимых лиц.
Взревев ужасными словами
Дубиной тяжкою взмахну!
Застыла чаща с медведями
На фантастическом лугу!
***
О, царь мой сладкий, удави
Мой самый нежный взгляд.
К тебе с молекулой любви
Был послан этот яд.
Тебя я за руку не брал,
С тобой не говорил.
Ты чёрным воздухом дышал.
Я этот воздух пил.
***
С таким запасом мрачной немоты
Не избежать причудливой войны.
О, Суздаль моего ума. Как сложен
Путь ядер будет. С лабиринтом ножен
Не совпадут гиперболы мечей.
Не лучше ль нож в тебя воткнуть скорей,
Чтоб ми-бемолью чистой, голубой
Тяжёлый рёв заколебался твой?
MILITARY
Мягкие ружья сплетём в боевой миномёт.
Ветки берёз и медовые венчики трав.
Бродим по полю, серебряный взяв пулемёт,
Чёрные мины к груди на мгновенье прижав.
Летние грозы бегут далеко впереди,
Грозы орудий степных, перевитых плющом.
Лишь ветер дремотный качает стальные стволы,
Стволы разрушительной силы, плюющей огнём.
***
Дракончики летят на свет лампады,
Лишь на мгновенье заменяя мотыльков,
Что были бронтозаврами когда-то
И спали до поры в глуши веков.
Но рыцари с печальными глазами
Встречают их у краешка зари
И тянутся холодными мечами
К безумным шеям, жаждущим любви.
ОСЕННИЕ ЗАЙЦЫ
На спелый мох мы упадём с тобою,
пронзённые индейскою стрелою,
давя щеками ягоды хмельные,
вдыхая ртом пылинки золотые.
Листва уж вянет.
Влажный мир стрекоз
бледнеет и дрожит за дымкой слёз.
МЕТАМОРФОЗЫ БРОНЕНОСЦА
Я в медовой капле увяз.
Вы увидеть меня смогли бы
Сквозь кристально чистый алмаз
Меж ветвей драгоценной ивы.
Я ползу электрическим скатом
По излуке точёных бровей
Командиров и ихних солдатов,
Умирающих в зыби морей.
ЛЮБОВЬ РЫБАКА
Ведь ты же видишь,
Это невозможно.
Уйдут моря за пашню летом.
А рыбы нам останутся седые.
В клетушке серенькой сидим сидим.
Все в чешуе, как будто рыбы.
А сами рыбьи головы едим.
***
И шёпот коня за полночной рекой
Колеблется в воздухе рядом со мной.
Мой дивный жираф пробежал навсегда
Меж сумрачных трав, где сияет вода.
Смотрите,
тончайшая башня за сотней морей
Распалась на атомы редких солей.
Теперь — там, где Солнце над миром встаёт,
Нам тонкий германия мнится налёт.
***
Как летний пруд стояло небо
Над фиолетовой Москвой.
Унылый цвет немого хлеба
В окне у булочной простой.
Плутон висел под небом тёплым,
неспешный мой склоняя ход
поближе к стенам зданий блёклым.
Из магматических пород.
***
Ночами нежная равнина
Нас обнимала и звала.
А нам три нежных георгина
Во тьме торговка продала.
И эта женщина в платочке
С гиперболическим ведром
Бежит по трепетной цепочке
В свой извивающийся дом.
***
Эта мрачная вишня — вопрос,
Сводит скулы мои от мечты:
— Ты пойдёшь до высоких берёз
собирать на рассвете грибы?
— Нет!
…короткая схватка, борьба,
Поцелуи меж согнутых ног.
Пряный воздух рывками дыша,
Сок любви мы прольём на Восток.
***
Я пришлю тебе мёртвого мима
С обмороженным бледным лицом,
С голубыми цветами в корзине,
В чёрной шляпе с павлиньим пером.
Ты отпрянешь испуганной ланью
Вглубь квартиры красивой своей,
А уж я тут как тут, и тираню,
И целую меж строгих грудей!
(обратно)Александр Проханов МИРОВАЯ ОСЬ (Отрывок из нового романа “Надпись”)
ВОЛНЫ ШЛИ ИЗ КИТАЯ. Свет был бессловесным посланием, таинственной молвью, которую Коробейников силился и не мог разгадать. Загадочная страна через темные очертания гор что-то вещала Коробейникову, разговаривала с ним дыханием света. Эти прихотливые, существующие тысячи лет очертания, и одинокая удаленная сопка, озаренная с одной стороны, и розоватая, с нежными тенями степь, над которой кружил тяжеловесный ворон, и слетающие с чьих-то огромных уст, пульсирующие волны света, — все это был Китай, о котором он так мало знал. Золоченые Будды среди красного убранства храмов. "Зимний Дворец императора" с черепичными крышами, резными драконами, каменными священными львами. "Летний дворец императора" у лазурных прудов, по которым плывет ладья, оставляя на лазури розовый след. Алебастровая армия воинов, бессчетными рядами стоящих по пояс в земле, — доспехи, мечи, мужественные пехотинцы, грациозные всадники, молчаливые генералы в долгополых одеждах. И конечно "Пекинская опера", — танцующие лицедеи с мяукающими голосами, в ярко раскрашенных масках, тяжелых шелках, с движениями марионеток.
"Пекинская опера" — так называется эта игра, в которой участвуют солдаты с палками, пыльные, с приподнятыми пулеметами, транспортеры, полковник Трофимов в мятой панаме с лицом притаившегося охотника, и он сам, Коробейников, вцепившийся в скобу транспортера, глядящий на мятую, из оцинкованного железа трубу…
Предрассветный ветер принес с сопки звуки: звяк лопаты, неразличимые голоса, нечто, напоминавшее смех. Там, на вершине, китайские солдаты долбили окоп. Скребли металлом гору, переговаривались. Кто-то произнес забавную шутку, вызвавшую смех.
Было странно слышать смех людей, которых через минуту станут убивать. Быть может, засмеялся именно тот, в чьем рожке таится роковая пуля. Не ведает о нем, Коробейникове, — о стебельке полыни в руках, о мимолетной мысли о детях, о футурологе Шмелеве, с которым мечтали оказаться в казахстанской степи, у подножья китайских гор, о восточном стихотворении, которое читал наизусть Валентине: "Летние травы — воинов павших грезы о славе", о Елене, которая спит в этот час в зеркальной спальне, и в ней наливается, зреет их нерожденный сын. Все эти мысли и образы пробьет молниеносная пуля, сольет их разрозненную последовательность в нерасчленимое целое…
Коробейников, приподнявшись, слушал гулкие, рвущие воздух удары. Видел, как в сумерках пузырится крохотное желтое пламя у пулеметного дула, изрыгавшего крупнокалиберные очереди. Пули со стальными сердечниками буравили камни, отстригали вершину, долбили сопку, подымая над ней облачко светлой пыли. С другой стороны, подкравшись, ударил второй транспортер, пылко, туго, вколачивая в воздух пузырящийся звук, всаживая в сопку красные гвозди.
Два "бэтээра" обрабатывали вершину, соединяя на ней пулеметные трассы. Вершина дымилась, искрила, словно на ней шла сварка, и ее приваривали к заре. На латунном листе — темная вершина, окруженная кудрявым дымком, в который вонзаются красные электроды.
Коробейников чувствовал, как хрустит и рвется воздух, стальные костыли вколачиваются в мучнистый камень, молниеносная сталь терзает плоть, вышвыривает из мелкого окопа, разрубает на части, пробивает дыры. Одна жизнь истребляла другую, соскабливала с горы, соскребала с утренней степи, желтой зари, изгоняла с земли. Пулеметы истребляли избыточную жизнь, лишнюю, оказавшуюся на вершине сопки, нарушившую какой-то важный и непреложный закон самой этой жизни. Что и вызвало тугие беспощадные грохоты, два желтых пульсирующих пузырька по обе стороны сопки, колючие красные иглы, пронзающие живую материю.
От вершины в сторону первого "бэтээра" полетели встречные трассы, тоньше, реже, неуверенным веером. Мелкие стуки китайского пулемета затаптывались, забивались грохотом крупнокалиберного оружия. От вершины к "бэтээру" покатился по воздуху красный уголек, словно кто-то стряхнул с сигареты пепел. Комочек ударил в степь, отскочил, прыгая, как мячик, унесся в темноту, и там грохнул короткий взрыв промахнувшейся гранаты.
— Держи дистанцию, Квитко!.. Не подставляйся гранатометам!.. — Трофимов управлял стрельбой. В голосе его были раздражение, азарт, беспощадная страсть, сводящая на вершине сопки раскаленную сталь, оптику пулеметных прицелов. — Меняй позицию, Квитко, черт бы тебя побрал!...
Из окопа слабо плеснул свет, размазал сумерки, упал, не достав "бэттэр". Превратился в белую звезду недолетевшего термитного заряда. Транспортер, не прекращая стрельбу, двинулся вокруг сопки, высекая из нее блестки. Скрылся за горой. Стучащие очереди стали глуше. Промахнувшиеся трассы вылетали из-за вершины, гасли в небе. Второй транспортер пошел по дуге, приближаясь к "группе захвата". Остановился у нее за спиной, оглушая, посылая над головами солдат малиновые брызги. Огненные ножницы состригали вершину, ровняли, делали плоской, сыпучей.
Коробейников увидел, как из окопа на вершине горы поднялся в рост человек. Его окружало пламя. Он сбивал огонь, извивался, размахивал руками. Горели рукава, как огненные крылья. Кинулся вниз пылающим факелом. Рухнул, ворочался, охваченный жидким огнем. Замер. Горел, как кусок жира. Растекался по склону сальными ручейками света.
— Термит загорелся... Пуля угодила в термитный заряд... Поджаренный китаец... — Трофимов отжался на руках, тянулся вперед, и в его округлившися глазах мерцали две ртутные точки, — отражение сгоравшего человека.
Пулемет на горе молчал. Света становилось всё больше. Степь была полосатой, нежно-розовой. В этой степи Коробейников присутствовал при истреблении чужеземцев, которые корчились в окровавленном окопе, харкали кровью, подхватывали выпадавшие из животов кишки. Сгоравший на склоне китаец передавал сквозь пространство свою нестерпимую боль, от которой Коробейников обморочно упал на песок, заслоняясь близкой подошвой лежащего впереди солдата.
"Боже, ты даешь мне всё это увидеть!.. В этом твое назидание?.. Ты устроил всё это, чтобы я мог узреть?.. Что же мне с этим делать?.." — вопрошал он, слыша, как шумит над головой растерзанный пулями воздух, и в эту безвоздушную трубу мчались пули, проносился узкий огонь. Казалось, на вершине сопки раскалываются стеклянные вазы, сыплется блеск осколков.
Кромки гор раскалялись. К ним подкатывалось невидимое солнце, готовое показать маленький огненный край.
— Лаптий, подымай "группу захвата"!... Чтобы солнце вас не слепило!.. — Трофимов сунулся к сержанту, выталкивая кулак к вершине, словно хотел выбить солдат из песчанных лунок, куда они испуганно вжались. — Квитко, прекратить огонь! — полковник придавил к злым губам рюмочку микрофона. — Подымаю "группу захвата"!.. Прекрати огонь, капитан!..
"Бэтээры" умолкли. Ближний стал откатываться. В утреннем свете виднелись скосы брони, протектор толстых колес, задранный ствол пулемета. И в этом светоносном небе сипло и зло прозвучало:
— Сержант, атакуй!.. Вперед!..
Этот приказ — длинный, как удар бича, — хлестнул по бугристому тулову, составленному из прижатых солдатских тел. Бугры стали шевелиться, взбухать. Люди были не в силах оторваться от спасительного, наполнявшего ложбину песка. По спинам и каскам бежала больная судорога. Первым медленно, мощно, как на домкратах, отжался Лаптий. Встал на четвереньки, в позу спортивного старта. Повернул к солдатам тяжелое, под каской, лицо:
— Вперед, мужики!.. — сипло прохрипел, зачерпывая воздух ладонью. Словно вычерпывал группу из ложбины, выковыривал из песка, сметал вверх на сопку. — За мной!.. — и побежал, не оглядываясь, косолапо, сильно, как молодой медведь. Взбегал по склону, держа в кулаке автомат. Сила броска вязко натянула, повлекла за собой невидимые ремни и постромки, соединявшие сержанта с группой. Один, другой солдат стали подыматься. Поскальзываясь на песке, начинали бежать, махая автоматами, как веслами. Устремлялись к вершине, вовлекая в бег остальных.
Коробейников чувствовал, как напрягаются связывающие его с солдатами крепи, выдирают из песка, вовлекают в общее стремление. Стал подыматься — тягуче, вязко, преодолевая гравитацию, готовый кинуться вслед солдату, который вставал перед ним, упираясь стопой в песок. Грозный, свирепый оклик: "Стоять!..", удар по спине обрубил постромки. Передний солдат вскочил, горсть песка из-под его подошвы метнулась в лицо Коробейникову. Он остался на месте, хрустя на зубах песком. Смотрел, как удаляется группа вверх по горе, неровно, с интервалами, покрывая склон пятнами.
— Не ваша работа... — зло произнес Трофимов, похлопывая ладонью по песку, словно выравнивал оставленные солдатами лежки. — У вас другое задание...
Коробейников чувствовал перед собой зияющую пустоту, где его теперь не было и куда удалялись солдаты. Казавшаяся нерасторжимой связь оборвалась. Его судьба не совпадала с судьбой бегущих в гору солдат.
Они вбегали на склон острым клином, вершиной которого был сержант, а расходящимся веером — отставшие молодые солдаты. На полпути к макушке склон прогибался, образуя впадину, где еще сохранялась тень. В это длинное, с остатками тени, углубление вбегали и падали солдаты, тесно набиваясь в безопасное место. Последний покидал розоватый озаренный склон, когда сверху ударила очередь, трескуче, резко, длинной мерцающей искрой. Промахнулась, просвистела над головой Коробейникова.
— Так, сержант, молодец... Отдышитесь... Но не задерживайтесь... Сверху забросают гранатами... — Трофимов командовал, будто его негромкие слова могли быть услышаны на далеком склоне. Управлял атакой, словно от него к сержанту тянулся проводок, по которому передавались команды, — Ну давай, сержант, подымайся!..
Солдаты продолжали лежать. Окоп на вершине молчал. Среди исстребленных "бэтээрами" китайцев еще оставался живой пулеметчик. Невидимый ствол искал на склоне солдат, ждал их выхода из "мертвой зоны".
Солнце выжигало кромку гор, плавило камни. На эту жидкую раскаленную линию было больно смотреть. Солнце то появлялось, высовывало яростный злой язычок, то пряталось в гору, в слепящий блеск. Казалось, солнце не пускали, удерживали, откладывали восход, давая солдатам последние минуты належаться в безопасной тенистой ложбине. Коробейников чувствовал присутствие чьей-то невидимой воли, удерживающей светило. Сжав глаза, смотрел, как ныряет оно, трепещет, не в силах подняться. Его ресницы превращали свет в пышные зыбкие радуги. Казалось, из-за гор бьет разноцветный фонтан, переливается спектрами. Небо становилось нежно-зеленым, прозрачно-розовым, светло-золотым. Будто на китайских горах улегся хамелеон и менял свой цвет.
"Чудо китайского солнца..." — шептал Коробейников, боясь расширить глаза, убрать из неба павлиньи спектры, выпустить солнце из гор.
— Сержант, хули ты медлишь?.. Вперед!.. — зло, беспощадно приказывал полковник.
Казалось, Лаптий через пространство сухого воздуха уловил злой, металлический голос. Поднялся, повторил вычерпывающий жест. Боком стал взбегать, враскоряку, работая локтями, выталкивая вперед автомат. Солдаты покидали спасительную тень, выбирались на светлый склон, карабкались вверх. Из окопа блеснул огонь. Очередь промелькнула среди бегущих солдат, никого не задев, и в ответ стали бить автоматы. Солдаты задерживались, били неприцельно, посылая к вершине разрозненные очереди, продолжали бежать. Один упал, завалился на бок, перевертываясь на спину, пропуская острый проблеск над собой. Его обегали, через него перепрыгивали. Было видно, как отпала его каска, и он крутит белесой головой. Двое задержались, присели рядом. Грохнул взрыв — клубенек огня, маленькое облачко пыли. Коробейников успел заметить опадающую после броска гранаты руку сержанта. Лаптий первым выскочил на вершину, приседая, веером вел автомат. Взошло солнце. Окружило сержанта кипящим светом, оплавило, облило жидким свинцом. Он стал зыбким, тонким, провалился в вершину, словно там был кратер, и он канул в белой расплавленной магме. Солдаты взбегали на кромку, пропадали в слепящем блеске. И там, где они пропадали, слышалась трескотня, бульканье, вопли. Вставшее солнце выпаривало скопившуюся на вершине орущую, стреляющую жизнь, превращая ее в прозрачный, наполненный светом пар.
— Я — "Первый"!.. Квитко, присылай на горку людей... Косоглазым пиздец!.. — Трофимов ворочался, всматривался в близкую сопку, оглядывался на стоящий в стороне "бэтээр". Машина двинулась к сопке, к ней, выскользнув из-за склона, присоединилась другая. Осторожно подошли к подножью, откуда начиналась атака. Бортовые люки раскрылись, стали выскакивать солдаты, шли торопливо мимо Коробейникова. Капитан Квитко, в камуфлированном маскхалате, пятнистый, как тритон, замыкал цепь. Трофимов поднялся, достал пистолет. Оглянулся на Коробейникова:
— Вам оставаться на месте... Возможен минометный обстрел со стороны Китая... Повторяю, у вас другая работа... — и пошел, сосредоточенный, похожий на озабоченного прораба. Знал свое дело, осуществлял строительный замысел, неведомый до конца Коробейникову, малая часть которого обнаружилась на каменной сопке.
Коробейников остался сидеть на прохладном, истоптанном песке. Смотрел, как цепь подымается в гору. На склоне без каски лежал солдат. Голова его больше не шевелилась. Рядом, спиной к вершине, сидел другой солдат и курил.
С вершины медленно, останавливаясь, обнимая за плечи двух товарищей, проковылял раненый. Штанина была обрезана по колено, белела свежая, без следов крови, повязка. Он что-то говорил беспрерывно. Коробейников разобрал:
— Я, блядь, вбегаю, смотрю, блядь, Лапоть стоит... Вся шея в кровище, рот раскрыт, и хуярить из автомата вслепую... Я, блядь, уверен, его уже на хуй убили, а он мертвый стоит и ебашит....
Они подошли к транспортеру, и товарищи помогли ему погрузиться в люк.
Второй раненный, окруженный солдатами, шел сам. Его рука, обмотанная бинтом, была на подвязке. Он то и дело останавливался, отрицательно качал головой. И было неясно, что он отрицает: то, ужасное, что произошло на горе и ранило его в руку, или то, что его уводят с горы, где он хотел бы остаться, торжествуя победу.
Долгое время никто не появлялся. Потом показался Квитко, уже без пятнистого маскхалата. Держал в руках каску, оглядывался. Были видны издалека его оттопыренные, просвечивающие уши, бойкие светлые усики. Те, на кого он оглядывался, в восемь рук несли пятнистый халат, в котором что-то отвисло, небольшое, плотное, невидимое. Когда проходили мимо, Квитко торжествующе посмотрел на Коробейникова:
— Пленный... Подранок... Из крупнокалиберного чуть зацепило... Китайский бог его спас... — он заглянул в халат, где свернулся живой кулек. — Это за Даманский!.. Думали, мы их будем палками выбивать... Не хотите пулеметов понюхать? — и прошел, торжествующий, взвинченный, владеющий бесценным трофеем, который осторожно был помещен во второй "бэтээр".
Полковник Трофимов легко, выписывая змейку, сбегал с горы. Пистолет был в кобуре. В руках он держал прозрачный кусок целлофана, сквозь который просвечивали какие-то бумажки, пухленькие, в красном, книжицы.
— Почти у каждого цитатник Мао... Хлеб духовный... Солдатские книжки... Материал для разведотдела... Вы что, хотите на сопку? Ни под каким видом!... В любой момент возможен минометный обстрел... Второй отряд китайцев готов к переходу границы... Такая заварушка начнется!.. Назад, на заставу... Повторяю, у вас другая работа... — всё это он произнес бодро, властно, безо всякой тревоги. Под руку повлек Коробейникова к транспортеру. Тот и не хотел взбираться на сопку. Не хотел заглянуть в окоп, где на солнце медленно начинали взбухать мертвые тела, и вершина была окутана едва заметным паром нежелавших улетать душ.
Два "бэтээра" удалялись от сопки к заставе. Коробейников качался на броне, не позволяя впечатлениям множиться и разрастаться в отяжелевшей голове. Голова была, как стеклянный куб, в этом прозрачном обьеме застыли — солдатский башмак с гвоздиками в подошве. Лаптий на вершине, окруженный слепящим светом. Белая, с перепутанным чубом, запрокинутая голова Студеникина. Рука Трофимова, воздевшая пистолет. Пятнистый маскхалат с маленьким живым комком. Все это было вморожено в стеклянный куб, в который превратилась его голова, и он нес ее на броне, боясь, что она расколется вдребезги.
На заставе вошел в свою чистую светлую комнату. Ухнул на кровать и заснул, слыша, как скрипит на зубах песок — микроскопические фрагменты сопки.
…ПРОСНУЛСЯ ПОД ВЕЧЕР, когда земля начинала краснеть от низкого солнца. Лежал, вслушиваясь в отдаленное тарахтение двигателя, людские голоса, стучащие по дорожкам подошвы. Минувшее утро отдалилось, и его можно было рассматривать. Китайские звезды, под которыми он был готов умереть. Перламутровый хамильон, поместивший горбатую спину у Джунгарских ворот. Грозный оклик, то ли полковника, то ли архангела, запретивший ему подыматься в атаку. Горячий пепельный склон, по которому спускали убитых и раненых. Что это было? Бой, один из бесчисленных, случавшихся на земле, где жизнь истребляет жизнь? Фрагмент операции, который ему показали, смысл которой останется для него недоступным, растворится в океане мировой политики? Драгоценный и страшный повод, предоставленный Богом, чтобы ему, Коробейникову, открылась сущность жизни, и он добыл драгоценные зерна, которые позже, на Страшном Суде, протянет Господу? Было странным его знакомство с Лаптий и Студеникиным, двумя из всех пограничников, кого наутро убьют, будто выбор его знакомств совпадал с выбором смерти. Было непонятным и странным, как ограниченный человеческий замысел: писателя и разведчика, претендующих на полноту понимания, — накладывается на бесконечную жизнь, вырезая из нее упрощенный контур, за пределами которого остается непознанное бытие.
Его тело по-прежнему было покрыто пылью степи, в волосах запутались песчинки каменной сопки, душу переполняла мука. Он решил отправиться к озеру Жаланашколь, окунуться в вечерние бирюзовые воды.
За складом он не нашел еловых ящиков, зато, миновав ограждение, увидел ящики, сложенные недалеко от зеленоватой озерной воды. Тут же стоял оранжевый, с работающим мотором, бульдозер. Прорыл неглубокую, длинную, в ширину ножа траншею, окруженную грудами каменистого грунта. Пятеро солдат отдыхали, сидя на ящиках, покуривая сигареты. Тут же находился Квитко, измученный, запаленный, с понуро опущенными усиками.
— Через час здесь будет черт-те что. Летит вертолет из округа с четырьмя генералами. В Усть-Кут из Москвы прибыл самолет с журналистами, ваши собратья прибудут к ночи. Вы уж извините, к вам их подселим. Уже пошли нареканья — всё не так! Почему потери? А как без потерь, если на пулеметы в атаку. Китайцев положили двадцать два человека. Один к одиннадцати. По всем учебникам — классическая победа. Разве сравнишь с Даманским? А почему? Потому что не было генералов! А то бы и здесь были одни потери!.. — он жаловался, негодовал, боялся и отстаивал победу своих пограничников. — Конечно, жаль Студеникина и Лаптий. Оба "дембеля", через неделю домой собирались к мамам-папам. Завтра их мамы-папы сами сюда прилетят на сыновьи похороны...
На берег вырулил тяжелый, фыркающий грузовик. Голый по пояс водитель выглянул из кабины:
— Товарищ капитан, здесь разгружаться?
— Давайте сюда, по одному ящики подносите. Заколачиваем и сразу относим... — Квитко согнал с ящиков куривших солдат, неохотно обступивших грузовик.
Двое стали раскрывать пыльные борта. Двое других подтащили белый, струганный ящик, от которого исходило теплое, смоляное благоухание. Еще один подошел с молотком и колючей грудой гвоздей, проткнувших оберточную бумагу.
Борта отпали, и Коробейников увидел в кузове груду трупов. Они были навалены один на другой, в серо-зеленой, замызганной униформе, свалявшейся в тряпичную груду, из которой торчали скрюченные кисти рук, ноги, обутые в матерчатые синие кеды, выглядывали мертвенные лица, блестели зубы, туманно светились глаза. Из кузова на землю потекли тяжелые парные запахи, от которых в горле Коробейникова заклокотал рвотный ком.
"Запах победы..." — думал он, превозмогая дурноту, заставляя себя смотреть на груду исстрелянных, обезображенных тел, среди которых выделялась босая нога с грязными растопыренными пальцами, смотрело отрешенное скуластое лицо с развороченной дырой вместо рта.
Квитко отворачивался, пугливо пояснял Коробейникову:
— Сейчас их зароем, присыпем... Потом придется передавать китайской стороне... Давайте двое в кузов!.. — погонял он солдат. — Нечего вонь разводить!...
Двое полезли в кузов, морщась, переступая, стараясь не наступить на трупы. Двое других поднесли ящик под откинутый борт. Сверху шмякнулся, не попал в ящик убитый китаец, задрав отвердевшую ногу. Коробейникова поразили мучительная белизна сквозь смуглую желтизну лица и тонкие фиолетовые пленки незакрытых глаз. Стоящие на земле солдаты затолкали труп в ящик, грубо придавили крышкой, нажали, выпрямляя окостенелое тело. Еще один солдат молотком стал вгонять в крышку гвозди, не вбивая по шляпку, оставляя возможность выдернуть их гвоздодером. Заколоченный ящик втроем солдаты оттаскивали в траншею, опускали на мелкое дно. Струганные доски ярко белели на темной земле.
Трупы сваливались из кузова в ящики. Солдаты приладились, реже промахивались. Тела падали со стуком в длинные короба, и их поправляли пинком ноги, заталкивали откинутую руку или непоместившу- юся голову. Коробейников разглядывал серо-зеленое, замызганное облачение, прорванное пулями, опаленное термитом, и вдруг увидел и остро впился глазами, — в ящик упал мятый картуз с поломанным козырьком, над которым пламенела звезда, красная, с короткими туповатыми лучами. Коммунистическая звезда, в которую стрелял коммунистический пулемет, дырявя непрочную, временную личину, напяленную идеологами на лик человечества, прикрывавший непрерывную, на уровне биологических клеток и слизистых оболочек вражду. Звезда исчезла под крышкой, куда солдат вгонял длинный гвоздь, пряча от глаз разоблаченную тайну.
Ему всё больше открывался замысел, в который его поместили. Этот утренний бой был задуман заранее, с ожидаемым числом потерь, по числу которых были изготовлены и доставлены на заставу ящики. Где-то, в другом месте заставы, находились два кумачовых гроба, куда сейчас помещали убитых Студеникина и Лаптий, заранее обреченных. Эту обреченность странно угадал Коробейников, выбрав их для знакомства. Операция, куда его включили, приравнивала его к этим убитым китайцам, — к худенькому юноше с мучительной белозубой улыбкой, у которого крупноколиберная пуля оторвала кисть руки. К нахмуренному, скуластому толстячку, прижавшему к груди растопыренную ладонь, под которой чуть сочилась рана. Их всех накрывали крышками, забивали гвоздями. Измученные солдаты тащили ящики в траншею, ставили один подле другого. Длинные, белые, как кочерыжки, короба заполняли дно траншеи.
Коробейников подумал, что в замысле, при исполнении которого утром были убиты двадцать пять человек, и к месту стычки с обеих сторон границы стягиваются войска, и по рокадам пылят танковые колонны, и на приграничные аэродромы приземляются штурмовики, и дипломатические ведомства обмениваются злобными протестами, — в этом замысле было важно все, в том числе положение камня, обрамляющего дорожку, по которой завтра пройдет могущественный генерал из Москвы…
Присел, чувствуя шелковистую прохладу песка, тонкий запах потревоженной былинки. Смотрел на великолепие огромных пылающих звезд, окруживших сопку белым блеском. Его не покидало возбуждение, не оставляло предчувствие, ожидание чего-то, что влекло к этой темной горе. Окруженная звездными вспышками, гора управляла движением звезд. Касаясь темного склона, они начинали волноваться, трепетать. Переливались розовым, золотым, зеленым, погружались в гору. Небо медленно вращалось вокруг острой вершины, словно сквозь сопку проходила ось мира, — сквозь мелкий, выскобленный на вершине окоп, где земля была истоптана и исстреляна, валялись бинты, мятые гильзы, испачканные кровью камни. Там, на вершине, находились высшие ценности мирозданья, вокруг которых вращался небесный свод. За обладание этими ценностями шло соперничество двух народов, битва двух великих империй. Чтобы овладеть священным "Ключом Вселенной", на сопку ночью прокрался китайский отряд, завладел "Осью мира", оккупировал сакральное место. Русский отряд пограничников выбил их из окопа, вернул "Ключ" обратно, отстоял "Ось мира". В этой сакральной схватке погибли Студеникин и Лаптий, пали двадцать два китайских солдата. Битва еще не окончена. Новый отряд китайцев готовит бросок. Русские автоматчики полны решимости отразить атаку.
Ему открылся священный смысл операции. Не политика, не идеология, не хитроумная интрига разведки составляли ее суть. Борьба за "Ось Мира", владычество во Вселенной, обладание "Ключом мироздания".
Догадка поразила его. Он видел, как скрываются звезды за одним черным склоном, появлются над другим. Их приближение к мировой оси отмечалось колебаниями, многоцветными огнями, в которые превращались белые звезды, будто совершалось преображение мира. Гора, у подножья которой он находился, была священной. Не отмеченная на атласах, она значилась в древних манускриптах китайцев, в ламаистских хрониках, в загадочных криптограммах Тибета. К ней стремились сквозь Джунгарские ворота завоеватели и пророки. Хотели припасть к ее подножью великие мудрецы и дервиши. Теперь он, Коробейников, припадал к ее священным камням. Это она влекла его к себе с самого детства, мерещилась во снах, томила предчувствиями. Вся его судьба, весь жизненный путь были неуклонным приближеним к священной горе.
Он восторженно смотрел на вершину. Ему казалось, из горы восходит прозрачный мерцающий столп, возносится в бесконечность, переливается легчайшими радугами, дышит туманными спектрами. "Ось мира" обнаружила себя взору в ночных азиатских предгорьях, которые днем мертвы и бесцветны, а ночью усыпаны алмазами, обрызганы драгоценной росой, являют восхищенным глазам таинственную "Ось мироздания".
Он ждал, что с минуты на минуту начнется атака. Отряд китайцев пересек контрольно-следовую полосу, в мягкой матерчатой обуви бесшумно приближается к сопке; обмотаны тканью пулеметы; на мягких шапках чуть краснеют звезды. Сейчас ночь разорвут грохочущие рыжие трассы, взрывы гранат, свисты пуль. Китайцы и русские сразятся за обладание сопкой, обагрят священное место кровью, и он, Коробейников, примет в бою участие, сложит голову, как было предсказано древним буддийским монахом, нарисовавшим на шелковой странице его, Коробейникова, лик.
Атаки не было. Волнение не оставляло его, будто сам воздух, насыщенный прозрачными радугами, обладал волшебной возбуждающей силой. Она переполняла его, делала благодатным. Он был исполнен святости, гора сообщала ему свои чудодейственные свойства. Он делился благодатью со своими любимыми, близкими, находившимися в отдалении от этой горы, соединенными с ним тончайшими световодами. По этим прозрачным стеклянным нитям он передавал им струйки светящегося воздуха, лучистую энергию благодати. Матери, свернувшейся на кушеточке под бабушкиными шелковыми маками. Валентине, чьи лицо и ночная рубаха слабо светятся в спальне. Детям, что застыли в летящих позах, как маленькие ангелы. Отцу Льву, горько вздыхающему во сне в своей тесной келейке. Художнику Коку, обморочно грезящему среди стонов и всхлипов психиатричесой палаты. Елене, окруженной сумрачными зеркалами, слушающей сквозь сон, как стучит и бьется ребенок.
Вершина туманилась, разноцветно светилась, словно души убитых солдат не покидали ее, но не сражались, не испепеляли друг друга, а обнимались, братались.
Он чувствовал на священной горе присутствие Бога, его живое молчание, устремленное на него внимание, могучее, исходящее в мир благоговение. Душа тянулась навстречу этой чудодейственной, охватывающей Вселенную благодати. У священной горы ему открылась чудесная возможность говорить с Богом, быть им услышанным. Он молился, обращая лицо к бесчисленным разноцветным вспышкам.
"Боже, ты великий, могучий, единственный... Ты благодатный, ведающий все концы и начала, все события, случившиеся и готовые случиться... Ты постоянно со мной, не оставляешь меня, напутствуешь, сберегаешь... Господи, возьми меня живым на небо... Сейчас, сию минуту, у этой священной горы... Я выполнил все твои наставления, все заветы... Вкусил любовь, испытал утраты, пережил чудо творчества, насладился природой, изведал вероломство, совершил грехи, очистился покаянием... Открыл таящийся в мире смысл... Этот смысл в том, что Ты есть, Господи... Ты одна во всем истина, и других не надо... Все мои приобретенные знания, весь опыт заключаются в том, что Ты есть... Зачем мне дольше оставаться на земле, где будут одни повторения, одни подтверждения открытой мной, непреложной истины — того, что Ты есть... Я шел к этой священной горе, чтобы Ты услышал меня, взял живым на небо, не дожидаясь моей смерти..."
Молитва страстно уходила ввысь, вливалась в прозрачный небесный столп, в котором переливались прозрачные невесомые спектры, распускались в небесах бесчисленными соцветиями. Он верил, что молитва достигнет Бога. Сейчас растворятся небеса, сверкающая рука отодвинет небесный занавес, и оттуда прянет к нему колесница с огненными колесами и алмазными спицами. Он встанет на нее и помчится по небу, распуская лучи, разбрасывая брызги света, оставляя после себя немеркнущее, во всё небо павлинье перо. Он ждал, душа его напряглась в ожидании чуда. Но чуда не было. Бесшумно мерцали звезды, и одна, не выдержав напряжения его молитвы, сорвалась и сгорела, прочертив тихий след…
Коробейников чувствовал усталость и опустошенность, почти равнодушие. Его экзальтация, мистические переживания, муки совести, — всё это кончилось на ровном бесцветном жару, припекавшем вершину. Не богослов, не философ — он был газетчик, которому поручено написать журналистский очерк, соответствующий нормам и установкам газеты. Он его и напишет, без труда, ярко и зрелищно, используя свое писательское мастерство. В этом очерке будет солдатская трапеза у границы Китая, где на вершине горы утомленные воины совершают обряд преломления хлеба. Окоп, стреляные гильзы, бесконечные пустынные горы, и утомленные воины вкушают суровый солдатский хлеб…
Было успокоительно и печально смотреть на плавное паренье ворона, рождавшее воспоминания о Великой Степи, о богатырских заставах, о стародавнем пленительном времени, где все казалось родной и чудесной сказкой, не вызывало тревог и болей, было проверенной красотой и добром.
Он жевал галету, губы были сладкие от молока. Ворон, снижаясь кругами, опустился на контрольно-следовую полосу —черно-синий, со стеклянным отливом на розоватой, рыхлой бахроме. Продолжал с земли трескуче каркать и звать. На длинный, костяной звук возник в небе второй ворон. Покружил и медленно опустился рядом с первым. Оба сидели на розовой борозде, уходящей в обе стороны, в бесконечность.
Коробейников был благодарен черно-синим птицам за их появление, за то, что они отвлекли его от ужасных переживаний, направили его утомленные мысли прочь от жестоких видений. Вот он сидит на горе, одинокий скиталец, озирает таинственную азиатскую даль, думает о бабушке, о Иване-царевиче и сером волке, о вороне, несущем в клюве ковшик "живой воды".
Вороны тяжело поднялись, стали возвышаться, редко взмахивая крыльями, приближались. Были видны растопыренные маховые перья, тяжелые клювы, приспущенные когтитстые лапы. Долетели до вершины сопки и скрылись за кромкой, опустились рядом, на невидимой стороне горы. Опустились туда, где лежали убитые китайцы. Совершал свою трапезу Коробейников, откусывая галету, глотая сладкое молоко. Совершали трапезу голодные птицы, опустившись на трупы, долбя гниющую падаль, разрывая клювами сухожилия, отклевывая от сочного георгина мясистые синие лепестки.
Эта мысль еще не успела сложиться в свою ужасную достоверность, как из-за кромки горы, темнея не светлом небе, вынеслась зыбкая полупрозрачная струя. Окружила Коробейникова мельканием, слабым шумом и дуновением. Он почувствовал тугие удары в лоб, веки, губы. Что-то живое прилипало к нему, начинало ползти, щекотать. Полупрозрачная струя была летучим роем мух, которые взлетели с трупов, когда на них уселись голодные птицы. Мухи, переполненные ядовитыми соками, отяжелели, вязко шлепались ему на лицо, на сладкие, в молоке, губы. Содрогаясь от отвращения, он боялся стряхивать их с лица, чтобы неосторожным движением не раздавить, не расплющить зловонную каплю. Чтобы трупный яд не плеснул ему в рот.
Скатываясь с горы, заслоняя лицо от мерзкого роя, он перевел дух лишь у подножья. Лил из фляжки теплую воду на глаза, на губы, смывая мерзкие прикосновения.
Трупы не отпускали его. Потревоженные его появлением, покойники посылали ему духов смерти, дули ему в лицо смертоносным ветром...
(обратно)Юрий Павлов ДВИЖЕНИЯ ДУШИ (Марина ЦВЕТАЕВА: нетрадиционный портрет)
В 1932 году, в пору творческой зрелости, когда принято подводить итоги, М.Цветаева опубликовала статью "Поэт и время", в которой выразила своё понимание проблем, ключевых для любого художника, и проблему "назначения поэта и поэзии" в первую очередь. Показательно, что, рассматривая этот вопрос, Марина Ивановна разграничивает "современность" и "злободневность" как понятия противоположные. "Современность" — совокупность лучшего, "воздействие лучших на лучших", воздействие избранных на избранных; отбор, изображение показательного для времени, своевременность всегда и всему. Злободневность — воздействие худших на худших, заказ времени, сиюминутность.
Однако далее М.Цветаева противоречит сама себе, подменяя современность злободневностью. В результате — служение художника современности трактуется однозначно: измена себе и времени, поэтическая смерть. Во многом поэтому современность — кожа, из которой "поэт только и делает, что лезет", выбрасывается за борт времени.
Через эти и другие образные либо декларативные характеристики лейтмотивом проходит мысль: талант — главный критерий оценки писателя. Заметим, что всякий талант и любая сила (идея, неоднократно высказываемая поэтом на протяжении всей жизни) для Цветаевой притягательны. Поэтому ею игнорируются следующие вопросы: направленность таланта, ценности, лежащие в его основе, пути прихода к вечности. Иными словами, свое творческое назначение художник реализует через русскую триаду: "личность—народ—Бог", через обретение и выражение традиционных национальных идеалов или через разрыв и полемику с ними. Именно под таким углом прежде всего рассмотрим личность и творчество М.Цветаевой.
"...В поэте сильнее, чем в ком-либо другом, говорит кровь: предки. Не меньше, чем в овчарке". Эта мысль поэтессы, высказанная в связи с юбилеем К.Бальмонта, полностью применима к ней самой. Марина Ивановна не раз говорила, что человеческая и поэтическая сущность ее во многом была предопределена матерью. Будучи в том же возрасте, в котором Мария Александровна ушла из жизни, Цветаева писала: "...Узнаю во всем, кроме чужих просьб, — ее в себе, в каждом движении души и руки" . Остановимся на наиболее важных "движениях".
В "Доме у Старого Пимена" поэтесса называет юдоприверженность одной из черт своей матери. Иудеи, по словам Марины Ивановны, были обертоном и ее жизни. Показательны следующие признания Цветаевой: "Евреев я люблю больше русских...", "Делая Сергея Яковлевича евреем, вы делаете его ответственным за народ, к которому он внешне — частично, внутренне же — совсем непричастен, во всяком случае — куда меньше, чем я!" Закономерно, видимо, что и среди ее многочисленных возлюбленных, реальных и воображаемых, мужчин и женщин (С.Эфрон, С.Парнок, О.Мандельштам, Б.Пастернак, А.Бахрах, А.Вишняк, П.Антокольский и т.д.) были преимущественно евреи. Не берусь утверждать, в какой степени М.Цветаева — еврейка по духу, но одна, главная, ветхозаветная идея избранничества — стержень ее личности и творчества.
Во многом естественный и безобидный в детстве и юности дух протеста (борясь с "мещанским" бытом хозяйки, справляет нужду под ее пальму, бреет голову, носит вызывающие одежды, вызывающе ведет себя) приобретает в конце концов самоценный характер. И в себе, и в других поэтесса ценила и подчеркивала прежде всего эту черту. Вот только некоторые примеры: "...Одна — из всех, одна — над всеми, совсем рядом с тем страшным Богом, в махровой юбочке — порхаю" (детское ощущение Марины), "обо мне: поэте и женщине, одной, одной, одной — как дуб — как волк — как Бог...", "...и меня с моим неизбывным врагом — всеми" (две мысли зрелой женщины, порожденные разными обстоятельствами и людьми), "...с одним — против всех, с одним — без всех" (оценка собственной матери), "...одинокий подвиг одной — без всех, стало быть — против всех" (характеристика матери М.Волошина).
Это противостояние всему и всем — суть личности М.Цветаевой, лейтмотив всей жизни и творчества. Именно страстью к "одноглавому, двуглазому мятежу", страстью к преступившему определяется звание поэта: "Нет страсти к преступившему — не поэт" . Отсюда — универсальный закон восприятия окружающих, жизненное кредо Марины Ивановны, порожденные по-цветаевски понятой судьбой А.С.Пушкина: "...Я поделила мир на поэта — и всех, и выбрала — поэта, в подзащитные выбрала поэта: защитить — поэта — от всех..." Но страсть к преступившему рано или поздно становится позицией преступившего, что наиболее наглядно и концептуально проявилось в "Черте".
Дело не столько в детском восприятии Бога и черта, сколько в том, как оно оценивается зрелой Цветаевой. Если ребенок-Марина ужасается кощунственному единству "Бог—Черт" ("Бог — с безмолвным молниеносным неизменным добавлением Черт"), то Марина Ивановна ощущает его как дар. Только пока она не решается или не желает назвать дарителя, лишь неопределенное — "чей-то".
Вскоре становится очевидным: Бог и черт по-разному воспринимаются поэтессой, которая в комментариях к рассказу о первом причастии заявляет: "Черт: тайный жар". А тайный жар, как следует из другого признания, — ключ к душе и всему творчеству.
Итак, происходит разрыв кощунственного единства, и черт становится центром в мироздании М.Цветаевой, черт занимает место Бога. Пусть он именуется при этом Мышатым, главное — происходит реабилитация тьмы: она — не зло, "тьма — всё", "родная тьма". И как следствие — столь показательная сравнительная характеристика Бога и черта (вновь, заметим, происходит замена Мышатого чертом, и пишется он, как и прежде, с заглавной): "Бог был — чужой, Черт — родной. Бог был — холод, Черт — жар. И никто из них не был добр. И никто — зол. Только одного я любила, другого — нет: одного знала, а другого — нет. Один меня любил и знал, а другой — нет" .
Восприятие же веры, церковных обрядов, священников как семилетней девочкой, так и женщиной, которой за сорок, лишний раз подчеркивает ее духовную нерусскость, неправославность. В этом ряду стоят завещание Цветаевой "Кирилловны" (желание быть похороненной на хлыстовском кладбище в Тарусе подтверждает правоту слов, услышанных в детстве от сектантки, "дочка мысленная" ), ее признания о высокой жалости к бесам, страсть к проклятому, преступившему.
Мягко говоря, диссонансом на фоне сказанного звучит признание Марины Ивановны Бахраху о ее русском русле. Как следует из разъяснений поэтессы, суть этой русскости — любовь. Действительно, любовь в жизни и стихах, любовь в самых разных ее проявлениях дает ответы на многие вопросы, которые уже прозвучали и еще могут прозвучать.
"Предал и продал". Так оценивает Цветаева измену Абрама Вишняка через неделю после ее отъезда . "Кот", "крокодил", "черное бархатное ничтожество" — вот неполный перечень нелестных отзывов о возлюбленном. Естественно было бы предположить, что поступки "мятежной Марины" принципиально отличались от поведения "ничтожества" в подобных ситуациях временной разлуки.
1923 год. Роман в письмах с Бахрахом, облаченный в самые пышные слова, скоропостижно скончался, стоило молодому человеку месяц не отвечать на письма поэтессы. Свою измену женщина объяснила предельно просто: "Я рванулась, другой ответил..."
29 декабря 1926 года умер Рильке, которого Цветаева, по ее словам, любила "больше всего на свете". Поэтесса узнала об этом перед самым Новым годом. На следующий день — 1 января 1927 года — она писала Б.Пастернаку: "Я тебя никогда не звала, теперь время. Мы будем одни в огромном Лондоне" . Следует прерваться и пояснить.
В августе 1926 года Марина Ивановна порвала с Борисом Леонидовичем, сосредоточившись только на чувстве к Рильке. Поводом к данному шагу послужило письменное признание Пастернака о наличии в нем "воли". Цветаева, видимо, не предполагала, что после многочисленных признаний мужчины в любви к ней (таких, например: "безмерно любимая", "люблю совершенно безумно" ) и ее благословений ("Не смущайся женой и сыном. Даю тебе полное отпущение от всех и вся. Бери всё, что пожелаешь... Бери все это с лирической — нет, с эпической высоты..." ) Борис Леонидович принадлежал и жене, сыну. К тому же Марина Ивановна сама неизбежно шла к разрыву с Пастернаком ради Рильке.
Чувство к австрийскому поэту — редчайший момент в жизни Цветаевой, когда она не могла позволить себе "любовь втроем", как было ранее и впоследствии не раз. Цветаева писала Рильке: "Не хочу сообщника, даже если бы это был сам Бог" . В минуты освобождения из словесного плена, выдуманного мира, в минуты пробуждения от почти вечного, лживо-красивого сна-любви женщина оценивает себя и других не с "эпической высоты", а с высоты единственно верной — традиционной христианской морали. И как результат — строки к Рильке, объясняющие разрыв с Пастернаком: "Когда я узнала об этой его второй загранице, я написала: два письма из-за границы! Двух заграниц не бывает...
Пусть жена ему пишет, а он — ей. Спать с ней и писать мне — да, писать ей и писать мне, два конверта, два адреса (одна Франция!) — почерком породненные, словно сестры..."
И вот, сразу после смерти Рильке, не побывав даже дня в трауре, Цветаева вновь вспомнила о советском поэте. На письмо, которое уже цитировалось, на приглашение встретиться в Лондоне, Борис Леонидович, с точки зрения Марины Ивановны, ответил отпиской. Цветаева навязчиво повторяет попытку: "Я, упорствующая на своем отношении к тебе, в котором окончательно утвердила меня смерть Рильке. Его смерть — право на существование мое с тобой, мало — право, собственноручный его приказ..."
Итак, рассмотренные и не рассмотренные примеры свидетельствуют, что во взаимоотношениях с мужчинами, в "любви", дружбе с ними поэтесса руководствовалась теми же принципами, что и "ничтожество" Вишняк. Более того, Цветаева вела себя ничтожней Геликона, ибо ее "романы" протекали на фоне мужа, на фоне детей.
В одном из писем к Бахраху Марина Цветаева дает следующую характеристику И.Эренбургу: "Люди его породы, с отточенной — и отчасти порочной мыслью, очень элементарны в чувствах. У них мысль и чувство, слово и дело, идеология и природный строй — сплошь разные и сплошь враждебные миры" . Эти слова применимы и к самой поэтессе.
Если мы обратимся к ее эпистолярным романам с Бахрахом, Рильке, Пастернаком и другими, то создается впечатление, что сам уровень и границы отношений, устанавливаемых Цветаевой ("Я говорю с духом", "не внести быта" и т.д.), заранее обрекают "любовь" "небожителей" на неуспех. Перед нами игра, спектакль, где режиссер, сценарист, главный герой-актер выступают в одном лице.
Можно говорить и об определенных правилах игры, "любви" по-цветаевски. Сначала всегда следует наплыв высоких слов: "Вы были первым — за годы, кажется, — кто меня в упор (в пространстве) окликнул. О, я сразу расслышала, э то был зов в ту жизнь: в любовь, в жар рук, в ту жизнь, от которой отрешилась" (Здесь, мягко говоря, всё преувеличение: и в отношении "первого", и в отношении "отрешилась"). Далее идет искусственное нагнетание страстей: "Я приняла Вас не как такого-то с именем и отчеством, а как вестника жизни, которая ведет в смерть... Хватит ли у Вас силы долюбить меня до конца, т.е. в час, когда я скажу: "мне надо умереть" из всей чистоты вашего десятилетия сказать: "Да" .
Естественно, могут возразить: в словах-признаниях Цветаевой — ее сущность, а не игра, естество, а не искусственность и т.д. Если это так, то где тогда подтверждения серьезных отношений и глубоких чувств, где поступки. Я, конечно, понимаю, насколько абсурден, с точки зрения поэтессы, такой подход, ибо она была убеждена: "Любовь живет... в словах и умирает в поступках" .
Как следует из приведенных и множества не приведенных фактов, высокие слова, чаще всего, вступали в конфликт, не совпадали с низкими деяниями Марины Ивановны. Не об этом ли говорит она в письме к Рильке? Приводя свою строчку: "В великой низости любви", Цветаева уточняет ее смысл по-французски: "Высшая низость любви". Или в письмах, в минуты редких прозрений, пробиваясь сквозь маскарад слов, поэтесса очень точно определяет сущность своей "любви": "волшебная игра", "большие слова, похожие на большие чувства" , "Ведь я не для жизни. У меня всё — пожар! Я могу вести десять отношений (хороши "отношения"!), сразу и каж-дого, из глубочайшей глубины, уверять, что он — единственный (Именно так и происходило на протяжении всей жизни — Ю.П. )... Всё не как у людей. Могу жить только во сне..."
Итак, если в Цветаевой и не живут одновременно два человека, что она отрицала, то о наличии разных амбивалентных начал говорить вполне возможно. Как они проявляются в творчестве, и предстоит выяснить. При этом будем помнить: лирический герой и автор-творец в мире "мятежной Марины" — тождественные величины.
Нередко можно встретить утверждение, что поэзия Цветаевой сверхэмоциональна и потому не подвластна логическому анализу, к ней нельзя подходить с традиционными критико-литературоведческими мерками и т.д. Подобные утверждения верны лишь отчасти, ибо, несмотря на действительное наличие небольшого числа "темных мест" в творчестве поэтессы, в нем без труда можно выявить постоянную, четко обозначенную систему ценностей, которые, как правило, находятся в противоречии с ценностями традиционными. М.Цветаева отлично знает эти ценности, держит их в уме и часто ведет с ними открытый и скрытый диалог-спор.
Во многих произведениях традиционная система ценностей, точнее, отдельные проявления ее — своеобразная отправная точка в развитии действия. Она может находиться в начале ( "Пригвождена к позорному столбу Славянской совести старинной" — "Приговождена..."; "Дурная мать! Моя дурная слава..." — "Памяти Беранже"), в середине ( "Что в моей отчизне Негде целовать", "А у богородиц — Строгие глаза" — "Дон-Жуан"), конце стихотворения ( "Долг и честь, Кавалер, — условность" — "Кавалер де Гриэ! Напрасно..."), а может отсутствовать вообще, хотя ее подтекстное наличие чувствуется и в этом случае ("Але", "Горечь!, Горечь! Вечный привкус...", "Любви старинные туманы"). Через прямое или косвенное опровержение традиционных ценностей, традиционного взгляда на мир и на человека утверждается авторский идеал.
В стихотворении "Рыцарь ангелоподобный" главным героем является "долг", понятие, так редко возникающее в творчестве М.Цветаевой. Из шести сравнений, через которые определяется долг, наиболее оценочный характер имеет следующее: "Белый памятник надгробный На моей груди живой" . В сравнении этом заложен конфликт между живой душой и символом смерти. Очевидно, что долг — условность, как говорится в другом стихотворении, понятие не для жизни, поэтому и нарушение его — не грех, явление нормальное и даже благое. Ситуация не меняется даже тогда, когда речь идет о материнском долге, главном, с точки зрения традиционного сознания.
В стихотворении "Памяти Беранже" героиня приводит ряд фактов, подтверждающих ее славу дурной матери. Каждый из них подчеркивает если не отсутствие, то значительную ущербность материнского начала в женщине. Особенно показательны следующие примеры: "То первенца забуду за пером...", "Гляжу над люлькой, как уходят — годы, Не видя, что уходит молоко!" Естественно, возникает вопрос: умение увидеть свое падение со стороны — это холодная наблюдательность, констатация факта или осознание, переживание, осуждение, начало возрождения личности героини. Ее ответ: "И кто из вас, ханжи, во время оно Не пировал, забыв о платеже!" — свидетельствует, что перед нами холодная наблюдательность.
К тому же приведенная аргументация — это защита, переходящая в наступление, это контратака, главный смысл которой сводится к утверждению идеала, противостоящего материнскому: "Дурная мать, но верная жена!" Даже если лирическая героиня действительно жена и действительно верная (в чем возникают сомнения, если исходить из первых двух строф), то всё равно она — не женщина в традиционном понимании...
Критерием мужчины измеряется и творчество. Так, из стихотворения "Руки, которые не нужны..." следует, что поэзия, которая произрастает не из любви к "милому", — творчество остаточного принципа, хотя и служит оно Миру. Как бы громко ни назывался такой поэт — "Мирская Жена", например, сие "доблестное звание" произносится героиней как бы сквозь зубы, с грустной иронией, срывающейся в сарказм, трагедию: она поет "незваным на ужин". Поэтому и аргумент: "Милый не вечен, но вечен — Мир. Не понапрасну служим" не срабатывает, звучит как формальное утешение, за которым — нереализованность личностная, творческая.
В "Поэме Горы" ("самой моей любовной и одной из самых моих любимых и самых моих, моих вещей" — учтем столь знаменательное признание автора) сконцентрированы и наиболее четко обозначены самые распространенные лейтмотивы любовной лирики Цветаевой. Если в отдельных, немногочисленных стихотворениях поэтессы можно лишь гадать о позиции автора, то в данном произведении она предельно прояснена.
В "Поэме Горы" Цветаева вновь противопоставляет избранных — небожителей любви — всем остальным — простолюдинам любви. Вновь, только теперь царственно, перечеркиваются традиционные ценности, семейные прежде всего. Любовь в семье — это, по Цветаевой, "любовь без вымысла", "без вытягивания жил", любовь лавочников, любовь — прелюбодеяние, а носитель ее — "муравей" (Иной вариант любви в семье как в поэме, так и во всем творчестве, отсутствует. Факт показательный, свидетельствующий о неизменности позиции автора). Любовь вне семьи — это любовь избранных, любовь-гора.
Сей любимый образ поэтессы, встречающийся во многих ее произведениях и письмах, призванный подчеркнуть высоту чувства героев, представлен в поэме двумя уровнями: уровнем жизни и уровнем неба. Думается, что второй уровень — это уровень миражей, то есть оценок и характеристик, ничем не только не подтвержденных, но и по сути опровергаемых "любовью" первого уровня. Поэтому все образы второго этажа (такие, например: "Та гора была, как горб Атласа, титана стонущего", "Та гора была — миры! Боги мстят своим подобиям" ) воспринимаются, если перефразировать одну из строк, как высокий бред над уровнем жизни, как красивая блестящая этикетка, ничего не говорящая о сущности, качестве любви-горы.
Эту сущность можно выявить, лишь обратившись к образам уровня жизни. Они — "безумье уст", "незрячья страсть", "вихрь", "столбняк" — оттеняют лишь одно качество, они — вариации на тему страсти. Итак, любовь-гора — это любовь-страсть, а точнее — греховная страсть.
Конечно, в словах: "Пока можешь еще — греши" , при желании, если очень сильно пофантазировать, можно увидеть и вызов, и маску, и противопоставление якобы мещанскому идеалу любви... Можно говорить, что и делается часто в подобных случаях, об условности, символике, гротеске художественных образов и т.д. Но очевиднее другое: любовь-страсть в поэме, как и в большинстве произведений Цветаевой, — величина постоянная. И именно нарушение традиционных норм нравственности является ее определяющим фактором. Это подтверждается, в частности, такими заветами героини (чья позиция, голос полностью совпадают с позицией, голосом автора): "Будут девками ваши дочери...", "Дочь, ребенка расти внебрачного! Сын, цыганкам себя страви!"
И даже "тронное мы" вместо "я", завершающее произведение, венчающее любовь-гору, положения, сути не меняет. Речь вновь идет о нераздельности тел и только.
В "Поэме Конца", естественно продолжающей "Поэму Горы", антитрадиционный пафос достигает высшей точки. Это происходит потому, что, в отличие от аналогичных ситуаций разрыва, возлюбленный уходит не к другой, не к сестре по беспутству, а домой. Данный факт, а не сам уход, вызывает острые переживания героини; возникает ряд сравнений, которые говорят сами за себя: дом — "гром на голову", "сабля наголо", "публичный дом".
Ключевые образы поэмы: "Жизнь — это место, где жить нельзя: Еврейский квартал...", "Жизнь. Только выкрестами жива! Иудами вер!", "Гетто избранничеств!.. В сём христианнейшем из миров Поэты-жиды!" несут в себе хорошо знакомые, заветные идеи М.Цветаевой: любовь, как и поэзия, — дар избранных, дар нарушения, дар преступления.
Изредка, как исключение, противоречащее главной линии любви в творчестве поэтессы, встречается и иной вариант этого чувства. Так, в стихотворении "Я — страница твоему перу" героиня является выразителем традиционного женского начала, начала принимающего, хранящего, воспроизводящего. В этом случае женщина без надлома и насилия над собой, естественно и добровольно подчиняется мужчине.
Своеобразной кульминацией в "антологии" цветаевской греховной страсти является "Федра". Третья жена царя Тезея — тридцатилетняя Федра — полюбила своего пасынка, двадцатилетнего Ипполита. Под сильным, на наш взгляд, художественно и психологически неубедительным нажимом кормилицы она открывает ей свой секрет. После опять же искусственного диалога-спора старой женщине удается побудить Федру к активным действиям, к признанию Ипполиту.
Формально-сюжетно царица и кормилица — антиподы. Первоначально, в отличие от старухи, Федра осознает (в какой степени, сказать очень трудно, скорее — невозможно) греховность и низость своего чувства. Но ее справедливые, с позиции христианской морали доводы ( "мать — ему, и, по-людскому, — сын...", "Но замужем! Жена ведь! Муж" ), не убеждают кормилицу и саму женщину. Она лишь — внешне — спорит со старухой, а внутренне, сущностно — с самой собой.
То есть Федра и кормилица больше единомышленники, чем антиподы. Поэтому и удается старой женщине убедить молодую в негреховности (по крайней мере) этого поступка. Кормилица, выступающая сначала в роли "сводни", "ведьмы", берет как бы на себя часть греха царицы, который, как выясняется, совсем не грех. К тому же, действия старухи — не насилие над личностью Федры, а лишь "озвучивание" скрываемых царицей чувств, мыслей, ускорение решений и событий, которые назрели.
Прежде чем определить и назвать чувства Федры к Ипполиту, есть смысл раздвинуть рамки разговора и "ввести" в него героев русской классики, аналогии с которыми невольно возникают. Для Катерины (А.Островский "Гроза") ребенок, кабы его бог дал, стал бы смыслом жизни, и грехопадение женщины не произошло. Татьяна (А.Пушкин, "Евгений Онегин") и бездетной остается верна старому генералу, верна супружескому долгу — еще одно подтверждение высоты ее духовно-нравственного мира. У Анны (Л.Толстой "Война и мир") "нечистая страсть" (Н.Страхов), чувство к мужчине перевесило любовь к ребенку, что обусловило духовную катастрофу. Для бездетной Федры, как и для М.Цветаевой, ребенок не играет решающего значения: "Был бы — радовалась бы. Нет — не печалюсь" . Никто не в состоянии противостоять страсти.
Поэтесса, великий мастер в ее изображении, и в данном случае остается на высоте. Сбиваясь, путаясь, трижды начиная заново, изнемогая под напором и тяжестью чувства, слов, Федра выговаривает, наконец, главное: "Началом ты был, в звуке рога, в звуке меди, в шуме леса..." Страсть героини — сильная, испепеляющая, непереносимая, разрушающая страсть. Она тем, в частности, отличается от любви, что ее носитель не способен сказать себе "нет", не может остановиться у роковой черты, не в силах бороться с грехом. К тому же, Федрин грех — вдвойне грех, ибо Ипполит — пасынок.
Не случай, не увлечение мифами, античными сюжетами привели Цветаеву к столь "пикантной" ситуации. В "Федре", как и в "Ариадне", там, где факты противоречили писательской концепции, ее заветным мыслям, она смело использовала "ножницы" и фантазию. Известный сюжет привлекает Марину Ивановну возможностью выразить свое, наболевшее, что не раз ощущала к возлюбленным (О.Мандельштаму, Н.Гронскому, А.Бахраху и т.д.) и что еще предстоит ощутить к сыну. Федринско-цветаевское заклинание "слаще первенца носимый в тайнах лона" созвучно цветаевско-федринским признаниям, например, А.Бахраху: "Я люблю вас как друга и еще — в полной чистоте — как сына, вам надо расстаться только с женщиной во мне", "Вы мое дитя..."
Как в "Поэме Горы", а также в своих многочисленных жизненных романах, поэтесса и в драме эту "нестандартную ситуацию" решает на двух уровнях. С одной стороны, Федра говорит Ипполиту о вечном, а не ночном ложе, "где ни пасынков, ни мачех, ни грехов, живущих в детях, ни мужей седых, ни третьих жен" , с другой, и этому крику души веришь больше, чем "высокому бреду": "Пока руки есть! Пока губы есть! Будет — молчано!" К тому же "вечное ложе" — даже не отпущение грехов, а снятие данной проблемы вообще. Об этом вполне определенно заявляется и в трагедии: "Нет виновного. Все невинные" , и в черновых записях самой поэтессы: "Дать Федру, не Медею, вне преступления, дать безумно любящую женщину, глубоко понятную".
Особое место в творчестве Цветаевой занимает "Лебединый стан", цикл стихотворений, написанных в период со 2-го марта 1917 года по 31 декабря 1920 года. Начало трагедии, а точнее, сама трагедия, с точки зрения автора, произошла (и это действительно так) именно в день отречения Николая II от престола — 2 марта 1917 года. Данное событие ощущается поэтессой как катастрофа, гибель национальная, государственная: "Помолись, Москва, ложись, Москва, на вечный сон" ("Над церковкой — голубые облака…"). Поразительно то, что при всех "левых" симпатиях юности, аполитичности молодости, "левизне" как доминанте мировоззрения на протяжении всей жизни, Цветаева, одна из немногих среди писателей-современников, смогла точно — с "правых", православных позиций — оценить суть происходящего.
Показательно и другое: в "Лебедином стане" автор ни разу не упоминает об октябрьском перевороте, не проводит грани между Февралем и Октябрем, как делалось и делается очень часто. Позиция Цветаевой — классический образец монархического сознания. В стихотворении, наиболее показательном в этом отношении, "Это просто, как кровь и пот" утверждается: между царем и народом существует тайная, божественная ( "Царь с небес на престол взведен" ) и земная, кровная, обоюдно-равноправная связь ( "Царь — народу, царю — народ" ). Связь "верных содружников" наличествует и между троном и алтарем, царем и церковью — главная мысль другого стихотворения — "Над черною пучиной водной".
Известное триединство и есть отправная точка цикла, откуда проистекают все другие оценки и характеристики. В их основу положен принцип контраста: белая кость—черная кость, лебеди—вороны и т.д. Данный однолинейный принцип, позволяющий выявить главные, определяющие черты человека, явления, времени, оставляет за скобками произведения многомерность, полутона изображаемого. С учетом этого обратимся к характеристике "старого мира", "лебединого стана".
В юнкерах, разорванных в клочья на посту в июне 1917 года ("Юнкерам, убитым в Нижнем"), в генерале Корнилове, держащем речь летом того же года ("Корнилов"), в возлюбленном, ставшем за честь отчизны ("На кортике своем: Марина…"), в безымянных воинах белогвардейской рати ("Дон"), в индивидуальных и коллективных характеристиках Цветаева многократно подчеркивает объединяющее всех начало — долг, честь, верность до гроба. Более того, поэтесса уверена: в словарях будущего задумчивые внуки станут определять "долг" через слово "Дон" ("Дон").
Повторяющиеся характеристики (своеобразное постоянное ударение) автор использует на уровне цвета, где преобладает один — белый — символ благородства, святости, божественности: "белое де-ло", "белогвардейская рать", "Белый полк", "белы-рыцари", "белы-лебеди", "белое видение", "белая стая" и т.д. В цикле нет той образной концентрации, композиционной сложности тропов, которыми насыщены многие произведения поэтессы. Образность "Лебединого стана" ненавязчива, естественна, "незаметна". Она — искусное художественное выражение идеалов белого движения, которые были положены в его основание (их Цветаева почувствовала, поняла на расстоянии, "вслепую", изнутри, что вызывает восхищение) и которые, о чем не говорится автором, сохранить в чистоте, белизне не удалось.
Именно в нравственном превосходстве, по Цветаевой, залог успеха Белой армии: "Белизна — угроза Черноте, Белый храм грозит гробам и грому, Белый праведник грозит Содому Не мечом — а лилией в щите, Только агнца убоится волк, Только ангелу сдается крепость". Занимая однозначно позицию "белых", поэтесса в главном — в трактовке проблемы гуманизма — остается на христианских позициях, ибо в восприятии событий не переступает черту, разрешающую кровь по совести, что выгодно отличает ее от многих писателей-современников, сторонников как красного, так и белого движений.
З.Гиппиус, например, до Октября — певец декабристов, Февраля, Учредительного Собрания, пленник свободы, после переворота в духе времени, с позиций кровавого гуманизма констатирует: "Если человек хуже зверя — я его убиваю" ("Если"), и спокойно, без пафоса призывает: "Но только в час расплаты Не будем слишком шумными. Не надо к мести зовов И криков ликования: веревку уготовав — Повесим их в молчании" ("Песня без слов"). М.Цветаева же делает акцент на невозможности уподобиться злу в борьбе с ним, в белизне она видит силу и залог успеха.
Мир черных воронов и мир белых лебедей, существующие в цикле как миры враждебные, взаимоисключающие друг друга, в стихотворении "Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь" (1921), примыкающем к "Лебединому стану", соединяются в неразрывное целое общей кровью, общими ранами, и теряется грань между своими и чужими, белыми и красными. Цветаева (как и немного позже М.Булгаков в "Белой гвардии"), заявляющая о равенстве человека перед смертью, Богом, достигает в данном произведении вершины христианского миросозерцания.
На этой высоте ей редко удается удержаться в последующие годы эмиграции (1922-1939). В жизни и творчестве поэтессы преобладает позиция "ни с кем", "одна". "Одна", не только и не столько в плане политическом ("…ни с Советами, ни с их противниками, ни с правыми, ни с левыми" ), сколько в онтологическом.
Небожительство, избранность, эгоцентризм самоценной личности — стержень ее человеческой, художественной позиции и в данный период (что, естественно, не исключает наличия иных начал). Личностно-творческая доминанта проявляется и на уровне любви (об этом уже говорилось), и на всех других ("Деревья", "Поэт", "Хвала времени", "Двое", "Стол", "Уединение" и т.д.). Отметим, не имеет значения, в какие формы выливается сия самоцен-ность: безмерность в мире мер или добровольное несовпадение со временем.
Лишь любовь к Родине выводит М.Цветаеву за пределы индивидуализма-сиротства. Так, в стихотворении "Тоска по Родине" через самые разные факты из жизни лирической героини: одиночество, бездомство, безденежье, унижение, непонимание, — ставится под сомнение само понятие "Родина". Раз она не помогает, не спасает, ничего не меняет в жизни героини, значит, по сути, и не существует. Поэтому Родине противопоставляется как реальная ценность "единоличье чувств", доведенное до крайнего предела: "всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, И всё — равно, и всё — едино" . Однако, две последние строчки стихотворения, оборванные на полуслове, ломают, взрывают, опровергают логику суждений героини. То есть Родина — не морока, не пустой звук, как утверждалось ранее, и никакие логические доводы, удары судьбы не в состоянии уничтожить любовь к ней.
Следует сказать, что настроения, представления о Родине, выраженные в большей части стихотворения, — это настроения-представления самой Цветаевой в разные периоды ее жизни. В их основе лежат "левые" ценности, которые чаще всего проявлялись так, как в очерке "Кедр" (О книге кн. С.Волконского "Родина").
В нем поэтесса заявляет: "Свое отношение к предмету мы делаем его качеством". Сия точная самохарактеристика проявляется в "Кедре" буквально во всем, начиная с названия. Родина как ценно-стный идеал отсутствует у Цветаевой. Более того, она подменяет ее кедром — одиноко стоящим, возвышающимся над всеми деревом. Родина по воле автора сплющивается до отдельного человека, кото-рый символом ее быть не может. Правда, поэтесса к этому и не стремится, скорее, наоборот: С.Волконский в ее восприятии — абстрактный человек, общечеловек, "человек — вне века, князь вне княжества, человек — без оговорок: че-ло-век" .
С.Волконский, по Цветаевой, олицетворяет духовное избранничество — противовес "мертвому мещанству". Интересно, что к последнему отнесены и "гуща церковная", и единая ей "гуща базарная". В конце концов человек-идеал не случайно рассматривается поэтессой вне русских "культов": Бог, Родина, народ, — ибо, по Цветаевой, "само понятие "общежитие" уже искажение понятия жизнь: человек задуман один, где двое — там ложь". Думается, такое доминирующее понимание личности и Родины отчасти объясняет периодически возникающий просоветский настрой Марины Ивановны.
В "Стихах к сыну", говоря о России как стране отцов, стране прошлого, и СССР — стране детей, стране настоящего, Цветаева будущее сына связывает не с Францией — заграницей, а Родиной — СССР: "Езжай, мой сын, домой — вперед. — В свой край, в свой век, в свой час — от нас — в Россию — вас, в Россию — масс" . Решая таким образом судьбу сына, поэтесса, осознанно или нет, протягивает СССР руку если не примирения, то признания. Еще более открыто просоветские настроения Марина Ивановна выражает в стихотворении "Челюскинцы". Откликаясь на известные события, она заявляет: "Сегодня — смеюсь! Сегодня — да здравствует Советский Союз!"
В СССР Цветаева возвратилась вместе с сыном в 1939 году, последовав вслед за мужем и дочерью. На Родине жизнь и творчество не сложились: арест С.Эфрона и Ариадны, безденежье, одиночество, невозможность публиковаться, война, которую Марина Ивановна восприняла, по свидетельству Л.Чуковской, как гибель России, как победу мирового зла вообще. Эти и другие внешние обстоятельства и главное — особенности мировоззрения и характера Цветаевой (о чем мы говорили и что точно определила сама поэтесса в письме к Р.Гулю в 1923 году: "Я не люблю земной жизни, никогда и не любила, в особенности — людей" ) определили по сути законо-мерный итоговый поступок — самоубийство.
(обратно)Евгений Нефёдов ВАШИМИ УСТАМИ
ПЧЁЛКА-БАБОЧКА
"Не жар-птицы..."
"Трын-трава..."
"Повеса-ветер..."
"Жарко-холодно..."
"Спи-усни..."
и т.д.
Алла МЕРЕЖКО
Тихо-мирно. Тары-бары.
Худо-бедно. Ждёт-пождёт.
Глядь-поглядь. Рубаха-парень.
Сам-один. Идёт-бредёт.
Ёлки-палки. Мало-много.
Стой-постой. Закат-восход.
Полем-лесом. Путь-дорога.
Аты-баты. Взад-вперёд.
Дальше-больше. Горько-сладко.
Руки-ноги. Петь-плясать.
Шуры-муры. Взятки-гладки.
Что-почем. Ни дать-ни взять.
Часто-густо. Буки-веди.
Слово-дело. Ночи-дни.
Сальдо-бульдо. Дебет-кредит.
Трали-вали. Спи-усни.
Майна-вира. Нетто-брутто.
Пиво-воды. Каша-щи.
Шито-крыто. Фу ты-ну ты.
Кто-куда. Ищи-свищи...
(обратно)
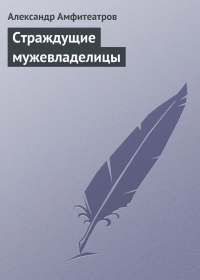
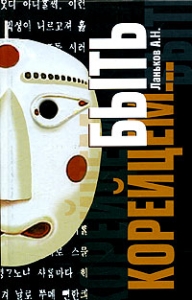

Комментарии к книге «День Литературы, 2004 № 11 (099)», Газета «День литературы»
Всего 0 комментариев