Опубликовано в журнале: «Октябрь» 2005, №1
ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ
Олег ПАВЛОВ
Русская литература и крестьянский вопрос
530)
Я не знаю во всей Европе народа, которому было бы дано более простору действовать...
А. С. П у ш к и н. Путешествие из Москвы в Петербург
В1960 году журналом “Октябрь” был опубликован очерк “Земля ждет...” После смерти Сталина прошло вот уже семь лет. По стране гуляет ветерком хрущевский доклад. Но советское царство-государство стоит крепко. В деревнях только началось освобождение крестьян. Станут выдавать паспорта. На волю отпускают без земли, она колхозная. Был клок ее под мужиками - свой огород, но подсобное хозяйство ужали, налогом обложили, чтобы вольные хлебопашцы все же не вздумали работать на себя, кумекая собственным умишком, что в убыток, а что в прибыль, когда у колхозников одна поденщина за трудодни.
Время это писатель Борис Можаев запечатлеет в повести “Живой” - она будет опубликована спустя несколько лет уже в “Новом мире” Твардовского под редакционным названием “Из жизни Федора Кузькина”, что придаст ее действию эдакий простодушный поворот, обратит в случай. Так и в “Октябре”, где пробился к публикации этот очерк, название как смогут подсократят, и оставлено будет что-то вопрошающее, обрубленное на замахе... Но каков был замах?
Повод, казалось бы, заурядный по тем временам, даже какой-то плакатный - рассказ о передовом опыте. В колхозе “Трудовая нива”, расположенном в двухстах километрах от Хабаровска, всю занятую пропашными культурами землю разделили и закрепили за семьями колхозников. “Приехал я, помню, под вечер в погожую июльскую пору, ходил по полям и читал необычные надписи на дощечках: “Поле Горовых”, “Поле Исакова”, “Поле Оверченко”. И это не клинья, не загоны, а настоящие озера шелестящей на ветру шелковистой кукурузы и цветущей картофельной кипени. С нетерпением ждал я возвращения хозяев этих полей”. Семейные подряды и все опыты, когда не крестьяне отдаются в наем колхозу, а колхозные поля берутся крестьянами в наем, будут задушены. Но тогда, в начале шестидесятых, Можаеву верится, что из искорок этих можно раздуть пламя, и он спешит проговорить главное слово: “хозяин”.
Само это понятие еще не крамола, речь ведется автором о рачительном отношении к земле, да и мечтает его герой - тот самый “хозяин” - выполнить повышенное соцобязательство и получить прогрессивку. У колхоза есть поставленный государством план, но раз уж землю закрепили, закрепленный на ней может хотя бы свой труд точно сосчитать, а еще и выдается ему под личную ответственность орудие труда, к примеру, трактор. Сколько сделал, столько единолично получай. Перевыполнил план - получишь прогрессивку. Ну а потерял, упустил, горючее лишнее сжег - считай, вынул из своего кармана. Монологи тех, кому даже с такой удавкой дышится легче, заполняют можаевский очерк. “Да, закреплять надо землю... А то царапает ее нынче Иван, завтра - Федор, послезавтра - Сидор... А травой зарастет, и концов не найдешь. Трактор вон закрепляют за трактористом под личную ответственность. Комбайны - тоже. А земля - живой организм! Она же кормит нас и за каждый ее участок тоже отвечать надо... Лично... Закреплять землю надо”.
Это заговорил русский мужик... Соглашается с чьим-то мудрым решением, которое закрепило за ним колхозное поле. Жалуется, что иначе пропадает земля, как бы даже кого-то попугивая. Просит: окажите личное доверие! Печалится о справедливости, чтобы землю приравняли хотя бы к сельхозинвентарю, который все же берегут и закрепляют под эту самую ответственность личную... Сколько старания в простых словах, как будто выстраданы, но откуда в очерке о передовом опыте страдающие голоса? Можаев передает крестьянскую речь во всей жизненной правде и слышит он тех, кто еще помнил, как подбирали на колхозных полях колоски, чтобы не сдохнуть с голода. Тех, кого раскулачивали. Мордовали да сажали за малейшую провинность как вредителей. Это воскресли из мертвых они, земли хозяева. Воскресли - и ждут. Хозяева ждут земли, а она - их-то, своих хозяев. Можаев за бодренькой декорацией преуспевающего на семейном подряде колхоза дает почувствовать иное - наполненную этим ожиданием, саднящую и больную пустоту.
Побеждают на своих полях крестьянские семьи, которым только и дали - зацепиться, продохнуть, ожить. Открыта дорога вербоваться на заработки в города. За лучшей долей уходят, если ждать становится нечего, а тех, что остались в колхозе, работать приказами больше не заставишь. “А помощь - откуда она? Каждый колхозник теперь на учете”, - дают понять то же воскресшие на закрепленных за ними полях мужики. Вот и стали их считать, колхозников, пробовать, как выжать из них побольше силенок, чтобы один работал за десятерых. Получилось. Работают. Но работают, пока чувствуют себя хозяевами. И вот уже имеют свое мнение; как хозяева, ропщут: дай им больше прав; а на смену воодушевлению и новым надеждам приходят своим чередом усталость и равнодушие... Разве это справедливость? Землю надо бы закреплять года на два, на три... Оплату, то есть начисление трудодней, надо бы менять... Ожидание. Пустота.
Они побеждали, но не могли подняться с колен, похожие на гладиаторов в своих трудовых поединках за землю. Трудом их пользовались - а землю не отдавали. Это положение понятно Можаеву. Поэтому, вдруг, он пишет: “Русский мужик не любит брать что-нибудь на веру, либо он принимает все как есть равнодушно, не чувствуя полезности предложенного, либо проявляет скрупулезную дотошность в том, что, по его мнению, приносит выгоду обществу и ему”. Равнодушие - вот она, всегдашняя крестьянская месть хозяевам. Работать мужик будет только с выгодой для себя. Побежденный, он сожмет свою волюшку в кулак, может, даже угодливо поклонится, но поля останутся без хлеба. За поражение русского мужика советское государство готово платить самой дорогой ценой: в 1963 году впервые закупается зерно в Америке, потоки которого, вот уж золотые, потекут в черную дыру. Но последние слова обо всем скажет еще держащийся за свою землю мужичок, узнавая о другом таком же колхознике, главном герое можаевского очерка, что не выдержал и оставил порастать травой свое поле... “Жалко, - с огорчением сказал Никитюк. - Но это у него не исчезнет. Он опять вернется к земле, как только условия создадут. Это, знаете, как озимые под снегом: снегом привалило их, и они вроде замирают. Но только снег сойдет и солнышко припечет, как они сразу взойдут, потянутся кверху. Корни, брат, остаются в земле. Вот в чем дело-то”.
Жалко, огорчительно - только все еще впереди!
Вера писателя в народ была какой-то такой же, мужицкой. Мужество, с которым пишет Можаев, так естественно, что ему не требуется никакого пафоса, да его-то нет и в словах мужиков. Поразительно, как власть пропускала такие публикации, чуть ли не поощряла их появление, ведь несмотря на цензуру в печатных изданиях автор мог выехать по командировке в любое место и увидеть все своими глазами. Свобода, которой он пользовался, как никто другой, распахнула ему Россию. Знание происходящего открывало прямую дорогу к правде, и Можаев писал: “...есть только один ориентир - правда жизни, то бишь то состояние, в котором пребывают народ и государство”.
Очерк, опубликованный когда-то на страницах “Октября”, дал название книге, напоминающей хронику жизни ее автора, только на этот раз не требуется что-то недоговаривать да прятать, другие времена. “Земля ждет хозяина” - книга Бориса Можаева, последняя или новая, как понять? Что пришло с этой книгой?
Последним прижизненным изданием был сборник рассказов и очерков “Затмение”, увидевший свет в 1995 году, - итог газетных публикаций тех лет; а больше уже ничего не издается, хотя автор “Живого”, “Мужиков и баб” назывался живым классиком отечественной литературы.
И вот писатель возвращается, хотя время, в котором то ли дышал, то ли задыхался, еще и не ушло. В этой книге теперь уж точно весь Можаев - до написанного в последние месяцы жизни. Не вместила она в себя только те, как будто бы главные произведения, которые сделали его писательское имя громким. На ее страницах главнее время Бориса Можаева. В ней больше документальных историй и личного опыта, чем придуманных сюжетов и фантазий. Писатель сам к этому призывал: “Серьезный литератор, прежде чем изображать реальную действительность, должен определиться в главном - понять, что же происходит в нашем обществе”. За то при жизни его уличали в публицистичности, в том, что он публицист, лишенный всяческой оригинальности, а не художник. Будто требовали от страдающей души какой-то еще натуральности да свежих красок - той большей выразительности, с которой играют страдания артисты. Только Можаев не притворялся человеком страдающим, правды ищущим. Он таким был. Это живое слово - до тех пор и новое, пока живое, - несет в себе его последняя книга.
Он спешил, чтобы “помочь исправить”... Не разрушить или переделать - а поставить на свои места, Богом и природой определенные. Только все еще впереди! Правды не может быть без веры, но что давало ее? Читая, видишь, как Можаев терпел поражение за поражением... То, что он в одиночку пытался спасти, губили на корню. Те, кого выискивал в надежде поддержать и защитить, пропадали без вести. Идеи, которым старался дать будущее и за которые боролся, душили. А потом рушится страна. Можаев не принял общественные перемены, которых так ждал, - все опять пошло вкривь и вкось. Вот только заголовки его выступлений в 90-х: “Где наш пахарь? Кого еще ждем?!”, “Геноцид”, “Захват”...
Его вера и не была эдаким “социальным оптимизмом”. Это вера в спасение, но, когда бросается спасать человек уже гибнущее, она - в готовности пожертвовать собой во имя других. Возникает ощущение не конца, а надрыва на последних страницах, как будто что-то вырвано и должно быть продолжение - но это оборвалась жизнь. Ее-то и не хватило; изменить не то что ход истории, хоть что-то изменить оказалось выше человеческих сил. В этой книге написанное пережило автора. “Земля ждет хозяина” - это тема всего творчества Можаева, и снова он приходит с ней, и снова звучит она как вызов. История русского крестьянства, советская деревня, новая свободная Россия, уже опять одураченная, - “старое и новое” в этой книге куда-то катится отвалившимся у телеги колесом. Путь русского писателя даже не оборвался, а будто бы потерялся в новом времени. Слышно только тех, кто глумится. Серьезные общественные темы свалены в литературе на обочину. Все это Можаев предчувствовал, недаром говорил еще в 1982 году на симпозиуме “Цивилизация и литература”: “Для них совершенно неважно, какая конъюнктура, - сексуальная, социальная или даже идеологическая. Главное - попасть в денежную струю или на конвейер служебной выгоды; расхожая недолговечная продукция, рассчитанная на ослепленную рекламой нетребовательную публику, миллионными тиражами забивает книжные прилавки, наводняет журнальные полосы, театральные подмостки и кино. Как у бойких расчетливых лотошников, у этих сочинителей все можно найти для разжигания интереса к шикарной жизни и похотливых желаний, все: от телесного и нравственного стриптиза до откровенной проповеди насилия. И вся эта хитроумная затея приблудного сочинительства существует только для того, чтобы увести читателя и зрителя от реальной действительности, от ее больных и тревожных вопросов”.
Писателя не стало в 1996 году, на кончину его отозвался Солженицын. “C Борисом Можаевым” - это рассказ о дружбе, о человеке, о литературной судьбе (опубликованный к первой годовщине со дня смерти рассказ становится предисловием к книге, выпущенной в 2003 году издательством “Русский путь”). Солженицын видит в Можаеве крестьянского богатыря - “живое воплощение среднерусского мужичества”. Этот образ воссоздан в его эпопее - с Бориса Можаева писался Арсений Благодарев, главный крестьянский герой “Красного колеса: “...естественно входил он и в солдатство, с его бойцовской готовностью, проворностью, и в крестьянскую размыслительность, чинную обрядность, деликатность, - и во взрыв тамбовского мятежа”. Восстание Можаева - тот же бой за “сельскую Русь”, “спор за еще один деревенский рубеж, как бы уже не последний”. Обобщая все до символов, Солженицын сознательно или невольно наполняет их смыслом, пронзительным и трагическим, когда вспоминает о последней встрече, уже с умирающим... Это конец: “И голос его, утерявший всю прежнюю энергию, ослабел в мягкую доброту, еще усиливавшую впечатление святости его образа. Говорил с трудом, а хотел поговорить. Потом обрывался на фразах. Иногда переходил на шепот. И о чем же говорил? Как страну довели - вот те самые, что и всегда”.
Можаев писал о катастрофе - “уничтожении сельской жизни на русских просторах”, как это с трагической широтой сказано у Солженицына. Сам он никогда не подчинялся тому страху, с которым приходит ощущение собственного бессилия, конца: больной раком, не хотел знать правду о смертельной болезни. Об этом опять же у Солженицына повторяется как о чем-то очень важном: “он совсем плох - а не понимает этого, как бы не ищет правды о своей болезни”, “выражение его лица поражало тем, что он уже несомненно не в этом мире, - тем более удивительно, что ведь Борис не знал правду своего состояния, не хотел знать, отгонял”. Но мучительный шепот умирающего человека, его последние слова даже в простой записи звучат ощутимо страшно, как будто исчезает, кончается что-то огромное и больше не будет самого смысла жить.
Такое же страшное зияние осталось после смерти Василия Шукшина. Его последнее слово - “Калина красная”. Там нет в кадре гибнущих деревень, только одна душа горемычного мужика - образ, в котором Шукшин воплотился с такой страстью, что уже был неотделим от него и погиб-то как будто на экране, когда цеплялся за березки, прощался с ними, а они, белые да чистые, истекали кровью. Что же он сказал? Пашет мужик поле, смывает потом грехи, только вот вылез на свет Божий из лагерного барака, а подъехали “те самые, что и всегда”, да пристрелили, смыли, значит, кровью; “он был мужик - а их на Руси много”. А что сказал Астафьев? Вот эпитафия, которую он написал собственной рукой и завещал близким прочесть после своей смерти: “Я пришел в мир добрый, родной и любил его безмерно. Ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать вам на прощание”.
Все это не жалобы на собственную участь обездоленных людей, какими они вряд ли были, - лауреаты государственных премий, живые классики. Хотя судьбы между тем поразительно схожи - и каждый, осознавая или нет, потерпел в своем времени сокрушительное поражение. Это погружение в национальную катастрофу, которую чувствовали с одной болью, в одно время. Это взгляд на Россию из ее глубины: только в XX веке кончаются эфемерные “хождения в народ” и подглядывание, когда стыдливое, а когда бесстыжее, за народом, потому что русские писатели выходят из его гущи... Что же разрушилось и уничтожилось? Так жестоко и бессмысленно все у нас в России? Или это здоровое освобождение от больной тяжести каких-то изживших себя смыслов?
Cо времени публикации очерков “Впрок”, “Усомнившегося Макара” Андрея Платонова и “Поднятой целины” Шолохова советская литература молчала о трагическом положении крестьянства. Все неимоверно сдавлено страхом, мертвые молчат о мертвых - и есть ли живой?
Им был Твардовский. Он возвысился как советский поэт в трагическое время, но сам оказался сколком народной трагедии, а поэтому страдал правдой, будто узнавать ее должен был о самом себе. Крестьянский сын, он помнил так о деревне. Отец его в 1931-м был признан “кулацким элементом”, подвергнут раскулачиванию и высылке; вместе с ним отправили на спецпосление за Урал жену да шестерых детей. Константин Трифонович, один из братьев, вспоминал: “Постройки наши расхватали. Жилой дом перевезли в Белый Холм, как будто бы для учителей. А на самом месте, где мы жили, поставил себе избу председатель местного колхоза”. Так закончилась жизнь крестьянской семьи, оставшейся без дома, земли, всего родного. Твардовский покинул смоленскую деревеньку, в которой родился, еще в 1928 году. Он переезжает в город, чтобы получить образование и войти в новую советскую жизнь.
Вот одно его малоизвестное стихотворение тех лет, “Отцу богатею” (1927):
Нам с тобой теперь не поравняться.
Я для дум и слов твоих - чужой.
Береги один свое богатство.
За враждебною межой.
Пусть твои породистые кони
Мнут в усадьбе пышную траву,
Голытьба тебя вот-вот обгонит.
Этим и дышу я и живу.
Писал это, конечно, не доносчик, а верующий в свою идею комсомолец. Но в первоначальном варианте поэмы “Cтрана Муравия” (1936) читаем строки, не пропущенные цензурой:
Их не били, не вязали,
Не пытали пытками,
Их везли, везли возами
С детьми и пожитками.
А кто сам не шел из хаты,
Кто кидался в обмороки, -
Милицейские ребята
Выводили под руки...
Это написано без страха, по-живому, а в словах - реальность, правда. Все описывается как таинство - глуховато, скупо. Это и есть таинство жертвы народной, которое вершит сама история. Ребята милицейские - не шавки конвойные, а такие же свои, будто бы даже подневольные, одетые в милицейскую форму пареньки. Одним выводить приказано - другим выходить с пожитками, и на всех-то один приказ. Куда везут? За что? Никто не знает... Пожили - нажили по узлу, по котомке дорожной, да еще вот детишек. Если уж с детьми увозят - может, оставят жизнь, будут хоть они жить? Но бабы кидаются в обмороки, исступленные, бесчувственные, - везут на смерть. Без дома своего да земли - это же холод и голод, верная гибель. Отнимают ее, жизнь. “Не били, не вязали” - значит, подчинялись они своей судьбе покорно, не оказывая сопротивления, уже-то были забиты, лишены свободы. “Не пытали пытками” - даже не дознавались, кто и что скрывает, какая и у кого вина. “Их везли, везли” - без счета, будто и видишь неимоверно растянувшуюся вереницу этих возов, почти бесконечную. Видишь как-то со стороны, сам-то живой, как будто вспоминая тех, кого уж нет, чья жизнь кончилась, кто никогда не возвратится по этой же дороге, на том же возке домой. Понимая и сострадая - тем выдавая себя, что помнишь родных, храня в душе весь этот уход, без прощания и прощения, хоть какой-то надежды.
Мертвым, ушедшим не нужно правды - нужна она живым, потому посыл обращен в будущее. Есть правда, необходимая человеку. Правда, необходимая человеку, - это память. Твардовский не отрекался от того, что помнил. Он уцелел, но в этом чувствовал жертву отца и матери, младших братьев и сестер, а глубже - жертву народную. Уцелел с той же покорностью своей судьбе, с которой другие шли арестантскими этапами и погибали.
Еще малоизвестного поэта, его обвиняли в “кулацких тенденциях”. В 1937 году в Смоленске готовился его арест. “Кулацкое происхождение” как приговор. Спасло то, что “Cтрана Муравия” понравилась Сталину. Оставленный в живых, Твардовский, пожалуй, был единственным русским поэтом, кто мог публиковаться в сталинскую эпоху, хотя шел своей поэзией за трагической судьбой своего народа. “Василий Теркин”, “Дом у дороги”, “За далью - даль” поэтому опережали сдавленное страхом и молчанием время. Это пролог ко всем главным событиям русской прозы, но и свидетельство о главных событиях истории. Хождение ли это за лучшей долей крестьянина, не желающего вступать в колхозную жизнь, или война глазами привычного к окопам русского мужичка, или реквием по убитым на войне - все получит продолжение в темах и публикациях “Нового мира”, когда Твардовский как главный редактор откроет для них журнал.
Главная - крестьянская тема. Он сам вел отсчет своего времени с публикации в “Новом мире” очерка Валентина Овечкина “Районные будни”. Она состоялась в 1952 году. Партийный работник, журналист, Овечкин в этом очерке правдиво показал советскую деревню тех лет. Это был не художественный прорыв, но равный ему по силе поворот к жизненной правде. Когда через четыре года Твардовский был снят с должности главного редактора, его журнал уже успел опубликовать очерки и рассказы Тендрякова, Троепольского, Яшина. После смены партийного курса в 1958 году Твардовского cнова назначают главным редактором “Нового мира”, и крестьянская тема получает на его страницах еще более направленное продолжение. Новая, хоть и обставленная красными флажками, свобода обсуждать общественное состояние страны, означенная докладом Хрущева на XX съезде партии, побуждала творческую интеллигенцию искать опору для этой свободы в народе. А писать о “проблемах сельского хозяйства” и значило обращаться к народу. Так возникло в среде советской интеллигенции подобие “народничества”.
Повторялось такое историческое состояние, когда государственная машина, созданная для подавления человеческой воли, в момент наивысшего господства над обществом и человеком уставала от собственного напряжения и нуждалась в уменьшении “нагрузки”. Можно сказать, что начинались “общественные преобразования”, однако общество было не готово к обновлению, и сама свобода не представлялась этому обществу необходимостью. В нем не было духоподъемных сил и единства. Оно было воспитано произволом, сковано страхом и приспособилось к такому существованию ценою огромных жертв, как будто даже его и выстрадало. Именно такое положение вещей побуждало власть к реформам. Это были государственные меры, принятие которых ослабляло “внутреннее давление” в напряженных донельзя механизмах управления народом. Однако сами механизмы управления не менялись. И машина подавления отнюдь не ослабевала, а разве что могла работать не в полную мощь. Общество получало допустимую свободу и уже не тотальное, а словно бы необходимое государственное насилие. Но взбудораженная даже такой свободой общественная жизнь приходила в движение. Ее хватало для того, чтобы стать средой для мыслящих и образованных людей. Духовно интеллигенция обретала себя с осознанием своей вины перед народом. Чувство вины возмещало утраченную свободу, так как интеллигент, хотя и обладая личной независимостью и привилегиями образованного человека, существовал в окружении угнетающих его сознание и душу несправедливости, страданий. Поэтому и он, чтобы обрести подлинную свободу, должен был страдать. Однако он становился, конечно же, только выразителем народных страданий. И если мужик ложился под розги покорно, принимал удары без стонов, то интеллигент как мог обличал несправедливое устройство жизни. Он находил виновной во всем власть государственную или власть денег, а мужик, парадоксально отвергая его жертву, сам жертвенно вверял свою судьбу правителям, спасался покорностью земле, а образованным господам говорил: “Не суйся!” Жертвуя собой, мужик не заявлял никаких прав на власть. Однако интеллигенция, обличая государственную власть, требовала для себя новых прав. По сути, она уже наделяла себя властью, в том числе и над волей народа, роль которого в истории начинала представляться ей подчиненной и неглавной. Казалось бы, словесная, полемика с властью приводила к политической борьбе за власть. Испытывая неожиданно такое “внешнее давление”, государственная машина отвечала усилением карательных мер. Наступала политическая реакция. Преобразования не получали развития. Режим управления народом ужесточался.
“Новый мир” Твардовского во многом повторил судьбу “Отечественных записок” Некрасова, когда в условиях допустимой свободы обсуждение общественных вопросов стало содержанием литературной полемики и сосредоточием внимания всего общества. В его публикациях, конечно же, имели место и сознательные отсылки к прошлому. Так, скажем, “Деревенский дневник” Ефима Дороша, безусловно, отсылал читателя к циклу очерков Глеба Успенского “Из деревенских дневников”. Но такие отсылки к шестидесятым годам прошлого века были своего рода полемическим приемом и попыткой расширить ее, полемику, указывая на сходство исторических эпох. Само направление, которое сложилось в “Новом мире”, однако, не было продолжением “народнической традиции”: журнал Твардовского расколол ее и опрокинул движением новых сил. Народничество - это попытка духовного сближения культурного общества с народом, что можно выразить словами Глеба Успенского: “Одни, убедившись в бесплодности интеллигентного существования, “в одиночку” ищут или, вернее, полагают найти под соломенными крышами недостающее им общество, среди которого и надеются растворить остатки своих умственных и нравственных сил... Другие, напротив, полагают найти под теми же крышами нечто совершенно иное, небывалое, спасительное чуть не для всего человечества, погибающего от эгоистически направленной цивилизации”. “Новый мир” показал обратное - он был попыткой сближения народного интеллигента с культурным обществом. Того народного интеллигента, о котором Глеб Успенский еще за сто лет перед тем написал, что он умер и без него опустела народная душа. Этого сближения не произошло.
Народничество эпохи Успенского и Михайловского кончилось духовно в революционных кружках. А народничество времен Твардовского - в диссидентских. Революционеры, скажем, Троцкий, формулировали так: “Для нас факт остается фактом. Ржаное поле как оно есть не приняло интеллигента как он есть. Социальные условия деревни стали в противоречие с задачами интеллигенции”. Советские диссиденты с их идеями и подпольем, куда загнаны были мечты о политической свободе, так же формулировали новые задачи. Григорий Померанц: “Интеллигенция есть мера общественных сил - прогрессивных, реакционных. Противопоставленный интеллигенции, весь народ сливается в реакционную массу”.
Твардовский публикацией “Районных будней” начал борьбу с “колхозной” мифологией советской литературы, что подменяла собой реальную действительность. От литературы требовали народности - понимай, “социальной близости”. А, по сути, это интеллигенция должна была отречься от своей морали, культурных интересов. Для Твардовского было важно показать крестьянскую жизнь, чтобы опрокинуть такую, соцреалистическую, народность. Движение в сторону жизненной правды освобождало интеллигенцию, и “Новый мир” становится выразителем ее интересов, но только до тех пор, пока о деревне писалось с точки зрения интеллигента, то есть его морали и представлений о народной жизни. В своих “дневниках” и “записках” о деревне культурное общество обретало право голоса, до этого у него отнятое. Примечательно, что на страницах журнала при этом возникает понятие “крестьянская тема” - и даже не в смысле “тема творчества”, а с явным публицистическим звучанием, то есть “тема для обсуждения”. Все перевернула публикация “Одного дня Ивана Денисовича”, когда литература заговорила голосом самого народа. Или, сказать иначе, когда с этим рассказом и взглядом глазами мужика на все человеческое бытие и на весь уподобленный лагерному бараку мир вдруг пришла другая литература, отдельная от советской. Это было впечатление от одного рассказа, но тогда же, в шестидесятых, наружу вышел целый пласт произведений о народной жизни.
Авторы их должны были выжить и уцелеть, а с ними и в них уцелела родовая память русского крестьянства. Они пришли в литературу в одно время, всем миром деревенек, рязанских, курских, вологодских, алтайских, владимирских, сибирских, как будто их и посылала сама земля. Не самородок-одиночка, очарованный книжной мудростью, воспринявший и усвоивший многие ее уроки, поднявшийся до понимания искусства, а целое поколение, еще неизвестная и рожденная в самом народе сила. Сила духовная его памяти, веры, опыта... Сила сердечной отзывчивости к образам взорванной, разрушенной христианской культуры... Себя заявляло новое творческое мышление, соединенное своим миропониманием с этическими и эстетическими ценностями русской культуры. Революция, казалось, уничтожила в России все формы духовной ее жизни - и вдруг снова пробились ее ростки да еще на “ржаном поле”. Кто только не ходил на поле это сеять доброе, разумное и вечное, мечтая просветить свой народ, но возвращались ни с чем. А всходы взошли, когда не осталось даже мечтателей, когда дыхание чуть теплилось в опустошенных коллективизацией, а потом уж войной колхозных загонах.
Что же освободило эту силу? Творчество! Она могла стать свободной, творческой, если бы обратилась к людям и открылась для других как бескорыстный дар. Пожалуй, это самый естественный, но и парадоксальный ответ. Русское крестьянство было носителем своего культурного и религиозного сознания. Все подчинялось земле. По ее законам жили и умирали. Как писал Успенский во “Власти земли”: “Ни за что не отвечая, ничего сам не придумывая, человек живет только слушаясь, и это ежеминутное, ежесекундное послушание, превращенное в ежеминутный труд, и образует жизнь, не имеющую, по-видимому, никакого результата (что вырабатывают, то и съедят), но имеющую результат именно в самой себе”. Борис Можаев из другого времени возражал Успенскому: земля не дается каждому, а только сильным, поэтому русский мужик “собирался толпами, селился миром”. Земля - это не власть, а сила, которая “сплачивала русских людей в особый трудовой союз”. То есть земля все же отдает свою силу, наделяя ею тех, в ком зависимость от земного благоденствия пробуждает чувство ответственности, сопричастности. Русский мужик становился послушным рабом - или ответственным хозяином, созидая свой собственный “автономный мир”, в котором был уже творцом. Все, что крестьянин создавал, он должен был создать сам. Творчество было необходимостью для крестьянского труда, ведь земля не станок, она живая. В конце концов он создавал своим трудом то, что сотворить способны только земля и природа. Но, обладая такой творческой силой, без которой бесплоден был и его труд, он замыкается в своем “автономном мире”, в котором веками ничто не преображается; который, как можно тогда уж сказать, образует жизнь, “имеющую результат именно в самой себе”.
Тут бы вспомнить Пушкина: “Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского уничижения в его поступи и речи? О его смелости и смышлености и говорить нечего. Переимчивость его известна. Проворство и ловкость удивительны”. Но, веками глядя на деревню, лучшие русские люди - а их глазами и общество, чей совестью они были - видят почему-то одно и то же: разорение, грязь, пьянство, бессмыслицу, будто и нет на свете ничего более унылого, чем жизнь, которой живет мужик. Это видел Радищев. Это видел Гоголь. Это видел Достоевский. Это видел Некрасов. Это видел Успенский. Это видел Толстой. Это видел Чехов. Это видел Горький. Точно такой же веками представала и вся Россия в глазах иностранцев, заезжих просветителей да европейских послов - огромной пустой страной, населенной дикарями. Но это взгляд посторонний, на закрытый мир, который веками сберегался от чужих глаз, даже прямо в глаза-то барину не смотрел. И ведь не от стыда или страха, а пряча ухмылку или затаивая ненависть. И это важно понять: покорность, услужливость, то есть некую душевную слитность с чужим барским миром, мы можем встретить лишь в лакеях, слугах, денщиках - одним словом, душевных рабах. Целое племя таких маленьких людей, душевных и жалких в своем услужении, выводила на всеобщее обозрение и великая русская литература, полная, казалось бы, сострадания к ним. Только в таком образе русский мужик подавался как положительный герой, то есть оценивался положительно. Или уж показывался злобным, жадным, отвратительным, но все равно под видом бесполезного в масштабах истории человечка. И изображал его таким не кто-нибудь совсем уж чужой народу, а Максим Горький (“О русском крестьянстве”): “...как евреи, выведенные Моисеем из рабства Египетского, вымрут полудикие, глупые, тяжелые люди русских сел и деревень - все те почти страшные люди, о которых говорилось выше, и место их займет новое племя - грамотных, разумных, бодрых людей”.
Так приходишь к удивительным выводам... Лучшие русские люди, даже влюбленные в простоту, если и хотели видеть в народной жизни некие нравственные основы для жизни всеобщей, то крестьян-то уж точно не находили похожими на самих себя или тем более равными себе. Даже поставленный с мужиком в одни и те же условия жизни, лишенный всех прав состояния, принужденный к такому же труду, как это случалось на каторге, барин, подчиняясь какому-то инстинкту, расходится с крестьянином в разные углы - читай “Записки из мертвого дома”. Как это понять? Да и кто нам понятнее? Тот, чьим взглядом смотрим мы на жизнь, ну а шире - с каким пониманием смотрим на саму историю. Здесь и ответ.
Но никогда не было в России одной реальности, а были, как это написал Блок, “люди, взаимно друг друга не понимающие в самом основном”. И вопрос не в социальном неравенстве, причины непонимания глубже: в том, какие силы и что же такое вдохнули в их жизнь, воспитали и подчинили себе. Все это силы творческие, потому что дают людям и цель, и способность перевоссоздать реальность. Можно назвать это смыслом жизни, ее духовным током или, проще, ее идеей. К таким идеям можно отнести Власть, Деньги, Веру... Одни идеи давно уже правят людьми и укоренились в человеческих инстинктах, но есть множество идей, что рождаются, новые и новые, с той же целью, чтобы, как обычно говорят, “изменить мир”. Одни так и сгорают без следа в своем времени, другие завладевают умами; их были тьмы - и будут тьмы.
Важно понять, что идеи не столько продолжают друг друга, сколько пытаются друга друга отменить или подменить. Это борьба. Но так или иначе поверх социальных различий возникало единение людей - и тогда уж это были люди власти, люди денег, люди веры... Вере могли служить и богатый, и бедный, обретая единение. Власти служили одинаково генерал и простой солдат. Хотя для них же главной идеей могли стать со временем Деньги, а возможно, Вера, то есть люди переходили из идеи в идею, подчиняясь их силе - и получая от них силу. То же крестьянство уже поэтому не было однородно, в нем могли быть и стяжатели, и праведники. Это разделение и его значение точно почувствовал Глеб Успенский - об этом читаем в его очерках “Народная интеллигенция”, “Теперь и прежде”, опубликованных в 1882 году; а осознано и показано во всем своем трагизме оно было уже в другом веке: в прозе Солженицына (“Матренин двор”), Можаева (“Старица Прошкина”), Распутина (“Деньги для Марии”).
Когда мы видим, как деревенская жизнь вбирает в себя разных людей, это значит, что есть и основа крестьянского мира, его высшая идея. Она образует свою жизнь, то есть свою реальность. Это идея Земли. Вырвать крестьянство из этого мира или подменить идею Земли другой - значит духовно его уничтожить. Так оказывается, что есть идеи, способные перерождаться одна в другую. И есть идеи, а следовательно, и люди, “взаимно друг друга не понимающие в самом основном”.
А что же лучшие люди? Не каждая идея образует свою реальность, но Россия мыслящая - это реальность, она образует свою жизнь. В этой реальности есть свой культурный пласт, внутри которого ищут согласия множество, наверное, самых сложных - социальных, философских, научных и художественных идей; и они же ищут для себя применения, стремятся к тому, чтобы осуществиться, то есть “изменить мир”. Интеллигенция - это врачи, учителя, ученые, художники... Но какое это единение людей, в чем его основа? Они имели все права, привилегии и возможности вышестоящего над массой простых людей сословия и, начиная осознавать общность своих интересов с народными, все же с массой никогда бы не слились. Если интеллигент и мог появиться в деревне, то как учитель, агроном или врач. Поэтому главной оказывалась идея служения обществу, человеку - с отказом от личного обогащения и службы государственным интересам. Ни государство, ни церковь, ни торговое и даже рабочее дело не рождали в интеллигенции такой любви и такого стремления к единению, какие испытала она к людям земли. Однако именно это стремление было самой главной причиной разъединения интеллигенции и народа. Это понимал Блок. О том, что оно значило, называя это разъединение “страшным”, с каким-то гибельным одиночеством он пишет в статье “Народ и Интеллигенция”: “C екатерининских времен проснулось в русском интеллигенте народолюбие, и с той поры не оскудевало. Собирали и собирают материалы для изучения “фольклера”; загромождают книжные шкафы сборниками русских песен, былин, легенд, заговоров, причитаний; исследуют русскую мифологию, обрядности, свадьбы и похороны; печалуются о народе; ходят в народ, исполняются надеждами и отчаиваются; наконец, погибают, идут на казнь и на голодную смерть за народное дело. Может быть, наконец поняли даже душу народную; но как поняли? Не значит ли понять все и полюбить все - даже враждебное, даже то, что требует отречения от самого дорогого для себя, - не значит ли это ничего не понять и ничего не полюбить?”
Любовь к народу - это подмена, потому что полюбить и понять мужика - значит перейти в его идею, а это для интеллигентного человека невозможно. Даже если он отречется от своих идеалов, то сможет ли понимать, верить, чувствовать, как русский мужик? Сможет ли посмотреть на себя глазами мужика?
“А любите ли вы то, что любит русский народ?” - обращался Достоевский к своему сословию. Что понял Блок: такая любовь никогда не станет любовью. Она примет совершенно другую форму: нелюбви к реальности, в которой существует со своей идеей народ... Поэтому любовь к народу становилась ненавистью к России. Поэтому человек из народа становился для интеллигенции “маленьким человеком”, которого, чтобы уж полюбить, нужно возвысить как существо нижестоящее в своем развитии, то есть научить, воспитать, освободить... Конечно, он ведь не мог бы сам себе преподать уроки, сам себя выпороть для прилежания, сам себе простить грехи для очищения души, сам с себя сорвать оковы, чтобы обрести свободу! Все это должен был делать для него кто-то другой - учить, наставлять, освобождать, пороть!
Вот почему Блок повторяет, как заклинание: “нужно любить Россию”... Вот почему дороги для него слова Гоголя, его “Выбранные места из переписки с друзьями”, где тот взывал: “Как полюбить братьев? Как полюбить людей? Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные люди так несовершенны и так в них мало прекрасного! Как же сделать это? Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы - русский. Для русского теперь открывается этот путь, и этот путь - есть сама Россия. Если только возлюбит русский Россию - возлюбит и все, что ни есть в России. К этой любви нас ведет теперь сам Бог. Без болезней и страданий, которые в таком множестве накопились внутри ее и которых виною мы сами, не почувствовал бы никто из нас к ней сострадания. А сострадание есть уже начало любви”... Но сам же Блок с безысходностью спрашивает: “Понятны ли эти слова интеллигенту? Увы, они и теперь покажутся ему предсмертным бредом, вызовут все тот же истерический бранный крик, которым кричал на Гоголя Белинский, “отец русской интеллигенции”. В самом деле, нам непонятны слова о сострадании как начале любви, о том, что к любви ведет Бог”... И произносит самое главное: “Не понятны, потому что мы уже не знаем той любви, которая рождается из сострадания”.
Еще откровенней напишет Бунин в своих “Окаянных днях”: “Страшно сказать, но правда: не будь народных бедствий, тысячи интеллегентов были бы прямо несчастные люди. Как же тогда заседать, протестовать, о чем кричать и писать?”
Многое должно было обновиться в России, потому что формы ее национальной жизни с какого-то момента истории сдерживали развитие ее же творческих сил. Но вместо обретения всей нацией этой творческой свободы происходили преобразования, что принуждали двигаться вперед, не допуская к свободе, а Россия с каждой попыткой обновления погружалась в безвременье, в котором единственной творческой силой оказывалась культура. Она намечала формы новой русской цивилизации, вбирая в себя все направления мысли, предвосхищая будущие события и восполняя собой историю. Однако ничто так не отчуждало народ от интеллигенции, как самое культура, разделяя Россию на тех, чьи мысли и чувства получали всю полноту выражения, и тех, кто обязан был сливаться с массой себе подобных, хоть тоже мыслил и чувствовал.
Должно было пройти долгое время и проделано огромное взаимное духовное усилие, чтобы народное проникло в культуру, а созданное культурой - в душу народа. Но степень сближения с народом становится эстетической величиной, а значит, заданием для искусства. Национальный дух отнимается у русской культуры и возвращается уже в виде понятия народности. Пушкин писал с иронией: “С некоторых пор вошло у нас в обыкновение говорить о народности, требовать народности, жаловаться на отсутствие народности”... Говорят, требуют, жалуются, надо полагать, ее теоретики. Это они, сами не будучи художниками, решают, каким должно быть искусство. Миф об искусстве в лаптях рождается, когда заявляет о себе эстетическая критика или, сказать иначе, когда интеллигенция в своем порыве “понять душу народную” сознательно противопоставила “художественное” и “народное”: например, в поэзии - форму народных песен романтической лирике, то есть Никитина и Кольцова - Полонскому, Фету, Тютчеву. Появившуюся еще в пушкинскую эпоху “крестьянскую поэзию” Белинский представляет как грязь, ставшую золотом, когда пишет о Кольцове: “Не для фразы, не для красивого словца, не воображением, не мечтою, а душою, сердцем, кровью поэт любит русскую природу и все хорошее и прекрасное, что, как зародыш, как возможность, живет в натуре русского селянина. Он носил в себе все элементы русского духа, любил крестьянский быт, не украшая и не поэтизируя его, и поэзию этого быта он нашел в этом самом быте, а не в риторике, в пиитике. И потому в его песни вошли и лапти, и рваные кафтаны, и всклокоченные бороды, и старые онучи - и вся эта грязь превратилась у него в чистое золото поэзии”.
Но там, где вожди эстетической критики провозглашали и пестовали близость искусства к народу, не было ни поэтической традиции, ни культурной почвы. Кафтаны, онучи, бороды - это почва? Cказки пушкинские, напетые крестьянской нянькой, мещанская лирика Кольцова, гражданская Некрасова, в которой природный барин заговорил вдруг голосом мужика, - это традиция? Традиция, которую создавали крестьянские поэты, - песенная поэзия, условная по своей форме сентиментальная лирика. Она превращается в балладу или романс. Крестьянских поэтов в этой традиции выделяло, напротив, стремление к изысканности, а не простоте. В русском языке они пробудили лирическую силу, ставшую раздольной музыкой, но не они вдохнули ее в поэзию. Этой новой красотой и как бы романтизмом они преобразили народную песню. Она стала поэтической, свободной, то есть самой собой, далеко уходя от былинно-сказовой старины, которой подражали в XVIII-XIX веках ученые стихотворцы. Это песни, которые поются до сих пор в России как народные. Безымянность, успокоение стихийного в стихии же народа - вот итог, но ведь не литературный, за которым могло бы что-то следовать?
Если крестьянская поэзия существовала и продолжалась, то потому, что была задача по ее созданию. Однако родоначальником самой российской словесности был архангельский мужик, о котором Пушкин скажет: “Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом”. И о нем же: “Ломоносов, рожденный в низком сословии, не думал возвысить себя наглостью и панибратством с людьми высшего состояния (хотя, впрочем, по чину он мог быть им равный). Но зато умел за себя постоять и не дорожил ни покровительством меценатов, ни своим благосостоянием, когда дело шло о его чести или о торжестве его любимых идей”. Другое дело - покровительствовать, кормить своими идеями, сопровождая все это “краснословием” о тяжелой cудьбе русского крестьянина, которое, как вошло, так уж не выходило из моды... Но поэзия лаптей и всклокоченных бород имела успех у читающей публики, то есть в культурном обществе, именно как своего рода “низость”, а при издании обычно даже указывалось происхождение авторов! Всплеск интереса к народной жизни тут же отзывался поиском “самородков” - все той же подающей надежду “низости”. Собственно, слово это - “самородок”, было введено в литературный обиход для оправдания крестьянских поэтов, которых еще называли “поэты-самоучки”. Имена их мало что скажут современному читателю, они не остались в литературе: Cлепушкин, Суханов, Алипанов, Грудицын, Суриков, Ляпунов, Дрожжин... Все это по-своему выдающиеся люди, для которых творчество было и целью, и смыслом жизни. Для таких, как они, был только один путь - образовывать самих себя прежде всего чтением, а любовь к прочитанному и тоска по книжным идеалам побуждала писать. Получить признание они могли в среде людей культурных, да притом в Петербурге или Москве, а не у себя в глухой провинции, где всякая зависимость от чужого мнения была еще унизительней и безысходней; но, получая поощрения и даже помощь, все равно не чувствовали эту среду своей.
Так было с Кольцовым, хотя за его спиной стоял сам Белинский. В своих “Литературных воспоминаниях” один из столичных благодетелей поэта, Панаев, передает такие слова Кольцова, сказанные под впечатлением, которое производили на него “петербургские литературные знаменитости”: “Эти господа несмотря на их внимательность ко мне и ласки, за которые я им очень благодарен, смотрят на меня, как на совершенного невежду, ничего не смыслящего, и презабавно хвастают передо мной своими знаньями, хотят мне пускать пыль в глаза. Я слушаю их разиня рот, и они остаются мною очень довольны, а между тем я ведь вижу их насквозь-с”. А вот Клюев обращается к Блоку: “Наш брат вовсе не дичится “вас”, а попросту завидует и ненавидит, а если и терпит вблизи себя, то только до тех пор, покуда видит от “вас” прибыток”. Крестьянскую Россию не просвещали, а изучали, пытались как бы снизойти до нее, чтобы узнать и понять, самих себя считая “прогрессивными людьми”; или вовлекали в культурное общество крестьян-самоучек с их книжными идеалами да задавленной мечтой о свободной жизни, тешась мыслью, что это и есть народ. Об этой лжи с болью напишет Бунин: “А ведь говорили, что я только ненавижу. И кто же? Те, которым в сущности было совершенно плевать на народ, - если только он не был поводом для проявления их прекрасных чувств, - и которого они не только не знали и не желали знать, но даже просто не замечали, как не замечали лиц извозчиков, на которых ездили...”
Но подмена, конечно, глубже. Теоретики народности слепы были к тому, что делало русских людей народом, соединяя в духовное целое; не понимали, что это даже не “зародыш” хорошего и прекрасного, а вера, насыщенная тысячелетней историей. Они обращались к душе народной, отрицая его бытие, понимая самого человека, по выражению Белинского, как “высшее существо животного царства”. И если обоснованием революции становилась несправедливость мира Божьего, то обоснованием “художественной справедливости” в искусстве виделась высшая эстетическая идея, провозглашающая, что мир прекрасен без Бога, что обожествленный мир - это ложь, а потому и цель “художественной правды” заключается в том, чтобы открыть прекрасное в народе. При этом народное, то есть истинное, понималось как созданное физической природой, “животным царством”.
Идея народности - это революционное задание. С нее, с этой идеи, начинается эстетизация безбожия. Такого рода эстетическая критика внушает искусству революционный дух... Начинается разрушение традиций, то есть исторической и духовной связи в явлениях культуры, авторитет и тайну которых можно не признавать. Дается моральное разрешение к новой свободе в поступках, так что прежде постыдное становится публичным. От искусства требуется быть современным, но не иначе как “разрушая старые художественные формы”, рационально освобождая русское в искусстве от чувства любви и родства с русским же по духу.
Новая крестьянская поэзия приходит в русскую литературу на сломе веков. Это время предчувствия социального распада и полной анархии смыслов в искусстве. В это время “русский селянин” - разве что ресторанная экзотика или артистическая поза. Ее-то с раскольничьей гордостью принимает Клюев, проклиная “дворянское вездесущее” в своих письмах к Блоку, и примеряет щеголем молодой Есенин, ряженный под пастушка. Позднее он наденет цилиндр, лайковые перчатки. Да и Клюева, когда восклицал, призывая в свидетели Кольцова: “О, как неистово страдание от “вашего” присутствия, какое бесконечно-окаянное горе осознавать, что без “вас” пока не обойдешься!” мучило свое, а не чужое “присутствие”. Это мучительное желание перейти в другую жизнь, стать тем, кем не был рожден, вечно чувствуя себя поэтому уязвленным. Так страдали они все, поэтому бежали из любимых деревень в города, которые проклинали. И об одном в позе страдальца восклицает Клюев, а в другом, страдая, исповедуется Кольцов: “Тесен мой круг, грязен мой мир; горько жить мне в нем”.
Новокрестьянcких поэтов - Есенина, Клычкова, Орешина, Клюева, Ширяевца - открыли и собрали символисты. Время гримасничало - и пришельцы строили те же гримаски; и внесли в русскую поэзию торжественно и чинно своих святых да святыни, идти с которыми было давно уж некуда, но их позвали... Как простенько вспоминал Городецкий: “И я и Блок увлекались тогда деревней”. Своих двойников в крестьянской среде находили народники - нашли и декаденты. Это другая литературная задача. Найти основу. Камень - Бог. Стихи - молитва. Только искали-то как будто поводырей. Вот потому Клюев наставляет Блока, срываясь в своих письмах почти на окрик, а Есенин заявляется для знакомства, не ожидая приглашения. Они - русские, но не одно и не целое, мучительно порывая каждый со своим миром. И каждый по-своему прошли все круги перерождения, одинаково для всех окончившегося созданием демонических поэм. Есенин вырос из всей русской поэзии, в ней воплотился, ее продолжил, как и Блок; но есенинское лирическое “Я” и блоковское эпическое “МЫ” - это плод какого-то неравенства, отрицания. А скоро уже сама Россия перестала быть реальностью и отбросила демоническую тень.
Накануне революции вдруг появляется великое множество энергичных людей, но их энергия - это энергия распада. Все готовы отречься от самих себя, воплотиться в чужое и ненавистное, однако же и самое выстраданное. Это не зависть, а другое... Здесь главное не “иметь”, а “быть”. Это открыл Пушкин: он первым создал то, что называется “народным образом”: его мужик, Емелька Пугачев, действительно был воплощением народа; но не в том дело, что мужик вдруг литературным героем становится и не для этого является такой герой в “Капитанской дочке”. Это роман о революции. О том, как мужик превратился в Царя. Суть всего - подмена, совершаемая ненавистнической любовью, а любовь такая и сама подмена невозможны без двойничества, раскола. Только проходит он глубже. Подлинный двойник Пугачева - Дубровский, то есть униженный в своей любви дворянин, который принимает на себя пугачевскую участь и превращается не иначе как в мужицкого царька со своей армией и даже пушечкой. И вот народ отрекается от помазанника Божьего, а царь от своего народа. Поразительно, как быстрехонько хоронят Россию, будто бесхозный труп, а рождением и жизнью, всем своим существом обращаются в граждан никому неведомой, выдуманной в мечтах страны... У Клюева: “нищий колодовый гроб с останками Руси великой”. Уже-то “с останками”! “Русь слиняла в два дня; самое большее в три”, - писал Василий Розанов. Русская революция похожа на всеобщее бегство, только без паники и ужаса, а радостное и даже праздничное - в мечту о свободе. Даже когда мечта обагрилась кровью - это не устрашает. Революция - кровавое причастие, и все его принимают.
Блок пишет в 1918 году: “Возвратить людям всю полноту свободного искусства может только великая и всемирная Революция, которая разрушит многовековую ложь цивилизации и поднимет народ на высоту артистического человечества”. Мир обожествленный или освобожденный? Этот роковой вопрос - как замкнувшийся круг. Замкнувшийся не отрицанием Бога, а отречением от Христа, подменой Его образа. Это вопрос веры, требующей отречения от Христа. У Клюева: “Ставьте ж свечу Мужицкому Спасу!” У одних вместо Креста - Роза. У других вместо Храма - Изба. Запись из дневника Блока: “О чем вчера говорил Есенин (у меня). <...> Я выплевываю Причастие (не из кощунства, а не хочу страдания, смирения, сораспятия)”. И через месяц там же, в дневнике, запись теперь к своей поэме: “Страшная мысль этих дней: не в том дело, что “красногвардейцы” не достойны Иисуса, который идет с ними сейчас; а в том, что именно Он идет с ними, а надо, чтобы шел Другой”. Они не революционеры и даже в искусстве не бунтари. Мифотворцы, для которых все вершится не на земле... Каждый замыкает круг священный. И все они, кто сделал это в своих душах, в сознании, - священнодействуют. Революция как Литургия. Христос - спаситель для гибнущих, посланный для страдания. Освобождает от страданий Другой - это его время, его революция, его пришествие! Но в конце у Блока и Есенина - ужас безумия, у Клюева - та же смертельная боль. Они страдают, гибнут. Русская история как исполненное пророчество: тайная судьба, запрятанная, - она же неотвратимая, самая подлинная. Одно пророчествовал святой старец. Другое - гений или даже пошлый газетчик. Но каждое пророчество сбывалось. В феврале 1918 года Бунин записывает в своем дневнике: “Это из Иеремии, - все утро читал Библию. Изумительно. И особенно слова: “... Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их”.
Для людей земли революция - это торжество тайной веры. Чудо, когда мужик терпит не один век то, что землица, которой он молится, принадлежит барину, и - вдруг - заполучает ее всю, превращается сам в хозяина! Но получает ее не по труду своему, а потому, что страдал на земле, которой владел и распоряжался, как и жизнью самого мужика, другой. Распоряжался несправедливо, жестоко. Только ненависть мужика как будто и не питалась этим чувством, местью. Тут не просто око за око и кровь за кровь. Если уж хватались за ножи, так вырезали под корень весь барский род. Понятно, за что пугачевцы в “Капитанской дочке” Миронова вешают, - отказался самозванцу присягать, а вот жену его, старуху-капитаншу, за что же “саблей по голове”? Если читать ведомости, которые составлялись после пугачевских погромов, понимаешь, как это было: дворян уничтожали семьями. Такой казни никогда не было на Руси для самих-то “воров”. Братьев, отцов, жен, сестер, матерей, детей... Взрослых мужчин и женщин, подростков, стариков, младенцев... Казнили всех, одним судом. Взрослых умерщвляли через повешенье, а младенцев, которых не щадили, даже если и от роду несколько месяцев, обыкновенным было закалывать. Младенцев!
Когда Пушкин расследовал историю пугачевского бунта, то читал эти ведомости. Он и показал силу темную, страшную. Страшную не способностью, а возможностью так-то казнить. Не зверством, мощью, а правотой и, главное, свободой, с которой может она привести в исполнение такой приговор. А запороли бы разом всех мужиков до смерти - остались бы, господа, без хлебушка! Вот она, эта сила, ничто ее не остановит и никакая месть не утолит. Казнь младенцев - это не символ какой-то жуткий, а достижение высшей цели. Освобождали землю. Только если всех уничтожить, когда даже младенчика не останется на земле, тогда не имущество барское да барские права к тебе перейдут, а само бытие, которое все для мужика в одном слове заключается: земля. А в бытие барском нет никакого смысла для мужика. Иначе сказать, они для жизни, где есть мужик и его труд, нисколько не нужны, потому что лишь присваивают плоды его труда. Поэтому казнь, то есть лишение всех вплоть до младенцев самого бытия, - это исполнение более справедливого закона. “Земля крестьянам!” - вот она, воля Божья. Но это лозунг крестьянской войны, а не революции... Только крестьянская Россия могла истребить русское дворянство - и свой приговор привела в исполнение. Это потом уж отняли все у крестьян, погнали в колхозный рай... Но до того у тысячи родов крестьянских отнято было точно так же, как и они отнимали, все их состояние и сама возможность жить на родной земле. Истребление это, однако, нельзя назвать народной трагедией, потому что и не было для народа в исчезновении этих тысяч и тысяч ничего трагического.
Эти события наблюдал в Полтавской губернии Владимир Короленко и по долгу писателя дал отчет о происходящем в своих очерках “Земли! Земли!” Он писал: “Оставаться в деревне стало опасно не только помещикам, вызывающим в прежнее время недовольство населения, но и людям, известным своей давней работой на пользу того же населения... Порой и там, где у близких соседей не подымалась рука, приходили другие, менее близкие, и кровавое дело свершалось. Так была убита в своей скромной усадьбе семья Остроградских, мать и две дочери, много лет и учившая, и лечившая своих соседей... Когда помещичьи усадьбы кругом пустели, они оставались, надеясь на то, что их защитит давняя работа и дружеские отношения к местному населению... Но и они погибли...” Другой русский писатель, Михаил Пришвин, вел свою летопись тех же событий. Социалист по убеждениям, тоже вдохновленный революцией, он осмелился поехать делегатом Временного комитета Государственной думы в свою Орловскую губернию, где находилась вся его “маленькая собственность” - часть родового имения, хутор, доставшийся в наследство, и по прошествии нескольких месяцев отправляет сообщение за сообщением в Петербург. Сообщения эти становятся содержанием дневника - и это такой же бесстрастный отчет об увиденном: грабеж имущества, захват земли, насилие... После того как в деревнях устанавливают свой порядок, проводят выборы, ведь нужна и власть. Мужики выбирают в сельские комитеты и советы крестьянских депутатов... ранее судимых: “...кому уголовные, а нам хороши”. Пришвин записывает в своем дневнике: “Потом я из расспросов убедился, что явление это в нашем краю всеобщее”. То же читаем у Короленко: “Люди, известные своим уголовным прошлым, теперь смело выступали на первый план, становились на ответственные должности, говорили от имени революции”. Но как утверждают мужички свой порядок? “Захваты совершались без представления об общенародной собственности и общенародном благе”, - писал Короленко. Там же: “Земельная реформа решительно пошла не в сторону общегосударственного дела, а в сторону стихийного захвата. У первого революционного правительства не хватило силы направить ее в государственное русло”. А вот запись Бунина из “Окаянных дней”: “... дело заключается больше всего в “воровском шатании”, столь излюбленном Русью с незапамятных времен, в охоте к разбойничьей, вольной жизни...” Он же: “Народ сам сказал про себя: “из нас, как из древа, - и дубина, и икона”, - в зависимости от обстоятельств, от того, кто древо обрабатывает: Cергий Радонежеский или Емелька Пугачев”.
Повернуть все вспять - к общественной законности, общенародному благу - могло только государство, а его и не было... Российское государство перестало существовать. После “черного передела” земли в 1917 году, когда декрет Ленина разве что узаконил ее самозахват, почти сразу же вводится продразверстка, принудительная сдача крестьянами всех продовольственных излишков для армии и голодающих городов. Отнимали не землю, а возможность торговать хлебом по свободной цене, но деревня пошла войной против новой власти... Крестьянские восстания принудили ее к отступлению, хотя Ленин писал в 1918 году: “Мы скорее все ляжем костьми, чем разрешим свободную продажу хлеба”. Костьми не легли... Продразверстку заменили продналогом, при этом отменяя общую, “круговую ответственность” за его сдачу. Только через десять лет после “победы революции”, в 1927 году, когда создали армию, утвердили устои и границы государства, Сталин провел коллективизацию, цель которой состояла в полной “ликвидации” единоличных крестьянских хозяйств. Теперь уничтожались тысячи крестьянских родов. В одном 1930 году были расстреляны или сосланы в лагеря 250 тысяч крестьян, 500 тысяч стали “спецпереселенцами”, около миллиона человек подверглись экспроприации, то есть лишились имущества. В 1932-1940 годах на спецпоселение высланы около двух миллионов крестьян - взрослых мужчин и женщин, подростков, стариков, младенцев... Отправляли на смерть. От них освобождали землю. Другая сила, но страшная такой же возможностью - казнить миллионы людей. Россия крестьянская надломилась... Она уже не могла себя отстоять: кончилась вековечная вера людей земли в свою силу. Все, что могли, - расправиться с начальниками, уйти в бега. Крестьянские восстания, вспыхивая тысячами, навлекали тотальное уничтожение. Откуда же эта ненужность миллионов людей, обрекающая их на выживание или гибель? Ненужность самого крестьянского труда?
Советское государство было заражено идеей мировой революции. Но освобождение крестьянами земли для себя не было революцией в понимании большевиков, напротив, означало ее конец. Мечта мужика о всеобщем равенстве сбывается, когда он превращается в хозяина. Чтобы продолжить революцию, следовало ликвидировать деревенских хозяев как класс. Индустриализация - такая же борьба с деревней, революционная по своей сути. В земледельческой стране, какой была Россия, половина населения тогда и оказывалась ненужной. Переселение и уничтожение миллионов освобождало огромное жизненное пространство, которое становилось пустотой. Она, эта пустота, есть свидетельство высшей формы нелюбви к реальности, в которой существуют со своей идеей люди земли. Так начатое Белинским, Добролюбовым, Чернышевским, Писаревым, Лавровым, Михайловским продолжили Ленин, Троцкий, Бухарин... А ведь они тоже “литераторы”, подпольные сочинения которых, рассчитанные на массы, стали приговором для России. Они мечтают о мировой революции, как будто о мировой славе, но для этого должна быть уничтожена она, Россия, прекратиться ее история. И если уничтожение русского дворянства не становится, да и как будто не может быть ее концом, то трагедия крестьянской России объяснима может быть только как сверхъестественное прекращение русской исторической жизни. Владимир Cолоухин напишет: “А еще удивляюсь я, как им, если бы даже и с благими (как им, может, казалось) целями, как им не жалко было пускать на распыл, а фактически убить и сожрать на перепутье к своим высоким всемирным целям такую страну, какой была Россия, и такой народ, каким был русский народ? Может быть, и можно потом восстановить храмы и дворцы, вырастить леса, очистить реки, можно не пожалеть даже об опустошенных, выеденных недрах, но невозможно восстановить уничтоженный генетический фонд народа, который только еще приходил в движение, только еще начинал раскрывать свои резервы, только еще расцветал”.
А что же расцветало в советской России? В 1934 году на Первом Всероссийском съезде советских писателей в “мандатных данных” значится: крестьяне - 129, рабочие - 84, трудовая интеллигенция - 47, дворяне - 1. Главным докладчиком был товарищ Бухарин... “О поэзии, поэтике и задачах поэтического творчества в СССР” - вот он, главный доклад. Бухарин обращается к делегатам: “Мы, СССР, - вышка всего мира, костяк будущего человечества”. Это не призыв победить Россию, какой она была, а обращение к победителям. И кто они, это большинство? Крестьянские дети!
Пришествие людей земли в искусство, в его реальность - всегда бунт. Принимая революцию, Есенин, Клюев, Клычков идут в бунт с идеей земли - они поэты крестьянской войны... Бориса Корнилова, Павла Васильева или Твардовского, начиная с их самой молодой веры, подчиняла идея о всеобщем равенстве - это поэты революции... Но мы видим, что крестьянский мир начинает рушиться сам в себе. Сыновья не подчиняются отцам. Они бегут в города, обрывая не что иное, как родовую связь с отцовским миром. Разрыв с отеческим миром, с домом - это утрата, на которую обречен всей своей судьбой крестьянский поэт. Поэтому дух этой поэзии - лирическое бездомье, тоска по родному. Здесь смиряется пафос раскола, бунта и все проникается тихой жалостью сострадания. У Есенина и Клюева - это жалость к матери... У Твардовского и Корнилова - понятная, но и невероятная в своей глубине жалость к бедняку... Это сострадание проникнуто любовью. Любовь - спасение. Спасения души ищут они в своей любви, но, принимая страдания покинутой матери или угнетенных батраков, принимают на себя и тайную, запрятанную в них судьбу, боль смертную. И когда трагедия истории исполняется как пророчество, гибнут ее пророки. Гибнет Есенин - и захлебнется в крови крестьянская война. Настает черед Клюева, Клычкова. В действие вступают силы, которые нельзя остановить. Но гибнут и поэты революции... Корнилов, Павел Васильев... Потому что жалость к страдающему на земле мужику, к бедняцкой доле приводит к восстанию против советской реальности, то есть к собственной вовлеченности в ту же трагедию и гибель.
В 1934 году, обращаясь к победителям, божок революции очень точно указует на этот “гибельный путь”; в докладе Бухарина повстречаются посмертно Есенин с Блоком, которых отлучит он от Революции, как будто от места в раю... О Блоке: “...он воспринимал революцию трагически, но большим вопросом является, раскрывалась ли эта трагедия для него как оптимистическая”. О Есенине: “...он принял только первые ее этапы, или вернее, первый этап, когда рухнуло помещичье землевладение... его настоящее поэтическое нутро было наполненно ядом отчаяния перед новыми фазисами великого переворота”... Соцреализм должен избыть трагизм новой эпохи, создать оптимистический миф о реальности, а по сути - другую реальность. Быть может, только Пушкин понимал, что помещик и мужик равны для русской истории, а стало быть, связаны одной судьбой. Дворяне - это люди земли, только проникнутые идеей служения! Помещик и мужик всегда жили по соседству. Быт усадебный неотделим от быта деревенского. И усадьбу, и деревню уединяла от остального мира природа, а питала земля. Крестьянские дети, призванные в искусство, чтобы разрушить культуру “помещичью” уже после того, как мужики победно истребили дворянское присутствие на своей земле, вдруг становятся ее продолжателями, потому что наследуют трагедию людей земли. Воспевание “русского начала” - вот приговор. В тридцатые годы его приведут в исполнение, уничтожая крестьянских поэтов как “идеологов кулачества”.
Реальность крестьянской России открыли Пушкин, Толстой, Лесков, Тургенев, Бунин... А воссоздали - Абрамов, Солженицын, Тендряков, Можаев, Залыгин, Носов, Солоухин, Астафьев, Белов, Лихоносов, Распутин, Шукшин... Почти у каждого биография начинается с одних и тех же слов: “родился в селе”. Это дети уничтоженных крестьянских семей. Почти каждый рос без отца, познавши если и не полное, то все же сиротство. Судьбы отцов были мучительно трагичны для сыновей, а судьбы расстрелянных или посаженных по несправедливому приговору суда делали их чужими себе и всем. Многие начинали работать чуть ли не раньше, чем писать и читать. Сиротство, голодные годы, недетский труд, война - еще до взрослых лет; начиная жить, они испытали все то, что вмещало в себя страдальческий народный опыт, который даже не назовешь “жизненным”. Но они-то выжили. Должны были погибнуть, как отцы, но выжили, осознавая себя в череде смертей и рождений последними. Их биографии схожи, созвучны эпохе. Но когда опыт их жизненный получит свое художественное воплощение, то окажется вдруг каким-то нарочито отдельным - или, точнее, будет рассмотрен и воспринят как отдельный.
Пишут о “деревне” - значит, о колхозной жизни, но писали-то о русской земле. Платоновский сокровенный человек - это человек земли. И написанное Шолоховым написано было о людях земли. Она - тот же темный вечный космос, только еще более непостижимый. “Чевенгур” и “Тихий Дон” появляются как будто из ее живой органической массы. Весь этот эпический пласт, вышедший наружу, должен был двинуться дальше, но не силой литературной традиции... Появление эпических произведений о народной жизни было неизбежно, потому что она переполнилась страданиями. Страдали миллионы людей. Эпос рождается, когда в народе возникает всеобщее историческое чувство, будь это великая победа или великое поражение, которые меняют его историю, в которых воскрешается или же уничтожается он сам. Эпос - звучащая история. Его герой - образ народной силы. Он богатырь, заступник, а значит, правдоискатель; он борец, а значит, воин, в одиночку совершающий свои подвиги, будто чудеса. Мы видим родовые богатырские черты в героях “Чевенгура” и “Тихого Дона”. Но эпическим героем в начале XX века становится гибнущий человек, а в мифологическую схватку добра и зла вторгается реальность, в которой брат идет на брата, едины и жертва, и палач. В хаосе братоубийственной войны странствуют по России, умытой кровью, Копенкин и Мелихов. Пролетарская кобыла и казачий конь несут своих обессиленных печальных рыцарей по убитой земле. Они ищут справедливости для всех, вершат свой суд, а жизнь их исчезает и теряется, силы уходят. “Чевенгур” и “Тихий Дон” - это книги исхода. Они обрываются, как сама история, а пространство их эпическое как будто покрыто трещинами разлома. Оно стремится к распаду на какие-то бессвязные фрагменты бытия. Уже из бездны народных страданий и хаоса поднимаются Иван Денисович и Матрена, Иван Африканыч, распутинская Дарья, астафьевский Аким, можаевские старица Прошкина и Федор Кузькин... Наделенные той же богатырской духовной силой одинокие праведники. Как и герои эпоса, они приходят из языка, мышления и души людей земли. Но “Один день Ивана Денисовича”, “Матренин двор”, “Плотницкие рассказы”, “Прощание с Матерой”, “Живой” - произведения, не прямо обращенные к эпическому прошлому и к национальному преданию. На смену художественному вымыслу в них приходит художественное исследование личного опыта. Это свидетельство о жизни, во многом документальное. Новых писателей объединила не крестьянская тема, заявленная еще до них, а энергия нового жизненного опыта. Вот почему рассказы и повести разных авторов, казалось бы, обособленные в своих публикациях и невеликие по форме, прочитываются как целое или, иначе, становятся собранной в духовное и художественное единство прозой.
Это не приобщение разных авторов к эпической традиции, а эпическое единство судеб. Михаил Бахтин называл эпос “поэмой о прошлом”. В это эпическое прошлое превращается память, но не взрослая, а детская. Они остались в своем детстве. Это уже не лирическая тоска по родному, а трагическая память о родном. Они мучительно переживают свое сиротство, то есть уничтожение “отцовского мира”, что становится эпическим “миром отцов”. С детской памятью о себе самом пишут и о наступающем современном мире. Это пророчество о гибели крестьянской цивилизации в том мире, который сам должен погибнуть, потому что революционное обновление основ человеческого бытия вторглось в Божий замысел, обезобразило людей и землю. Такое мышление, для которого “память, а не познание есть основная творческая способность”, в своей работе “Эпос и роман” Бахтин определил так: “Для эпического мировоззрения “начало”, “первый”, “зачинатель”, “предок”, “бывший раньше” и т. п. - не чисто временные, а ценностно-временные категории, это ценностно-временная превосходная степень, которая реализуется как в отношении людей, так и в отношении всех вещей и явлений эпического мира: в этом прошлом - все хорошо, и все существенно хорошее (“первое”) - только в этом прошлом. Эпическое абсолютное прошлое является единственным источником и началом всего хорошего и для последующих времен”. Для “деревенской прозы”, ее героев и создателей мир един как “абсолютное прошлое”. Но соединяет разорванное эпическое пространство в единое целое детская память о самом себе, то есть пронзительный и глубокий лиризм, собственный опыт как бы пребывания в этом “абсолютном прошлом”. Оно - покров, тайна, царствие небесное, иная и подлинная, но уже не достижимая в настоящем времени реальность. Путь к ней - воскрешение души через смерть. Связь с нею - молитвенное обращение к вечному.
Лирический эпос о русской деревне ворвался в советскую литературу в 60-х годах со страниц “Нового мира”... Эпос начинался там, где выдыхалось лирическое бездомье. Тогда же кончается век крестьянских поэтов и наступает литературная эпоха, в которой главное слово скажут крестьянские писатели. Обращение к всеобщему, национальному началу в поэзии Клюева и Есенина было вызовом собственной судьбе. Крестьянские писатели в советской литературе могли получить разрешение на обращение к русскому началу в деревенской теме, и можно сказать, что они подчинились этой теме. Общая тема даже не маскировала, а как будто подменяла то, что было эпическим единством. Иначе сказать, происходило превращение национальной литературы в некое узкое социальное направление литературы советской, у которой не могло быть никакой национальности. Само понятие “деревенская проза”, как и другое, “деревенщики”, возникло в советской литературе, следовательно, этой литературе было необходимо. Для русских писателей, которых оно объединяло, это было тягостно: так называемая “деревенская проза” словно лишает их собственных имен, выделяет в побочное направление литературного процесса. Они не соглашались с этим понятием, никто. Однако, вставая на защиту русской деревни, сами же понимали свое единство как идейное.
Советская литература должна была воздвигнуть оптимистический миф! А все, что они помнили, переосмысливало советское прошлое. Трагизм этой прозы и переходил в разряд “социальной проблематики”. Самая яростная критика колхозов оказывалась борьбой с недостатками, то есть желанием что-то в колхозном советском строе улучшить. За весь огромный срок, начиная с шестидесятых, в деревенской теме не было произведений или статей, запрещенных к публикации, а тем более пущенных по воле авторов в самиздат, то есть в обход цензуры. Только Солженицын выбрал другой путь, и у Владимира Солоухина оказалось не издано в советское время несколько документальных работ. Да, кромсала цензура... Да, грозили взыскания партийные, начиналась газетная травля, задерживался на годы выпуск новых книг... Но все было так или иначе издано, увидело свет! А что же пускали в печать? Вот статья Федорова Абрамова, “Чем живем-кормимся?”, опубликованная как открытое письмо землякам в газете “Пинежская правда”, а сразу же после того, хоть и с вынужденными сокращениями, в главной партийной “Правде”... Читаем: “А почему телята ежегодно гибнут в Верколе? Я не поверил было, когда мне сказали, что за июль этого года пало восемь телят. И отчего? От истощения. Среди лета, когда трава кругом. И что же? Забили веркольцы тревогу? Меры неотложные приняли? Нет. Успокоили себя острым словцом: телят окрестили смертниками, а грязный смрадный телятник, в котором круглые сутки томится молодняк, - концлагерем”. Вот и мы теперь бы, наверное, не поверили, что такое можно было прочесть в 1975 году на страницах партийной газеты... Можно было. И распутинское “Прощание с Матерой” можно было прочесть - с душераздирающими сценами мародерства на затопляемом островке деревенской жизни, - если уж не в партийной газете, так под обложкой советского литературного журнала. И всюду в многочисленных и вызывающих для своего времени публикациях представали эти жуткие символы национальной трагедии. Когда уже в девяностых, во времена свободы печати, такой же телятник, то есть колхозный концлагерь наших дней, описал Борис Екимов в своей повести “Пиночет”, казалось, все давно позабыли, что деревни эти русские есть до сих пор на земле, как позабыли и о том, что можно писать такую беспредельную правду! Но это трагедия, в которой повинен оказывался сам же народ своим равнодушием. Можно было выискивать в русском национальном характере червоточины и, взывая к высокому моральному облику советского человека, будить и будить совесть человеческую... Кто писал об этой трагедии, все переживая, писал-то с болью за свой народ. И опубликованное тот же Федор Абрамов объяснял уже куда более откровенно в одном своем частном письме: “Я считаю, что в наших мерзостях немалая заслуга и нашего великого народа. И потому я всю жизнь кричу: встань на ноги! Оглянись кругом. Не давай каждой сволочи ездить на себе”.
Они все знали, кричали криком в партийных газетах, с трибун писательских съездов... Это была не та правда, что утверждала себя словесной полемикой, а правда жгучая, когда перед глазами вставала сама реальность... “Новый мир”, казалось, был какой-то лазейкой для самых бесстрашных - и авторов, и читателей - в эту реальность. Главное усилие - пробить в печать. Считается, что в этом и был редакторский подвиг Твардовского. На самом деле произошло другое. Умолчание не было законом. Иначе сказать, непонятно было, что же находится под запретом. Да, боялись писать, боялись публиковать... Но вот осмелился Платонов написать свою бедняцкую хронику, принес в журнал, написанное ушло в набор, находились же и в журналах смелые люди или идейные растяпы, и только потом, когда напечатанное попало на глаза Сталину, оказалось прочитано, был осужден одним его росчерком, а осуждение вождя, то есть партийного руководства, и принимало силу закона. В другое время Хрущев посочувствовал Ивану Денисовичу... Брежнев плакал, когда смотрел “Калину красную”, - и картину пустили на широкий экран... Твардовский публикациями “Нового мира” при новом партийном руководстве не вышел за пределы дозволенного, а разведал все его пределы как первооткрыватель. Запретные зоны, что должны были окружаться молчанием, обретали свои очертания только при попытках к бегству. Потом уж цензура, как могла, устанавливала свой заслон, но и тогда как-то наугад, как будто пытаясь почувствовать, понять, дознаться, где же могут пронести что-то запретное, и поэтому большинство запретов оказывалось такими нелепыми.
Твардовский был проводником для русских писателей в советскую литературу. Он выводил из литературного подполья или от него же уберегал, не веря, что литература может иметь будущее без читателя. Но, главное, он верил, что если простить революции ее прошлое, то в России все еще можно поправить. Для Твардовского главной была возможность публиковать честную литературу о жизни, чтобы помочь исправить ошибки. Возможности всегда нужно добиваться, пройдя путь уступок и соглашений. Чтобы уступила власть - уступить власти. В понимании Твардовского это не сговор, а некий общественный договор художников с властью. Искусство отказывается от мятежа... Государство - от подавления тотального человеческой воли... Но, жертвуя свободой ради правды, а правдой ради какой-то свободной жизни, русские писатели оказались в подполье духовном. Как ни парадоксально, это духовное русское подполье было одним из самых необходимых условий для существования советской реальности. Оно лишало русскую духовность бытия при том, что в борьбе советского с русским, русского с советским она уже заявляла себя как “прошлое”.
Для Твардовского все кончилось, когда перестал существовать “Новый мир”... Федор Абрамов вспоминал: “Ему казалось, что стоит только прикрыть “Новый мир”, и в стране разразится что-то вроде землетрясения. А этого он не хотел. Повторяю, он был законник, государственник, ортодоксальный член партии, депутат, и всякие эксцессы ему были не по душе. Но что же? “Новый мир” закрыли, а землетрясение, общественный взрыв... Этого не произошло. Пришло несколько сочувствующих писем - и все. Ни демонстраций, ни бурных протестов. И это было потрясением для Твардовского, крушением всех его просветительских иллюзий”. Столько лет журнал читали в стране, столько честных публикаций в нем состоялось, а в жизни людей ничего не поменялось? Так или иначе для этих людей, то есть своих читателей, журнал не оказался силой освобождающей. Но ведь и авторы собирались в редакции, подписывали какие-то обращения, а потом разбрелись по углам, даже сотрудники как-то устроились, притихли. Мятеж не вспыхнул. Твардовский остался в одиночестве.
Проза “Нового мира” была отражением его души, а сокровенным желанием - начать писать ее, прозу. Твардовский говорил о себе: “Я, в сущности, прозаик”. Еще в тридцатых написал повесть о колхозной жизни, брался за прозу и потом, а под конец задумывал роман. Но если относиться всерьез к тому, в чем он сознавался, очевидно, без всякого лицемерия, то понятно одно: открыватель новой литературной эпохи, он сам оказался в тупике, мало что успел сделать в слове и не смог даже пережить это время. Для него все закончилось поражением уже тогда, в шестидесятых. Закрытием журнала, осознанием собственного бессилия, ненужности. Он прекращает работу над поэмой “По праву памяти” в 1969 году, когда теряет надежду, что ее можно будет опубликовать. Поэма, обращенная к своему читателю точно бы из прошлого, остается недописанной. Он уходит из жизни, окруженный пустотой, и оставляет как будто последние строки:
Допустим, ты свое уже оттопал
И позади - остался твой предел,
Но при тебе и разум твой, и опыт,
И некий срок еще для сдачи дел
Отпущен - до погрузки и отправки...
Нет, лучше рухнуть нам на полдороге,
Коль не по силам новый был маршрут.
Без нас отлично подведут итоги
И, может, меньше нашего наврут.
Слова его всегда ясны, просты. В тех, что произносятся как последние, где нужно сказать о конце всего пути, выносит приговор только себе. “Лучше рухнуть”, жить не по силам... А кому по силам? Да и кто остался с ним, о ком это он, погибая: “нам”, “без нас”, “меньше нашего”? Рухнет. Будут помнить о нем, вот как Абрамов свято помнил, даже возвышая до пушкинского пьедестала. Только ту минуту, последнюю, делить окажется не с кем... Твардовский, наверное, выше всего хотел, чтобы разделили с ним эту минуту, вот как хлеб и воду, и это стало бы оправданием для него самым важным, оправданием того, о чем, израненный, стонет в глухом одиночестве: эх, ребята, некуда жить, все кончилось!
Быть может, имея на то право, в своих “очерках литературной жизни” Солженицын отзовется о его уходе: “Так погибли многие у нас: после общественного разгрома смотришь - умер. Есть такая точка зрения у онкологов: раковые клетки всю жизнь сидят в каждом из нас, а в рост идут, как только пошатнется... - скажем, дух”. Это обвинение в малодушии Солженицын сам же покаянно переосмыслит. “Богатырь” - озаглавит он поминальное слово к 90-летию со дня рождения Твардовского. И вот о гибельном его пути: “Он ощущал правильный дух - вперед; к тому, что ныне забренчало так громко, он был насторожен ранее меня. Лишь теперь, после многих годов одиночества - вне родины и вне эмиграции, я увидел Твардовского еще по-новому. Он был - богатырь, из тех немногих, кто перенес русское национальное сознание через коммунистическую пустыню, - а я не полностью опознал его и собственную же будущую задачу”. Но в том времени, о котором почти как о библейском вспоминает Солженицын, русское национальное самосознание перенесено было разве что со Cтрастного бульвара на Цветной, то есть из “Нового мира” в “Наш современник”. Там, на новом месте, с начала 70-х годов дружно печатаются Абрамов, Астафьев, Белов, Залыгин, Лихоносов, Можаев, Носов, Распутин, Солоухин, Шукшин... Тогда зачем нужно было уничтожать “Новый мир”?
Да, ужесточался политический режим... За написанное начали сажать. Уже арест Синявского и Даниэля в 1965 году был предупреждением для творческой интеллигенции, а после Пражской весны, когда свободолюбие таких же интеллигентов вдохновило народное восстание, вся она оказалась под подозрением... Под надзором было каждое сколько-то заметное идейное направление в литературе, поэтому с “Молодой гвардией” или “Новым миром” власть состояла в одинаковых отношениях, а возможность какой бы то ни было полемики регулировалась самой властью. Если в свое время возможность публикации “Одного дня Ивана Денисовича” не устрашила Хрущева, то споры и скандальная шумиха, ею поднятые, перерастающие в общественный конфликт, вызывали у партии скрежет зубовный. Полемика по своему определению может быть только деятельной, открытой - и выпускала наружу множество противоречий, заражала духом борьбы, то есть становилась выходом из подполья, превращая все в действие, в сопротивление. Но удар был не только по “Новому миру” и его направлению... После замены Твардовского и его редакции подобные события произошли в “Молодой гвардии” и “Юности”. Сама власть отказывалась терпеть разномыслие интеллигенции. Произошло единовременное прекращение публичной общественной полемики по всем направлениям и вопросам.
Если русское духовное подполье было этой власти необходимо, то полемика, которую порождал “Новый мир”, становилась для нее опасной, совершенно не управляемой уже потому, что выплескивалась за пределы страны. Но суть даже не в том, какую полемику и с какими силами вел “Новый мир”: журнал Твардовского стремительно становился мифом, что разрастался не по дням, а по часам... Главное - на страницах “Нового мира” русское национальное самосознание соединялось с протестом интеллигенции. Достаточно было Солженицына, чтобы понять, какие потрясения ждали СССР, если бы с жаром политической оппозиции, такие же запрещенные и гонимые, вышли бы, как со дна морского, все до одного богатыри, посланные собственной русской судьбой как великое возмездие революции... Этот миф самого Твардовского пугал, но он уже ничего не мог остановить. Твардовский видел и осознавал происходящее с журналом отстраненно, как будто в отражении, которым становился Солженицын. Что он мог сделать? Читай “Бодался теленок с дубом”: умолял своего автора пощадить журнал, якобы тот тащил его за собою в пропасть, не желая понимать, что этой пропастью была сама история. Он думал да и гордился тем, что у всех на глазах творит историю русской литературы, а это была история, та всеобщая воля, что сама вершила судьбы. Обрушить Твардовского нужно было, чтобы прикончить этот миф. Однако в тот момент, когда вершилась история, Твардовский не пошел вперед. Он не увидел там, впереди, будущего. Только новую кровь, новую революцию... Вот что оказалось не по силам, хотя шли и шли по коммунистической пустыне, пока не дошли до ее конца... Дети уничтоженных крестьянских семей, они впитали ненависть к революции и ужас перед ней с материнским молоком. Солженицын шагнул вперед - он не чувствовал этого ужаса; да и простого страха лишился в лагерях, там же обретши волю, решимость, право, чтобы мстить этой революции, не прощать, судить... Правда дает такую свободу, и тогда уж cама русская литература будет творить историю.
После удара по журналу тот раскололся как будто по уже намеченной трещине. Твардовский рухнул, но пути дальше не было ни для кого в этом подполье. В конце коммунистической пустыни Солженицын сам же подводит такой итог, провожая Бориса Можаева: “умирать - еще не легче ли, чем остаться”. Твардовский ушел первым, когда они еще не верили, что то же самое произойдет и с ними: все оборвется словно на полдороге, их окружит чужой злобный мир, они останутся в одиночестве, а ни сил, ни веры уже не будет - только стоны, жалобы, проклятья. Они должны были все изменить... Могли... Хотели... Но, чтобы побеждать, нужна схватка не на жизнь, а на смерть. Быть может, если бы их начали тотально запрещать, а ведь было за что; если б даже не поставили к стенке за “русское начало”, как тех, кто был до них, а хотя бы притиснули, тогда рассеялся бы ужас, нечего стало бы терять... Но советская власть с щедростью возмещала потери. Награждала, отдавая долги писательской славой и благополучием за все страдания, унижения... Она не могла вернуть того, что уничтожила и разрушила. Взамен погибшее и погибших позволено было оплакать, пряча все в себе, пряча самих себя, настоящих. Власть душила их в “Новом мире” - и давала ожить в “Нашем современнике”, как будто уступая силе, которой не было. И тогда их обмануло, что пал “Новый мир”, а они устояли. Но это и значило, что уже тогда ничего на них не держалось... Они прощали, потому что были прощены. Жили, потому что можно было жить. Они все терпели, покорные той же воле, с которой продолжал свою историю русский народ! Почему все терпящий? Кому покорный? На эти вопросы они дадут ответ своим творчеством. И если пронесли через коммунистическую пустыню русское национальное сознание, но не вывели к новой жизни свой народ, то потому, что пошли за своим слепым народом, разделив до конца его судьбу.
Этого не скажешь о Солженицыне. Вот уж кто не стерпел, кто не прощал, выкрикивая свое “слепые поводыри слепых”... Только удивительно, что одиночество Твардовского видел он в самом трагическом свете, а своего не осознавал как поражения, хоть остался один. Ведь оно-то, одиночество, казалось, и возвысило его. То был самообман человека, который верил только в себя. Он устоял, он в ответе за все и за всех, ему по силам... И никогда бы Солженицын не смирился с мыслью, что цель его недостижима в одиночку. Так не смирился он с тем, что поражение Твардовского - это и его поражение. Писал: “Есть много способов убить поэта. Твардовского убили тем, что отняли “Новый мир”. А что сделали с ним, разве это не было самым точным по цели способом убийства всего того, к чему он готовил себя? С каким бесстрашием Солженицын готов был идти на крест, с такой же убежденной верой заявлял, что смерть его станет самой страшной карой для его же убийц... “План состоит в том, чтобы вытолкнуть меня из жизни или из страны, или отправить в Сибирь, или чтобы я “растворился в чужеземном тумане”, как они прямо и пишут”. И наготове собственный план: “Тотчас после моей смерти, или исчезновения, или лишения меня свободы необратимо вступит в действие мое литературное завещание” и “начнется главная часть моих публикаций, от которых я воздерживался все эти годы”. Но после высылки Солженицына из страны публикации на Западе все равно начались, да к тому же он оказался на свободе. Значит, это их не пугало. Того они страшились, что могло сделать его для людей бесконечно близким... Покаянной людской веры... И все долгие годы своего изгнания Солженицын уже не мог коснуться душ русских людей
Изгнание обернулось добровольным творческим заточением. Оно было необходимо Солженицыну, чтобы исполнить cамое сокровенное: он приступает “к заветному и главному роману о революции”, пишет “Красное колесо”. Роман о революции и есть русский роман во все времена. Это роман о России и ее судьбе. Это главный роман Пушкина... Главный роман Достоевского... И главные романы русской литературы XX века: “Чевенгур”, “Тихий Дон”, “Доктор Живаго”, “Архипелаг ГУЛАГ”... Все должно было продолжиться. Глубокое, чистое, ровное дыхание русской прозы они переняли, воскрешая смысл деревенской жизни, собирая в целое земного бытия ее свет и воздух, обретая заново родное. Но родное - это и души погубленных, взывающие к возмездию в своих детях. Страна советская оказывалась тогда уж шекспировским “датским королевством”. Каждый из них был Гамлетом, только слышал зов не одного, а тысяч и тысяч погибших. Однако с каким злом они вступали в поединок? Ответ на этот вопрос важен сам по себе... Для крестьянских детей, чьи семьи были уничтожены, революция и есть зло, имеющее какой-то изначальный план, осуществляющийся в истории. Это национальное поражение, и таким видят они зло, привнесенным извне. Революция в таком взгляде - это уничтожение человеческой памяти. Русский народ утрачивает память о самом себе и тогда наследует советский миф. Память искореняют в человеке забвение, ложь, если уж не уничтожается сам человек. Они были свидетелями этого уничтожения. Поэтому главным становится требование “всей правды”, как это напишет Солженицын.
Попытки писать о крестьянской войне начинаются уже в шестидесятых; пример тому повесть Сергея Залыгина “На Иртыше”, опубликованная “Новым миром”, в которой история крестьянского сопротивления в Сибири вплетается в семейную хронику и маскируется официальной советской темой. Деревенская проза стояла на эпическом единстве судеб ее героев, а роман о революции - это уже другое задание, не выполнимое без поворота к эпическим замыслам. В советской литературе такой большой темой становится история коллективизации. Вот как определяет ее в то время еще один близкий к этой теме писатель, Василь Быков, отзываясь на повесть Залыгина (“Cвидетельство эпохи”): “Величайшая ломка в сельском хозяйстве, когда вековая крестьянская страна Россия обобщила свои измельченные малоземельные хозяйства и приступала к устройству неведомой, загадочной и пугающей своей неизвестностью коллективной жизни, - это стало темой повести “На Иртыше”. Но и не только этой повести... Потом были “Кануны” Белова, “Любавины” Шукшина, “Пряслины” Абрамова, “Мужики и бабы” Можаева... Растянутые в хроники крестьянских семей, задуманные как огромные эпические полотна, все эти произведения уже не соединялись в целое. Можно сказать, что происходила романизация коллективного эпоса - или того, что было “деревенской прозой”, но не получалось и романов; или даже так: в литературе не появился новый “Тихий Дон”. Все эти произведения писались долго, но остались как будто неоконченными, время в них так и не обрело формы.
Можно подумать, что их задержало время советское, под гнетом которого авторам приходилось больше таиться, чем писать. Только вот “Час шестый” Василия Белова и крестьянская эпопея Можаева оказываются окончены почти в одно время с “Красным колесом”, на рубеже девяностых годов. Но даже эпопея Солженицына, от которого ждали каждой новой строчки, писавшаяся со всей свободой, осталась до сих пор, спустя десятилетие, непрочитанной. Здесь даже не скажешь о каком-то “непонимании”, потому что главные, казалось бы, для своего времени “романы о революции” совершенно из него-то и выпадают. Это тем более поразительно, что речь идет, по сути, об исторических романах, а к такой литературе самой по себе во всякое время читательский интерес велик. При этом читаются “Матренин двор”, “Живой”, “Плотницкие рассказы”, хоть в них едва угадываются исторические реалии, да и созданы они в тисках советской литературы. Причина такой даже в чем-то сверхъестественной остановки во времени не одного, а чуть ли не всех национальных писателей, обладавших огромной творческой силой, конечно, не могла быть внешней, но только внутренней. Она заключалась в самом задании, когда они все обратились к одной исторической теме, внутри которой наткнулись на неизбежные для себя тупики. Кому-то не хватало культуры для понимания ее общечеловеческого смысла. Другие срывались в публицистику, в которой теряли себя как художники. Но главное, главное... Русское принимало в их творчестве форму идеологии. Они начинали создавать cвой миф о русском народе. Этому мифу нужен был герой. Ведь и раскрытой большая тема крестьянской литературы могла быть только в новом герое. Какой герой и почему он приходит тогда уж как главный человек?
В литературе на первый план во всякую эпоху выходят люди, говорящие последнюю правду. Они приносят себя в жертву, открывая людям тайное, обреченные сказать о мире то, что он есть, и погибнуть в его огне. Они не жильцы на этом свете, они всегда лишние. Все герои русской литературы избыли себя до кровиночки в русской жизни. Они сгорают в ее топке. А те, что остаются, живут, видоизменяются и плодятся, образуя собственно народ, маячат безликой массовкой.
А какую тайну открыли герои этой прозы? Самый ожидаемый и простой ответ звучал так: душу народную... Народный герой вышел из массовки. Человек из народа - это как лицо из толпы. Но в момент появления Ивана Денисовича, хоть его, казалось, не ждали, физиономия народного героя была уже вполне узнаваемой и во многом литературной. О своем народе в России со времен Радищева узнавали исключительно из литературы. У Толстого или Успенского герой из народа к тому же смешивался с народом. Иначе сказать, “олицетворял”. Понять хотели, конечно, крестьянскую психологию и обманывались, потому что литература отражала только столкновением с ней да и далека была от деревни с ее жизнью. Тут уж скорее Толстой все же написал не мужика, а солдата из мужиков. Один выпуклый и яркий образ из простонародья - Каратаев. Все в нем одном - народный характер, сила, дух; и ничего того, что возвышает, наполняет человеческую жизнь высшим смыслом. О смысле своей жизни задумываются уже деревенские герои Солженицына, Можаева, Распутина, Белова, Шукшина... Простодушная философия жизни, вся эта каратаевщина, утыкается в их душах в тупик, делается жизненной драмой. В этих героях появляется личность, личное, а тогда и высший смысл, и психология. Однако в литературную реальность герой приходит не сам по себе, а с толпой себе подобных, со всей своей средой, тогда и обнаруживая гибельное одиночество... Он чужой среди своих. Это народный герой, исключенный тогда уж из общей народной жизни.
Одиноки потому, что наделены волей, силой... Так вот и Кузькин у Можаева, и Иван Африканович у Белова - с виду высохшие никудышные мужички, а в работе наделены невероятной силой, которая неизвестно откуда берется. Как будто гибнет огромное дерево, падает, подрубленное под самый корень, но корни, что остаются в земле, врастают еще глубже, живут, хоть больше ничего и не держат на себе и не скрепляют, кроме дурацкой неживой “колхозной системы”. Сила такого мужика - в борьбе за самого себя. Это жизнь в поисках лучшей доли. Но для себя одного, чтобы cвоим умом жить. В то же время не может устроиться, как все, - характер в нем такой, заковыристый, но и какой-то избыток силы крестьянской, которой уж нет в других. Нет ее в сельском начальстве - вроде бы властное, нахрапистое, оно беспомощно скукожилось в своем партийно-билетном рабстве. Нет в колхозничках, которых хватает на то, чтобы обогатиться лишним куском. У Кузькина того же не хозяйство, а дыра, ведь когда за неуплату налогов придут имущество описывать, то найдут в избе один старый бессмысленный “велосипед”. Пусто в избе у Ивана Африкановича. Пуст и Матренин двор.
Изгоями в русской деревне становились люди ленивые, равнодушные, слабые, и отчуждало их само же крестьянское общество, сплоченное хозяйским отношением к земле. И в героях деревенской прозы дается нам совсем уж обратный пример, и мы видим, что в советское время бедность достается в уплату за трудолюбие, а лишними оказываются люди самостоятельные и сильные духом. Они изгои добровольные, эти русские люди. Живут на отшибе, держатся в особицу. Сами по себе. Чудики, правдоискатели, они воспринимаются окружающими враждебно, потому что вмешиваются в общую жизнь в стремлении все понять или всех уравнять перед законом. А в Бога не верят. Сознательно все они безбожники. Единоличники даже по вере своей, понимающие Бога с его судом как “начальство”, готовые и этому начальству, небесному, возразить. Так ухмыляется Кузькин, когда слышит: “Терпение - это Бог в нас”. Но терпел - и будет терпеть. Или вот как Иван Африканович, который Библию сменял на гармонь, чтобы жизнь сделать повеселей, и сам твердит “жизнь есть жизнь”, ходит под Богом. А взбунтуется, вырваться захочет на свободу, на себя одного понадеется - будет самой же этой жизнью наказан. Великая тайна народной души - ее терпение. Казалось, определяющее, что увидели в своих героях, - это терпение. Только вот терпеть - значит для героев этой прозы найти в себе силы к сопротивлению.
Эта жизнь, эти герои не были выдуманы. Призванные сказать правду о гибнущих деревнях изобразили вдруг в своих мужиках и бабах силу удивительную, непокоримую, исходом для которой, однако, становится бессмысленное исчезновение. Чудики сгорают, бросаясь, как мотыльки, на неведомый свет. Правдоискатели, чья и так тяжела судьба, калечатся, несут в себе разрушительный дух сиротства, бездомность. Праведники гибнут. Трагедия крестьянской жизни оказывается в том, что ее невозможно прожить в одиночку, как будто человек в этой жизни такая вот пчела или муравей, существование которых подчиняется только общей цели и не имеет без нее смысла. Порушили муравейник... Разворотили улей... Все опустело, но нельзя опустошить никому и никогда этой великой цели! Вот почему пчелки эти да муравьи - соль русской земли. Только они связаны с ней притяжением этой цели, только они свято подчинятся ей, соберутся в целое и своим трудом примутся возрождать порушенное да разоренное, однако не в силах будут ничего изменить и обновить в том, что построят, то есть нарушить вековечное задание. Они должны погибнуть или построить такой же муравейник, не отличимый от когда-то порушенного, такой же улей. Все вернут на свое место, данное свыше, на круги своя. Они и есть народ, хранители земли, ее трудолюбивые и преданные дети, хоть со всех сторон их-то жизнь кажется бессмысленной, механической, абсурдной, рабской.
Взгляд крестьянских писателей не был посторонним, но в мытарствах деревенских героев изображаются только абсурд, механическая, бессмысленная жизнь людей на отнятой у них земле. В жизни колхозных муравейников они увидели непроглядную черноту, а единичные примеры хорошего, как в публицистике Можаева, все обращены к опыту, перенимаемому из прошлого. И, даже защищая деревню реального времени, сам уклад деревенской жизни, как будто оберегали прошлое. Здесь опять же обнаруживает себя то мышление, для которого прошлое является единственным источником и началом всего хорошего, но скрыто в нем прежде всего глубокое неприятие новой реальности. Это значит, что они не хотели принять реальность новой деревни: победу в ней веления государства над хотением мужика и даже последующую сокрушительную победу колхозников над государством, когда они уже с выгодой для себя разваливали дармовое “сельское хозяйство”. А глядя на колхозный муравейник, не могли найти объяснения, почему же люди не ищут для себя из него выхода, как смогли прижиться и что такое на земле родимой строят... Солженицын: “Долгие десятилетия мы истощали колхозную деревню до полного отобрания сил ее, до полного отчаяния - наконец, стали ей возвращать ценности, стали вполне соразмерно платить - но ПОЗДНО. Истощены ее вера в дело, ее интерес. По старой пословице: отбей охоту - рублем не возьмешь”. Абрамов: “Исчезла былая гордость за хорошо распаханное поле, за красиво поставленный зарод, за чисто скошенный луг, за ухоженную, играющую всеми статями животину. Все больше выветривается любовь к земле, к делу, теряется уважение к себе”.
В этом честном взгляде честных людей заложены все же своя идеология и даже психология. Их одержимость идеей возрождения русской деревни была не чем иным, как скрытой мечтой о крестьянской власти, сущность которой, по определению Чаянова, и состояла в “утверждении старых вековых начал, испокон веков бывших основой крестьянского хозяйства”. Эта идея могла быть осуществимой только со сменой самого типа власти в России, где землей распоряжалось гигантское государство, постоянно нуждавшееся в мобилизации всех своих ресурсов и, как следствие, в модернизации. Крестьяне во все времена стремились скрыться от его присутствия, обособиться, а в сопротивлении этом зарождались и возникали уже своего рода потайные формы жизни, законы, понятия. Это тот самый “огромный резервуар реакционности” - и психологической, и идеологической - наполненный прежде всего отрицанием каких-либо новых начал. Поэтому все новое вводится принудительно, то есть приводится в исполнение государственной машиной со всем ее арсеналом тупых и бездушных мер, отчего даже разумные решения доводятся до абсурда, достигая обратной цели. Поэтому источником крестьянских возмущений, от малых до великих, когда это сопротивление превращалось в открытую борьбу, было всегда недовольство новым. По сути, это значит, что приемлют один порядок - CВОЙ и только одну власть - СВОЮ.
Вот что вынашивалось, передавалось от дедов и отцов: знание того, как все должно быть устроено... Когда крестьяне получили по царскому манифесту от 17 октября 1905 года свободу слова и собраний, то во всеуслышание предъявляли свои требования к государственной власти. Вот одно из обращений, которых были тысячи и тысячи: “Приговор сельского схода крестьян с. Аграфениной Пустыни Рязанского уезда... Земля должна быть ничьей, а общей, потому она божья и не может быть создана человеком, поэтому пользоваться землей может всякий, кто захочет заниматься земледельческим трудом”.
Жить по этому порядку мужики начинают тайком, то заводя “дальние пашни”, чтобы не платить податей, то пускаясь в бега, не признавая над собой никакой власти, поэтому крестьянская жажда справедливости веками уживалась с обманом и своеволием. Поразительно, но при всем своем трудолюбии и долготерпении русский мужик склоняется к такой ничем не ограниченной свободе, даже становится ее идеологом.... Поэтому волю мужиков на государственных землях связали общей ответственностью, а на барских, дворянских - закрепостили. Да только как? Пушкин так описывал крепостное право: “Повиннности вообще не тягостны. Подушная платится миром; барщина определена законом; оброк не разорителен... Помещик, наложив оброк, оставляет на произвол своего крестьянина доставлять оный, как и где он хочет”. После отмены крепостного права воплощением крестьянского порядка принято было считать общину. Сама в себе потаенная, она крепилась круговой порукой. Поэтому бороться пришлось и с ней, причем в полицейском режиме насаждая уже идею личной ответственности, но столыпинский передел земли с отдачей ее в собственность единоличникам расколол и ожесточил деревню.
Чтобы соединить мужика с землей, нужно устранить его нужду в земле - сделать ее всю общей и поделить по числу работников; тогда возможно торжество крестьянского порядка, но это уже задача власти, и власть должна быть крестьянской. Только высшая цель для мужика - это не власть, а земля, поэтому и стремятся мужики только к переделу земли, ни в чем в другом, как в ее захвате, не желая соединяться и участвовать даже для своей и тем более общей пользы.... Это противоречие стало трагическим для России. Оно привело к уничтожению крестьянства, когда миллионы мужиков, теперь уже единолично подмяв под себя все освобожденые от прежних хозяев земли, не смогли сплотиться ни в какой союз, разошлись по своим дворам, но были согнаны, как скотинка, в колхозное стадо или отправились на бойню. Трагическим было вмешательство в это противоречие интеллигенции: с этого момента земельный вопрос отрывается от своей почвы, он приводит к борьбе с властью - и за власть. Для интеллигенции это вопрос борьбы с государством. Для правительства - с революционными настроениями в обществе. Сельское хозяйство тогда и становится в России “идеологическим”.
Исход этого сражения, однако, решался не на страницах газеток, не в тайных кружках или на думской трибуне, где боролись за свои идеи какие угодно политические силы, только не мужики... Крестьянство до революции не было сколько-то сплоченной политической силой, но в стране, почти все население которой жило земледельческим трудом или имело деревенское происхождение, уже властвовал в сознании людей крестьянский порядок. Это то, о чем писал Короленко: “Образ царей в представлении крестьянина не имел ничего общего с действительностью. Это был мифический образ могучего, почти сверхъестественного существа, непрестанно думающего о благе народа и готового наделить его “cобственной землей”. Только эта готовность открывала дорогу к власти над Россией, поэтому смена власти становилась революционным заданием, а значит, разрушительной для ее реальности. Но исполнение этого задания еще не могло быть победой! Если прийти к власти означало, по сути, провозгласить крестьянский порядок, то, чтобы победить, нужно было его-то и уничтожить и восстановить “государственное правление”. И такая партия, то есть сила, в России нашлась. Она наследовала формы поведения, заложенные в крестьянских восстаниях, а сознание заимствовало у революционных романтиков, которых плодила русская интеллигенция. Целью этой партии было построение коммунизма, но, чтобы превратиться во всемирную коммунистическую бабочку, марксистской теории предстояло соорудить мощный индустриальный кокон, возрождая государство.
Брестский мир освободил от войны за собственные границы, что давало государственную независимость в их проглоченных немецкой оккупацией пределах. В гражданскую завоевали власть. Подавили политическую оппозицию, извели под корень даже внутрипартийную. И вот что cообщал посторонний наблюдатель, итальянский вице-консул Леоне Сиркана, в своем секретном донесении в 1933 году: “Боевые порядки все те же: cельские массы, сопротивляющиеся пассивно, но эффективно; партия и правительство, тверже, чем когда-либо, намеренные разрешить ситуацию... Крестьяне не выставляют против армии, решительной и вооруженной до зубов, какую-либо свою армию, даже в виде вооруженных банд и разбойничьих шаек, обычно сопутствующих восстаниям крепостных. Возможно, именно в этом - истинная сила крестьян, или, скажем так, причина неудач их противников. Исключительно мощному и хорошо вооруженному советскому аппарату весьма затруднительно добиться какого-то решения или победы в одной или нескольких открытых стычках: враги не собираются вместе, они рассеяны повсюду, и бесполезно искать боя или пытаться спровоцировать его, все выливается в непрерывный ряд мелких, даже ничтожных операций: несжатое поле здесь, несколько центнеров припрятанного зерна там...”
Если крестьяне не принимали советский порядок, то его не могло существовать. Чтобы подавить даже такое скрытое сопротивление власти, советское государство стало машиной по истреблению собственного народа. Во многом именно необходимость в тотальном государственном насилии привела к власти в партии Сталина и его сторонников. Ответным влиянием этого насилия на партию было ее моральное вырождение. Строить было уже нечего да и некому.
Ответом на уничтожение 15 миллионов в крестьянской войне оказывался и колхозный муравейник. Выживали там или жили, только всё, что сделали с русской деревней, - вот он, казалось, вопиющий с того времени вопрос - было неразрывно с ее же самосознанием, в котором отложилось как настоящее, так, без сомнения, все ее прошлое. Мы видим в колхозах массовую “терпимость к бедности”, которой не было в русских мужиках, это отличало психологию колхозников от крестьянской. Бедность “терпели” как бедствие доведенные до нее раскулачиванием, войной. Только терпение, с которым человек противостоит разрушению, все же нельзя приравнять к терпимости, когда человек прекращает бороться за свое достоинство и ему не стыдно за себя перед людьми. В советском мифе бедность - это пролетарская сила. Богатство - зло. Бедняк и побеждает в деревне. Крестьянская масса стала однообразной и более сплоченной. Однако с этого равенства всех и каждого в отношении к труду начинается утрата общественной совести, то есть стыда. И тут уже встают перед глазами картины разложения, упадка сельской жизни. Не стыдно жить в бедности - не грешно быть пьяному. Водка выжигает народ, но из поколения в поколение переходит этот порок. Это национальная болезнь, да не от поллитровки зашаталась “cельская Русь”... В “Прощании с Матерой” у Распутина - кто страшнее? Одинокий урод, какой-нибудь там Петруха, что все пропил и кому терять в жизни нечего? Страшнее-то другой, крепкий и домовитый мужик, который капли в рот не возьмет, а в заботе суетливой о хозяйстве забудет родную мать, так что уподобится жалкому пропойце; картошку выкопает, чтобы не пропадать добру, а косточки родные на дне водохранилища без приюта оставит, потому что это ведь не деньги там на погосте в землю зарыты! Вот что страшно: когда все общее, даже родное, мерить только своей выгодой начинают, кровной деньгой. Это то, что потрясло Федора Абрамова в родной деревне, в Верколе. Живут с достатком, о нем и пекутся, не бедствуют, а кругом все брошено, изгадили мусором даже пинежский берег под деревней, место своего же, так сказать, отдыха. Что больше всего, наверное, потрясло: стаи брошенных собак бродят по деревне, а которые при хозяевах - и те не на привязи. Взрослые от них отбиваются - нападают на детей, покусали уже не одного ребенка. А чья это забота? В колхозных муравейниках каждый за себя копошился - свое хапал, для себя одного приберегал. Там уничтожается великая идея “народной совести”, а строят такую жизнь, от которой приходит в запустение земля. И мы видим дичайшее вырождение форм общественной жизни, как писал Солженицын в своем “Письме вождям”: “...все стараются получить денег больше, а работать меньше”.
А может, это громоздили новую жизнь, в которой веками ничего не менялось? В истории мы видим, что русские мужики бесконечно кочуют в поисках лучшей доли, а значит, никак не хотят, да и не могут укорениться. Пушкин, усмехаясь над мрачными картинами рабства народного, какие рисовались Радищевым в его знаменитом “Путешествии...”, рассеивал этот миф: “Крестьянин промышляет, чем вздумает, и уходит иногда за 2000 верст вырабатывать себе деньгу...” Шли и шли... Да сколько земли распахали, по самую Сибирь, перемахнули даже на американский континент! В этом стремлении к захвату и освоению новых жизненных пространств крестьянство соединялось с государством. Но стоило осесть, остановиться или если приколачивались к одному месту каким-то указом или повинностью, как начинало мучить малоземелье, семьи-то росли, а урожай на выпаханной земле давался скудный. Задержка на старой пашне приводила к разорению крестьянских хозяйств от частых ее семейных переделов, плохой обработки и неудобрения. Спасали отхожие заработки или переселение на новое, то есть лучшее место. Поэтому русский крестьянин не интересовался улучшением обработки самой земли, а стремился обработать ее за свою жизнь как можно больше, но не делаясь от этого богаче, стало быть, хозяином. Природу этого явления, кажется, понял из русских писателей только Пришвин: “Главное, я глубоко убежден, что все эти земледельцы наши, пашущие в год по десятине земли, понятия не имеют о настоящем земледельческом труде. И жажда их земли есть жажда воли и выхода из тараканьего положения”. Это в своих походах за волей русский человек открывал мир без обозримых пределов, находил его хозяином только Бога, поэтому сам не признавал границ, того, где начинаются и кончаются государство с его правом или, например, частная собственность с ее правом. Отсюда утопическая вера: земля должна быть ничьей, поэтому пользоваться землей может всякий, кто захочет. Отсюда и парадоксальная крестьянская психология: что создано Богом - то ничье, ничье - значит общее, если общее - тогда и мое, а мое - это мое и только мое...
Эту веру и такую психологию наследовала советская деревня. Потому и ходил Иван Африканович косить по ночам для себя, а днем работал на колхозном покосе. “Ну, правда, не один по ночам косит, все бегают”, - пояснял за своего героя Василий Белов. Или в другом рассказе, о другом мужичке: “... он навострился таскать все, что попадало под руку. Копна так копна, овчина так овчина, - начал жить по принципу: все должно быть общим”.
“Крестьянин ничему не верит, работает так мало и плохо, как только возможно, он ворует, прячет или уничтожает плоды собственного труда, лишь бы не отдавать их”, - сообщал в 1933 году итальянский вице-консул о крестьянском сопротивлении. Но то же самое, почти слово в слово, мог бы сообщить спустя двадцать, сорок, шестьдесят лет... Крестьяне принуждали государство разоряться, но мы видим государство, которое истребляет свой народ и ведет с ним такую же борьбу. В событиях XX века произошло катастрофическое столкновение двух утопий, крестьянской и коммунистической, живущих по принципу: все должно быть общим.
В картинах сельской разрухи для крестьянских писателей cебя разоблачала только коммунистическая утопия. Поэтому героями в их понимании становятся душевные единоличники - те, как пишет Солженицын, “кто не пошел под колхозный гнет при недоброжелательной зависти колхозников”. Вот они, эти уцелевшие мужики и бабы, для которых важен их труд. Только есть Матренин двор - и есть деревня, что не уживаются в целое. Да и двор урежут, как у Кузькина, под самое крыльцо - кончится мужик. Это приводит многих русских писателей к мысли, что народом утрачено его задание, и рождает потребность в новых героях, праведниках. Идеал видели в деревенских старушках, в их нравственном свете. По сути, это был приход к теме спасения в пророческом звучании, с ожиданием апокалипсиcа, конца. Это путь от правды к праведности. Но как ощутимо уменьшается на этом пути пространство жизни! Матренин двор был даже велик. У Дарьи распутинской есть только изба - намоленная, живая, а кругом чужой, зараженный злом и отшатнувшийся от своих основ человеческий мир. Уничтожить деревенскую избу должен огонь, но это как будто самосожжение, ведь за ее порогом кончается для распутинских старух сама жизнь.
Тогда уж спасение - только бунт. Юродивый - и вдруг богатырь, парадоксально другой герой. Солженицын ищет своего заветного героя в тамбовском восстании. Тогда же, в 1964 году, собирая материалы о гражданской войне на Алтае, Залыгин обращается к судьбе Ефима Мамонтова, легендарного вожака красных партизанских отрядов. Можаев - к истории крестьянского бунта на Рязанщине, он сам родом из села Пителина Рязанской области, где в тридцатом году мужики поднялись по набату громить советскую власть. Шукшин находит своего богатыря в Стеньке Разине, вот и название - “Я пришел дать вам волю...” Как будто сами готовили мятеж, звали к мятежу!
В своей статье “Нравственность есть Правда” (1968) пиcал Василий Шукшин: “Есть на Руси еще один тип человека, в котором время, правда времени, вопиет так же неистово, как в гении, так же нетерпеливо, как в талантливом, так же потаенно и неистребимо, как в мыслящем и умном... Человек этот - дурачок”. Но там же: “И появляются другие герои - способные действовать. Общество, познавая само себя, обретает силы. И только так оно движется вперед”. Путь от правды к бунту куда короче; а герои, “способные действовать”, как на подбор устремиться готовы даже не в гущу какой-то там борьбы за правду - в огонь выжигающий крестьянской войны. И в огне этом погибают - не побеждают!
Такой герой со всей подлинностью входил в другую войну, тоже народную, но праведную, - там он побеждал, как отважные люди Платонова да и все пронзительные герои военной прозы. Даже в лагерных рассказах Шаламова, когда человек выживал в самых невыносимых условиях, - это была победа над злом, подвиг. Так что в тупик и поражение утыкался сам сюжет истории, но еще важнее: в никуда уводил неизбежный тогда уже образ “внутреннего врага”. Можно сказать, появилась его тень, что обретала свои очертания с тайной верой в заговор против русского народа. Белов: “антирусская революция сверху”. У Солоухина: “единый грандиозный интернационалистический заговор”. Вера была именно тайной, подпольной... Вот Шукшин признается близкому другу, рассказывая о своем разговоре с каким-то киношным деятелем: “Ну, мне конец, я расшифровался Григорию. Я ему о геноциде против России все свои думы выговорил”. Там же: “Макарыч прочитал эти протоколы и, улетая на последнюю досъемку в станицу Клетскую, намереваясь вернуться через неделю, оставил их мне с условием - читать и помалкивать. Вечером, уйдя от него, я начал читать и не бросил, пока не дочел до конца. На следующий день Макарыч улетал во второй половине дня, мы еще перезвонились, он спросил: “Ну как тебе сказочка? Мурашки по спине забегали? Жизненная сказочка - правдивая. Наполовину осуществленная. А говорят, царской охранкой запущена, а не Теодором Герцелем”. Макарыч улетел, а вернулся в цинковом гробу” (Николай Заболоцкий. Шукшин в жизни и на экране).
Зло не рассеялось - в поединке с ним потерял себя русский богатырь. Разбойники не могут обрести праведность, а праведники причащаться кровью. Герои, способные действовать, оказывались во всех смыслах нежизнеспособны, а народ сберегался в дурачках. Да и кого знала история крестьянской войны, только Антонова и Махно? Эсер и анархист с последних рядов - это вожди народа, вдохновители его сопротивления, образ его духовной силы? Если даже так, побеждали Ленин, Троцкий, Сталин - и они становились мифом, превращались в “народных вождей”. Других не отыскалось.... Новых Разиных и Пугачевых. Сознательно ли, но в поисках национальных героев крестьянские писатели ставили на это место СЕБЯ. Оно как будто предназначено для них историей, судьбой. Своей психологией, мировоззрением они врастают в своих бунтующих героев. И мы видим превращение художников, с их талантом, в открытых вождей крестьянского сопротивления. Только это война без армий и сражений. Это трагический поединок со временем, порождением которого во многом были они же сами, в тупиках которого одиноко блуждают, запрятывая в своих праведниках и дурачках Россию, а в разбойниках - свои же страдающие души. Хотя, казалось, это был поединок с коммунистической утопией, но тогда откуда их одиночество? Как объяснить, что с ее крушением, когда Россия обрела свободу, приходит еще более гнетущее осознание бессилия, поражения?
Это и не было борьбой за свободу... Боролись за правду, требовали правды, взывали к правде... А это значило “жить народной радостью и болью, думать, как думает народ, потому что народ всегда знает Правду”. По сути, они столкнулись с неспособностью своего народа преобразить жизнь. Он бездействует, но поэтому сохраняет себя, а в конце-то концов сберегает жизнь... И оказывалось, что правда - это против людей бунт... То есть против человеческой жизни бунт... Это метафизическое разрушение реальности, которое приводит к страданиям точно так же, как и прямое ее разрушение, будь то революция или война.
Сам пафос, проникнутый духом отрицания и разрушения, был создателям деревенской прозы чужд. Этот пафос скапливается в литературном подполье 70-х, в котором благоухают “русские цветы зла”, а “писателей из народа” боятся и презирают; им взрывается освобожденная литература 90-х, когда “cтрадальцы за народ” были осмеяны как одинокие уродцы. Для одних Россия - это боль, для других - болезнь... Только на закате советского времени в повестях и рассказах тех, кто добрел до конца коммунической пустыни, свет души как будто померк, а прозу очернил безжалостный суд над человеком. Этот морализм, то есть яростное обличение человеческих пороков, смыкался неожиданно с циничной эстетикой зла, что получала свое право на существование их показом. Распутин публикует “Пожар”... Астафьев пишет “Печальный детектив”, “Людочку”... Все было правдой, но уже отнимающей веру.... И это не прошлое вывели они на суд, а прокляли день завтрашний. Катастрофа для России приходит из будущего - вот сознание, которое вдруг побеждало! Революция продолжалась... Только она приходила теперь уж как будто из будущего, хоть несла то же самое зло. Культурная, сексуальная, научно-техническая... В этом восстании масс им было противно освобождающее принуждение к счастью, то есть забвение больной, трагической памяти о прошлом. Поэтому чужим, враждебным для них стало новое время, а не то, в котором осиротели, которое ранило и мучило, но все же хранило в себе их боль.
В тупике оказался сам крестьянский вопрос, он так и не получил ответа. Был пафос общественных выступлений, вскормленный болью... Гарцевали с какими-то смелыми идеями публицисты - Стреляный, Черниченко, но их и след простыл, когда деревня потонула в мутных водах нового времени. Шукшин писал о рассказах Василия Белова: “Любовь и сострадание, только они наводят на такую пронзительную правду”. Это правда о тяготах крестьянской жизни... Тогда же возникал вопрос о другой жизни, городской, потому что она становится идеалом для сельской молодежи. Шукшин: “Конечно, молодому парню с десятилеткой пустовато в деревне”. И сколько уж писали о том, что наполнить ее нужно культурой, тогда все станет для сельских жителей интересней, но сами же понимали: здесь другой интерес. Деревенский парень уходит в город не за культурой, а за рублем. Город рисуется враждебной, бездушной средой, чудовищем “из стали, стекла, гранита, бетона, железобетона...” А лучше и удобней жить в городах - “есть где купить, есть что купить”.
Конфликт города и деревни - главный для творчества крестьянских писателей. Очень точно его выразил опять же Шукшин: “Грань между городом и деревней никогда не должна до конца стереться”. Казалось, они воинственно оберегали эту границу, “некую патриархальность”. Но мучительно было вопиющее неравенство между рабочим и колхозником. Шукшин: “Селедочки бы - селедки доброй нет в сельмаге, сметаны нет, молока нет - ничего нет”. Вот она, правда: жизнь крестьянская проходит в тяготах, чтобы накормить досыта города, где работают меньше, а получают больше. Такое недовольство было массовым уже в первые годы советской власти и во многом породило крестьянские восстания. “Царство рабочим, а крестьянину одна погибель”, - вот какие приговоры выносили тогда в деревнях, а в крестьянском сознании утвердился новый враг, “рабочий класс”: деревня все отдает городу, рабочие земли не пашут, но хлебушек крестьянский едят, и все для них дешевле; это такие же господа, только живут они теперь не в усадьбах, а в городах, получают готовую зарплату.
В этом сознании как будто сгущалась все та же темнота пугачевщины. Только в ее черную гущу большевики еще подбросили дрожжи “классовой борьбы”, и не было тогда уж веры ни в революцию, которая обманула, ни в царское покровительство, которое сами же отвергли. Она, эта борьба, начинала стремительно рушить деревню, потому что уничтожала все ее связи с городом... Города и были опорой для крестьянского хозяйства... Это без них оставалось возделывать патриархальный огород и проедать свой труд, “имеющий реазультат в самом себе”... Между городом и деревней только начал пульсировать обогащающий их живительный ток - и вот его не стало, все закупорилось ненавистью, борьбой. Мужик сковырнул барина, но сковырнуть город было не под силу. Надорвался, сдался, бросился в бегство... Бежали крестьянские дети в города, но никто не потянулся из тех же городов в деревни, и жизнь, хозяйственная и культурная, остановилась. И это не грань между городом и деревней стерлась, а пролегла пропасть, в которой теряла себя Россия.
Но многое, если не все, внушалось да и до сих пор внушается верой, что стоит наделить мужиков землей - и тогда уж деревня возродится, воскреснет... Владимир Солоухин: “Если бы разрешили сейчас уходить из колхоза с наделом хорошей земли, вроде как на отрубы при Столыпине, не все бы сразу, а постепенно бы потянулись. Если же нет, то надо считать, что народ мертв, что народа уже как такового и нет, а есть миллионы рабов, есть многомиллионное, потерявшее даже и понятие о достоинстве личности, о национальном достоинстве и вообще о человеческом достоинстве население страны”. По сути, это вера в социальное чудо, которая вдохновляется мифом и грозит истребить саму себя, если оно тут же не будет явлено народом. Но деревня не преобразилась чудесно при Столыпине - землемеров, что должны были кроить отрубы, встречали кольями, ведь отчуждали землю для отрубщиков из общей, да при том самую лучшую... Поэтому писал Андрей Платонов: “Cтолыпин тогда давал деревенской верхушке исход на хутора: остальное крестьянство нашло себе выход в революции”. Как раз столыпинская реформа еще в начале века показала, что просто так мужики земли не отдадут, но и не возьмут. Только это не мифический народ, который обязан считаться “мертвым”, если не пожелает “воскреснуть”, - он был, есть и будет, да вот не вдохновляется верой в собственное спасение... Примечательно, что с утратой веры народом похожим пафосом заражалась свободомыслящая интеллигенция. Григорий Померанц: “Народа больше нет. Есть масса, сохраняющая смутную память, что когда-то она была народом и несла в себе Бога, а сейчас совершенно пустая”. Но не соглашался с таким “мифическим” образом народа Cолженицын: “Народа - нет? И тогда, верно: уже не может быть национального возрождения??.. И что ж за надрыв! - ведь как раз замаячило: от краха всеобщего технического прогресса, по смыслу перехода к стабильной экономике, будет повсюду восстанавливаться первичная связь большинства жителей с землею, простейшими материалами, инструментами и физическим трудом (как инстинктивно ищут для себя уже сегодня многие пресыщенные горожане). Так неизбежно восстановится во всех, и передовых, странах некий наследник многочисленного крестьянства, наполнитель народного пространства, сельскохозяйственный и ремесленный (разумеется, с новой, но рассредоточенной техникой) класс. А у нас - мужик “оперный” и уже не вернется?..” И сколько прошло времени, а мужик не сдвинулся с места, стоит на своем. Борис Можаев: “Мужики ждут... Чего они ждут? - cпросите. А возвращения земли, отобранной у их отцов и дедов советской властью. Они все видят и хорошо понимают, что власть осталась все той же, только вместо фуражки со звездой надела кепочку чуть-чуть набекрень. И слышат они, как новые доброхоты, позирующие перед телекамерами, орут до хрипоты в глотке, требуя вольную продажу земли”. Но это ожидание своего порядка, которое тянется от века в век. Сколько же еще будут ждать?
Все это ожидание между тем полно не столько желанием улучшить свою жизнь, сколько безраличием! Это во многом паралич воли, притом национальный, о котором писал Бунин: “Отсюда Герцены. Чацкие. Но отсюда же и Николка Серый из моей “Деревни”, - сидит на лавке в темной, холодной избе и ждет, когда попадет какая-то “настоящая” работа, - сидит, ждет и томится. Какая это старая русская болезнь, это томление, эта скука, эта разбалованность - вечная надежда, что придет какая-то лягушка с волшебным кольцом и все за тебя сделает: стоит только выйти на крылечко и перекинуть с руки на руку колечко!”
Общий исторический вывод о крестьянской трагедии звучит уже как бы поверх пафоса, в котором растворяются любовь и сострадание... Адреа Грациози в книге “Великая крестьянская война в СССР”: “Вообще, поскольку сельский мир в конце концов исчез повсюду, можно задаться вопросом, что было - и до сих пор остается - следствием того весьма специфического способа, каким в СССР “разрешили” эту проблему. Как мы знаем, он заключался в максимальном подавлении автономного - по собственной инициативе участия крестьян в процессе модернизации, т.е. собственного исчезновения”.
В советское время исследование крестьянского вопроса во всей его полноте было под запретом. История русского крестьянства до сих складывается из разрозненных и случайных фрагментов, она не написана, ее нет! Самое главное и до и после советского времени - это поле идейной борьбы. Но трагедия - это уничтожение жизни как таковой, а не ее исторического уклада, то есть когда уничтожается сам человек. И мы видим глубочайший конфликт идей, которые овладевают людьми одной нации и доводят их до взаимного истребления. Мы видим cтолкновение и трагическое крушение выросших на этих идеях утопий - и создание новых мифов, питающих ту же самую борьбу. Вопрос о будущем только углубляет раскол... И раскол этот уже не в инакомыслии, а в инаковерии. Выбор будущего и есть вопрос веры, потому что в будущее можно только верить. Там, где люди разъединяются, - это разъединение с Богом. Тогда уже не важно, что один разбойник, мужик, говорит: “Все поделить”. А другой, думающий и мыслящий, карамазовское: “Все дозволено”. Здесь начинается разрушение общей жизни, да и общей со всем миром, всем человечеством.
Русская проза никогда еще не была такой трагической, как в прошлом веке, рассказывая о судьбе человека. Это человек, гибнущий в лагерях, на войне, под глыбами социальных переломов. От “Cолнца мертвых” и “Окаянных дней” до “Проклятых и убитых” - все об уничтожении человека. Лагерная, военная, деревенская проза... Конечно, были и другие книги, даже такие, которые учили сражаться и побеждать, но картина национальной жизни представляется только по эпическим произведениям, а все эпическое в русской литературе XX века проникнуто тоской по погибшим. Зло побеждает в человеке, или уж он, человек, становится его безвинной страдающей жертвой. Такое страдание несут в своих произведениях писатели, избравшие этот путь, чтобы признать законом взаимную помощь и любовь, поэтому ни один литературный герой уже не может появиться без искупительной жертвы своего автора, его страданий.
Только все еще впереди.



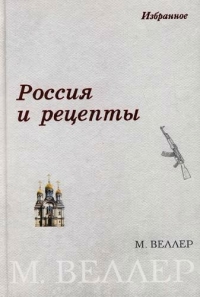
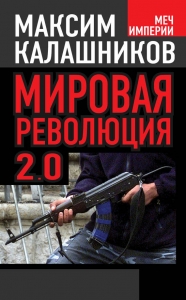

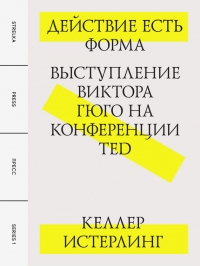
Комментарии к книге «Русская литература и крестьянский вопрос», Олег Олегович Павлов
Всего 0 комментариев