1921 КЭМБРИДЖ
(Впервые: “Руль”, 28 октября 1921.)
Есть милая поговорка: на чужбине и звезды из олова. Не правда ли? Хороша природа за морем, да она не наша и кажется нам бездушной, искусственной. Нужно упорно вглядываться, чтобы ее почувствовать и полюбить; а, спервоначала, оранжерейным чем-то веет от чуждых деревьев, и птицы все на пружинках, и заря вечерняя не лучше сухонькой акварели. С такими чувствами въезжал я в провинциальный английский городок, в котором, как великая душа в малом теле, живет гордой жизнью древний университет. Готическая красота его многочисленных зданий (именуемых колледжами) стройно тянется ввысь; горят червонные циферблаты на стремительных башнях; в проемах вековых ворот, украшенных лепными гербами, солнечно зеленеют прямоугольники газона; а против этих самых ворот пестреют выставки современных магазинов, кощунственные, как цветным карандашом набросанные рожицы на полях вдохновенной книги.
Взад и вперед по узким улицам шмыгают, перезваниваясь, обрызганные грязью велосипеды, кудахтают мотоциклы и, куда ни взглянешь, везде кишат цари города Кэмбриджа — студенты: мелькают галстухи наподобие полосатых шлагбаумов, мелькают необычайно мятые, излучистые штаны, всех оттенков серого, начиная с белесого, облачного и кончая темно-сизым, диким, — штаны, подходящие на диво под цвет окружающих стен.
По утрам молодцы эти, схватив в охапку тетрадь и форменный плащ, спешат на лекции, гуськом пробираются в залы, сонно слушают, как с кафедры мямлит мудрая мумия, и, очнувшись, выражают одобренье свое переливчатым топаньем, когда в тусклом потоке научной речи рыбкой плеснется красное словцо. После завтрака, напялив лиловые, зеленые, синие куртки, улетают они, что вороны в павлиньих перьях, на бархатные лужайки, где до вечера будут щелкать мячи, или на реку, протекающую с венецианской томностью мимо серых, бурых стен и чугунных решеток, — и тогда Кэмбридж на время пустеет: дюжий городовой зевает, прислонясь к фонарю, две старушонки в смешных черных шляпах гагакают на перекрестке, мохнатый пес дремлет в ромбе солнечного света… К пяти часам все оживает снова, народ валом валит в кондитерские, где на каждом столике, как куча мухоморов, лоснятся ядовито-яркие пирожные.
Сижу я, бывало, в уголке, смотрю по сторонам на все эти гладкие лица, очень милые, что и говорить, — но всегда как-то напоминающие объявления о мыле для бритья, и вдруг становится так скучно, так нудно, что хоть гикни и окна перебей…
Между ними и нами, русскими, — некая стена стеклянная; у них свой мир, круглый и твердый, похожий на тщательно расцвеченный глобус. В их душе нет того вдохновенного вихря, биения, сияния, плясового неистовства, той злобы и нежности, которые заводят нас, Бог знает, в какие небеса и бездны; у нас бывают минуты, когда облака на плечо, море по колено, — гуляй, душа! Для англичанина это непонятно, ново, пожалуй заманчиво. Если, напившись, он и буянит, то буянство его шаблонно и благодушно, и, глядя на него, только улыбаются блюстители порядка, зная, что известной черты он не переступит. А с другой стороны, никогда самый разъимчивый хмель не заставит его расчувствоваться, оголить грудь, хлопнуть шапку оземь… Во всякое время — откровенности коробят его. Говоришь, бывало, с товарищем о том, о сем, о скачках и стачках, да и сболтнешь по простоте душевной, что вот, кажется, всю кровь отдал бы, чтобы снова увидеть какое-нибудь болотце под Петербургом, — но высказывать мысли такие непристойно; он на тебя так взглянет, словно ты в церкви рассвистался.
Оказалось, что в Кэмбридже есть целый ряд самых простых вещей, которых, по традиции, студент делать не должен. Нельзя, например, кататься по реке в гребной лодке, — нанимай пирогу или плот; не принято надевать на улице шапку — город-де наш, нечего тут стесняться; не полагается здороваться за руку, — и, не дай Бог, при встрече поклониться профессору: он растерянно улыбнется, пробормочет что-то, споткнется. Немало законов таких, и свежий человек нет-нет да и попадет впросак. Если же буйный иноземец будет поступать все-таки по-своему, то сначала на него подивятся — экий чудак, варвар, — а потом станут избегать, не узнавать на улице. Иногда, правда, подвернется добрая душа, падкая на зверей заморских, но подойдет она к тебе только в уединенном месте, боязливо озираясь, и навсегда исчезнет, удовлетворив свое любопытство. Вот отчего, подчас, тоской набухает сердце, чувствуя, что истинного друга оно здесь не сыщет. И тогда все кажется скучным, — и очки юркой старушки, у которой снимаешь комнату, и сама комната с ее грязно-красным диваном, угрюмым камином, нелепыми вазочками на нелепых полочках, и звуки, доносящиеся с улицы, — крик мальчишек-газетчиков: пайпа! пайпа!..
Но ко всему привыкаешь, подлаживаешься, учишься в чуждом тебе подмечать прекрасное.
Блуждая в дымчатый весенний вечер по угомонившемуся городку, чуешь, что, кроме пестряди и суеты жизни нашей, есть в самом Кэмбридже еще иная жизнь, жизнь пленительной старины. Знаешь, что ее большие, серые глаза задумчиво и безучастно глядят на выдумки нового поколения, как глядели сто лет тому назад на хромого, женственного студента Байрона и на его ручного медведя, запомнившего навсегда родимый бор, да хитрого мужичка в баснословной Московии.
Промахнуло восемь столетий: саранчой налетели татары; грохотал Иоанн; как вещий сон, по Руси веяла смута; за ней новые цари вставали золотыми туманами; работал Петр, рубил сплеча и выбрался из лесу на белый свет; — а здесь эти стены, эти башни все стояли, неизменные, и все так же, из году в год, гладкие юноши собирались при перезвоне часов в общих столовых, где, как ныне, лучи, струясь сквозь расписные стекла высоких окон, обрызгивали плиты бледными аметистами, — и все так же перешучивались они, юноши эти, — только, пожалуй, речи были бойчее, пиво пьянее…
Я об этом думаю, блуждая в дымчатый весенний вечер по затихшим улицам. Выхожу на реку. Долго стою на выгнутом жемчужно-сером мостике, и поодаль мостик такой же образует полный круг со своим отчетливым, очаровательным отражением. Плакучие ивы, старые вязы, празднично пышные каштаны холмятся там и сям, словно вышитые зелеными шелками по канве поблекшего, нежного неба. Тускло пахнет сиренью, тиневеющей водой… И вот по всему городу начинают бить часы… Круглые, серебряные звуки, отдаленные, близкие, проплывают, перекрещиваясь в вышине и на несколько мгновений повиснув волшебной сеткой над черными, вырезными башнями, расходятся, длительно тают, близкие, отдаленные, в узких, туманных переулках, в прекрасном вечернем небе, в сердце моем… И глядя на тихую воду, где цветут тонкие отражения — будто рисунок по фарфору, — я задумываюсь все глубже, — о многом, о причудах судьбы, о моей родине и о том, что лучшие воспоминания стареют с каждым днем, а заменить их пока еще нечем…
1922 РУПЕРТ БРУК
(Литературный альманах “Грани”, 1922. Кн. 1. С. 212–231.)
Я видел их; я любовался ими долго; они, чуть всхлипывая, плавали, без устали плавали туда и сюда за стеклянной преградой, в дымке воды неподвижной, бледно-зеленой, как дрема, как вечность, как внутренний мир слепца. Они были огромные, округлые, красочные: казалось, фарфоровую их чешую расцветил тщательный китаец. Я глядел на них как во сне, очарованный тайною музыкой их плавных, тонких движений. Между этих мягко мерцающих великанов юркала цветистая мелюзга — крошечные призраки, напоминающие нежнейших бабочек, прозрачнейших стрекоз. И в полумглистом аквариуме, глядя на всех этих сказочных рыб, скользящих, дышущих, выпучивших глаза в свою бледно-зеленую вечность, — я вспомнил прохладные, излучистые стихи английского поэта, который чуял в них, в этих гибких, радужных рыбах, глубокий образ нашего бытия.
Руперт Брук… Имя это еще не известно на материке, а тем паче в России. Руперт Брук (1887–1915) представлен двумя легкими томиками, в которых собрано около восьмидесяти стихотворений. В его творчестве есть редкая пленительная черта: какая-то сияющая влажность, недаром он служил во флоте, недаром и само имя его означает по-английски: ручей. Эта тютчевская любовь ко всему струящемуся, журчащему, светло-студеному выражается так ярко, так убедительно в большинстве его стихов, что хочется их не читать, а всасывать через соломинку, прижимать к лицу, как росистые цветы, погружаться в них, как в свежесть лазоревого озера. Для Брука мир — водная глубь, “зыбкая, изменчивая, дымчатая, в которой колеблющиеся тени вздуваются и зияют таинственно… Странная нежность глубины смягчает потонувшие в ней краски, раздробляет черный цвет на его составные оттенки, подобно тому как смерть расчленяет жизнь. Вот алый сумрак, таящийся в сердцах роз, вот синий лоск мертвых беззвездных небес, вот золотистость, лежащая за глазами, вот та неведомая, безымянная, слепая белизна, которая является основным пламенем ночи, вот тускло-лиловая окраска, вот матовая зелень, — тысячи тысяч оттенков, цветущих между тьмой и тьмой”. И все краски эти дышут, движутся, образуют чешуйчатые существа, которых мы зовем рыбками; и вот, в тонко-жутких стихах поэт передает весь трепет жизни их.
В полдневный час, ленивым летом, овеянная влажным светом, в струях с изгиба на изгиб, блуждает сонно-сытых рыб глубокомысленная стая, надежды рыбьи обсуждая, и вот значенье их речей: “У нас прудок, река, ручей; но что же дальше? Есть догадка, что жизнь — не все; как было б гадко в обратном случае! В грязи, в воде есть тайные стези, добро лежит в их основанье. Мы верим: в жидком состоянье предназначенье видит Тот, Кто глубже нас и наших вод. Мы знаем смутно, чуем глухо — градущее не вовсе сухо! „Из ила в ил!”, — бормочет смерть; но пусть грозит нам водоверть, — к иной готовимся мы встрече… За гранью времени, далече, иные воды разлились. Там будет слизистее слизь, влажнее влага, тина гуще… Там проплывает Всемогущий, с хвостом, с чешуйчатой душой, благой, чудовищно-большой, извечно царствавший над илом… И под Божественным правилом из нас малейшие найдут желанный, ласковый приют… О, глубь реки безмерно мирной! Там, под водою, в мухе жирной крючок зловещий не сокрыт… Там тина золотом горит, там — ил прекрасный, ил пречистый. И в этой области струистой — ах, сколько райских червяков, бессмертных мошек, мотыльков — какие плавают стрекозы!” И там, куда все рыбьи грезы устремлены сквозь влажный свет, там, верят рыбы, суши нет…В этих стихах, в этой дрожащей капле воды, отражена сущность всех земных религий. И Брук сам — “грезящая рыба”, когда, заброшенный на тропический остров, он обещает своей гавайской возлюбленной совершенства заоблачного края, “где живут Бессмертные, — благие, прекрасные, истинные, — те Подлинники, с которых мы — земные, глупые, скомканные снимки. Там — Лик, а мы здесь только призраки его. Там — верная беззакатная Звезда и Цветок, бледную тень которого любим мы на земле. Там нет ни единой слезы, а есть только Скорбь. Нет движущихся ног, а есть Пляска. Все песни исчезнут в одной Песне. Вместо любовников будет Любовь…” Но тут, спохватившись, поэт восклицает: “Как же мы будем плести наши любимые венки, если там нет ни голов, ни цветов? Господи, как мы станем жалеть о пальмах, о солнце, о юге. И уж больше, кажется, не будет поцелуев, ибо все уста сольются в единые Уста… Внемли зову луны и шепчущим благоуханьям, которые блуждают вдоль теплой лагуны. Поспеши, положив руку в руку человеческую, сквозь сумрак цветущей тропы к белой полосе песка и в мягкой ласке воды смой пыль мудрованья. И до зари, под сияющей луной, нагоняй в беззвучно-глубокой воде чье-то мерцающее тело и теневые волосы, а то предавайся волне полудремотно. Ныряй, изгибайся, выплывай, выглядывай из цветов, смейся, призывай — пока уста наши еще не поблекли, пока у нас на лицах не стерлась печать нашего „я”…”
Ни один поэт так часто, с такой мучительной и творческой зоркостью не вглядывался в сумрак потусторонности. Пытаясь ее вообразить, он переходит от одного представления к другому с лихорадочной торопливостью человека, который ищет спички в темной комнате, пока кто-то грозно стучится в дверь. То кажется ему, что он, умерев, проснется “на широкой, белесой, сырой равнине, придавленной странными, безглазыми небесами” и увидит себя “точкой неподвижного ужаса… мухой, прилипшей к серой, потной шее мертвеца”, — то предчувствует он безмерное блаженство. Предчувствие это жарче всего бьется в стихотворении “Прах”.
Вот оно в русском переводе:
Когда, погаснув, как зарницы, уйдя от дальней красоты, во мгле, в ночи своей отдельной, истлею я, истлеешь ты; когда замрет твой локон легкий, и тяжкий тлен в моих устах прервет дыханье, и с тобою мы будем прах, мы будем прах, — как прежде, жадные, живые, не пресыщенные, — о, нет! — блестя и рея, мы вернемся к местам, где жили много лет. В луче мы пылью закружимся, былых не ведая оков, и над дорогами помчимся по порученьям ветерков. И станет каждая пылинка, блестя и рея тут и там, скитаться, как паломник тайный, по упоительным путям. Не отдохнем, пока не встретит, за непостижною чертой, один мой странствующий атом пылинку, бывшую тобой. Тогда, тогда, в саду спокойном, в вечерних ласковых лучах, и сладостный, и странный трепет найдут влюбленные в цветах. И средь очнувшегося сада, такое счастие, такой призыв воздушно-лучезарный они почуют над собой, что не поймут — роса ли это, огонь ли, музыка, иль цвет, иль благовонье, или двое, летящие из света в свет. И, с неба нашего блаженства испепеляющего, крик заставит вспыхнуть их пустые и нищие сердца — на миг. И в расползающемся мраке они, блеснув, потухнут вновь, но эти глупые людишки на миг постигнут всю любовь…Между этих крайностей развертывается вереница более спокойных образов. Вот на берегах Леты, среди мифологических кипарисов, поэт встречает свою умершую любовницу, и она, беспечная Лаура эта, “вскидывает темно-русой очаровательной головой”, так потешает ее вид древних мертвых — Сократ курносый, щуплый Цезарь, завистливый Петрарка.
Вот, взбежав на цветущий холм — где-нибудь под Кембриджем, — Руперт, весело запыхавшись, восклицает, что душа его воскреснет в поцелуях будущих влюбленных. А то облака ласкают его воображенье.
Их сонмы облекли полночный синий свод, теснятся, зыблются, волнуются безгласно, на дальний юг текут; к таящейся, прекрасной луне за кругом круг серебряный плывет. Одни, оборотясь, прервав пустынный ход, движеньем медленным, торжественно-неясно благословляют мир, хоть знают, что напрасно моленье, что земли моленье не спасет. Нет смерти, говорят; все души остаются среди наследников их счастья, слез и снов… Я думаю, они по синеве несутся, печально-пышные, как волны облаков; и на луну глядят, на гладь морей гудящих, на землю, на людей, туда-сюда бродящих.Отсюда недалеко до полной примиренности со смертью, и действительно — четырнадцатый год нашего столетия внушает Бруку пять цветных сонетов, озаренных как бы изнутри чудесной кротостью.
Их душу радости окрасили, печали омыли сказочно. Мгновенно их влекли улыбки легкие. Вся радужность земли принадлежала им, и годы их смягчали. Они видали жизнь и музыке вдали внимали. Знали сон и явь. Любовь встречали и дружбу гордую. Дивились. И молчали. Касались щек, цветов, мехов… Они ушли. Так ветры с водами смеются на просторе, под небом сладостно-лазоревым, но вскоре зима заворожит крылатую волну, плясунью нежную, и развернет морозный спокойный блеск, немую белизну, сияющую ширь, под небом ночи звездной.А вот другой сонет из того же ряда. Черновик его хранится под стеклом в Британском Музее между рукописью Диккенса и записной книжкой капитана Скотта.
Лишь это вспомните, узнав, что я убит: стал некий уголок, средь поля на чужбине, навеки Англией. Подумайте: отныне та нежная земля нежнейший прах таит. А был он Англией взлелеян; облик стройный и чувства тонкие Она дала ему, дала цветы полей и воздух свой незнойный, прохладу рек своих, тропинок полутьму. Душа же, ставшая крупицей чистой света, частицей Разума Божественного, где-то отчизной данные излучивает сны: напевы и цвета, рой мыслей золотистый и смех, усвоенный от дружбы и весны под небом Англии, в тиши ее душистой.Мне хотелось показать на этих примерах разнообразие тех цветных стекол, сквозь которые Брук, перебегая от одного к другому, глядит вдаль, стараясь различить черты приближающейся смерти. Мне сдается, что его так упорно тревожит не столько мысль о том, что он найдет там, сколько мысль о том, что покинет он здесь. Он любит землю страстно. Для него земная жизнь словно первая любовь, и хоть он чует, что за ней последуют другие романы, но всплески солнца, вопли ветра, уколы дождя — сверкающее величие и сверкающую боль этой первой любви ему уж ничего не сможет заменить — ни холодные лобзанья небесных звезд, ни садистические ласки безносой смерти, ни ангельские серенады, ни призрачные красавицы, блуждающие над Летой. В небольшой, очень тонкой поэме о Деве Марии мерцает та же мысль: Архангел Гавриил, как золотая точка, исчез в небе, Мария впервые почувствовала в теле своем биение второго сердца — божественное биение, отделившее Ее от мира, озарившее Ее горним светом, но… “воздух стал холоднее, серее…”. В этот миг Она, вероятно, поняла, что кончилась Ее земная жизнь, что больше уж никогда Она не будет играть и петь и ласкать маленьких белых коз, средь крокусов, под оливами.
Повторяю: Руперт Брук любит мир, с его озерами и водопадами, страстной, пронзительной, головокружительной любовью. Он желал бы в час смерти унести его под полой и потом, где-нибудь в надсолнечном пределе, на досуге разглядывать, ощупывать без конца свое нетленное сокровище. Но он знает, что хоть и найдет он, быть может, невыразимо прекрасный рай, а все-таки свою влажную, живую, яркую землю он покинет навсегда. Чуя близкий конец, он пишет восторженное завещанье — пересчитывает свои богатства и, торопясь, составляет сумбурный список всего того, что любил он на земле. А любит он многое: белые тарелки и чашки, чисто-блестящие, обведенные тонкой синью; и перистую прозрачную пыль; мокрые крыши при свете фонарей; крепкую корку дружеского хлеба; и разноцветную пищу; радуги; и синий горький древесный дымок; и сияющие капли дождя, спящие в холодных венчиках цветов; и самые цветы, колеблющиеся по зыби солнечных дней и мечтающие о ночных бабочках, которые пьют из них, под луной; также — свежую ласковость простынь, которая скоро сглаживает всякую заботу; и жесткий мужской поцелуй одеяла; зернистое дерево; живые волосы, блестящие, вольные; синие, громоздящиеся тучки; острую, бесстрастную красоту огромной машины; благодать горячей воды; пушистость меха; добрый запах старых одежд; а также уютный запах дружеских пальцев, благоуханье волос, и пахучую сырость мертвых листьев и прошлогодних папоротников; младенческий смех студеной струи, бьющей из крана или из почвы; ямки в земле; и голоса поющие; и голоса хохочущие; и телесную боль, унимающуюся так быстро; и мощно-пыхтящий поезд; твердые пески; и узкую бахромку пены, которая рыжеет и тает, пока возвращается волна в море; и влажные камни, яркие на час; сон; и возвышенные места; следы ног на пелене росы; и дубы; и коричневые каштаны, лоснящиеся как новые; и сучки, очищенные от коры; и блестящие лужи в траве…”
И тут Брук находит мимолетное утешение в мысли о славе: “Мою ночь, говорит он, запомнят благодаря одной звезде, превзошедшей блеском все солнца всех человеческих дней, ибо не увенчал ли я бессмертной хвалой тех, которых я любил, которые дали мне свою душу, выпытывали вместе со мной великие тайны и в темноте преклоняли колени, чтобы увидеть неописуемое божество наслажденья?”
И снова забыв, что “смех умирает с устами смеющимися, любовь — с сердцами любящими”, поэт в трепетных ямбах сливает жизнь и смерть в одно пламенное упоенье.
Из дремы Вечности туманной, из пустоты небытия, над глубиною гром исторгся: тобою призван, вышел я. Я расшатал преграды Ночи, законы бездны преступил, и в мир блистательно ворвался под гул испуганных светил. Распалось вечное молчанье… Я пролетел — и Ад зацвел. Каким же знаком докажу я, что наконец тебя нашел? Иные вычеканю звезды, напевом небо раздроблю… В тебе я огненной любовью свое бессмертие люблю. Ты уязвишь седую мудрость, и смех твой пламенем плеснет, Я именем твоим багряным исполосую небосвод. И рухнет Рай, и Ад потухнет в последней ярости своей, и мгла прервет холодным громом стремленье мира, сны людей. И встанет Смерть в пустых пространствах и, в темноту из темноты скользя неслышно, убоится сиянья нашей наготы. Любви блаженствующей звенья, ты, Вечность верная, замкни! Одни над мраком мы, над прахом богов низринутых, — одни…Но не всегда женщина является для Брука вечной спутницей, залогом бессмертия. Так же как и в стихах, посвященных “великому быть может”, Брук в своих изображениях женщины и любви зыбок, переменчив, как луч фонарика, освещающего мимоходом то лужу, то цветущий куст. Он переходит от дивного безумия, внушившего ему “Прах” и “Призыв”, к каким-то мучительным чертежам, рисуя “неутоленные, раскоряченные желанья… причудливый образ, льнувший к такому же запутанному образу, личины ползущие, потерянные, извилистые, вязнущие, уродливо сплетающиеся, безумно блуждающие по прихоти углубляющихся тропин и странных выпуклых путей”.
Брук еще кое-как мирится с “причудливостью” человеческого тела, когда тело это молодо, стремительно, чисто, но что вызывает в поэте злобу и отвращенье, — это дряблая старость с ее беззубым, слюнявым ртом, красными веками, поздней похотливостью… И доисторический прием — сопоставленье весны и увяданья, грезы и действительности, розы и чертополоха — обновляется Бруком необычайно тонко.
Примером могут послужить следующие два сонета:
Троянские поправ развалины, в чертог Приамов Менелай вломился, чтоб развратной супруге отомстить и смыть невероятный давнишний свой позор. Средь крови и тревог он мчался, в тишь вошел, поднялся на порог, до скрытой горницы добрался он неслышно, и вдруг, взмахнув мечом, в приют туманно-пышный он с грохотом вбежал, весь огненный как бог. Сидела перед ним, безмолвна и спокойна, Елена белая. Не помнил он, как стройно восходит стан ее, как светел чистый лик… И он почувствовал усталость, и смиренно, постылый кинув меч, он, рыцарь совершенный, пред совершенною царицею поник. Так говорит поэт. И как он воспоет обратный путь, года супружеского плена? Расскажет ли он нам, как белая Елена рожала без конца законных чад и вот брюзгою сделалась, уродом… Ежедневно болтливый Менелай брал сотню Трой меж двух обедов. Старились. И голос у царевны ужасно-резок стал, а царь — ужасно глух. “И дернуло ж меня, — он думает, — на Трою идти! Зачем Парис втесался?” Он порою бранится со своей плаксивою каргой, и, жалко задрожав, та вспомнит про измену. Так Менелай пилил визгливую Елену, а прежний друг ее давно уж спал с другой.Еще резче высказывается это отвращение к дряхлости в стихотворении “Ревность”, обращенном, вероятно, к новобрачной. В нем поэт так увлекается изображеньем грядущей старости розового, молодцеватого супруга, которого он уже видит лысым, и жирным, и грязным, и Бог знает чем, — что только на тридцать третьей — последней — строке спохватывается: “Ведь когда время это придет, ты тоже будешь старой и грязной…”
Мне кажется, что и в этом стихотворении, и в другом, посвященном поразительно подробному и довольно отвратительному разбору морской болезни, явленья которой тут же сравниваются с воспоминаньями любви, Брук слегка щеголяет своим уменьем зацепить и выхватить, как бирюльку, любой образ, любое чувство, слегка чернить исподнюю сторону любви, как чернил (в стихотворении о “мухе на серой потной шее мертвеца”, упомянутом выше) вид загробного края. Он отлично знает, что смерть — только удивленье; он певец вечной жизни, нежности, лесных теней, прозрачных струй, благоуханий; он не должен был бы сравнивать жгучую боль разлуки с изжогой и отрыжкой.
Как-никак Брук не был счастлив в любви. Знаменательно то, что полное безоблачное блаженство с женщиной он может представить себе только перенося и себя, и ее за предел земной жизни. Бесконечно любя красоту мира, он часто чувствует, что неуклюжая, нестройная страсть нарушает своей прозаической походкой светотени и мягкие звуки земли. Это вторженье гуся позы в сад поэзии выражено у него следующим образом.
Моими дивными деревьями хранимый, лежал я, и лучи уж гасли надо мной, и гасли одинокие вершины, омытые дождем, овеянные мглой. Лазурь и серебро и зелень в них сквозили; стал темный лес еще темней; и птицы замерли; и шелесты застыли, и кралась тишина по лестнице теней. И не было ни дуновенья… И знал я в это вещее мгновенье, что ночь и лес и ты — одно, я знал, что будет мне дано в глубоком заколдованном покое найти сокрытый ключ к тому, что мучило меня, дразнило: почему ты — ты, и ночь — отрадна, и лесное молчанье — часть моей души. Дыханье затаив, один я ждал в тиши, и, медленно, все три мои святыни — три образа единой красоты — уже сливались: сумрак синий, и лес, и ты. Но вдруг — все дрогнуло, и грохот был вокруг, шумливый шаг шута в неискренней тревоге, и треск, и смех, слепые чьи-то ноги, и платья сверестящий звук, и голос, оскорбляющий молчанье. Ключа я не нашел, не стало волшебства, и ясно зазвучал твой голос, восклицанья, тупые, пошлые, веселые слова. Пришла и близ меня заквакала ты внятно… Сказала ты: здесь тихо и приятно. Сказала ты: отсюда вид неплох. А дни уже короче, ты сказала. Сказала ты: закат — прелестен. Видит Бог, хотел бы я, хотел, чтоб ты в гробу лежала!А то поэт жалуется, что возлюбленная его не понимает: он просит у нее кротости — она его целует в губы, просит сокрушительных восторгов — она целует его в лоб. Он сам признается, что он принадлежит к числу тех, которые “блуждают в туманах между раем и адом, взывают к призракам, хватают, и сами не знают, любят ли они вовсе, а если и любят, то кого — даму ли из старинной песни, шута ли в маскарадном платье, или привиденье, или свое собственное лицо, отраженное во мраке”. Один из таких призраков ему однажды и явился.
Усталый, поздно возвратился я в сумрак комнатки моей, к уюту бархатного кресла, к рубинам тлеющих углей. Вошел тихонько я и… замер: был женский облик предо мной: щеки и шеи светлый очерк, прически очерк теневой, да, в кресле кто-то незнакомый, вон там, сидел ко мне спиной. И волосы ее и шею я напряженно наблюдал; на миг застыл, потом рванулся — и никого не увидал Игра пустая, световая, лишь окудесила меня — теней узоры да подушка на этом кресле у огня. О вы, счастливые, земные, скажите, мог ли я уснуть? Следил я, как луна во мраке свершала крадучись свой путь — по стенке, в зеркале, на чашке… Я в эту ночь не мог уснуть.Порою же Брук чувствует, что как будто собственное тело мешает ему любить, и в прекрасных стихах изображает ту странную внезапную холодность, за которую некогда так обиделась венецианка на робкого Руссо. Он вкусил бы полного счастья, если женщина была бы цветущим деревом, сверкающим потоком, ветром, птицей. Как только в ней человек заслоняет богиню, как только визг дешевой скрипки нарушает тишину сияющей ночи, Брук страдает, томится, проклинает этот мучительный разлад. И последствием его исканий, падений, разочарований, любовных неудач является чувство не только личного, но и космического одиночества, которое, впрочем, он ощущает только в глухие часы бессонницы, когда сумраком скрыт пленительный видимый мир.
Было поздно, было скучно, было холодно, и я звездам — братии веселой позавидовал: друзья золотые, хорошо вам! Не тоскует никогда со звездою лучезарной неразлучная звезда. Светом нежности взаимной, светом радостей живых, беззаботностью, казалось, свыше веяло от них. Так, быть может, и Создатель смотрит с вышины своей, развлекаемый веселой вереницею людей, и не ведает, что каждый в одиночестве своем, как потерянный в пустыне, бродит в сумраке немом. Я-то ведал, полюбил их, пожалел от всей души: там, в пустынях непостижных, в угнетающей тиши, тлели звезды одиноко, и с далеким огоньком огонек перекликался комариным голоском…Отметим, кстати, что Брук любит изображать Бога — с бородой, в мантии, на золотом престоле. (Точно так же, как и рыбы представляют себе какого-то чешуйчатого, хвостатого Юпитера, плавающего в Райской Заводи.) Но вот что однажды случилось:
Алмазно-крепкою стеною от меня Всесильный отделил манящую отраду. Восстану, разобью угрюмую ограду и прокляну Его, на троне из огня! Всю землю я потряс хулой своей великой, но пламенем Любовь вилась у ног моих, и, гордый, я дошел до лестниц золотых, ударил трижды в дверь, вошел с угрозой дикой. Дремал широкий двор; он полон солнца был и полон отзвуков бесплодных. Мох покрыл квадраты плит сквозных и начал, неотвязный, в покои пыльные вползать по ступеням… Внутри — пустой престол; и веет ветер праздный и зыблет тяжкие завесы по стенам.Не совсем ясен смысл сонета этого: земная любовь ли победила и низвергла Бога, хотел ли поэт выразить ту мысль, что внешний Бог-Саваоф нераздельно связан с Богом “внутри нас” и потому исчезает, как только человек начинает его отрицать, или же смысл заключается в том, что Бог просто умер и давно уже не правит миром? Темен и символ другого стихотворения, схожего по духу с вышеприведенным сонетом.
По кругам немым, к белоснежной вершине земли четыре архангела ровно и медленно шли: огромные крылья сложив, выделяясь на небе пустом, несли они гробик убогий; ребенок покоился в нем, да, верно, — ребенок (хоть склонны мы думать, что Бог не мог бы ребенка увлечь от весенних дорог: и в хрупкой и в жуткой скорлупке смахнуть его прочь в пространства пустынные, в тишь бесконечную, в ночь). И вниз они глянули, сбросив с вершины крутой, в объятья неведомой тьмы, черный гробик простой, и Господа жалкое тельце, свернувшись в клубок, лежало в нем, точно измятый, сухой лепесток. Он в бездне исчез, и в молчанье, один за другим архангелы грустно спустились к равнинам пустым.Оба эти стихотворения относятся к наиболее ранним произведениям поэта (они написаны в 1906-м году), и хоть сами по себе образны и величавы, но едва ли являются отличительными для Брука. Он так ярко чувствует божественное в окружающей природе, — на что ему эта бутафорская вечность, эти врубельские ангелы, этот властелин с ватной бородой? Пускай светляки веруют в электрический маяк, стрекозы — в моноплан-антуанет, цветы — в исполинскую викторию-регию, кроты в слепое, бархатное чудище; пускай в захолустном городке добрые мещане, хныкая, приговаривая, сморкаясь в огромные клетчатые платки, теснятся вокруг тела умершей девушки — мимолетной возлюбленной странствующего поэта: “Они положили медяшки на твои серые глаза, подвязали падающую челюсть, их мысли, как мухи, ползут по твоей коже… — а я, говорит поэт, я не буду на твоих поминках, не буду с ними есть кутью” — и он из белого душного городишка уходит на вершину холма, исполненный ликующих воспоминаний, и там, наедине со звездами и с ветром, служит величавую панихиду… Он теперь счастлив: его возлюбленная слилась с той вечной, стоцветной, стозвучной природой, которую он так жадно любит. Впрочем, и в любви к природе Руперт Брук прихотливо узок, как и все поэты всех времен.
Киплинг говорит где-то: “Сердце человека так невелико, что всю Божью землю он любить не в состоянии, а любит только родину свою, да и то один какой-нибудь ее уголок”. Так Пушкин любил “перед избушкой две рябины”, а Лермонтов — “чету белеющих берез”. И Руперт Брук, говоря о своей любви к земле, втайне подразумевает одну лишь Англию, и даже не всю Англию, а только городок Гранчестер — волшебный городок. Сидя в берлинском Кафэ-дес-Вестенс, Брук в душный летний день с упоеньем вспоминает о той мглисто-зеленой, тенисто-студеной реке, которая протекает мимо Гранчестера. И говорит он о ней точь-в-точь в таких же выраженьях, как говорил о благоуханной гавайской лагуне, ибо лагуна эта была, в сущности, все та же родная, узкая речка, окаймленная ивами и живыми изгородями, из которых там и сям выглядывает “неофициальная английская роза”. В непереводимых журчащих стихах он заставляет сотню призрачных викариев плясать при луне на полях; фавны украдкой высовываются из листвы; выплывает наяда, увенчанная тиной; тихо свирелит Пан. С глубокой нежностью поэт воспевает сказочный свой городок, где живут люди чистые и телом и душой, такие мудрые, такие утонченные, что стреляются они, как только подступает тусклая старость…
Я как-то проезжал на велосипеде через Гранчестер. В окрестных полях мучили глаз заборы, сложные, железные калитки, колючие проволоки. От грязных, кирпичных домишек веяло смиренной скукой. Ветер сдуру вздувал подштанники, развешанные для сушки меж двух зеленых колов, над грядками нищенского огорода. С реки доносился тенорок хриплого граммофона.
Я попытался в общих чертах наметить поэтический облик Руперта Брука. Смерть, которую он так чутко подкарауливал, невзначай застала его в лиловом Эгейском море, в солнечный, гладкий день. Он недолго прожил, и разноцветность его настроений зависит отчасти от того, что он как-то не успел разобраться в богатствах своих, не успел при жизни слить все краски земли в единый цвет, в сияющую белизну. Но все же нетрудно различить основную черту его творчества: страстное служенье чистой красоте…
1922 СЕРГЕЙ КРЕЧЕТОВ “ЖЕЛЕЗНЫЙ ПЕРСТЕНЬ”. СТИХИ
Изд-во “Медный всадник”. 1922. Берлин
(Впервые: “Руль”, 17 декабря 1922.)
В наши черные дни, когда мучат русскую музу несметные хулиганские “поэтисты”, сладко раскрыть книжечку стихов простых и понятных. Я благодарен Сергею Кречетову за скромность его образов, за плавность округлых размеров, за приятный, тусклый блеск его “Железного Перстня”. Особенно хороши стихи из первой части сборника (“Призрак дон Жуана”, “Вожатый”, “Красный плащ”, “Неизвестность”, “Клятва в Верности” и др.); в них есть строгость, стройность, чудесная внутренняя напевность: прочтешь, — и долго затем поет в памяти строка, насыщенная музыкой.
И я не сетую на бледность некоторых прилагательных, на эту легкую ржавчину, проползающую тут и там, даже в лучших стихах, — не сетую и на брюсовскую риторичность многих пьес (“Алкоголь”, “Город”, “Встреча” и др.), на ложную пышность политических стихов в сборнике (напоминающих тютчевские призывы “идти на Царьград”) — все это книге придает оттенок какой-то приятной старомодности. И не хочется говорить о таких промахах, как, например, рифма: Иматра — театра, о ненужности таких эпитетов, как “двугорбый верблюд”, и о том, что в одном стихотворении — о лондонском банкире — Риджент Стрит оказывается в Сити.
Жаль, однако, что поэт поместил в сборнике и переводы свои с английского. Знаменитое “If” Киплинга — такое твердое, простое, я сказал бы — житейское — превращено в нечто очень неуклюжее и выспренное, а строгую заключительную строфу стихотворения Йитса (“Когда ты состаришься”) почему-то заменил следующий хореический лепет:
И склонившись низко в сладостной печали, И глядя, как гаснут золотые искры, О любви вздохните, что прошла так быстро, Что умчалась к звездам, в голубые дали.Меж тем у Йитса сказано так: “И у огня склонясь, шепни уныло — о том, как унеслась любовь и там — вверху — прошла, ступая по горам, — и в сонме звезд лицо свое сокрыла”.
1924 ВОЛШЕБНЫЙ СОЛОВЕЙ. СКАЗКА РИХАРДА ДЕММЕЛЯ
ПЕРЕВЕЛ САША ЧЕРНЫЙ; Иллюстрации И. Глейтсмана. Книгоиздательство “Волга”
(Впервые: “Руль”, 30 марта 1924.)
Молодые народы не имеют хорошей детской литературы, точно так же как юноша редко умеет занимать ребенка. Еще недавно детские книги в России были пропитаны преступной пошлостью “задушевного слова”, написаны были безграмотно, кое-как, — какое дело ребенку до формы! — и украшались рисунками аляповатыми, небрежными, не остающимися навсегда в памяти светлыми, слегка волнующими образами, как остаются краски детских книг, составленных истинными художниками. Книга для детей тогда хороша, когда привлекает и взрослого.
За последние годы поняли, что ребенок бессознательно требует от книги изысканную простоту слога — без сюсюканья и без пословиц, — тщательную изящность иллюстраций. Потому-то он полюбит и “Детский остров” и многие другие милые книги, любовно изданные за рубежом, — и среди них “Волшебного соловья”. Стих Саши Черного легок, катится нежно-гуттаперчевой музыкой, — и сказка Деммеля в его передаче веет свежей, чуть дымчатой мягкостью. Все это лишний раз показывает, какой тонкий, своеобразный лирик живет в желчном авторе “сатир”.
Иллюстрации И. Глейтсмана прелестно и мягко расцвечены и сливаются с текстом. Приключения бедного соловья переданы чрезвычайно привлекательно, и выражением того, что поэты неуклюжи в жизни под бременем обиходных обид, является рисунок № 5, на котором соловей, убегающий в пустыню, похож на курицу.
1924 РУССКАЯ РЕКА
(Впервые: “Наш мир”, 14 сентября 1924.)
Каждый помнит какую-то русскую реку, но бессильно запнется, едва говорить о ней станет: даны человеку лишь одни человечьи слова.
А ведь реки — как души — все разные… Нужно, чтоб соседу поведать о них, знать, пожалуй, русалочий лепет жемчужный, изумрудную речь водяных…
Но у каждого в сердце, где клад заковала кочевая стальная тоска, отзывается внятно, что сердцу, бывало, напевала родная река…
Для странников верных качнул я дыханьем души эти качели слогов равномерных в бессонной тиши… Повсюду, в мороз и на зное, встретишь странников этих, несущих, как чудо, как бремя страстное, родину…
Сам я — бездомный — как-то ночью стоял на мосту, в городе мглистом, огромном, и глядел в маслянистую темноту, — рядом с тенью случайно-любимой, стройной, как черное пламя, да только с глазами безнадежно-чужими…
Я молчал, и спросила она на своем языке: “Ты меня уж забыл?” — и не в силах я был объяснить, что я — там, далеко, на реке илистой, тинистой, с именем милым, с именем что камышовая тишь… Это словно из ямочки в глине черно-синий выстрелит стриж и вдоль по-сердцу носится с криком своим изумленным: вий-вий…
Это было в раю…
Это было в России.
Вот гладкая лодка плывет в тихоструйную юность мою: мимо леса, полного иволог, солнца, прохлады грибной, мимо леса, где березовый ствол чуть сквозит белизной стройной в буйном бархате хвойном, мимо красных, крутых берегов, парчовых островков, мимо плавных полянок сырых, в скабиозах и лютиках…
Раз! — и тугие уключины звякают — раз! — и весло на весу проливает огнистые слезы в зеленую тень. Чу! — в прибрежном лесу кто-то легко зааукал… Дремлет цветущая влага — подковы листьев плавучих, фарфоровый купол цветка водяного… Как мне запомнилась эта река узорная, узкая!.. Вечереет… (И как объяснить, что значило русское: “вечереет”?)
Стрекоза, — бирюзовая нить, два крыла слюдяных, — замерла на перилах купальни… Солнце в черемухах… Колокол дальний… Тучки румяные, русые… Червячка из чехла выжмешь, за усики вытянешь, и — на крючок. Ждешь. Клюет.
Сладко дрогнет леса, и блеснет, шлепнет о мокрые доски голубая плотва, головастый бычок или хариус жесткий…
А когда мне удить надоест, — на деревянный навес взберусь (…Русь!..) и оттуда беззвучно ныряю в отраженный закат… ослепленный, плыву наугад, ширяю, навзничь ложусь, — и не ведаю, где я, — в небесах, на воде ли? Мошкара надо мною качается, вверх и вниз, вверх и вниз, без конца…
Вечер кончается. Осторожно сдираю с лица липкую травку… В щиколотку щиплет малявка: сладок мне рыбий слепой поцелуй. В лиловеющей зыби — узел огненных струй; и плыву я, горю, глотаю зарю вечеровую.
А теперь, в бесприютном краю, уж давно не снимая котомки, качаю-ловлю я, качаю-ловлю строки о русской речонке, строки, как отблески солнца, бессвязные…
Ведь реки — как души — все разные… Нужно, чтоб соседу поведать о них, знать, пожалуй, русалочий лепет жемчужный, изумрудную речь водяных…
Но у каждого в сердце, где клад заковала кочевая стальная тоска, — отзывается внятно, что сердцу, бывало, напевала родная река….
1924 АЛЕКСАНДР САЛТЫКОВ. ОДЫ И ГИМНЫ
Изд. “Милавида”. Мюнхен.
(“Руль”, 1 октября 1924.)
Это — книга искусных стихов, в меру охлажденных, часто очень звучных, изредка простых и прекрасных. Муза поэта живет в те века, когда люди писали на воске и склонны были придавать эпическое значение мелочам жизни и природы. Сапфики, алкаики, гликоники, асклепиады и всякие разновидности гекзаметра — вот какие мудреные размеры воскрешает автор “Од и гимнов”. Из отдельных стихотворений безукоризненно хороши два: “Сыро” и “Лен берут”, оба состоящие из сапфических строф. По примеру древних поэт берет темы из деревенской жизни:
Даже птицы все улетели в поле. Где-то лишь вдали жестяные звуки Слышны: стук… стук… стук… Обивает косу Старый Никифор.Отметим прекрасную сапфическую спазму, после “косу”. Вообще говоря, Салтыков легко поддается звуковому очарованью, и тогда возникают такие великолепно-звонкие стихи:
Родос далекий и Горная Фригия; Пурпуром славный Ваала Сидон. Кипр, иудеями полный, и Лигия и Каппадокия и Колофон…Поэт играет не только именами богов и названиями древних стран, но и названиями ботаническими, свежо рифмуя аристолокия — глубокие, никтернии — вечерние, дали — азалий. Очень хорошо в одном месте:
“розлито в чаше сада спиреи молоко”,— и приятно, когда вместо “георгина” поэт говорит “далия” (Dahlia).
В сборнике есть и философские стихи, и политические, и “современные”. Последние не хуже и не лучше тютчевских стихов на злобу дня. Особняком стоит, однако, стихотворение (январь 1917) о черном пуделе (гетевском), недвижно сидящем на мосту в хлопьях снега. Хороши и строки, посвященные “футуристам”.
Закрывая книгу, испытываешь приятное чувство, словно проделал ряд гармонических, плавных движений на свежем воздухе, и, ободренный благородными ритмами, забываешь посетовать на мелкие промахи автора, — на вялость некоторых стихов, не спасаемых игрой эрудиции, — и на две-три строки такой “русской латыни” (не лишенной, впрочем, своеобразной прелести): “Немного тают в золоте вечера стволы каштанов”…
1924 БРАЙТЕНШТРЕТЕР — ПАОЛИНО
(Впервые: “Слово” (Рига), 28 и 29 декабря 1925.)
Все в мире играет: и кровь в жилах у возлюбленного, и солнце на воде, и музыкант на скрипке.
Все хорошее в жизни: любовь, природа, искусства и домашние каламбуры — игра. И когда мы действительно играем — разбиваем ли горошинкой жестяной батальон или сходимся у веревочного барьера тенниса, то в самых мышцах наших ощущаем сущность той игры, которой занят дивный жонглер, что перекидывает из руки в руку беспрерывной сверкающей параболой — планеты вселенной.
Люди играют с тех пор, как существуют. Бывают века — каникулы человечества — когда люди особенно увлекаются играми. Так было в прежней Греции, в прежнем Риме и в современной нам Европе.
Ребенок хорошо знает, что для того, чтобы всласть поиграть, нужно играть с кем-нибудь или по крайней мере вообразить кого-нибудь, раздвоиться. Иначе говоря, нет игры без соревнования; потому-то некоторые игры, как, например, гимнастические фестивали, когда полсотня мужчин или женщин чертят на плацу общие фигуры одинаковых движений, кажутся пресными, будучи лишены того главного, что придает игре восхитительную, волнующую прелесть. Потому-то так смешон коммунистический строй, при котором все обречены делать все одну и ту же скучноватую гимнастику, не допускающую, чтобы кто-нибудь был стройнее соседа.
Недаром Нельсон говорил, что Трафальгарская битва была выиграна на футбольных и теннисных площадках Итона. И немцы с недавних пор тоже поняли, что гусиным маршем далеко не уйдешь и что бокс, футбол и хоккей поважнее военной и всякой другой гимнастики. Особенно важен бокс, — и мало есть зрелищ здоровее и прекраснее боксовых состязаний. Нервозный господин, не любящий по утрам мыться нагишом и склонный удивляться, что поэт, работающий для двух с половиной знатоков, получает меньше денег, нежели боксер, работающий для многотысячной толпы (не имеющей, кстати сказать, ничего общего с так называемой чернью и охваченной гораздо больше чистым, и искренним, и добродушным восторгом, чем толпа, встречающая гражданских героев), тот нервозный господин отнесется с негодованием и отвращением к кулачному бою, точно так же как и в Риме, вероятно, были люди, которые морщились оттого, что двое здоровых гладиаторов, показывая лучшее, что есть в смысле гладиаторского искусства, надают друг другу таких железных тумаков, что уже никакого “полице версо” не надо, и так друг друга прикончат.
Дело, конечно, вовсе не в том, что боксер-тяжеловес после двух-трех раундов несколько окровавлен, а белый жилет судьи имеет такой вид, словно вытекли красные чернила из самопишущего пера. Дело, во-первых, в красоте самого искусства бокса, в совершенной точности выпадов, боковых скачков, нырков, разнообразнейших ударов, согнутых, прямых, наотмашь, — и, во-вторых, в том прекрасном мужественном волнении, которое это искусство возбуждает. Красоту, романтику бокса изобразили многие писатели. У Бернарда Шоу есть целый роман о профессиональном боксере. О том же писали Джек Лондон, и Конан Дойль, и Куприн. Байрон — этот любимец всей Европы, за исключением разборчивой Англии, охотно дружил с боксерами и любил глядеть на их бои, точно так же, как это любили бы Пушкин и Лермонтов, живи они в Англии. Сохранились портреты профессиональных боксеров XVIII и XIX веков. Эти знаменитые Фигг, Корбетт, Крибб дрались без перчаток и дрались искусно, честно, упорно — чаще до полного изнеможения, чем до нокаута.
И появление в средине прошлого века боксовых перчаток было вовсе не общим местом гуманности, а вызвано было желанием защитить кулак, который иначе можно было легко разбить в течение двухчасовой схватки. Все они давным-давно сошли с боевого помоста — эти славные кулачные мастера, — и немало фунтов стерлингов принесли они своим сторонникам, и доживали до глубокой старости, и по вечерам, в кабаках, за кружкой пива, с гордостью рассказывали о своих былых подвигах. И за ними появились другие — учителя нынешних — громадный Сулливан, Бернс, с виду лондонский щеголь, Джеффрис, сын кузнеца, “белая надежда”, как называли его, намекая на то, что чернокожие боксеры уже становятся непобедимыми.
Те, кто надеялись, что Джеффрис победит черного великана Джонсона, потеряли свои деньги. Две расы глядели на этот бой. Но несмотря на неистовую вражду между белым и черным лагерем (дело происходило в Америке лет 25, а то и больше тому назад), ни единый закон боксовой игры не был нарушен, хотя Джеффрис приговаривал при каждом своем ударе: “Желтый пес… желтый пес…”. И после долгого великолепного боя громадный негр так шарахнул противника, что Джеффрис вылетел навзничь с помоста, через круговой канат, и, как говорится, “уснул”.
Бедный Джонсон! Он почил на лаврах, раздобрел, взял в жены белую красавицу, стал появляться как живая реклама на сцене мюзик-холлей, а потом, кажется, угодил в тюрьму, и недолго маячило в иллюстрированных журналах его черное лицо и белая улыбка.
Мне посчастливилось видеть и Смита, и Бомбардира Уэльза, и Годара, и Уайльда, и Бекетта, и чудесного Карпантье, который победил Бекетта. Этот бой, давший первому 5 тысяч, а второму 3 тысячи фунтов, продолжался ровно 56 секунд, так что некто, заплативший фунтов 20 за место, успел только закурить, а когда посмотрел на ринг, Бекетт уже лежал на досках в трогательном положении спящего младенца.
Спешу предупредить, что в таком ударе, вызывающем мгновенный обморок, нет ничего страшного. Напротив. Мне самому пришлось это испытывать, и могу заверить, что такой сон, скорее, приятен. В самом кончике подбородка есть косточка, вроде той, в локте, которую зовут по-английски “веселой косточкой”, а по-немецки “музыкальной”. Всякий знает, что если крепко удариться углом локтя, в руке сразу — мелкий звон и мгновенное оцепенение мышц. То же происходит, если очень сильно ударить вас в кончик подбородка.
Никакой боли. Только раскат мелкого звона и мгновенный приятный сон (так называемый “нокаут”), продолжающийся от десяти секунд до получасу. Менее приятен удар в солнечное сплетение, но хороший боксер так умеет напрячь живот, что не дрогнет, даже если лошадь лягнет его под ложечку.
Карпантье я видел и на этой неделе, во вторник вечером. Он явился как тренер тяжеловеса Паолино, и зрители как будто не сразу узнали в этом скромном белокуром молодом человеке недавнего чемпиона мира. Ныне слава его потускнела. Говорят, что после страшной схватки с Демпсеем он рыдал как женщина.
Паолино явился на ринг первым и сел, как полагается, в угол на табурет. Огромный, с темной квадратной головой, в пышном халате до пят, — этот баск был похож на восточного идола. Озарен был только самый ринг, а в белом конусе света, падающего на него сверху, помост казался серебристым. Этот серебристый куб посредине темного исполинского овала, где частые ряды бесчисленных человеческих лиц напоминали зерна спелой кукурузы, рассыпанные по черному фону, — этот серебристый куб казался озаренным не электричеством, а сосредоточенной силой всех взглядов, устремленных на него из темноты. И когда на светлый помост взошел противник баска, чемпион Германии Брайтенштретер, светловолосый, в халате мышиного цвета (и почему-то в серых штанах, которые он тут же стал стягивать), огромная темнота задрожала радостным гулом. Гул не смолкал ни пока фотографы, прыгнув на край помоста, наводили свои “обезьяньи ящики” (как выразился мой сосед-немец) на бойцов, на судью, на секундантов, ни пока чемпионы “боевые рукавицы натягивали” (мне вспоминается “молодой опричник и удалой купец”). И когда оба противника поскидали с могутных плеч халаты (а не “шубы бархатныя”) и кинулись друг на друга в белом блеске ринга, легкий стон прошел в темной бездне, в рядах кукурузных зерен и в верхних туманных ярусах, — ибо все видели, насколько баск крупнее, коренастее их любимца.
Брайтенштретер напал первый, и стон превратился в грохот восторга. Но Паолино, вобрав в плечи голову, отвечал короткими крюками снизу вверх, и чуть ли не с первых же минут лицо немца блестело кровью.
При каждом ударе, получаемом Брайтенштретером, мой сосед со свистом вбирал воздух, словно сам получал удары, и крякала каким-то огромным сверхъестественным кряком вся темнота, все ярусы. Уже на третьем раунде стало заметно, что немец ослабел, что удары его не могут оттолкнуть сгорбленную оранжевую гору, надвигающуюся на него. Но он бился с необыкновенной смелостью, стараясь наверстать быстротой те 15 фунтов, на которые баск был тяжелее его.
Вокруг светящегося куба, по которому плясали бойцы и судья, извивавшийся между ними, черная темнота замерла, — и в тишине сочно брякала лоснистая от пота перчатка о голое живое тело. В начале седьмого раунда Брайтенштретер упал, но через 5–6 секунд, рванувшись, как лошадь на гололедице, встал. Баск тотчас налетел на него, зная, что в таких случаях нужно действовать решительно и быстро, вкладывать в удары всю возможную мощь, а то бывает, что только жгучий, но не крепкий удар, вместо того чтобы добить ослабевшего противника, действует на него живительно, пробуждает его. Немец отклонялся, цеплялся за баска, стараясь выиграть время, дотянуть до конца раунда. И когда он снова повалился, то, действительно, гонг спас его: на восьмой секунде он с громадным усилием встал, дотащился до табурета. Каким-то чудом он выдержал восьмой раунд, при восходящих раскатах рукоплесканий. Но в начале раунда девятого Паолино, бьющий его под челюсть, попал так, как хотел. Брайтенштретер рухнул. Неистово и нестройно заревела темнота. Брайтенштретер лежал калачиком. Судья досчитал роковые секунды. Он продолжал лежать.
Так окончилось состязание, и когда мы все вывалили на улицу в морозную синеву снежной ночи, я уверен, что в самом дряблом отце семейства, в самом скромном юноше, в душах и мышцах всей этой толпы, которая завтра рано утром разойдется по конторам, лавкам, заводам, — было одно и то же прекрасное ощущение, ради которого стоило свести двух отличных боксеров, — ощущение какой-то уверенной искристой силы, бодрости, мужества, внушенных боксовой игрой. И это играющее чувство, пожалуй, важнее и чище многих так называемых “возвышенных наслаждений”.
1926 А. БУЛКИН
СТИХОТВОРЕНИЯ. Париж. 1926.
(Впервые: “Руль”, 25 августа 1926.)
У этого поэта есть рифмы трех сортов:
1) рифмы, которые привели бы в умиление старого Тредьяковского, —
Я знаю только эту землю и как перейти высокую ограду, освободить из заключенья дни.__________
За листьями сухими следом, и при свете падающих звезд, приходят элегии печальные стихи.__________
О тени тающей и о надежде, вере и любви словами счастья моего пишу про радости твои;2) рифмы, в которых чувствуется старинное пренебрежение к звуку “ё”, и современное стремление к противоестественным ассонансам. Примеры: “железный” — “слезы”, “сердце” — “спасется”, “надоест” — “водоем”. Последний пример особенно прелестен;
3) рифмы, которые подтверждают истину, что у некоторых поэтов есть непреодолимое влечение рифмовать дугу и колокольчик. Примеры: “перемен” — “котле” (я предложил бы “котлет” — “котле”), “дрова” — “жильцах”, “землю” — “нельзя”, “греха” — “воздуха”, “нести” — “радости” и т. д.
Кроме удивительных рифм у автора имеются удивительные ударения: “пережитый”, “различить”, “забытие”, — и такого рода курьезы: “как глубоки декабрьские (декаберьские?) ночи”, “и жалко бодрствовать (бодрыствовать?) перестать”.
Выписываю, наконец, и образы, которые меня больше всего озадачили: “один по ровному пути бегу в различных направленьях”, “маячат рядом два лица: одно плывет, другое скачет”, “тишайшая любовь направит сердце в деревни мыслей, в города идей” (обратить внимание на превосходную степень — дань Цеху), “меня стрижет моя Далила, доводит до потери сил”.
Образ бедного Самсона, выходящего из роковой парикмахерской, принадлежит к разряду тех, которые углублять не следует: голова, остриженная под нулевой номер, голая, круглая, синеватая, едва ли производит поэтическое впечатление.
1926 БЕНЕДИКТ ДУКЕЛЬСКИЙ
СОНЕТЫ
(Впервые: “Руль”, 3 ноября 1926.)
Мне приходилось видеть сонеты-сороконожки, состоящие из десяти строф; написанные гекзаметром; сонеты, лишенные рифм и размера (иначе говоря, “стихотворенье в прозе”, — очень, кстати сказать, незамысловатая штука: вместо “твои руки” ставишь “руки твои” и вместо “весенняя ночь” — “ночь весенняя”). Авторами этих оригинальных произведений были обыкновенно дамы — или очень юные гимназисты. Я невольно пришел к заключенью, что неопытного поэта прельщает вовсе не форма сонета, а самое слово “сонет” — звонкое, “утонченное”, как говорят в русской провинции. Будь оно покорявее, число людей, пишущих “сонеты”, значительно бы уменьшилось. Все это, однако, не относится к Бенедикту Дукельскому. “Суровый Дант не презирал сонета”. Не презирает его и Дукельский. Сонетная схема рифм, четырнадцать законных строк, ямбический размер — это у него есть. А всего сонетов в книге круглым счетом двести пятьдесят. Об общем настроеньице книги можно уже судить по названьям отделов: “К созвездиям”, “Созвучья”, “При грусти” (“я читаю стихи при грусти”) и тому подобные заклинательные жесты, ничего доброго не предвещающие. Раскрываю книгу наудачу и читаю: “за пережитым днем для лунствующих смен их явность прежняя светяще многолика. Постигнем грусть в словах у сонмов переклика. И круг угаснувший, межзвездный, вожделен… (пропускаю вторую строфу — все равно понятнее не станет, — и цитирую дальше)… и мрачно веще там, как древний Аластор, видение, уж больше так-то сразу. Предчувствуемы лишь медлительные Азы”. Будет? Да. Можно “как-то сразу” сказать, что ни “Аза” лунствующий автор в поэзии не смыслит. Все сонеты в книге — такого же типа.
Безграмотный набор слов, неправильные ударенья, почти полное отсутствие смысла (и какие-то беспомощные клише, когда и есть проблеск мысли!), насилие над цезурой и женской рифмой, — и все это в ореоле какого-то наивнейшего провинциализма — вот что приходится сказать о творчестве Бенедикта Дукельского. Эпиграфом к “Сонетам” взят стих Пушкина “Прекрасное должно быть величаво”. Но должна ли быть величава безграмотная чушь?
1927 СЕРГЕЙ РАФАЛОВИЧ
ТЕРПКИЕ БУДНИ. СИМОН ВОЛХВ.
(Впервые: “Руль”, 19 января 1927.)
Первая из этих двух книг — небольшой сборник приятных, гладких, мелких стихов. Их мягкость порою переходит в слабость, гладкость — в многословие. Для того чтобы сказать, например, что наступили сумерки, вряд ли нужна такая расточительность: “Но день бледнел, бледнел и гас, пока не наступил предсмертный час на склоне дня, на зыбкой грани мрака, тот час, который мы зовем не ночью и не днем, а часом между волком и собакой”. Шесть строк вместо двух слов. Недостатком творчества Сергея Рафаловича нужно признать и склонность к тем общим идеям, которые спокон веков встречаются в стихах, не становясь от этого ни более верными, ни менее ветхими. Сравнивать город с “разодетой проституткой”, утверждать, что люди — это маски, что земля “тупо вертится”, что любовь — “сладчайший и мучительный грех”, все это — дешевый поэтический пессимизм и в смысле творческом — линия наименьшего сопротивления. Зато там и сям меж двух вялых строк встречается у Рафаловича подлинно прекрасный стих, как, например, этот ответ души ее создателю: “ненужной телу я была и, с ним не споря, завернулась, как в белый саван, в два крыла”.
Вторая книжка поэта “Симон Волхв” начинается очень тонко, очень просто, но в дальнейшем — какая-то расплывчатость, слишком гладкая неяркость (такой стих, например, как “в часы тревоги и сомненья, когда грядущее темно”, — просто пустое место, и таких пустых мест в поэме многовато).
Мне хотелось бы попросить Сергея Рафаловича (да и не только его, а большинство современных поэтов) раз и навсегда отказаться от тех мужских “рифм”, которые одинаково противны и слуху и глазу. “Рифма” зари — говорит или судьба — зубах или глаза — сказал — смехотворная хромота и больше ничего.
Сергея Рафаловича нельзя причислить к “молодым, подающим надежду” (его первый сборник вышел в 1901 г.). На кого же надеяться, кого выбрать, что отметить? Не безвкусие же Довида Кнута и не претенциозную прозаичность пресного Оцупа. Может быть, вдохновенную прохладу Ладинского или живость Берберовой? Не знаю. Дай Бог, чтобы годы эмиграции для русской музы не пропали зря.
1927 ДМИТРИЙ КОБЯКОВ, ЕВГЕНИЙ ШАХ
Дмитрий Кобяков
ГОРЕЧЬ (“Птицелов” Париж. 1927). КЕРАМИКА (Там же. 1925)
Евгений Шах
СЕМЯ НА КАМНЕ (Париж. 1927)
(Впервые: “Руль”, 11 мая 1927.)
Есть в России довольно даровитый поэт Пастернак. Стих у него выпуклый, зобастый, таращащий глаза, словно его муза страдает базедовой болезнью. Он без ума от громоздких образов, звучных, но буквальных рифм, рокочущих размеров. Синтаксис у него какой-то развратный — чем-то напоминает он Бенедиктова. Вот точно так же темно и пышно Бенедиктов писал о женском телосложенье, о чаше неба, об амазонке.
Восхищаться Пастернаком мудрено: плоховато он знает русский язык, неумело выражает свою мысль, а вовсе не глубиной и сложностью самой мысли объясняется непонятность многих его стихов. Не одно его стихотворенье вызывает у читателя восклицанье: “Экая, ей Богу, чепуха!” Такому поэту страшно подражать. Страшно, например, за Марину Цветаеву. Страшно и за молодого поэта Дм. Кобякова, выпустившего только что два небольших сборника. Книжка “Горечь” открывается посвящением Пастернаку: “Каким просторам открывал? Где намечают поцелуем”. Причем тут дательный падеж, где подлежащее и прямое дополнение — вряд ли знает сам автор. Почти в каждом стихотворенье есть такого рода курьезы. “Когда копьем простая ложка ранит в предсмертном стоне увидавших глаз”. Язык крайне неряшлив. “Не вспомню, зачем и куда я закинул письмо заказное и, кажется, мне”. Мужские рифмы частенько нелепы: стен — тел, чешуи — ширь, любви — просил, еще — слет, саду — задув (последнее особенно мило). От того, что в словах “стен” и “тем” совпадают буквы “т” и “е”, еще не значит, что это совпадение улавливается слухом (а ведь как там ни верти, рифма создана для слуха, а не для глаза). Этак можно дойти до того, чтобы рифмовать “кровь” и, скажем, “ротмистр” (и тут и там “ро”). Несмотря, однако, на эту тягу к искалеченной рифме и к модной неуклюжести стиха, ничуть не лучшей, по своему существу, текучести-певучести бесчисленных маленьких Апухтинов прежних лет, — несмотря на манерную томность выражений и на пастернаковское влияние, Кобякову не удается вконец вытравить поэзию из своих стихов. Хорош, например, пляж (9-е стихотворенье в сборнике “Керамика”), где у “кабинок коричневых черные рты” и “душно в бутылочной зелени вод”. Чрезвычайно удачно третье стихотворенье в том же сборнике: поэт, сидя в таверне, рвется “через дым, через звуки туда, где медленно плыло норвежское судно — на плоских обоях — в пятнистую даль”. Тут, по крайней мере, неясное выражение образно, т. е. ясно.
Евгений Шах выбрал себе другого учителя — Гумилева. О Гумилеве нельзя говорить без волненья. Еще придет время, когда Россия будет им гордиться. Читая его, понимаешь, между прочим, что стихотворенье не может быть просто “настроением”, “лирическим нечто”, подбором случайных образов, туманом и тупиком. Стихотворенье должно быть прежде всего интересным.
В нем должна быть своя завязка, своя развязка. Читатель должен с любопытством начать и с волненьем окончить. О лирическом переживанье, о пустяке необходимо рассказать так же увлекательно, как о путешествии в Африку. Стихотворенье — занимательно, — вот ему лучшая похвала.
В некоторых стихотвореньях Евг. Шаха есть эта особая занимательность. Он, правда, очень молод, у него находишь ужасающие промахи (вроде “пусть ласков свет чужой культуры”), но как хорошо зато стихотворенье “я видел сон: горячего коня и всадника прекрасного на диво” (и особенно хороша развязка: “и лишь на камнях и кустах остались — лоскутья мяса и густая кровь, — и муравьи ручьями к ним стекались”) или описанье городской весны: “и торцы, как зеркало, блестящие, пахнут жарко нефтью и смолой; бабочки летают настоящие над коварной, липкой мостовой”. Особенно удачен “Сентябрь” и “Бунт вещей” (“Вещи каждое утро ожидают события, но высокая мачта Эйфелевой башни никогда не будет готова к отплытию”). Если и есть у Шаха наивность, подчас не совсем приятная (возмущенье по поводу “разврата” “Эжазе” и т. д.), то зато нет ни вывертов, ни абракадабры. Это настоящий поэт.
1927 НОВЫЕ ПОЭТЫ
ВЛАДИМИР ДИКСОН. “ЛИСТЬЯ”. Изд. “Вол”. Париж.
ДАНИИЛ ГУСЕВ. (Р-Х) “ГРЕШНЫЙ ЦВЕТ”. Париж.
Р. АРКАДИН. (И. Ц.) “СОВРЕМЕННЫЕ КОЛОКОЛА”. Изд. “Зарницы”. Брюссель.
ЛЕВ ШЛОСБЕРГ. “В ДЫМКЕ ЗАКАТА”. Рига.
ЮРИЙ ГАЛИЧ. “ОРХИДЕЯ”. Рига.
Г. ПРОНИН. “УЗОР ТЕНЕЙ”. Изд. “Чешская беллетристика”. Прага.
(Впервые: “Руль”, 31 августа 1927.)
Мне как-то приходилось писать о том, что, на мой взгляд, фабула так же необходима стихотворению, как и роману. Самые прекрасные лирические стихи в русской литературе обязаны своей силой и нежностью именно тому, что все в них согласно движется к неизбежной гармонической развязке. Стихи, в которых нет единства образа, своеобразной лирической фабулы, а есть только настроение, — случайны и недолговечны, как само это настроение. Если, скажем, стихотворец, решив описать свою грусть, не имеет в виду единого определенного образа, в котором бы воплощалась эта грусть, то получается нечто расплывчатое и безответственное, стихотворение бесцельное, не рассказывающее и не показывающее ничего. Такое стихотворение скучно. Из него можно вычесть целую строфу, и оно не станет ни лучше, ни хуже. Читаешь его, доходишь до низа страницы, рассеянно думаешь: кончено, — перевертываешь страницу и находишь продолжение. Такими бесцельными, скучными, хотя вполне грамотными, стихами наполнен сборник Владимира Диксона. Изредка скажешь: недурно (“Земля, где я родился, земля, где я умру”… или “О том, как люди погибают, нельзя живущим говорить…”), но ни один стих не заставит улыбнуться от удовольствия, ни один не вызовет холодка восхищения. Погрешностей особых нет, но нет и прелести. Поэт жалуется, негодует, грустит, скучает, обращается к Богу — и в памяти у читателя не остается ничего. (Зато совсем хороши три маленьких рассказа в том же сборнике. Прекрасный язык, образная простота.)
И Даниил Гусев навевает скуку. Во всей книге одно только стихотворение стройно и занимательно: “Она мелькнула средь толпы на потухающем вокзале” (что значит его безобразный заголовок “Из Мгновений”, и почему весь сборник назван “Грешный Цвет”, — не знаю). Стихи Гусева скучны потому, что автор не пользуется даром зрения. Если он говорит “дверь” или “камень” или “заря”, то это все символы чего-то, а не просто дверь, камень, заря. Гибельный путь! “Невольно в грудь мою стучат воспоминанья, я к ним влекусь всей пламенной душой, но прошлое кладет кровавое лобзанье на этот лик страдальчески-простой”. Грудь, душа, лобзанье, лик — какой ужасный винегрет! Истинное значенье слов забывается, и символ начинает жить своей жизнью, с таким любопытным результатом: “…лучшие созвучья схоронены в моей заплаканной груди”. А не то автора губят синонимы образа, — однозначущие символы. Так, например, начинает он с “колодца” (символ житейского прозябанья, что ли). Вскоре оказывается, что в его колодце находятся “раки, и жабы, и рыбы, и змеи”. Далее этот аквариум превращается в “вертеп”, а затем в “затон” (все тот же символ). И после этого заключительного превращенья автору, конечно, ничего другого не остается, как призвать на помощь добрый, испытанный образ “ладьи”. Не все обстоит благополучно и с языком, а именно с удареньями: “предавший меня руль”… “твое тонкое лицо”, “сердце твое чуткое”. Вообще говоря, поэтам вроде Диксона и Гусева хорошо бы перестать описывать свои внутренние переживания и взяться за изображение чего-либо другого, ну, что ли, вида из окна или прогулки за город.
Что можно сказать об Аркадине? В его стихах есть пренеприятный гражданский оттенок. Автор страдает “приятием Февраля” в самой тяжелой форме — стихотворной. Он клянет Дзержинского, но вместе с тем признает “сдвиги” и, взглянув на “русского великана” (советскую Россию), не без удовлетворенья задает три вопроса: “Где алчный поп? Где тяжкие вериги? Где монастырский тягостный дурман?” В другом месте сияет следующее: “Вперед! Да здравствует свобода среди земель и средь морей”! (Свобода внешней торговли?). Есть у него и стихотворение, которое начинается довольно бесцеремонно так: “Россия, нищая Россия”… (Кое-кто однажды уже это сказал.) Автор считает, что его стих “ласкающе красивый”, с чем, конечно, нельзя не согласиться при чтении таких, например, строк: “Россия, ты мочой и калом покрыта вся, покрыта сплошь”.
Лев Шлосберг назвал свой сборник “В Дымке Заката”, вероятно, оттого, что это “звучит изысканно”. Он хотел бы, “чтобы вся жизнь бы была неизменной борьбой, чтоб в мой челн били волны прибоя, чтобы шел вечный бой между морем и мной, чтоб я все мог забыть в пылу боя”. Этот старый прием: чтоб-чтоб-чтоб до одуренья, хорошо был известен еще Надсону, но изумительно у Шлосберга другое, а именно отсутствие слуха. Можно подумать, что дальше какофонии “жизнь бы была” и “пылубоя” трудно пойти, но автор все же пошел: “побежденный искал б в них могилы”. Лбвн! Прелестно. Кроме приема “чтоб-чтоб-чтоб”, Шлосберг знает и лирический прием “к чему-к чему-к чему”: “Окончен сон, мечты разбиты, к чему обманывать себя, к чему еще надежды скрыты, к чему надеждам верю я” и т. д. У Шлосберга есть также географически-исторические стихи — Инквизиция, Нил, Рим, Индия (традиция Надсона и Фруга). В стихотворении об Индии есть замечательный пария, который, бросаясь под колесницу, теряет один слог: “Мимо, гремя, пронеслась колесница, парья не тронут… Жестокий каприз”! и дальше: “Что было Богу до парьи кощунств”? Вообще автор нечувствителен к языку. Так, “клоака” рифмуется у него с “сыпняка”.
Раскрыв “Орхидею” (опять “изысканное” названье) Юрия Галича наобум, я сразу напал на хорошее стихотворение: “Давно, давно, лет шесть тому назад, с берданкою в руке, в поршнях, в кафтане рваном, в пригожий летний день, с рассветом, ранним-раном, проселком пахотным идет со мной Игнат”. Прочитав весь сборник, я пожалел, что автор не остановился только на одной теме, на теме о вот таких охотничьих рассветах. Все остальное в этом толстом сборнике, кроме двух-трех военных стихотворений, чрезвычайно слабо. Автор посвящает Гумилеву стихи об Африке, но как можно, любя Гумилева и зная его Африку, писать о “мотивах мимозной поэзы”, об “одеждах солнечных и фейных” и о том, что на озере Чад — “фламинго и львиный галоп”! Скверной олеографией кажутся эти изображенья тропического мира, и неприятным ювелирным блеском отливают многие и многие строки Галича (“в моей душе смарагдная поэма” и т. д.). Нелепостей в “Орхидее” хоть отбавляй: “…И за чарою смеемся мы шампанской, поздно ночью стукнувшись в отель”; “У тамила Бена опыт, где сноровкой, где рублем, пинта рома, тайный шопот, и тамил бежит вдвоем”… Или такие “смелые” рифмы: “Тихой лентой вьется Ворскла, небо нежит синий ворс сткла”. Автор очень вольно обращается с именами собственными: в Тиргартене он любуется амазонкой, “как пламенный Дедал”, Гейне, оказывается, “могучий меч и щит” Германии, “майский полдень на Шпрее” с мундирами, и шлемами, и капралами — “как картина Беклина”, и т. д. Лирика автора, по существу, не выше лирики Ратгауза. В ней, правда, много “лиловых печалей”, и “ароматностей”, и “лунногрез”, но от этого она лучше не становится. И я почему-то вспоминаю одну знакомую поэтессу, которая перед тем, как прочесть мне стихотворение, где встречаются слова “изломы”, “фиолетовый”, “экстазы”, предупреждает: “Вот это несколько декадентское, в новом духе”.
Отметив сразу в сборнике Г. Пронина две-три погрешности — ужасные слова “светотени” и “звонный” и такие созвучия, как “чаруют ласки — волшебные сказки”, спешу сказать, что Пронин пишет простые, хорошие, русские стихи. Он не стремится перепевать чужое, его слова, даже самые обыкновенные слова, не звучат повторением, — потому что он употребляет их только тогда, когда они действительно ему нужны, когда они действительно одевают его мысль. Пустым звоном он не тешится, его спокойный, тихий стих правдив и ясен. Как хорошо, например, стихотворение “Дорога”: “Дорога, пыль, лесок, поляна, опять поляна, вновь лесок” — и дальше ответ ямщика: “Эх, барин, притомились кони. Жара, дорога по песку. Слепней-то страсть какая гонит, потом сойдут по холодку. По холодку покатим скоро, проедем Лысую межу, и к ночи, где дорога бором, я колокольчик отвяжу”. Русским лесом, русским ветерком, ольхой да березой пахнет от книги Пронина. Вот береза, которая “прядь кудрявых ветвей уронила на луг до земли”, вот “молодой, удалой мухомор”, вот “дрожит на месте хищник смелый, — в тени трепещет стрекоза: зеленый узкий стебель — тело и бирюзовые глаза”. Огромным достоинством стихов Пронина является то, что пресловутой революции, пресловутых сдвигов в них не чувствуется вовсе. Эти тихие скромные стихи как будто написаны не в эмиграции, а в ольховом глушняке, в той чудесной неизменной лесной России, где нет места коммунистическим болванам.
1927 ЮБИЛЕЙ
К десятой годовщине октябрьского переворота 1917 года
В эти дни, когда тянет оттуда трупным запашком юбилея, — отчего бы и наш юбилей не попраздновать? Десять лет презрения, десять лет верности, десять лет свободы — неужели это не достойно хоть одной юбилейной речи?
Нужно уметь презирать. Мы изучили науку презрения до совершенства. Мы так насыщены им, что порою нам лень измываться над его предметом. Легкое дрожание ноздрей, на мгновение прищурившиеся глаза — и молчание. Но сегодня давайте говорить.
Десять лет презрения… Я презираю не человека, не рабочего Сидорова, честного члена какого-нибудь Ком-пом-пом, а ту уродливую тупую идейку, которая превращает русских простаков в коммунистических простофиль, которая из людей делает муравьев, новую разновидность, formica marxi var. lenini (Муравей марксистский, разновидность ленинская (лат.)). И мне невыносим тот приторный вкус мещанства, который я чувствую во всем большевицком. Мещанской скукой веет от серых страниц “Правды”, мещанской злобой звучит политический выкрик большевика, мещанской дурью набухла бедная его головушка. Говорят, поглупела Россия; да и немудрено… Вся она расплылась провинциальной глушью — с местным львом-бухгалтером, с барышнями, читающими Вербицкую и Сейфуллину, с убого-затейливым театром, с пьяненьким мирным мужиком, расположившимся посередине пыльной улицы.
Я презираю коммунистическую веру как идею низкого равенства, как скучную страницу в праздничной истории человечества, как отрицание земных и неземных красот, как нечто, глупо посягающее на мое свободное “я”, как поощрительницу невежества, тупости и самодовольства. Сила моего презрения в том, что я, презирая, не разрешаю себе думать о пролитой крови. И еще в том его сила, что я не жалею, в буржуазном отчаянии, потери имения, дома, слитка золота, недостаточно ловко спрятанного в недрах ватерклозета. Убийство совершает не идея, а человек, — и с ним расчет особый, — прощу я или не прощу — это вопрос другого порядка. Жажда мести не должна мешать чистоте презрения. Негодование всегда беспомощно.
И не только десять лет презрения… Десять лет верности празднуем мы. Мы верны России не только так, как бываешь верен воспоминанию, не только любим ее, как любишь убежавшее детство, улетевшую юность, — нет, мы верны той России, которой могли гордиться, России, создавшейся медленно и мерно и бывшей огромной державой среди других огромных держав. А что она теперь, куда ж ей теперь, советской вдове, бедной родственнице Европы?.. Мы верны ее прошлому, мы счастливы им, и чудесным чувством охвачены мы, когда в дальней стране слышим, как восхищенная молва повторяет нам сыздетства любимые имена. Мы волна России, вышедшей из берегов, мы разлились по всему миру, — но наши скитания не всегда бывают унылы, и мужественная тоска по родине не всегда мешает нам насладиться чужой страной, изощренным одиночеством в чужую электрическую ночь на мосту, на площади, на вокзале. И хотя нам сейчас ясно, сколь разны мы, и хотя нам кажется иногда, что блуждают по миру не одна, а тысяча тысяч России, подчас убогих и злобных, подчас враждующих между собой, — есть, однако, что-то связующее нас, какое-то общее стремление, общий дух, который поймет и оценит будущий историк.
И заодно мы празднуем десять лет свободы. Такой свободы, какую знаем мы, не знал, может быть, ни один народ. В той особенной России, которая невидимо нас окружает, живит и держит нас, пропитывает душу, окрашивает сны, — нет ни одного закона, кроме закона любви к ней, и нет власти, кроме нашей собственной совести. Мы о ней можем все сказать, все написать, скрывать нам нечего, и никакая цензура нам не ставит преграды, мы свободные граждане нашей мечты. Наше рассеянное государство, наша кочующая держава этой свободой сильна, и когда-нибудь мы благодарны будем слепой Клио за то, что она дала нам возможность вкусить этой свободы и в изгнании пронзительно понять и прочувствовать родную нашу страну.
В эти дни, когда празднуется серый, эсэсерый юбилей, мы празднуем десять лет презрения, верности и свободы. Не станем же пенять на изгнание. Повторим в эти дни слова того древнего воина, о котором пишет Плутарх: “Ночью, в пустынных полях, далече от Рима, я раскинул шатер, и мой шатер был мне Римом”.
1927 Е. А. ЗНОСКО-БОРОВСКИЙ
КАПАБЛАНКА И АЛЕХИН
(Впервые: “Руль”, 16 ноября 1927.)
Эта небольшая книжка явится для любителя шахматного искусства занимательнейшим романом, — или вернее, первым томом романа, ибо герои его только теперь по-настоящему сшиблись, и в будущем им предстоит еще немало восхитительных схваток. Зноско-Боровский, сам талантливейший игрок, пишет о шахматах мастерски. Книга начинается рассказом о том, как яркая, пьяная комбинационная игра прежних лет (Андерсен, Пильсбери и др.) перешла в позиционную игру под влиянием Стейница, Шлехтера, Рубинштейна, Ласкера, холодных мастеров, поклонников строгости и сухости в шахматах.
“Капабланка, — пишет автор, — вернул шахматы из области суровой науки в сферу веселого и радостного искусства”, и он описывает дальше чудесную его карьеру, победу над Ласкером, триумфы, триумфы, неожиданный период вялости и опять триумфы. Есть “игра в пространстве”, для которой характерна забота о целости и крепости каждой позиции, и “игра во времени”, т. е. игра в движении, в развитии. И вот Капабланка является игроком динамическим, “рыцарем быстро бегущего времени”. Не менее метко описывает Зноско-Боровский игру Алехина. Сравнивая его с Капабланкой, он называет последнего классиком и техником, а Алехина — романтиком и тактиком. Капабланка спокоен, и в его палитре есть гениальная гармония. Алехин горяч, воображение его не знает преград, комбинации его сказочны. “Его игра расходится словно веером, который будет сложен лишь в миг последнего удара”.
Текст снабжен несколькими интересными диаграммами, а в конце книги даны четырнадцать избранных партий Капабланки и Алехина с прекрасными, хоть и краткими примечаниями.
Отмечаю необыкновенную живописность некоторых выражений автора и бодрый, крепкий темп всего изложения. Зноско-Боровский пишет о шахматах со смаком, сочно и ладно, как и должен писать дока о своем искусстве. Нижеподписавшийся, скромный, но пламенный поклонник Каиссы, приветствует появление этой волнующей книги.
1927 “ЗОДЧИЙ”
Книжный кружок. Белград.
(Впервые: “Руль”, 23 ноября 1927.)
В этом сборнике представлено десять поэтов.
У В. С. Григоровича есть размах, но есть и промахи. Великолепно, например, следующее: “То я встаю громадной тенью и ясно вижу чрез окно свое мятежное движенье, и плащ мой улицу метет, шагаю прямо через крыши, но мой широкий вещий ход еще пока никто не слышит”. Безграмотно и все-таки чем-то хорошо: “…созерцавшему в синей от молний дали Божество в ослепительный рост”. Но зато совсем плохо: “под самумом, идущим теперь, устоять должен я на обеих ногах”.
Среди стихов Евг. Кискевича есть одно очень занятное, безвкусное, но не лишенное какой-то грубой оригинальности. Действие происходит в церкви: “Угрюмый блондин у колонн прислонил ослабевшие плечи…” Оглушительная строка! Кроме того, принужден отметить, что первое стихотворение Кискевича начинается так: “Работай, работай, работай” (взято целиком у Блока), а последнее так: “Я говорю о нежности, о славе” (тоже вроде Блока).
К Ирине Кондратович грешно придираться. Большинство поэтесс любит писать “рот” вместо “губ” и воспевать колдуний, шелка и Пьеро с Коломбиной.
А у Екатерины Таубер есть также черта, присущая всем поэтессам. Это обращение не на “ты”, а на “вы”. Ее стихи не избежали губительного влияния Ахматовой, поэтессы прелестной, слов нет, но которой подражать не нужно. Меж тем Е. Таубер пишет: “На голове лежат так гладко волосы, одежды строг чернеющий (?) атлас, я никогда не повышаю голоса, я никогда не поднимаю глаз”.
Александр Костюк дал три бледных, ничем не замечательных стихотворения. Одно из них — Аннамитская песня: “Плывет сампан по черной воде, и ночь вокруг, уснул банан” и т. д. Рецепт известен.
Среди стихотворений Леонида Кремлева восемь очень плохих и одно совершенно прекрасное: “Когда над мертвыми полями взойдет последняя звезда, когда как зверь завоет в яме душа в предчувствии Суда, — тогда заблещут в небе трубы, и ангел мстительной рукой в мои оскаленные зубы вонзит свой факел огневой. Но я, глотая месть и пламень, не уступлю, не отойду и брошу мой последний камень в его последнюю звезду”.
Л. И. Машковский пишет в стихотворении “Тигр” о “кавалькадах обезьяньих и птичьих”. Позволю себе заметить, что птица все-таки не лошадь. Заинтересовала меня и другая строка: “Был органически слит в волевом напряжении”…
Гр. Наленч пишет об “игре закатных лучей”, о “страстном надрыве”, о том, что “весенние грезы трепещут”, и о других таких вещах, которые можно найти в очень старых номерах “Нивы” за подписью Круглова, Порфирова, Коринфского и других.
У Дм. Сидорова есть две-три недурных строки: “и вместо белых роз весны блеск ослепительный кинжала, и вместо синевзорых дев гул потрясающих сражений”. Однако, оказывается, что Дм. Сидоров “верен идеалу”, а слово “идеал” в стихах — как глоток миндального молока.
У Юрия Сопоцько есть какая-то ребячливость в стихах, и это и хорошо, и плохо. Плохо, когда это переходит в сюсюканье. Хорошо, когда внушает такие стихи: “…и не страшно в засаде найти свою смерть, не узнав, чья была это месть. Но как страшно, как глупо, как смешно умереть, оттого что нечего есть”.
1927 ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ
СОБРАНИЕ СТИХОВ. К-во “Возрождение”. Париж.
(Впервые: “Руль”,14 декабря 1927.)
“Адриатические волны! О, Брента!..” Как много в этом взволнованном восклицании… Но пушкинской Бренты нет. Брента — просто “рыжая речонка”… Такой увидел ее воочию Владислав Ходасевич и, поняв обман романтической мечты, полюбил “в жизни и в стихах” прозу. Спешу, однако, отметить, что, во-первых: эта “рыжая речонка” Ходасевича не менее прекрасна в своем роде (а прекрасна она именно потому, что мутная и рыжая), чем та Брента, которая мерещилась Пушкину; и что, во-вторых: “Проза”, о которой говорит Ходасевич, — совсем необыкновенная проза. Если под поэзией в стихах понимать поэтические красоты, узкое традиционное поэтичество, то проза в стихах значит совершенную свободу поэта в выборе тем, образов и слов. Дерзкая, умная, бесстыдная свобода плюс правильный (т. е. в некотором смысле несвободный) ритм и составляют особое очарование стихов Ходасевича.
“Адриатические волны! О, Брента!..” Пушкинский певучий вопль (я говорю только о звуке — о лепете первой строки, о вздохе второй) является как бы лейтмотивом многих стихов Ходасевича. Его любимый ритм — ямбический, мерный и веский. Пусть он местами строг до сухости; неожиданно он захлебывается упоительным пэоном, острая певучесть перебивает холодноватый ход стиха. Трепетность его хорея удивительна. Поэт ахнул, проснулся в тот самый миг, как скользнул было в сон. “Сердце бьется невпопад” (что чудесно выражено хромой рифмой “только” — “столика”), и “только ощущением кручи ты еще трепещешь вся, легкая моя, падучая, милая душа моя!” Впечатление трепета нежности и падения достигнуто (с каким мастерством) полуударением на второй стопе первой строки, щекочущим повторением буквы щ и легкостью, многогласностью двух последних строк. Замечательна музыка стихотворения “Мельница”. Оно написано совершенно правильным и все же неожиданным, неслыханно-прекрасным размером. Каждая из шести строф состоит из пяти трехстопных ямбических строк, причем вторая строка и пятая рифмуют (простенькая мужская рифма), а остальные удлинены дактилическими окончаниями (с легчайшей тенью ассонанса в смежных). Описать певучий говорок этого стихотворения невозможно, привести же только выдержку — жалко. Наконец, в “Балладе”, написанной трехстопным амфибрахием, Ходасевич достиг, по моему мнению, пределов поэтического мастерства. Поэт сидит у себя в комнате, в сухом блеске электричества, и вдруг начинает качаться и петь (причем в этом месте дактилическая рифма вдруг заменяет женскую): “музыка, музыка, музыка вплетается в пенье мое”. И дальше: “И в плавный вращательный танец вся комната мерно идет, и кто-то тяжелую лиру мне в руки сквозь ветер дает”.
Такова поразительная ритмика стихов Ходасевича. И странное дело: это мастерство и острая неожиданность образов оказывают какое-то гипнотическое действие на читателя, и околдовывая его слух, поражая его внимание, мешают ему “переживать” вместе с поэтом, по-человечески сочувствовать тому или другому его настроению. В последнем отделе сборника есть несколько стихотворений с “гражданским” оттенком. Так, у стихотворения “Окна во двор” (каждому окну уделено по строфе) изображается так называемая мещанская атмосфера. Однако так восхитительна стеклянная прелесть образов, что читатель просто не в состоянии проникнуться этой атмосферой, пожалеть этих убогих жителей, посетовать на их серую жизнь (и это хорошо). То же самое можно сказать по поводу и другого стихотворения (о том, как с беременной женой ходит безрукий в синема). Поэт, охваченный негодованием и жалостью, восклицает: “Ременный бич я достаю с протяжным окриком тогда, и ангелов наотмашь бью, и ангелы сквозь провода взлетают в городскую высь. Так с венетийских площадей пугливо голуби неслись от ног возлюбленной моей”. Если поэт хотел возбудить в читателе жалость, сочувствие и т. д., то он этого не достиг. Упиваешься его образами, его музыкой, его мастерством, — и ровно никаких человеческих чувств по отношению к ушибленным не испытываешь.
Свобода Ходасевича в выборе тем не знает границ. Временами кажется, что он шалит, играет, холодно наслаждается своим даром воспевать невоспеваемое. Эта священная небрезгливость его музы особенно резко выразилась в стихотворении “Под землей”. И вот я в странном затруднении: выписать все стихотворение нельзя — места нет, привести лишь цитату было бы нечестно по отношению к автору; меж тем рассказать тему его стихотворения не могу, и не могу по той причине, что, выраженная голой прозой, эта тема приобретает оттенок самой грубой и откровенной нечистоплотности. Достаточно, если скажу, что такого рода эпизоды можно найти в книгах по половым вопросам. И все же из описания жалкого порока Ходасевич сделал сильное и прекрасное стихотворение (на мгновение у меня мелькнула мысль: а вдруг музе все-таки обидно? — но только на мгновение).
Очень интересен в творчестве Ходасевича некий оптическо-аптекарско-химическо-анатомический налет на многих его стихах. Обыкновенно у него это прием заключительный: “в душе и мире есть пробелы, как бы от пролитых кислот” (так кончается стихотворение “Автомобиль”). Другое стихотворение кончается так: “…светлый космос возникает под зыбким пологом ресниц, он кружится и расцветает звездой велосипедных спиц”. К той же оптической области относятся многочисленные упоминания отражений в зеркале, в оконном стекле и т. д. “Неузнанный проходит Каин с экземою между бровей” или “и так отрадно, что в аптеке есть кисленький пирамидон” тоже хорошие примеры заключительных аккордов Ходасевича. Чем-то медицинским веет от таких образов, как “и на груди моей ты робко переменишь мешок со льдом” или “прорезываться начал дух, как зуб из-под припухших десен”, и как характерно сравнение души с йодом, души, разъедающей тело, как йод пробку.
Не стоило бы говорить о мелких и очень незначительных промахах Ходасевича, если бы такому мастеру, как он, не предъявлялись требования совсем особые. Я имею в виду такие мешковатые строки, как “и чтоб мою к себе приблизить высь” или “и собственный сквозь сон я слышу бред”; такие неловкости, как “изнемогая в истоме тусклой, которая меня томила” и “что значит знак его спины мохнатой”; слабые строки вроде “и с улыбкой страшною немножко” или “много раз я это видел, а потом возненавидел”; наконец, употребление ужасного слова “зонт” вместо “зонтик”.
Любопытно, что смутное влияние Блока чувствуется в белых стихах Ходасевича: “я поклонился низко Петру Иванычу, его работе, гробу и всей земле, и небу, что в стекле лазурью отражалось” — это совершенно блоковская интонация. В иных же стихах веет тютчевская струя: “ты скажешь, ангел там высокий ступил на воды тяжело” или “глаз отдыхает, слух не слышит, жизнь потаенно хороша, и небом невозбранно дышит почти свободная душа”.
Ходасевич — огромный поэт, но думаю, что поэт — не для всех. Человека, ищущего в стихах отдохновения и лунных пейзажей, он оттолкнет. Для тех же, кто может наслаждаться поэтом, не пошаривая в его “мировоззрении” и не требуя от него откликов, собрание стихов Ходасевича — восхитительное произведение искусства.
1928 ЧЕЛОВЕК И ВЕЩИ
Berg Collection. New York Public Library. Box 1, folder 1.
(3-14.I.28.Ночью.)
Название моего доклада: "Человек и вещи" может, пожалуй, ввести вас в заблуждение. Вам может показаться, например, что, отдавая дань бесу обобщенья, я разумею под словом «человек» какого-то сборного, чрезвычайно удобного homo sapiens'a — представителя человечества. Вы можете подумать, что для меня «вещь» какое-то определенное понятие, которым я собираюсь с философской легкостью жонглировать. Мало того, самое это слово «вещь» может вызвать в вашем представлении нечто домашнее, не очень ценное, нечто для удобства или украшенья. Вспомним, кстати, того чеховского доктора из "Трех сестер", кажется, который, не зная, как определить подарок, который ему с гордостью показывали, повертел его в руках и пробормотал: "Хм, да… вещь…" Впрочем, эту вещь — каминные часы, кажется, он тут же по неловкости уронил, со звонкими последствиями.[1] Но и другую интонацию можно услышать в слове «вещь». Так, был у меня знакомый ювелир, в устах которого высшей похвалой браслету или Ривьере[2] было именно слово «вещь», произнесенное веско, крупным голосом, несколько раз сряду в такт почтительному движенью ладони, на которой драгоценный предмет лежал. Наконец, еще одно кипроко[3] может произвести заглавье моего доклада. Ибо не внушат ли иному уму слова "человек и вещи" образ человека в пивной, лакея, полового — а ведь через это и слово «вещи» вылупится из своего тумана, приняв образ тех вещей, за которые дирекция не отвечает.
Перечислив такие возможные недоразумения, я этим самым устраняю их. Конечно, говоря «человек», я имею в виду только себя самого. Точно так же и вещи, о которых я буду говорить, не пройдут без именных ярлыков в туманах общего места. Ибо под словом «вещь» я разумею не только зубочистку, но и паровоз. Все, что сделано человеческими руками, — вещь. Это единственное общее определение, которое я себе позволю.
Вещь, сделанная кем-то вещь, сама по себе не существует. Портсигара, забытого на пляже, пролетающая чайка не отличит от камня, от песка, от лоскута водоросли, так как вещь в отсутствие человека возвращается тотчас в лоно природы. Ружье, лежащее в глуши тропической чащи, уже не вещь, а законная часть леса; сегодня уже по нему льется рыжий ручей муравьев, завтра оно заплесневеет, может быть, зацветет. Дом — просто каменная глыба, когда уходит человек. Уйди он на пятьсот лет, дом, как тихий, хитрый зверь, убегающий на волю, незаметно вернется в природу, и вот и вправду — просто куча камней. И, кстати, обратите внимание на то, с какой охотой и как ловко самая мелкая вещь норовит улизнуть от человека и как склонна она к самоубийству. Оброненная монета с поспешностью отчаянного беглеца описывает по полу широкую дугу и скрывается в самый далекий угол под самым далеким диваном. И не только нет предмета без человека, нет предмета без определенного отношенья к нему со стороны человека. Это отношенье зыбко. Беру для примера картину в раме, портрет женщины. Один смотрит и с холодным восхищением ценителя разбирает краски, светотени, фон. Другой, ремесленник, с каким-то сложным ощущеньем, в котором смешаны образы его ремесла — клей, аршин, лепная выделка, прочность дерева, позолота, — осматривает профессиональным взглядом раму. Третий — друг изображенной женщины обсуждает сходство или, на мгновенье пронзенный одним из тех мелких воспоминаний, которые являются как бы уличными мальчишками памяти, совершенно ясно, хоть так мимолетно, видит и слышит, как входит вот эта женщина, кладет сумку и перчатки на стол и говорит: "Завтра уж последний сеанс, слава Богу. Глаза хорошо вышли". Наконец, четвертый смотрит на картину с мыслью, что сегодня дантист будет делать ему очень больно, так что затем, всякий раз, когда он эту картину увидит, он будет вспоминать жужжанье бормашины и то, как пахло у дантиста изо рта. Что же выходит? Нет одной вещи, — хотя математически вещь одна, — а четыре, пять, шесть, миллион вещей в зависимости от того, сколько людей смотрят на нее. Что мне до пары сапог, выставленной моим соседом за дверь? Умри мой сосед сегодня в ночь, и какой человеческой теплотой, какой жалостью, какой красотой живой и нежной будут веять на меня эти два старых, потрепанных сапога с торчащими ушками, оставшиеся стоять у двери. В моем столе, в помятом конверте, я нашел пять черноголовых спичек. Почему я положил их туда на сохраненье, какое с ними связано воспоминанье — забыл, забыл окончательно. Я еще буду хранить их некоторое время ради воспоминанья, которое, я знаю, связано с ними, любя их какой-то вторичной любовью, — но потом я их выброшу: так мы изменяем вещам. На ярмарке, в захолустном городке, я выиграл, стреляя в цель, грошовую фарфоровую свинью. Я оставил ее на полке в гостинице, когда уезжал. Этим самым я обрек себя на воспоминанье о ней. Я безнадежно влюблен в эту фарфоровую свинью. Меня разбирает нестерпимое, глуповатое умиленье, когда я думаю о ней, выигранной, и неоцененной, и покинутой. С таким же чувством я смотрю иногда на какое-нибудь мелкое, незаметное украшенье, на цветы обоев в темном углу коридора, которых, быть может, никто, кроме меня, не заметит. В чужом доме, на письменном столе я увидел в точь-точь такую же пепельницу, как на столе у меня, — и все-таки, эта — моя; та — чужая. Помню, мне было лет десять, умер от дифтерита дядя. В его комнатах производили дезинфекцию. Плохо, что ли, объяснили мне, что такое дезинфекция: я понял, что вот человек умер и теперь делают так, чтобы его вещи больше не были его, снимают с них ту пыль, тот запах, все то, что делало их именно его вещами.
Мне неприятно слышать, когда люди говорят о машинах: ах, наш механический век — ах, роботы — ах, то да се. Машины, инструменты всем нам служили. В этом смысле перочинный нож ничем не отличается от какой-нибудь сложнейшей фабричной машины. Дело в том, что и сложности тут никакой нет. Мы количество частей принимаем за сложность, а части сами по себе простые, и соединены они в конце концов — просто. Когда человек глядит на паровоз, то ему кажется невероятно хитрым его устройство, потому что он в своем представлении отделяет предмет от ума, затеявшего его. Ум хитер и сложен, находчивость человеческая удивительна, а самое же созданье, конечно, — просто. Прелесть машин именно в том, что всякий смышленый, ухватистый человек может сотворить машину. Нет, мы недалеко ушли от наших предков. В пятом веке остроумный китаец выдумал подводную лодку. Монголы во время оно ошарашивали западных врагов ядовитыми газами. Читаю, например, объявленье, что такая-то фирма изготовляет всяческие автоматические приборы для продажи товаров: дескать, последнее слово техники. Между тем, автоматические приборы были уже в употреблении в седой древности. Египетские жрецы посредством их играли на суеверии своего народа. Перед храмами Изиды стояли магические урны. Они снабжали верующих благословением богини в виде нескольких капель священной воды. Для этого нужно было только кинуть в щель урны пятидрахмовую монету, как это делает на подземном вокзале барышня, желающая получить коробочку миндаля. Оказывается: священный и бессмертный жест. Те египетские самодействующие урны несколько веков подряд давали прекрасные доходы жрецам — и, конечно, тайна их устройства охранялась строгими законами, даже угрозой смертной казни. Дело, вероятно, происходило так: брошенная монета попадала через проводную трубку на хорошо уравновешенное плечико рычага, от этого на мгновенье открывался клапан на дне сосуда, наполненного водой, и по выводной трубке немного воды выливалось в чашку, подставленную легковерным, потеющим от удивленья египтянином. А несколько столетий погодя в Древнем Риме на улицах и даже на больших дорогах существовала автоматическая продажа вина — такие же приборчики, как у нас. Поэтому римлянин, отлучаясь из дому, всегда брал с собой кубок для питья. Если б я был хорошим художником, я бы написал такую картину: Гораций, сующий монету в автомат.
Человек — подобие Божие, вещь — подобие человеческое. Человек, который делает вещь своим Богом, уподобляется ей. Тогда получается полный круг: вещь, Бог, человек, вещь, — а для ума прелестен полный круг. Автомат в некотором роде наиболее похож на человека. Его толкнешь — он отвечает. Ему лапку подмаслишь, он доставляет тебе приятность. Даешь ему плату, он выдает тебе товар. Но и во всякой другой вещи — я чувствую известное сходство с человеком. Подштанники на сушке при бодром ветре пускаются в идиотический, но вполне человеческий пляс. Чернильница на меня глядит одним черным глазом с блеском в зрачке. Часы, стоящие на без десяти два, напоминают лицо с усами Вильгельма,[4] часы, стоящие на двадцать минут восьмого, напоминают лицо с усами, опущенными вниз по-китайски. Между круглым стеклянным колпаком лампы и лысой головой мыслителя, налитой светящейся мыслью, есть успокоительное сходство. Словами, которые мы употребляем для именованья различных частей нашего тела, окрестили мы части вещей, орудий, машин, уменьшая эти существительные, как будто говорим о наших детях. "Зубчики, глазок, ушко, волосок, носик, ножка, спинка, ручка, головка". Я точно окружен маленькими уродцами, и уже кажется мне, что зубчики часов грызут время, что ушко иголки, воткнутой в занавеску, подслушивает, что носик чайника, с капелькой застывшей на кончике, сейчас хморкнет, как простуженный человек. А в предметах побольше, в домах, поездах, автомобилях, фабриках, человеческое нечто становится иногда поразительно неприятным. В шварц-вальдских деревнях есть насмешливые дома: оконце в крыше удлинено наподобие хитрого глаза. Чрезвычайно глазастые бывают и автомобили — благо мы даем им не три, не один, а именно два фонаря. Немудрено, что в наших сказках и на наших спиритических сеансах вещи и впрямь оживают.
Я думаю, что, углубляя эти аналогии и входя, сознаюсь, в некоторый антропоморфический азарт, можно вещам придавать наши чувства. Так, в ленивом положении шерстяного платка, перекинутого через спинку стула, есть скука — ах, как скучает этот платок по чьим-нибудь плечам! Что-то бодрое, радостное и чистосердечное есть в открытой, совсем еще белой тетради. Карандаш по натуре мягче, добрее пера. Перо говорит, карандаш шепчет.
Наконец, есть и дети среди вещей. Это, конечно, игрушки. Они подражают взрослым вещам — и чем это подражанье полнее, тем дороже они человечьему ребенку. Меня занимал в детстве вопрос: куда денутся мои игрушки, когда я подрасту? Я воображал огромный музей, куда собирают постепенно игрушки подрастающих детей. И часто теперь, входя в какой-нибудь музей древностей, где есть римские монеты, оружие, одежды, кольчуги, мне кажется, что я попал как раз в тот музей моей мечты.
Мы боимся, мы ни за что не хотим отпускать наши вещи обратно в природу, откуда вышли они. Мне почти физически больно расстаться со старыми штанами. Я храню письма, которые не перечту никогда. Вещь — подобие человеческое, и, чувствуя это подобие, нам нестерпимы ее смерть, ее уничтоженье. Древние цари ложились в гроб с доспехами, с утварью, взяли бы с собой и свой дворец, если бы это было возможно. Флобер желал быть похороненным вместе со своей чернильницей. Но чернильнице было бы скучно без пера, перу без бумаги, бумаге без стола, столу без комнаты, комнате без дома, дому без города. И как ни старайся человек, истлевает он сам, истлевают и его вещи. И лучше, чем мумии лежать в расписном саркофаге, на музейном сквозняке, — приятнее и как-то честнее, — истлеть в земле, куда возвращаются в свой черед и игрушки, и линотипы, и зубочистки, и автомобили
1928 РАИСА БЛОХ. МОЙ ГОРОД
Изд. Петрополис. Берлин.
(Впервые: “Руль”, 7 марта 1928.)
Солнце, годы, море, песня, рай — эти слова очень часто встречаются в книжечке стихов “Мой город”. Беда в том, что это только слова, игрушечки поэзии, ярлычки испарившихся символов, старые телефонные номера Господа Бога. “Синева зыбей” или “Солнце, желтое, как мед” или такие светленькие строфы, как “Ты уйдешь, а я роптать не буду, только громко, громко запою о покорности великой чуду, о великой радости в раю”, — ничего не вызывают, кроме сладковатых и смутных литературных реминисценций. Слово вместо того, чтобы быть полуоткрытой дверью, проблеском и сквозняком, от которого мысли и чувства читателя сразу приходят в движение, в волнение, слово вместо этого замкнуто в самом себе — маленькое, мертвое и блестящее. Этим объясняется склонность Раисы Блох к благозвучным, но совершенно невыразительным прилагательным, например (“золотой”, “золотистый”; все у нее золотое или золотистое —) огонь, звезда, сад, туман, путь, праздник, свет, город, — но от этого обилия золота поэзия ее не богата, а бедна. Впрочем, язык ее хоть беден, да чист, чист не только слог, но и все настроение ее книжечки. И когда она низводит музу из постылой светлицы на землю, то совсем хорошо “напротив блещут стекла от невидимого солнца”, и в отличном стихотворении “Воробей” живые воробьи сидят на заборе и поют о лужах. Так что в конце концов все это золотистое, светленькое и чуть-чуть пропитанное (что, увы, в женских стихах почти неизбежно) холодноватыми духами Ахматовой — может на непридирчивого читателя произвести впечатление чего-то легкого, простого, птичьего.
1928 ТРИ КНИГИ СТИХОВ
(Впервые: “Руль”, 23 мая 1928.)
БОРИС БОЖНЕВ. ФОНТАН. Париж
Фонтану, игре фонтана, “стройному полету воды” и “меланхолической дуге” ее ниспадения, посвящена эта прохладная книга. Все восемнадцать восьмистиший в ней написаны четырехстопным ямбом, с женской рифмой на четной строке, что, как известно, придает строфе некую медлительность ритма. “Бежит в содружестве поток, в содружестве бушуют волны, и лишь один фонтанный ток журчит в уединенье полном”. Таких хороших стихов не мало у Божнева. Открываешь наугад, читаешь: “Смотря на хлопоты фонтана, лениво возлежит Восток”, — и радуешься. В его стихах есть и мысль, и пение, и цельность. Некоторая извилистая неправильность фразы в ином восьмистишии создает своеобразное очарование, как бы передавая музыкально-воздушные повороты воды. Порою же неуклюжесть слишком явная (первое стихотворение в книге, которое к тому же может показаться — игриво настроенному читателю — несколько двусмысленным). Но о недочетах не хочется писать — столь усладительны эти стихи. Вот, например, заключительное восьмистишие: “Не воздвигайте мне креста, воздвигните струю фонтана, и пусть струя лиется та… Ни вслушиваться не устану, ни зреть из мрачной темноты, из безотрадного бессмертья, как славословит с высоты, как воздух в ликованье чертит”.
ДОВИД КНУТ. ВТОРАЯ КНИГА СТИХОВ. Париж
Крепкий стих, слегка нарочитая библейская грубоватость, здоровая жадность до всего земного, и отсюда некоторое злоупотребление сдобными словами вроде “хлеб”, “блуд”, “мужество”, — вот что отмечаешь, читая Кнута. Отмечаешь далее необыкновенную склонность Кнута ступать, посреди хорошего стихотворения, в глубокую лужу безвкусицы. Торжественно, полновесно и вдруг — “…от борьбы страдал еще альков…” Превосходно задуманное стихотворение: “Нужны были годы, огромные древние годы псалмов и проклятий…” погублено двумя строками: “…затем, чтоб теперь на блестящем салонном паркете я мог поклониться тебе, улыбнувшись слегка” (слегка!). В стихотворении “Восточный танец” после нескольких прекрасных образов (например, “В потоке арф нога искала брод”) вдруг опять промах: “и шел живот послушно на трубу”. И дальше: “Но женщина любила и хотела…” (чтец-декламатор!). А не то грубая какофония внезапно унижает мысль поэта: “…вину и хлебу, букве и жене” (хлебу — букве, “бу — бу”). Нет такта, нет слуха у Кнута. Как объяснить иначе, что он рифмует “легка — облакам” или “вода — следам” когда ухо давным-давно привыкло к “легка — облака”, “вода — следа” и не может, да и не должно от этой привычки отделаться? Находится у него и старая моя знакомая “сказал — глаза” (или “назад — глаза”). Слово “глаза” не виновато, что оно туго рифмуется (не всегда же возможно призвать на помощь грозу или козу), а силою ничего не добьешься. Вообще беда с этими, мужскими рифмами. Когда Кнут рифмует, например “пастух — темноту” или “скал — облака”, слух с разбегу повторяет “темнотух”, “облакал”, — и вся прелесть стиха пропадает. И еще есть кое-что неприятное в стихах Кнута. Дело в том, что недавно было поэтами открыто слово “невероятный”: зияние гласных, пэон, открываешь рот, почти поешь, — хорошо! Оказывается, что лишь стоит к любому слову приделать эпитет “невероятный”, чтобы получилась прекрасная ритмическая строка. Кнут этим пользуется (“в невероятной лени”, “невероятной полнотой”). Кроме того, “невероятный” удовлетворяет другому требованию моды. Современные молодые поэты, особенно “парижские”, почему-то чрезвычайно любят всякие отрицательные прилагательные, обманывая себя тем, что гораздо изысканнее и как-то воздушнее сказать, например, “нехолодный” вместо “теплый”. В одном небольшом стихотворении у Кнута я насчитал целых шесть таких длинных прилагательных, начинающихся на “не”. У него это выходит грубовато, но у иных отмеченный прием доведен прямо до виртуозности.
“СТИХОТВОРЕНИЕ”, ПОЭЗИЯ И ПОЭТИЧЕСКАЯ КРИТИКА. Париж
Три небрежно-космических стихотворения А. Булкина. Такие рифмы, как “отыскать — рука” и “бирюза — слезам” (см. выше). “Неспокойное море” и “нехолодный ветр” (см. выше). Кроме того, (тоже парижская мода) изысканные прозаизмы вроде “все, все по твоему распоряженью”. Это, вероятно, то, что называется “пленительная сухость”.
Два стихотворения Б. Божнева. Первое — совсем хорошее: “Что лира? Понял я — скелет. Но как любовницу младую, ее боготворит поэт, уродливую и худую. Касается ее костей неизменяющей рукою и скрежетом ее страстей он миру не дает покою” (“неизменяющей” значит “верной”).
Одно стихотворение А. Гингера. Я его не понял. Что значит, например, “Лейся, лейся, надо гробом самовольная луна с белым, белым гардеробом…” (!)
Одно стихотворение Анны Присмановой. Аллитерации и игра слов. “На канте мира муза Кантемира”, “голенастый Галилей” и т. д.
Два стихотворения Вадима Андреева. Первое — прекрасное. “Не звучен свет, огонь не ярок, и труден лиры северной язык”. Жаль, что нельзя его привести полностью.
Два стихотворения В. Познера. Поэт нам сообщает, что “если руку поднести к глазам, то каждый палец небо заслоняет”. Правильно.
Одно стихотворение Бориса Поплавского — пестрое, бескостное. “Расцветает молчанья свинцовая роза”. У современных молодых поэтов встречаются всяких видов розы, нет только садовых, и это нехорошо.
Р. S. В последнем номере парижского “Звена” глубокомысленно обсуждается “лапсус”, будто бы допущенный мной в одной критической заметке (“Руль”, 7 марта 1928 г.). Меркурий утверждает, что я называю “невыразительными прилагательными” слова “огонь, звезда, сад” и т. д. Меркурий, ты не прав. Я просто писал о пристрастии поэтессы Раисы Блох к таким “невыразительным прилагательным, как, например, “золотой”, “золотистый”; все у нее золотое или золотистое — огонь, звезда, сад” и т. д. Но, увы, бывают опустошительные типографские катастрофы, массовое исчезновение слов, безымянный ужас опечатки…
1928 ОМАР ХАЙЯМ, В ПЕРЕВОДАХ ИВ. ТХОРЖЕВСКОГО
Париж.
(Впервые: “Руль”, 1928.)
Омар Хайям, персидский поэт, звездочет, вольнодумец, мудрец, родился в 1040 году по Р. X. и умер в 1123. Писал он “робай’и” (робай — четверостишие об одной рифме, причем чаще всего третья строка бессозвучна). Подлинника хайямовых стихов не сохранилось; существуют только записи, сделанные спустя несколько веков после его смерти; и они пребывали в сумраке книгохранилищ, пока в XIX веке Англия не “открыла” Омара Хайяма.
В 1859 году гениальный английский поэт Фиц-Джеральд издал сборник стихов, назвав их переводами из Омара Хайяма. Несомненно, что Фиц-Джеральд в персидскую рукопись заглядывал — однако его книгу никак нельзя рассматривать как перевод. Несмотря на обилие “восточных” образов, эти чудесные стихи проникнуты духом английской поэзии; их мог написать только англичанин. Они имеют приблизительно такое же отношение к персидской поэзии, как, скажем, пушкинские переводы из поэзии западных славян — к подлинным песням последних.
Немного погодя появились и другие переводы из Омара Хайяма (например, французский перевод Nicolas, желавшего во что бы то ни стало сделать из Хайяма мистика — над чем Фиц-Джеральд в свое время тонко поглумился). Каждый переводил по-своему, выбирая из персидских “робай’и” то, что ему больше по душе. Едва ли, однако, правильной является система русского переводчика Ив. Тхоржевского (издавшего двести “робай’и”): воспользовался он не только так называемым “Бодлеянским” текстом, но и работами различных переводчиков, упустив при этом из виду, что, берясь за стихи Фиц-Джеральда, он переводит, в сущности говоря, не персидского, а самобытнейшего английского поэта — и что переводить Фиц-Джеральда надо совсем по-особенному, не как других, и уж, во всяком случае, ничего не меняя, не затушевывая. Получилось что-то странное, — я бы сказал, неубедительное, — ибо нельзя же черпать из таких неравноценных источников и затем преподнести все это в качестве (какого-то сборного) Омара Хайяма. Кроме того, автор не сделал никаких примечаний, не указал, откуда взято то или другое четверостишие, — из Фиц-Джеральда ли, из Nicolas или из Клода Анэ (ибо, увы, и бедный Клод Анэ, известный своими наивно-пошлыми изображениями “русской души”, тоже, оказывается, “переводил” Омара Хайяма…). Получилась, таким образом, сложнейшая комбинация скрещивающихся переводов, подражаний, собственных (порой удачных) изощрений, — в которой разобраться нелегко. Насколько я мог установить, из Фиц-Джеральда Тхоржевский перевел штук тридцать “робай’и” (не считая короткой поэмы о “глиняных изделиях”, помещенной в конце книги). Переводы довольно неточные, а иногда просто неправильные. Так, например, Тхоржевский делает ошибку, попадающуюся у всех переводчиков с английского. Речь идет о пурпуре. У Фиц-Джеральда говорится о “flowing purple” моря; Тхоржевский переводит: “моря вздыхают, дрожью алою горя” (что, кроме того, напоминает Бальмонта), меж тем английское “purple” вовсе не есть русское (или французское) “пурпур”, а значит “лиловый”, “фиолетовый”, иногда даже (в поэзии) — темно-синий. Другая неправильность: у Фиц-Джеральда говорится о розе, “которая вокруг нас цветет” (blows); “to blow” может означать также и “дуть”, — и вот русский переводчик впускает в свой стих совершенно ненужный “ветерок” (“ветерок сорвал мой шелк”, говорит у него роза), этим разбавив нежную строгость фиц-джеральдовых строк. Требование рифмы (а ведь действительно нелегко придумать звучную мужскую рифму на три строки!) часто заставляет переводчика прибегать к ненужной изысканности. У Фиц-Джеральда сказано просто: “Утро бросило камень, который обращает звезды в бегство” (существует, будто бы, восточный обычай бросать камень в чашу, этим давая приказ садиться на коней); у Тхоржевского: “в путь, караваны звезд. Мрак изнемог”. Образ расплылся, запутался. У Фиц-Джеральда: “О бодрая музыка дальнего барабана”; у Тхоржевского барабанный бой — “под самым ухом”. У Фиц-Джеральда чудесно сказано: “внутри и снаружи, вверху, вокруг, внизу, — все только представление волшебного фонаря, даваемое в коробке, где вместо свечки — солнце, вокруг которого мы, призрачные облики, движемся туда и сюда”; у Тхоржевского: “Там, в голубом небесном фонаре, пылает солнце: золото в костре (!?)” и т. д. Выразительная и вместе с тем воинственная музыка Фиц-Джеральда вовсе не передана в таких, например, строках: “И нас не спросят; в мир возьмут и бросят; решает небо — каждого куда”; меж тем у Фиц-Джеральда: “и тот, кто кинул тебя на поле, он знает об этом, он знает, он знает”; в примечании к этой строке Фиц-Джеральд приводит (будем надеяться, правильно) строку в оригинале: “О данад о данад о данад о —” (обрывается). Вообще при сравнении подлинника (Фиц-Джеральда) с переводом Тхоржевского можно найти много таких неточностей, общих мест, угождений рифме; постоянно бывает так, что две строки переведены точно, а две приблизительно. “Две придут сами, третью приведут”, писал Пушкин о рифме; однако случается, что эта третья артачится.
Таинственность и душистость фиц-джеральдовских стихов испарились при попытке Тхоржевского претворить их в русские звуки. В переводах из Nicolas тоже есть странные неточности (например, в стихотворении, начинающемся “ты налетел, Господь, на ураган”). Но тут, конечно, труд переводчика менее ответственен: Nicolas не Фиц-Джеральд. Что же касается третьего “источника” — пресловутого Клод Анэ, то, к сожалению, я установить не мог, какую он лепту внес, какой материал он дал нашему автору. Есть, правда, два-три подозрительно “французских” четверостиший (любовных), подозрение такого же рода вызывает во мне четверостишие, начинающееся: “монастыри, мечети, синагоги” — слишком как-то простое и отчетливое перечисление, которое едва ли мог сделать персидский поэт XI века. Оставляю это, однако, на совести проф. Минорского, давшего автору нужные указания.
Если же не обращать внимание на весь этот сумбур “источников”, а просто читать эти робай’и как стихи хорошего русского поэта, то часто поражаешься их изящности, точности определений, приятному их говору. Пускай в них встречаются подчас выражения, слишком уж отдающие нашим ранним символизмом (“голубая даль”, “где-то вдалеке”, “украв вином мелькание страниц”, “дан ненадолго лунный блеск лица” и др.), пускай попадаются изредка такие нехорошие слова, как “ореол”, “невязка”, “план”, “климат”, — все же не можешь не улыбнуться от удовольствия, читая иное четверостишие. Как прелестно, например, вот это: “Все царства мира — за стакан вина! Вся мудрость книг — за остроту вина! Все почести — за блеск и бархат винный! Всю музыку — за бульканье вина!” Полагаю, что добрый Омар Хайям, хоть, может быть, вовсе и не писал этого, был бы все же польщен и обрадован.
1928 АНТОЛОГИЯ ЛУННЫХ ПОЭТОВ
Перевел с лунных наречий С. Ревокатрат. Париж.
(Впервые: “Руль”, 30 мая 1928.)
Лунная литература чрезвычайно богата и разнообразна. В России ее знали плохо. Очень отрадно поэтому, что русскому читателю дано, наконец, несколько образцов поэзии, создаваемой на Луне.
Однако приходится пожалеть, что переводчик выбрал из всей лунной поэзии творенья бледные, отвлеченные и необычайно между собой схожие. В этой антологии представлены такие совершенно второстепенные авторы, как Логог, Никшуп, Арбокед, Кепач, Нинесе и др. Вот, например, из Кепача: “сила не знает, кого сломить, слабость не знает, как сломить, хитрость не знает, зачем сломить”; а вот из Нинесе: “Я искал тебя повсюду, я нашел тебя где-то, я потерял тебя в самом себе”. Все образцы, данные Ревокатратом, — в таком же духе, словно это писало одно и то же лицо. Надобно поставить в вину переводчику, что он совершенно не привел образцов описательной поэзии Луны, лунного фольклора. (Можно ли было не включать такого перла, как, например, стихотворение поэта Нириса, помещенное во всех школьных хрестоматиях Луны и начинающееся так: “Кто при звездах и при земле, так поздно едет на осле…?”). Кроме того, в переводах Ревокатрата есть много неточностей, неправильно переведенных оборотов. Так, например, переводчик пишет: “твердой ногой уцепился за куст”, меж тем как в подлиннике не “ногой”, а “рукой” (“огу” — на северном наречии Луны, что означает буквально “большая мужская рука, держащая „гу”” — род посоха, употребляемый пастухами на склонах потухших вулканов). Далее, отмечаю странный пропуск в переводе из Фелрегала: “Терпи, но не думай, что это терпенье, пламеней, но не думай, что это страсть, верь, но не думай, что это истина, знай, но не думай, что это мысль”. В подлиннике есть еще одна строка: “Пиши, но не думай, что это стихи”.
1928 ДВА СЛАВЯНСКИХ ПОЭТА
НИКОЛАЙ А. БЕСКИД. ПОЭЗИЯ ПОПРАДОВА;
ЯН КАСПРОВИЧ. КНИГА СМИРЕННЫХ. Перевод с польского К. Д. Бальмонта.
(Впервые: “Руль”, 10 октября 1928.)
“Под именем Попрадова”, говорит д-р Бескид в своем обстоятельном и интересном предисловии к стихам карпато-русского поэта Попрадова (1850–1899), “скрывался Юлий Иванович Ставровский, по положению приходский священник в Земплинском Чертиже, Пряшевской епархии”. Книга издана бедно, но с большой любовью, и в самом ее появлении есть что-то глубоко трогательное, как и вообще трогателен этот образ карпатского поэта, пронзительно чувствующего свое родство с Россией и стремящегося в продолжение всей жизни это родство утвердить, выразить, защитить его от вражеских веяний, противных “русскости” его края. И в некотором смысле судьба поэта Попрадова трагична. Язык его края, язык, на котором он писал, является как бы своеобразной излучиной русской речи. Русский слух не может им насладиться, нас смущают странные обороты и ударения, недостаточно резкая тонировка стиха, неожиданные архаизмы, диковинные эпитеты. Но часто, благодаря своему таланту, Попрадову удается достигнуть русской звучности, и чтобы вполне оценить это, надо поставить себя на место карпатского читателя. С такой точки зрения — и в данном случае это самая правильная точка, — иной стих Попрадова и вправду — поэтическое чудо. Почти державинским громом звучат некоторые его строфы: “На небе безмрачном струятся богато лучи светозарны, и весь небосклон распылался алмазом, оделся во злато, блистает красами монарших корон. Вдали раздается и гул водопада, шипенье, пруженье вспенившихся вод, купаются тамо проворны наяды, играя в пучине шальной хоровод. И ель вековечна, и бук закаленный, и клен благородный, и толпы грабин, качая главами, стоят изумленны и внемлют живому плесканью богинь”.
О природе, о любви, но особенно много о своем тяготении к России пишет Попрадов, и через это глубокий смысл и прелесть приобретают такие его строки:
Моя отчизна здесь, в Карпатах, Среди лесистых синих гор, Где мой народ в старинных хатах Живет с неисследимых пор. Вот здесь родился я и страстно Влюбился в родину свою, Ее, хоть бедну и несчастну, Но в простоте своей прекрасну, Всегда радушно воспою.Дай Бог русским поэтам, вышедшим на чужбину, так лелеять, так любить русское слово, как это делал Попрадов в своей маленькой, нищей, зябнущей на западном ветру стране.
О другом славянском поэте, Яне Каспровиче, знаю мало, в подлиннике его не читал, но, судя по некоторым признакам, смутно мелькающим сквозь фантастический перевод Бальмонта, по темам его и настроениям, которых, по-видимому, переводчику не удалось вконец затуманить, приходится заключить, что Каспрович довольно слащавый, очень многословный и чрезвычайно скучный поэт; принявшись читать эту прекрасно изданную книгу стихов, постепенно чувствуешь, что тупеешь; ни одной драгоценной мысли, ни одного запоминающегося образа, — какое-то монотонное, нудное, амфибрахическое спотыкание. Цитирую наудачу: “Боюсь, чтобы сон в миг тот праздный меня не окутал, как груда, и мне не отрезал бы света он тьмою, плывущей оттуда. Хочу с той горы увидать я кровавое рденье заката, как юный на рдяность восхода смотрел с высоты я когда-то. Хочу посмотреть я…” и т. д. до бесконечности, до умственного обморока. Быть может, по-польски все это звучит иначе, быть может, форма подлинника безупречная, и есть в нем особенные пленительные оттенки, искупающие бедность содержания. Не знаю. Переводчик замел следы.
1928 А. РЕМИЗОВ. ЗВЕЗДА НАДЗВЕЗДНАЯ
YMCA. Париж.
(Впервые: “Руль”, 14 ноября 1928.)
В сказке или сказании, как и в шахматной задаче, должно быть то, что называется pointe, иначе говоря, соль, изюминка. Читая сказания Ремизова, поражаешься их безнадежной пресности, т. е. не находишь в них именно того, что одно может оправдать этот литературный жанр. Не оправданием является и то, что Ремизов, дескать, подражает древним апокрифам, сказаниям калик перехожих. В апокрифе, в легенде есть антикварное очарование, таинственные перспективы древнего мышления, пейзажи, облагороженные далью, символы, которые во время оно были полны благоухания и значений. Надобно какое-то особое вдохновенное воображение, необыкновенное мастерство, чтобы сочинить такие же бесхитростные сказки, какие сочинялись в старину.
Ни особого воображения, ни особого мастерства у Ремизова не найдешь. Сказки в этой книге производят впечатление чего-то неустойчивого, безответственного, случайного. Когда автор приводит ряд образов (а рядов, перечислений, описей — хоть отбавляй), не чувствует читатель того внутреннего закона, который, глубже ритма и вернее смысла, определяет количество и качество данных образов. “Иуда к речке прибежал — речка ушла; в лес бежит — наклоняется лес” — и читатель одолеваем какой-то мысленной щекоткой и не знает, почему автор ограничился лесом, речкой и рекой, и не прибавил еще чего-нибудь, скажем: “прибежал к горке, — сгладилась гора” и т. д. Или вот, перечисляет Ремизов части, из которых Бог создал человека: “от земли — остов, от моря — кровь, от солнца — красота” и т. д. Можно и прибавить, и отсечь, — впечатление от этого не изменится. А кроме того, автор злоупотребляет астрономией, хотя, правда, не против нее, а против вкуса грешит он, когда в одной сказке говорит о звезде, принесенной Богородицей, в другой утверждает, что солнце — “Божья слеза”, в третьей заставляет Бога взять от того же солнца красоту, чтобы дать ее человеку. Страшно то, что опять-таки ничего бы не изменилось, если бы Богородица принесла “солнце надсолнечное” вместо “звезды надзвездной” и если бы не солнце, а звезда оказалась бы “Божьей слезой”. “Гремит ад громом, бурит бурей” — внакидку вяжет автор, — и читатель автоматически прибавляет “огнит огнем”. Автор играет в кубики. Автор играет в перечисления. Автор играет в очень скучную игру.
Добро еще, если бы слог Ремизова был безупречен. Но, увы, — какая небрежность, какой случайный подбор слов, какой, подчас, суконный язык… “Угрюмо жуткою ночью сменялись первые дни на земле” или: “Жестокий сумрак безлунный безмолвием облек город”. Не лучше “подстреленное оскорбленное сердце” и “кровью обливалось сердце, искало выхода” (сердце Богородицы, которое “ищет выхода”, — это, в смысле стиля, даже как-то кощунственно). И уже к области недопустимых курьезов относится следующее: “становились на колени, и змий с ними”. Нет, это не простое неведение (автор знает, что у змия нет колен, на которые он мог бы становиться), но это и не святая непосредственность. Это есть признак той небрежности, отпечаток которой лежит на всей книге.
1929 “СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ”. XXXVII
(Впервые: “Руль”, 30 января 1929.)
“Выйдя на балкон, я каждый раз снова и снова, до недоумения, даже до некоторой муки, дивился на красоту ночи: что же это такое и что с этим делать! Я и теперь испытываю нечто подобное в такие ночи. Что же было тогда, когда все это было внове, когда было такое обоняние, что отличался запах росистого лопуха от запаха сырой травы!” Выписываю эти звучные, душистые слова, проникнутые такой жадностью до красоты, таким бунинским волнением, — и кажется, выписал бы, если б это было можно, одну за другой, все эти потрясающе-прекрасные страницы “Жизни Арсеньева”, не прицепляя к ним никаких похвал, ибо качество их, высокое их совершенство, вызывает чувство, подобное чувству молодого Арсеньева перед совершенством лунной ночи: не выразить. О смерти и о соловьях, “о бархатно-фиолетовом ящике”, где лежит “нечто с покорно скрещенными и закаменевшими в черных сюртучных обшлагах руками”, и о “весенней свежести, отовсюду веявшей в дом”, равно прекрасно пишет Бунин; страшным великолепием, томным великолепием, но всегда великолепием полон его мир, — и читаешь Бунина, словно идешь “по росистой, радужной траве”, чувствуя — от почти физического прикосновенья его слов — особое блаженство, особую свежесть.
Следующая вещь в книге — повесть “Анна” Зайцева. Ровный, тускловатый слог этого автора, его благородное дарованье лишены пленительности, его герои — латыш Матвей Мартынович, помещик Аркадий Иваныч, умирающий от нефрита, докторша Марья Михайловна, сама Анна — не совсем живые, точно автор не додал им дыханья, был чем-то стеснен, создавая их. И если в его повести есть такие превосходные страницы, как, например, описанье того, как резали и палили свинью (“…сквозь белесую щетину просвечивала розовая шкура”), то есть и такие, где чувствуется влияние шаблонов, литературных традиций. “Анна помолчала, вдруг сказала: „Любовь страшная вещь””, или дальше: “Всего съедает (любовь). Вот как эту спичечку, — тлеет, золотится…” Эта неестественность портит там и сям приятную зайцевскую повесть.
Засим, — “Московские любимые легенды”. Поклонников Ремизова эти легенды (о Николае и его чудесах), вероятно, приведут в восторг; обыкновенному же читателю будет скучновато. Нельзя безнаказанно писать о чудесах: чудесное испаряется. Механическое появление чудотворца Николая, особенно во время кораблекрушения (в новой книге Ремизова “Три серпа”, издательство “Таир”, Париж — корабль тонет чуть ли не на каждой странице), утомляет и читателя, и чудотворца. Неутомим только сам Ремизов. Нарочитая наивность этих легенд так раздражает, что иное меткое слово автора как-то даром пропадает, теряется в общем докучном узоре. И что уже вовсе неприемлемо — это анахронизмы. Прелесть анахронизмов, встречающихся в древних апокрифах, — заключается в том, что они естественны; там нехитрое воображение преломляет незнакомое в знакомые образы, превращает пальму в березу. Ремизов же щеголяет сознательными анахронизмами, на фоне древнего быта, для изображенья которого потребовалось глубокое знание старины — я бы сказал, навык старины. Это несомненное знанье и делает его анахронизмы неприятными. Кроме того, в них чувствуется не столько московский быт (как, казалось, должно было быть, судя по заглавию), сколько русский Париж.
Минуя “Тезей” Марины Цветаевой, который вызывает только недоуменье, сильную головную боль да чувство досады за талантливую поэтессу, развлекающуюся темным рифмоплетством, читатель найдет немало хорошего в повести Евангулова “Четыре дня” (о том, как страдал от голода русский эмигрант в Париже) и в рассказе Темирязева “Домик на 5-й Рождественской” (о судьбе обитателей этого домика во дни революции). Повесть Евангулова очень проста, написана без всяких ухищрений, чистым слогом. Прекрасно передана слабость от голода, тошнота, головокруженье, хорош зеленый отсвет листьев в Булонском лесу на лице голодного человека. У автора были, вероятно, затруднения — как кончить повесть (она написана от первого лица). Не мог же герой умереть голодной смертью. Последняя строка объясняет, как он был спасен: “две пары сильных рук хватают меня за плечи и за ноги и несут куда-то”. Удачно ли это?
Рассказ Темирязева ярок и отчетлив, но автору хочется посоветовать отбросить некий прием, которым он пользуется. Вот образец этого приема: “Спокойствие, спокойствие, спокойствие, твердит Петушков (обнищавший мещанин, которому прохожий бросил в шляпу окурок), продолжая неподвижно стоять… и если рука, державшая шляпу, иногда вздрагивала, то это происходило исключительно от холода или от мускульного напряжения”. Вот это кокетливое “исключительно” — прием сомнительный, часто встречающийся, кстати сказать, у Эренбурга. Зачем эта маска, зачем не просто сказать (или показать), что человек был оскорблен, рассержен?
Литературный отдел завершается стихотворениями Ходасевича, Оцупа, Адамовича и Лебедева. Из трех стихотворений Ходасевича первое можно легко выписать целиком: “Лоб — Мел. Бел Гроб. Спел Поп. Сноп Стрел — День Свят! Склеп Слеп. Тень — В ад!” К поэзии оно отношения не имеет, но как шутка высокого мастера — забавно. Зато остальные два стихотворения прекрасны своей точностью и трепетностью. Изумительный поэт.
Все три стихотворения Оцупа пресно-прозаичны. Впрочем, во втором из них (где есть строки “уже не раз, не правда ли, ночами ты обрывался в сумрак ледяной”) Оцуп пытается подражать Ходасевичу — не очень успешно. О двух стихотворениях Адамовича — лучше умолчать. Этот тонкий, подчас блестящий литературный критик пишет стихи совершенно никчемные. Что бы сказал сам автор, если ему пришлось бы, как критику, оценить такие, например, строки: “Кто эта женщина? Зачем молчит она? Зачем лежит она сейчас со мною рядом?” Наконец, стихотворение Лебедева, — “о крыльях”, — умело написано, но ровно никакого следа в памяти не оставляет.
1929 “ВОЛЯ РОССИИ”
1929, Kн. 2 (Литературный отдел)
(Впервые: “Руль”, 8 мая 1929.)
Вначале — чрезвычайно претенциозные “Рассказы о несуществующем” Б. Сосинского. В них есть всякие типографские ухищренья в стиле Ремизова и такие образы, как “…счастливым, как глаза Линдберга, увидевшего европейский берег”. Эстетам эти рассказы понравятся.
В “Итальянских сонетах” К. Ирманцевой есть отдельные хорошие строки, но нет стройности, простоты и естественности, требуемых слухом от сонета. Чувствуется искусственность рифм, неправилен слог, некоторые ударенья не на месте (напр., “цветов миндаля кожа розовей”). И все так “изысканно” и “изломанно”…
Далее — статья “Несколько писем Райнер Мариа Рильке” Марины Цветаевой и ее же переводы из этих писем. Статьи я не понял, да и, кажется, понимать ее не нужно: М. Цветаева пишет для себя, а не для читателя, и не нам разбираться в ее темной нелепой прозе. В переводах, к сожаленью, тоже чувствуется ее слог. Есть и такие забавные предложенья: “вот строфы, сложенные для вас в субботу, гуляя по восхитительной аллее Холлингского замка”. Совершенно непонятно, почему кроме отрывков из писем Рильке приведено еще некое письмо, о котором так говорит французский писатель Е. Жалу (автор книжки о Рильке): “несколько дней спустя после смерти Райнер-Мариа я получил следующее письмо, подписанное просто “неизвестная”. Даю его, не изменив ни слова. Это такое человеческое, такое голое свидетельство…” и т. д. Увы! Не “голое свидетельство”, а махровая пошлость. В нем “незнакомка” очень пространно и слащаво повествует, как при ней Рильке дал парижской нищей красную розу вместо денег и как эта нищая схватила его руку и поцеловала ее и “в тот день уже больше не просила”. Письмо настолько безвкусно, случай, в нем изложенный, настолько в стиле тех напыщенных писателей, к типу которых принадлежит сам Жалу, что хочется из уважения к Рильке сомневаться в истинности всего происшествия.
Неплохи стихи Вячеслава Лебедева, хотя уж очень похожи на те, что ныне пишутся. Любопытны, живо написаны очерки Гл. Гонцова (“Снова по родной земле”). Суконным языком излагает госпожа Мельникова-Папоушек свои не лишенные интереса взгляды на “открытие Европы”, делаемое советскими писателями. Наконец, некий В. Р. пишет длинную обстоятельную статью (“Интересное явленье”) о журнале “Русский архив” (выходящем в Югославии на сербохорватском языке). Приведены обширные хвалебные цитаты из местных газет, — и читатель недоумевает, пока не находит объявление в конце книги, из коего объявления оказывается, что в “Русском архиве” и в “Воле России” одни и те же сотрудники. Впрочем, это уже относится к “политическому” отделу книги.
1929 ИВ. БУНИН. ИЗБРАННЫЕ СТИХИ
Издательство “Современные записки”. Париж, 1929
(Впервые: “Руль”, 22 мая 1929.)
Стихи Бунина — лучшее, что было создано русской музой за несколько десятилетий. Когда-то, в громкие петербургские годы, их заглушало блестящее бряцание модных лир; но бесследно прошла эта поэтическая шумиха — развенчаны или забыты “слов кощунственные творцы”, нам холодно от мертвых глыб брюсовских стихов, нестройным кажется нам тот бальмонтовский стих, что обманывал новой певучестью; и только дрожь одной лиры, особая дрожь, присущая бессмертной поэзии, волнует, как и прежде, волнует сильнее, чем прежде, — и странным кажется, что в те петербургские годы не всем был внятен, не всякую изумлял душу голос поэта, равного которому не было со времен Тютчева. Полагаю, впрочем, что и ныне среди так называемой “читающей публики” — особенно в той части ее, которая склонна видеть новое достижение в безграмотном бормотанье советского пиита, — стихи Бунина не в чести или, в лучшем случае, рассматриваются как не совсем законная забава человека, обреченного писать прозой. Оспаривать такой взгляд нет нужды.
Среди “избранных стихов” Бунина нет многих, которые хотелось бы перечесть. Они печатались вместе с рассказами автора, в тени его прозы, они есть в старых журналах, в приложениях к “Ниве”, в отдельной книжке, бедно и неряшливо изданной той же “Нивой”. Все это хотелось бы видеть собранным, всякая строка Бунина достойна быть сохраненной. Но спасибо и за этот сборник (кстати сказать, очень изящный по внешности), за эти двести бунинских стихотворений.
Легко громить стихотворца, легко выуживать из его виршей смешные ошибки, чудовищные ударенья, дурные рифмы. Но как говорить о творениях большого поэта, где все прекрасно, где все равномерно, как выразить прелесть и глубину его стиха, новизну и силу его образов, как выписывать цитаты — когда за цитатой целиком тянется на бумагу и все стихотворение? И еще есть трудности: музыка и мысль в бунинских стихах настолько сливаются в одно, что невозможно говорить отдельно о теме и о ритме. Пьянеешь от этих стихов, и жаль нарушить очарование пустым восклицанием восторга.
Вот я прочел эту книгу, отложил ее и начинаю вслушиваться в тот дрожащий, блаженный отзвук, который она оставила. И постепенно различаю особый бунинский лейтмотив, наиболее простое выражение которого — повторение, томное повторение одного слова: “…пойте, пойте, сверчки, мои товарищи ночные…”, “и зал плывет, плывет в протяжных напевах счастья и тоски…”, “воркуя, ходят, ходят турмана…”, “звон бубенцов течет, течет…”. И найдя этот ритмический ключ, уловив этот звук, я уже чувствую его дальнейшее развитие, — музыкальное перечисление действий или вещей, почти заклинательное восклицание, две строки, начинающиеся одинаково: “Только звон твой утренний, София, только голос Киева…”
Основное бунинское настроение, соответствующее этому основному ритму, — есть, быть может, самая сущность поэтического чувства творчества вообще, самое чистое, самое божественное чувство, которое может человек испытать, глядя на роспись мира, слушая его звуки, вдыхая его запахи, проникаясь его зноем, сыростью, холодом. Это есть до муки острое, до обморока томное желание выразить в словах то неизъяснимое, таинственное, гармоническое, что входит в широкое понятие красоты, прекрасного. “О мука мук”, — сам говорит поэт, — “что надо мне, ему (голому клену “на пустоте лазоревой и чистой”), щеглам, листве? И разве я пойму, зачем я должен радость этой муки, — вот этот небосклон, и этот звон, и темный смысл, которым полон он, вместить в созвучие и звуки?” Величие Бунина как поэта и заключается в том, что он эти звуки находит — и стих его не только дышит этой особой поэтической жаждой, — все вместить, все выразить, все сберечь, — но жажду эту утоляет. Возвращаясь к понятию “прекрасного”, можно отметить, что для Бунина “прекрасное” есть “преходящее”, а “преходящее” он чувствует как “вечно повторяющееся”. В его мире, как и в ритме его стиха, есть сладостные повторения. А мир этот неслыханно обширен. В стихотворении “Собака” (начинающемся так характерно: “Мечтай, мечтай…”) сам поэт говорит, что он, “как Бог, обречен познать тоску всех стран и всех времен”, русскую усадьбу и русскую сказочную глушь — “Русь киевских князей, медведей, лосей, туров”; долины Иордана и “пыльную дорогу в Назарет”; итальянские глицинии и руины, и “огни и песни в Катанее…”; “Забытый портик Феба” на острове, в Эгейском море; Нил и “живой и четкий след ступни”, сохранившийся на голубом и тонком слое пыли и на пять тысяч лет умноживший жизнь, данную поэту; Босфорский дым, смешанный с холодом воды, пахнущий медом и ванилью; Индийский океан, где “от звезды к звезде шатался великой тростью зыбкий фок…” и “окраина земли” — Цейлон, — все прочувствовал Бунин, все передал. “Земля, земля! Несчетные следы я на тебе оставил… Но нет, вовек не утолю я муки — любви к тебе!” И бунинские стихи о чужих странах не просто “описательные стихи” и не те “восточные мелодии”, которыми так беззвучно щеголяют второстепенные поэты. Никакой “экзотики” в них нет. Мечту чужого народа, чужую легенду и незаметную для туриста подробность пейзажа Бунин чувствует так же живо, так же пронзительно, как “скрип прогнивших половиц” в родной усадьбе, сырой сад, озаряемый ночной молнией, или простую, грубоватую русскую сказку, — которую он, как никто, умеет оживить творческим дыханием. Этому богатству тем соответствует богатство ритмов. Всеми размерами, всеми видами стиха Бунин владеет изумительно. Его сонеты — по блеску и естественности рифм, по той легкости и незаметности, с которыми его мысль облекается в эту столь сложную гармонию, — бунинские сонеты — лучшие в русской поэзии. Необыкновенное его зрение примечает грань черной тени на освещенной луной улице, особую густоту синевы сквозь листву, пятна солнца, скользящие кружевом по спинам лошадей, — и уловляя световую гармонию в природе, поэт преображает ее в гармонию звуковую, как бы сохраняя тот же порядок, соблюдая ту же череду. “Мальчишка негр в турецкой грязной феске висит в бадье, по борту, красит бак, — и от воды на свежий красный лак зеркальные восходят арабески…”
Я говорил уже о том, что прекрасным для Бунина является “преходящее” (поэтому столько у него стихов, посвященных гробницам, развалинам, пустыням…). Воскликнув “о, миг счастливый!”, он добавляет: “о, миг обманный!” Петух на церковном кресте, — который “плывет, течет, бежит ладьей” (чудесное бунинское повторение глаголов!), “поет о том, что все обман, что лишь на миг судьбою дан и отчий дом, и милый друг, и круг детей, и внуков круг…” На гробнице Рахили нет “ни имени, ни надписей, ни знаков…”
Казалось бы, что такое глубокое ощущение преходящего должно породить чувство безмерной печали. Но тоска больших поэтов — счастливая тоска. Ветром счастья веет от стихов Бунина, хотя не мало у него есть слов унылых, грозных, зловещих. Да, все проходит, — но: “Земля, земля! Весенний сладкий зов, ужель есть счастье даже и в утрате?” И Христос так говорит Матери — (скорбящей о том, что одни цветы сгубит зной, другие срежут косами): “Мать! не солнце — только землю тьма ночная кроет: смерть не семя губит, а срезает лишь цветы от семени земного. И земное семя не иссякнет. Скосит смерть — любовь опять посеет. Радуйся, любимая! Ты будешь утешаться до скончанья века!” Все повторяется, все в мире — повторение, изменение, которым “неизменно утешается” поэт. Этот блаженный трепет, этот томно повторяющийся ритм есть, быть может, главное очарование стихов Бунина. Да, все в мире обман и утрата, где были храмы, — ныне камни да мак, все живое угасает, все превращается в атласный прах на плитах склепа, — но не мнима ли сама утрата, если мимолетное в мире может быть заключено в бессмертный — и поэтому счастливый — стих?
1929 А. ДАМАНСКАЯ. ЖЕНЫ
Париж
(Впервые: “Руль”, 25 сентября 1929.)
Татьяна Михайловна Мятлина, живущая в Париже, существующая уроками (“Ужин, чай, выгладить носовые платки, подготовиться немного к первому утреннему уроку истории — с Ниночкой Еврошиной…”), посылает письмо французскому беллетристу Раймону де Марто (“Я с большим волнением читала вашу книгу. О женской чуткости…так тонко не писал ни один мужчина”) и получает в ответ пышное и хлыщеватое послание, в котором много говорится о славянской душе, безбрежности русской степи и буйстве половецких танцев. Такова завязка первого из шестнадцати рассказов, составляющих новую книгу г-жи Даманской. Посмеяться над Раймондом (и в ком из французских писателей не сидит такой Раймонд) задача для русского автора не трудная. И Даманская выполняет ее изящно, не перебарщивая. Вообще говоря, нашу писательницу привлекает тема франко-русских отношений; вот, например, русский бродяга, разговорившийся с благополучным парижским мещанином, который предлагает ему стакан вина, но особенно тщательно запирает дверь после его ухода; а вот французский следователь, допрашивающий по делу об убийстве певицу Ирен Забольда, по паспорту Заболдину, дочь русского помещика, у которой, по ее словам, (сказанным, по-видимому, в минуту волнения, когда человек теряет власть над родным языком), “дом был полная чаша и всегда полон гостей”.
Конечно, забавно, как француз ищет в глазах эмигрантской труженицы отражение половецких костров, — но впечатление от этой острой иронии несколько ослабляется тем, что сама г-жа Даманская склонна в иных рассказах обобщать жизненные явления с легковерностью иностранца. Было бы, например, вполне нормально, если бы французский автор нашел пряную и занимательную фабулу в том, как в образцового гарсона образцового парижского кафе превращается по воле эмигрантской судьбы прежний русский барин (“Красивым изящным барством дышала вся его большая фигура в летней серой паре, чистотой, довольством, умением жить” — как, к сожалению, пишет г-жа Даманская). Русскому же читателю такая метаморфоза кажется, именно вследствие своей литературной очевидности, несколько сомнительной, и в некотором отношении даже вредной, ибо поощряет иностранцев в нахождении ладожских губернаторов под личиной парижских гарсонов. С тонким юмором вскрывая ошибочные представления французов, г-жа Даманская иногда впадает сама в аналогичные заблуждения. Так, в одном рассказе повествуется о собачке Мусташ, принадлежащей русской барышне, за которой ухаживает женатый норвежец; собачка с ним очень подружилась, но вот — норвежец умирает на скамье бульвара, получив телеграмму о финансовой беде. “Мусташ в этот день не вставал вовсе со своего коврика. Не скулил, не выл, а стонал по-человечески. К полудню его не стало: потом уже установили, что своего друга пережил он на каких-нибудь десять-пятнадцать минут”. Мне почему-то кажется, что если бы собачки (не говоря уже о норвежцах!) умели читать по-русски, им было бы так же смешно узнать о “собачьей душе”, как смешно г-же Даманской читать о “славянской душе”. Конечно, это только предположение, иная бы собачка, быть может, прослезилась.
Впечатление чего-то неточного, непроверенного оставляют и некоторые другие образы в книге. Так, прочтя фразу о женщине, которая “с орошенным кровью лицом шагнула назад”, или о женщине, у которой лицо “заливалось малиновым сиропом”, бесхитростные могут подумать, что в первом случае речь идет об опасном ранении, а во втором о кухонной катастрофе. На самом же деле это только два изысканных способа сказать, что человек покраснел.
Надо, однако, признать, что не всегда г-жа Даманская следует по линии наименьшего сопротивления, не всегда заставляет человека с лицом, перекошенным таинственным страданием, оказываться скрывающимся от суда преступником… Когда автор описывает свой переход через русскую границу или любовь дворника-менестреля, который “министрелил” на балалайке и так “разминистрелился” с горничной Дашей, что жена насилу его отвоевала, — всюду попадается живописный штрих, меткое наблюдение, — и все это легко, без нажима пера. Простой, описательный рассказ, основанный на действительной жизни, — вот настоящая область г-жи Даманской.
1929 КУПРИН. “ЕЛАНЬ” (РАССКАЗЫ)
“Русская библиотека”. Белград
(Впервые: “Руль”, 23 октября 1929.)
“…В гнедых и рыжих надо верить. Не скажу дурного слова и про вороных. Только без нужды горячи и скоро взмыливаются. Относится это отчасти и к караковым и к игреневым…” Как прекрасно, когда у большого писателя есть страсть к чему-нибудь. Обо всем он пишет превосходно, но есть на свете нечто, о чем он особенно хорошо пишет. Зрение и нюх, всегда обостренные у писателя, доходят тогда до предельной проникновенности, и обычный уровень писательской наблюдательности сразу повышается, ибо тут постоянная творческая зоркость облагораживается опытом знатока. Сам Куприн отмечает, что, когда русский человек говорит о своем привычном и любимом деле, поражаешься точности и чистоте языка, сжатой свободе речи и легкой послушности необходимых слов. Когда же не просто русский человек, а русский писатель, получивший от Бога щедрый дар, говорит о том, что он знает и любит, о безысходном в своей нежности и странности влечении, — тогда можете себе представить, какая у него точность и чистота выражений, как волнуют его слова. Так пишет Куприн о прелести лошади, о ее горячем сильном дыхании и чудесном запахе, и, читая этот первый рассказ в сборнике, так и ощущаешь все время под губами теплую, шелковую лошадиную кожу, нежную, ни с чем несравнимую впадину над ноздрей. Чего стоит, например, вот это: “От множества причин еще может зависеть неуспех бега: лошади нездоровилось, а этого не успели доглядеть, проснулась в дурном настроении, видела, может быть, дурной сон”. И сразу наше воображение зажжено упоминанием о сне, который, может быть, видела лошадь, и поневоле чувствуешь, что Куприн даже и это знает — сон лошади, и такое знание для него столь же легкое и естественное, как знание лошадиных мастей. Но безысходность… Куда деть, и как писателю самому себе объяснить волнение, страсть… Ведь человек в данном случае создан как будто только для того, чтобы писать книги и писать их прекрасно, а он “всю жизнь мечтает о тренировке породистых скаковых лошадей”. Руссо мнил себя ботаником (кстати сказать, ботаником он был прескверным, но писал о растениях с большим подъемом); очень возможно, что Куприн, отказавшись от писания книг, был бы прекрасным тренировщиком лошадей, но потеря для русской литературы была бы огромная.
В этом небольшом сборнике есть рассказы не только о лошадях, но и о собаках, о цирке, о волшебной скрипке, о ковре-самолете. Все они, конечно, очень купринские. Талант автора так и прыщет из каждой, даже неряшливой, строки; однако почему-то сдается, что иные страницы являются просто быстрыми записями, просто материалом, — живым и богатым материалом, — для более гармонических и строгих трудов.
Но грех пенять, — очень все-таки хорошо, очень хорошо.
1930 АНКЕТА О ПРУСТЕ
(Впервые: “Числа”, Париж, 1930, № 1, с. 274.)
Редакция “Чисел” обратилась к ряду писателей с просьбой ответить на следующую анкету:
1) Считаете ли Вы Пруста крупнейшим выразителем нашей эпохи?
2) Видите ли в современной жизни героев и атмосферу его эпопеи?
3) Считаете ли, что особенности Прустовского мира, его метод наблюдения, его духовный опыт и его стиль должны оказать решающее влияние на мировую литературу ближайшего будущего, в частности на русскую?
1) Мне кажется, что судить об этом невозможно: эпоха никогда не бывает “нашей”. Мне неизвестно, в какую эпоху будущий историк нас ухлопает и какие найдет для нее приметы. К приметам, находимым современниками, я отношусь подозрительно.
2) Опять же, — мне трудно вообразить “современную” жизнь. Всякая страна живет по-своему, и всякий человек — по-своему. Но есть кое-что вечное. Изображение этого вечного только и ценно. Прустовские люди жили всегда и везде.
3) Литературное влияние — темная и смутная вещь. Можно себе, например, представить двух писателей, А и В, совершенно разных, но находящихся оба под некоторым, очень субъективным, влиянием Пруста; это влияние читателю С незаметно, так как каждый из трех (А, В и С) воспринял Пруста по-своему. Бывает, что писатель влияет косвенно, через другого, или же происходит какая-нибудь сложная смесь влияний и т. д. Предвидеть что-нибудь в этом направлении нельзя.
1930 НА КРАСНЫХ ЛАПКАХ
(Впервые: “Руль”, 29 января 1930.)
Пушкина немало насмешил тот злополучный критик, который по поводу строк “На красных лапках гусь тяжелый, задумав плыть по лону вод…” глубокомысленно заметил, что на красных лапках далеко не уплывешь. Увы! С этим зоилом чрезвычайно схож по складу и направлению мыслей некий Алексей Эйснер, напечатавший в последнем номере журнала “Воля России” забавную своей молодой заносчивостью статью, в которой он силится доказать, что Бунин — не поэт, что стихи у него плохие, безграмотные, бедные по форме и по содержанию и никуда вообще негодные. Начинает Эйснер с того, что он удивляется, почему так хвалили бунинские стихи Степун, Ходасевич, Тэффи и нижеподписавшийся. Ничто не пропадает зря: особенно больно задело Эйснера именно место в моей рецензии, которое и было рассчитано, чтобы потревожить самодовольство любителей “современности”, совершенно неспособных понять прелесть бунинских стихов. Посетовав на критиков, Эйснер переходит к разоблачениям. Это, оказывается, очень просто. Берется, скажем, бунинская строка “назад идет весь небосвод” и для большей наглядности подается в таком виде: “назад идет весне босвод”. Не говоря уже о том, что надо иметь уши Эйснера, чтобы расслышать эту “весну”, могу ему предложить посетить со мной сады русской поэзии и нарвать у любого поэта таких же безобидных цветочков. Оттого, что в тютчевских строках (беру первый попавшийся пример) “с горы бежит поток проворный, в лесу не молкнет птичий гам” скрывается какое-то “рыбе” и какое-то “сунем”, которые я и представляю отыскать читателю под руководством Эйснера, эти строки все же не лишены поэзии (да и незачем так далеко идти: обратимся опять к стиху “задумав плыть по лону вод”… “ну вот”). Но особенно Эйснер обижается на то, что Бунин употребляет слова ему, Эйснеру, неизвестные. К таковым, например, относится “дробный” (“дробный ослик”), так отлично передающее и ход ослика, и робость, и беззащитность его, — и какое кому дело, что, по неведению своему, Эйснер в “дробном” усматривает только дроби? Обижается Эйснер и на “астрагал” — растение очень распространенное; напрасно Эйснер, по завету Достоевского, плоховато знавшего природу, полагает, что “астрагала” ни в каком руководстве нет: найти его можно просто в словаре русского языка; один из видов “астрагала” зовется розгой. Бьюсь об заклад, что Эйснер нетвердо знает, что такое и гелиотроп, ибо вместо того, чтобы “увидеть” эти гелиотроповые бунинские молнии (замечательный оттенок лилового!) и услышать грозовый ритм стиха, он ни с того ни с сего вспоминает Игоря Северянина. Самые образные бунинские выражения, как, например, “сплошь темные глаза”, которыми дедушка в молодости смотрел в зеркала, эти “сплошь темные глаза”, в которых особая прелесть старых портретов, с их внимательными, лишенными блеска глазами, почему-то навевают бедному Эйснеру какие-то анатомические кошмары. О бунинских рифмах он самого низкого мнения. Не из желания его смутить, а просто ради восстановления истины, обращаю его внимание на то, что у Бунина рифма богаче, чем, скажем, у Гумилева (который, кстати, тоже рифмовал “гнезда” и “звезды”, что Эйснер считает недопустимым).
Несколько раз Эйснер настолько невнимательно цитирует Бунина, что получается впечатление передержки. Ему не нравится бунинская чайка, с розовых лапок которой сбегает вода; но зачем же для объяснения своих чувств Эйснеру нужно сказать, что “розовая вода, сбегающая с лапок чайки, подробность невозможная”? Ведь никакой “розовой воды” у Бунина и нет. А вот другой, более хитрый, пример: Эйснер, приводя образцы бунинской “пошлости” (!), говорит, что Бунину все “радостно и ново”, даже “уют алькова”. Последние два слова, слепо вырванные из стихотворения, принимают как раз тот игривый смысл, который и хочет им навязать Эйснер. Насколько пошл этот прием, можно понять, обратившись к самому стихотворению, где просто изображается номер в хорошей гостинице, с видом на смуглый купол Исаакия, который в заснеженные стекла смотрит “дивно и темно”. Поэта радует это “финское утро”, и яркий свет в номере, и уют алькова (альков значит углубление в стене для кровати), и “холодок сырых газет”.
Далее Эйснер, явно презирающий животных, сердится на Бунина за то, что тот лучше знает и видит их, чем он сам. Ему не нравится, что поэт, “всматриваясь в апрельский день, отвлекается мелкой подробностью, описанием того, как пошла в лес гулять какая-то змея” (при этом вспоминается недоумение пушкинского зоила перед словами “жук жужжал” в описании сельского вечера: охота, дескать, писать о каком-то жуке). Эйснеру не нравится, что Бунин как будто путает вола и быка (хотя можно же сказать, что у мерина конский хвост), что ослик у Бунина ушастый (“ушастый осел” могло бы еще показаться плеоназмом, но “ушастый ослик” — это превосходный образ), что верблюд называется скотина и т. д.
Вся статья написана так, — с нелепым подбором цитат, с вульгарными кавычками. В ней чувствуется какая-то обида: Бунин Эйснеру не потрафил, Эйснеру неприятно, Эйснеру хотелось бы, чтобы не хвалили Бунина за стихи. К чести журнала “Воля России” нужно сказать, что произведение Эйснера снабжено примечанием: “Редакция не разделяет всех оценок автора настоящей статьи…” Еще лучше было бы ее совсем не помещать, ибо действительно… “на красных лапках далеко не уплывешь”.
1930 О ВОССТАВШИХ АНГЕЛАХ
(Впервые: “Руль”, 15 октября 1930.)
От очередного (VII/VIII) номера “Воли России” веет, как и от прежних номеров, какой-то трогательной затхлостью. В прежнее время в “Воле России” помещались бы переводы из Тагора и Верхарна. Обязательно было бы упоминание о Уайльде как о тонком эстете и вообще писателе передовом. Выходи журнал еще раньше — и в нем были бы статьи о Берте Зутнер. Все громкое, ходкое, псевдопередовое, но вполне посредственное поражает воображение провинциала. Тут и стремление во что бы то ни стало поспеть за несколько мифическим существом, которое зовется Европой, почтение перед городским щегольством и нежно-революционная истома, а главное, главное — некое сакраментальное отношение к современности в кавычках. Эта последняя черта свойственна, между прочим, и Германии, где крылатые словца живут, как в раю, и ходячим выражениям оказывают такой же радушный прием, как глобтроттерам, продающим цветные открытки. Какой пафос, какую значительность получило года три, четыре тому назад слово “викенд”, мирно проживавшее в Англии уже полстолетия, а в Берлин попавшее фуксом — вместе с рекламой складной палатки — и сразу приобретшее оттенок упоительной новизны… В нем поспешили найти черты, родственные веку. Русские, живущие в Берлине, произносят его с удовольствием. В нем таится что-то пряное, острое, связанное с джазом (который берлинские русские выговаривают “яцц”, а парижские — жаз) и с короткими юбками. Эти последние тоже оказались символом эпохи. Один датский философ тонко согласовал их с “торопливостью века”, рекордами и прочими приметами. Увы, — платья теперь удлиняются снова, чуть не до пола. Торопливость века, по-видимому, заключается в том, что продолжается он не сто, а пять-шесть лет.
“Воля России” преувеличивает способность культурного человека быть поверенным своей эпохи. В этой тяге ко всему передовому есть, как это ни звучит странно, отсталость. Вот, например, статья В. Архангельского о Гаршине и Ремарке. Статья хорошая, гуманная, но ведь это отношение к Ремарку, как к явлению необычайному, ослепительному, нетактично по отношению к теням авторш “Долой оружие!” и “Хижина дяди Тома”. Гаршин, который почему-то сравнивается с Ремарком, будет, несмотря на все трещины в его таланте, еще читаться, когда одностороннего Ремарка забудут. Автор статьи приводит из Ремарка цитату о раздробленных коленях и распоротых животах и восклицает: “Такова современная война!” Неужели В. Архангельский серьезно полагает, что в прежние войны пули и сабли как-нибудь бережнее обращались со своими жертвами?
А вот стихи Алексея Эйснера (Из поэмы “Суд”). Тут опять-таки все очень современно — сразу начинаем с газетного отчета и убийства в автомобиле. Сразу видно, что поэт идет вровень с веком, в котором, мол, такую преобладающую роль играют газеты и автомобили. По правде же говоря, все в этих стихах очень чинно и очень не ново. Такие банальные образы, как “солнце в тоске об острые крыши раздробило кулак”, напоминают 1912 или 1913 гг., когда изумлял гимназистов (кое кем еще до сих пор чтимый) Маяковский. Хороший тон и тогда требовал побольше автомобилей и протестов против вмешательства суда в уголовные преступления. Свою тему — о том, как ловят, судят и казнят убийцу, — Эйснер разработал так, что невольно вспоминается громкая, но малохудожественная баллада одного известного моралиста (Оскара Уайльда), и очень наивно описание суда в Англии, особливо же стих “А сам председатель поэмами Шелли занят”. Знакомство с Шелли (хотя бы через скверный пересказ Бальмонта) почему-то считалось у нас когда-то признаком изысканности. Комизм эйснеровского стиха станет очевидным, если представить себе председателя русского суда (из “Воскресения”, скажем) поглощенным на суде поэмами Лермонтова. Все это довольно прискорбно. Стихотворные способности, и, может быть, даже больше, у Эйснера имеются. Но зачем, зачем он вступает в жизнь с такими прилежными перепевами старины?
Любопытно отметить и статью Вячеслава Лебедева в защиту автора одной статьи о Бунине, которую я в “Руле” разделал под орех (выражение В. Лебедева). Мне несколько неловко перед Иваном Алексеевичем, что по довольно, в сущности, пустому поводу принимаюсь опять демонстрировать обрывки его стихов, зря выковырянные молодыми, напористыми, но неуклюжими воспитанниками муз. Грешен, люблю полемику (конечно, только с честными людьми). В данном случае мне вполне понятна обида за другого, которая вылилась в статье Лебедева. В этой статье, правда, есть глупая фраза о “подобострастии и темном идолопоклонстве”, коими Лебедев объясняет восхищение бунинскими стихами, но есть зато хорошая такая старомодная душевность, пламенный призыв отречься от кумиров. Совершенно неважно, что новые доказательства бунинской “безграмотности” только обличают поверхностность лебедевских познаний в области русской словесности и языка. Но все же, хоть это и скучновато, надо на них остановиться мимоходом. Лебедев думает, что нельзя “касаться до”, а это допустимо вполне. Допустимо и ударение на последнем слоге “звездам” (ср. “Кто при звездах и при луне”); можно не только “трепать что”, но и “чем”, например, руками, крыльями, языком. Лебедев находит, что “девушка с раскрытой головой” — намек на трепанацию черепа, и, вероятно, понял бы слова “не раскрывайся — ветрено” за просьбу не совершать харакири на ветру. Я готов разъяснить Лебедеву при случае и все остальные его недоумения. Только мне не совсем понятно, почему он взял на себя непосильную задачу “поправлять” Бунина. У Бунина богатейший язык, и у всех больших поэтов попадаются и темные, областные выражения и непривычные обороты, и просто неловкости. Если только за это хаять стихи Бунина, то это упреки, основанные почти всегда на заблуждении, а если причины лебедевской неприязни к Бунину более глубокие, то незачем придираться к пустякам, ибо что же тогда пришлось бы сказать о чудовищной безграмотности талантливого, но сумбурного Пастернака, которого, кажется, любит Лебедев.
Собственно говоря, суть статьи заключается в том, что Лебедев, верный духу журнала, ужасно боится не поспеть за веком — и, как это часто случается, наступает веку на подол и падает. Есть люди, которые, приехав в Париж, возмущаются Эйфелевой башней, не чувствуя в ней прелести ее архаичности. Русские переводчики Шекспира опускали упоминания о теннисе и о “подлом футболисте” (последний — в “Короле Лире”), так как считали, что это не вяжется с принятыми представлениями о шекспировской эпохе. Знаю многих людей, которым до сих пор аэропланы и поезда кажутся принадлежащими к какому-то другому миру: есть, дескать, старый мир, где поют птички, и есть новый, где “бетон”, викенды, радио и бомбометы. Вот на таком обывательском ощущении бытия и зиждется отношение Лебедева к литературе. Для поэта такое ощущение гибельно. Лебедеву кажется, что между Буниным и Тихоновым или Маяковским — “века, крушение надежд и восстание ангелов”. (А помните, как Лаевский в чеховской “Дуэли” любил говорить “в наш нервный век”.) Восставшие ангелы — скучные существа. Вчера, входя в дом, я слышал, как у швейцарихи (ограниченной и недоброжелательной женщины) радио играло Прокофьева. Чем в этом смысле радио отличается от “мещанского граммофона”, — не знаю, но Лебедев, вероятно, знает. (“Века, крушение надежд, восстание ангелов”.)
В этом же номере “Воли России” можно еще отметить малопонятные стихи Божнева (автора книжки свежих, прелестных стихов о фонтанах), и похвалы, которые М. Слоним расточает бездарнейшему В. Шишкову (ох уж это вдумчивое отношение к советской халтуре). Несколько особняком стоит коллекция из тридцати снов Тургенева, собранная Ремизовым. Очень, конечно, хорошо, что собраны, так сказать, в одном месте все эти сны из тургеневских произведений, но незачем было их снабжать ремизовскими комментариями, в которых попадаются такие жемчужины слога: “раненое сердце легло тенью на весь облик Тургенева” или “вызывающий голос живого пола, неизжитого в жизни, рвущегося из застывшей крови мертвой Клары и действующего без всякого посредника (наговоренной или от сердца одурманенной булки), а своей живой волей в напряженную среду другого пола”.
1931 АНТ. ЛАДИНСКИЙ. ЧЕРНОЕ И ГОЛУБОЕ
Издательство “Современные записки”
(Впервые: “Руль”, 28 января 1931.)
На протяжении сорока стихотворений, входящих в эту книгу, “пальма” и “эфир” встречаются по семи, “ледяной” и “прекрасный” по пятнадцати, а “голубой” и “роза” (или “розовый”) по тридцать раз. Слова эти не случайны, они находятся между собой в некой гармонии, составляют как бы лейтмотив всей книжки. Пальмы и розы Ладинского связаны то с восточными хрустальными миражами, то с морозом, с ледяными стеклами северных стран. Пальмовая роща просит “морозов ледяных”, розы цветут на “снежных пустырях”. Недаром Ладинский замечает, что “к морозу рифма роза с державинских времен”. В самом деле, классики любили это сочетание, — не только звуковое, но и смысловое. Роза пылала на ланитах пушкинских красавиц. В кущах Фета она расцветала пышно, росисто и уже немного противно. О, какая она была надменная у Надсона! Она украшала дачные садики поэзии, пока не попала к Блоку, у которого чернела в золотом вине или сквозила мистической белизной. Не с этими розами, а с первыми, классическими состоит в родстве роза Ладинского, но у него она вовсе утратила небольшую связь свою с ботаникой и как бы органически сблизилась с морозом, сделалась своеобразным, диковинным, эфирным цветком. “Цветут эскимосские розы на окошках полярных домов” и “к эскимосской розе полярный воздух льнет”. Мороз, иней, голубые сугробы, ледяной эфир, стужа, “кастальская стужа”. Ладинский воспринимает творчество, вдохновение, как волшебный мороз, на котором сначала дышится очень трудно, а затем — так сладко, что отказываться от него невозможно. Это — эфирная стужа Сахар и горний разреженный воздух, — высота, куда поэтам неопытным, с земными легкими, столь же трудно взобраться, как на вышку — “задыхающимся толстякам”. Музе Ладинского в пыльном Каире хочется “снежку” — и он везет ее на север. Кастальская стужа пленительна; прохладный, утоляющий все чувства рай влечет, как влекут переселяющихся на новую квартиру “никелированные краны и в изобилии вода” или как влечет оазис путника, качающегося на верблюжьих “голубых горбах”. Изумительны снежные пейзажи Ладинского — “бревенчатый Архангельск” или “Нюренбергская классическая зима” или, наконец, Московия, где так близко “солнце розовое спозаранок” и где “голубая теплота” в глазах жительниц. Быть может, самое совершенное стихотворение в книге, чудо поэтического мастерства, то, которое обращено к Пушкину. “Не слышит он земных страстей, — ни шума трепетных ветвей, ни славы горестной своей”, — и дальше опять о розе, о холоде, о жене Пушкина: “Она цвела средь бальных зим, и северный склонялся Рим пред этим сердцем ледяным”. И смерть среди снегов, на морозном воздухе, где “тает голубой дымок” выстрела, кажется самой чистой для поэта смертью.
Голубое — отсвет небес на сугробах, на плаще музы, на морской воде. Московия, где так холодно и снежно, — конечно, “самая прекрасная и большая страна в мире”.
Стихотворение “Детство” с любимым Ладинским переходом от голубых сугробов к жаре шуб кончается следующей дивной строфой: “И спрятавшись в углу за сундуками, я слушал в дальней комнате глухой, как небо в страшной нежности громами впервые трепетало надо мной, когда рояль прекрасный раскрывали, и черным лакированным крылом, огромной ласточкою в белой зале, он бился на паркете восковом”. Но настоящее “голубое”, это, разумеется, небо, — “голубые холмы небес”, “голубое бессмертие”, “голубые стропила”, — и какая тонкая, какая правильная мысль выражена в строках “Только земля, земное, черная дорогая мать, научила любить голубое и за небесное умирать”.
Таков основной фон стихов Ладинского. Замечательно, что, будучи связаны единой гармонией, все сорок — разные, в каждом из них содержится свой собственный волнующий рассказ. Вот мужики-аргонавты плывут, пристают к розовому острову, где драконы стерегут “сусальную овчину”; вот путешествие в полярные страны; вот баллада о каирском сапожнике. Удивительно живы звери, попадающиеся Ладинскому по пути — “загнанная лошадь молодая с белою отметиной на лбу” — этот его Пегас, который первым приходит к столбу (что правда — то правда), или тот же “звереныш” с “двумя мутными маленькими глазками в клочьевой яростной щетине”, изображающий затравленный стих, или курица, “круглым глазком” выискивающая зерна, или наконец — собаки, “мохнатые братья” полярного путника. Гибок, легок и точен стих, — по преимуществу ямбический; рифмы богаты, но вместе с тем их нарядность незаметна, как незаметно щегольство очень хорошо одетых людей. Язык Ладинского прекрасен. Я перечел книжку несколько раз, высматривая промахи, но, кажется, ничего нет, кроме скверной строки “в Эфиопии бьешься в труде” и ужасной путаницы в строках “стрелою сладкой жалит горошина свинца”, что несколько напоминает пресловутое: “le char de l’Etat navique sur un volcan”.
Ладинский необычайно талантлив, — и очень самостоятелен, очень своеобразен. Все же кое-какие отдаленные литературные влияния можно в его стихах проследить. В некоторых интонациях, в нежности и силе слов смутно чувствуется Ходасевич, в морском и миражном блеске иных стихов — Бунин. Никакого не может быть сомнения, что среди молодых и полумолодых поэтов Ладинский первый, что всех их он оставил далеко позади. Много издается стихов, не отличишь одного стихотворца от другого, — Терапиано от Оцупа, Адамовича от Ю. Мандельштама (несколько отличен от других Поплавский, который часто напоминает мне Вертинского, — “Так весной, в бутафорском смешном экипаже, вы поехали к Богу на бал”), и среди этой серой, рассудочной, надсоновской скуки, среди прозаических стихов о чем-то, смутных намеков на смутные мучения, на конец мира, на суету сует, на парижский осенний дождичек, — вдруг эта восхитительная книга Ладинского.
1931 “ПЕРЕКРЕСТОК” 2. “СБОРНИК СТИХОВ”
Издание парижского союза молодых поэтов и писателей. Париж
(Впервые: “Руль”, 28 января 1931.)
Так как некоторые из поэтов, представленных в первом из этих двух сборников, представлены и во втором (А. Дураков, Ю. Мандельштам, В. Смоленский, Е. Таубер, К. Халафов, Т. Штильман), то неясно, служит ли каждое это собрание стихов выражению отдельного поэтического направления; кроме того, трудно определить, что именно объединяет участников в пределах каждой из этих двух книг. Представлены тут, во-первых, поэты, пишущие темно, — к этому разряду принадлежит Валентина Гансен (“Сборник стихов”), стихотворение которой “Юродивый”, хоть и написано русским языком (не без былинных приправ), мало понятно. Далее у Леонида Ганского (“Сборник”) встречается следующее: “Ссужает ростовщик незнакомый под гордость любви гроши. В этом нехорошем доме женщины нехороши”. Что это значит? В том же стихотворении любопытны строки “Мы кричим, как только звери кричат, испытывая страх”. Почему молодые поэты так любят сравнивать себя со зверьми, причем неизвестно, с какими, — и почему они питают склонность к прозаическим длиннотам (“испытывая страх”)? К тому же разряду невнятных принадлежит В. Дряхлов (“Сборник”), В. Мамченко (“Сборник”) и отчасти Ек. Таубер. Дряхлов, — как, впрочем, многие, — не чувствует, что от космического к комическому один только шаг, исчезновение одной лишь буквы. “Но душ космический не тронул гул, спокойных, как Евангелье от Иоанна”. Что такое “космический душ” — не знаю, а Евангелие от Иоанна взято у Гумилева, и неизвестно, для чего взято. Начало стихотворения Мамченко выписываю в строчку, чтобы посмотреть, получится ли какой-нибудь смысл: “Когда по лесам в трущобных орбитах, где негу на снегу изнывало самке первобытное, где на посту громоздкой поступью двигался мамонта бивень…” Нет, кажется, ничего не получается. Наконец, у Ек. Таубер, которая вообще пишет очень ясно и очень скучно, нашлась такая темная строфа: “и смотрят в очи тихие заливы, как в чашу, полную дурманного вина, куда когда-нибудь их погрузит лениво рука, тяжелая от алчущего дна”.
Усеченная мужская рифма, которая последнее время, слава Богу, вымирает, — по крайней мере в эмиграции, — еще держится в бодрых стихах Юрия Софиева (“Сборник”) и Ник. Станюковича (“Сборник”). Этот последний, вместе с двумя поэтессами Софьей Красавиной (“Сетью четких ватерлиний ты все моря избороздил”) и Татьяной Штильман (“Спор, крики, шум в портовых кабаках…”) входят в категорию тех, которые черпают свои образы в модной области морского, мореходного, матросского (О, гумилевские капитаны!) У Станюковича все есть: и подводные утесы, и рифы, и драка на борту, и ножи, и топоры, и даже какие-то “свинцовые пыжи”. Из следующей группы, группы рассудочных, тоскующих поэтов, выделю сперва двух, — Лазаря Кельберина (“Сборник”) и Ю. Терапиано (“Перекресток”), которые, между прочим, пишут о Содоме, о конце мира. Тема эта, по-видимому, тоже модная. Целая статья о нынешнем Содоме и конце мира, принадлежащая перу писателя, углубившегося в сомнительную мистику, появилась недавно во втором номере выходящего в Париже журнала “Числа”. Кельберин начинает так: “Средь путей земных и многотрудных” (кстати, какая трогательная однородность: у Дуракова есть строка “на путях больших и хожих”, а у Ек. Таубер о “путях неведомых”, — вот что значит перепевать старое). Далее Кельберин пишет о том, что “проходили мимо педерасты”, что “никто не видит ночи близкой” и что кто-то “сыплет громкими словами, сам себе при том могилу роя”, — довольно никчемное занятие: одновременно сыпать и рыть. Терапиано сообщает, что он “вместе с Лотом уходил” и “плачет о Содоме”. Он же впадает в роковое для поэта заблуждение: “мир словно первозданный сад, но как о нем сказать словами? Слова по-новому звучат, лишь утвержденные делами” (Вспоминаем, как сетовал певец “догоревших огней” на “беспомощность” нашего языка).
Следующие поэты все довольно грамотны и все ужасно пресны: Халафов (кроме одного стихотворения, где живо передан детский бред, который “огненным наливался адом, отодвинув так, чтоб не достать, медвежат и чашку с лимонадом”), В. Смоленский (у которого между прочим: “дрожит от головокруженья держащая перо рука”), Дураков (“их взор бесценен, взор туманен, забыл про радость бытия”) и Ю. Мандельштам (“Еще на гимназической скамейке” и множество других прозаизмов). К ним же можно отнести Довида Кнута (“Перекресток”), который как будто талантливее их, но часто оступается: он может безвкусно озаглавить стихи “Ноктюрн” или начать так: “Отойди от меня, человек, отойди, — я зеваю”. Евгений Шах, первая книга которого возбудила большие надежды, надежд этих не оправдал ни второй книгой, ни стихами в “Перекрестке”. Все те же тоскливые, роковые, рассудочные переживания, как у его коллег, — и синтаксис тот же, и приемы те же, и та же скука…
Несколько особняком стоят в “Перекрестке” гр. П. Бобринский, Илья Голенищев-Кутузов и Георгий Раевский. Бобринский склонен к пышному и строгому слогу (“Под солнцем Галлии счастливой необозримые поля…”). Его “Шартр” начинается прямо как “Полтава”. Мне кажется, что если уж настраивать лиру на пушкинский или державинский лад, следует избегать неточных рифм (равнина — единый, ветер — встретить, лирник — кумирни и т. д.). Очень стройны, умны, но совершенно лишены благоухания стихи Голенищева-Кутузова (“стенанья сирого сирокко, и хищный крик приморских птиц, и тягость избранного рока, и это море без границ…”). Георгий Раевский, в отличие от почти всех поэтов в обоих сборниках, — зрячий, смотрит на мир, а не в туманную глубину собственного эго, очень недурно его стихотворение “Голландская печь” — двенадцать двустиший-изразцов. Например: “Двое за круглым столом сидят за кружками; кости мечет один, а другой трубкой стучит о сапог”. Или: “Палкою с дуба старик сбивает желуди. Свиньи сбились в кучу. Одна грустно в сторонке стоит” (Но есть тут и небрежность: сбивает — сбились, — как, впрочем, в строфе другого его стихотворения: “По осенним, по сжатым полям с сердцем сжатым задумчиво шли мы”). “Голландскую печь” портит заключительное двустишие, в котором есть что-то ландриновское.
Таковы впечатления взыскательного читателя от этих двух сборников. Молодым поэтам следовало бы больше работать (но Боже упаси от кружковской работы) и меньше печатать. Многие из них не лишены дара, у двух-трех чувствуется хорошая школа, но должна ли чувствоваться школа, как бы хороша она ни была? Побольше жизни в стихах, побольше любви к впечатлениям живого мира, ко всему тому, что не зависит от литературных и прочих кризисов, — а мода, модные клише, содомы, задушевные сетования, — Бог с ними.
1931 Н. БЕРБЕРОВА. ПОСЛЕДНИЕ И ПЕРВЫЕ
(Впервые: “Руль”, 23 июля 1931.)
“20-го сентября 1928 года, утром, между девятью и десятью часами, случились три события, положившие начало этой повести: Алексей Иванович Шайбин, один из многочисленных героев ее, появился у Горбатовых; Вася, Горбатовский сын, детище Степана Васильевича и Веры Кирилловны и сводный брат Ильи Степановича, получил письмо из Парижа, от приятеля своего Адольфа Келлермана, с важными известиями об отце; и наконец на ферму Горбатовых, в широкую долину департамента Воклюз, пришел нищий странник с поводыркой”.
Странник этот собрался было спеть песню, которая “ответ нам дает, ответ русским людям самый понятный, самый скромный”, но ему помешали: приехал из Африки Шайбин, и вот уже начинается мощное течение повести: поездка Ильи и Шайбина, а затем Васи в Париж, их душевные приключения там. Так в начале книги читатель не узнает, что это за песня, которую собрался петь “грозно худой” старец; она нам только обещана как раскрытие некой тайны. Между тем в этой задержанной и лишь в конце книги спетой песне заключена вся идея повести; вся фабула — только ряд искусных вариаций на эту главную тему, обещанную вначале, постепенно выясняющуюся по мере музыкального развития фабулы и звучащую, наконец, с простой и убедительной силой в устах умирающего странника:
На чужбинушке не тоскуй, казак, Не скучай, казак, по Расеюшке, — Не тебе ль дана воля вольная, Путь-дороженька поперек земли? Путь-дороженьку исходи кругом, Во страну приди во французскую. Становися, дом, на крутой горе, Обводись межой, поле малое! На чужбинушке не горюй, казак, По могиле отца-матери, Укрепись, казак, во судьбе своей, Во земле своей, заграничноей.Осесть на чужой земле, казалось бы, значит отречься навсегда от своей, порвать последнюю с Россией связь, поддерживаемую беспокойством кочевий. Парадоксальным образом, однако, именно в работе на поле малом, заграничном, автор — или герой — видит спасение и укрепление русской души. Ибо в самом понятии “земля” есть нечто сугубо русское, и, живя на земле, опрощаясь, отстраняя городскую культуру, тем самым сохраняешь извечный отечественный уклад. Таков поставленный тезис.
Читатель, требующий от автора своеобразной сатисфакции, того, что в обиходе называется сведение концов с концами, а в искусстве — закономерность, законченность, гармония, получает от “Последних и первых” удовлетворение особенно полное. Книга прекрасно сработана. Это первый роман, в котором образ эмигрантского мира дан в эпическом и как бы ретроспективном преломлении, и герой его чуть выше человеческого роста. В каком-то смысле можно представить себе, что русский писатель будущего века, занимаясь творческим воссозданием далекого прошлого, одолеваемого лишь посредством пристального и вдохновенного воображения, напишет о нас книгу, очень схожую по духу с берберовской. Условность и стилизация этой книги не суть недостатки, а суть неизбежные свойства эпического рода. То, что даровитый писатель двадцать первого века сотворит поневоле, в силу отвлеченности его от нас, Берберова совершает сознательно. Из всего эмигрантского, житейского, — рыхлого, корявого, какофонического, — она выкроила, возвела в эпический сан, округлила и замкнула по-своему одно лишь из явлений нашего быта: тоску по земле, тоску по оседлости. В романе, просто бытовом, иные из приемов Берберовой были бы просто нестерпимы; но мучительная напряженность диалогов (местами весьма напоминающих карамазовские крики) и некоторая странность совпадений и встреч искупаются общим строем этой своеобразной, ладной и блестящей книги. Слог на редкость крепок и чист, образы великолепны своею веской и точной силой. Это не дамское рукоделие, не безответственное братание с безднами и не заказной отклик на злобу дня, — это литература высшего качества, произведение подлинного писателя.
1931 ПИСАТЕЛИ И ЭПОХА
(Впервые "Les ecrivains et l'epoque", в журнале "Le Mois", Paris, 1931, juin — juillet, 137 — 139, под псевдонимом Vladimir Sirine)
Иногда я пытаюсь угадать, какой представится наша эпоха человеку XXI века. Казалось бы, мы имеем уже то преимущество над предками, что наша техника открыла некоторые способы более или менее непрерывной фиксации времени. Принято думать, что лучший портрет века, созданными писателем самым беспристрастным, скажет нам меньше, чем серенькое мельканье какой-нибудь устаревшей, сбивчивой фильмы. Метод современной кинематографии, казалось бы, дающий нам идеально точное изображение жизни, будет, наверное, так отличен от метода, каким воспользуются наши правнучатые племянники, что движение нынешней эпохи в их восприятии (тусклое мерцание на перекрестке — кишенье автомобилей, исчезнувших навсегда) исказится из-за самого стиля кадра, из-за того старческого и нелепого облика, который обретают в наших глазах гравюры, изображающие события минувшего века. Иными словами, у наших потомков не будет непосредственного ощущения реальности. Человек никогда не будет властителем времени — но как заманчиво хотя бы замедлить его ход, чтобы не спеша изучить этот тающий оттенок, этот уходящий луч, эту тень, чей ускользающий бархат недоступен нашему осязанью.
Залитый солнцем день, может быть, слишком жаркий; будет дождь, Я смотрю в окно, я высовываюсь во двор, я хочу выйти из моего времени и нарисовать улицу в той ретроспективной манере, которая будет совершенно естественной для наших потомков и которой я так завидую.
Синий автомобиль остановился у тротуара. Небо, синеватая гуашь, отражается в полированном капоте, и расколотая шахматная доска мостовой вздыбилась и кренится в лаковой глубине дверцы. Этот автомобиль, мостовая, одежда прохожих, особый расклад фруктов и овощей в угловой витрине, два огромных гнедых першерона, впряженных в мебельный фургон, гудение аэроплана над крышами — все это, собранное вместе, дает мне чувство настоящей реальности, той комбинации, которая будет возможной еще завтра, но распадется двадцать лет спустя. Я пытаюсь представить себе все это как воскресшее прошлое, я силюсь разглядеть гуляющих, одетых по вчерашней моде, мне почти удается заметить в этом автомобиле что-то, сам не знаю что, плохонькое, бесформенное, что поражает нас при виде какой-нибудь кареты в историческом музее. Тщетные эксперименты, вызывающие легкое головокруженье, непривычное смещение пространства, как бывает, когда лежишь навзничь на песке, запрокинув голову, и смотришь на идущих вверх ногами (сгибается колено, ступня точно отталкивает землю) — и вдруг на мгновение рождается зримое ощущение гравитации. Но эти мгновения коротки, душа снова захвачена привычками повседневной жизни. А потом говоришь себе: среди вещей, вставших, кажется, в том единственном порядке, который создает данную реальность, есть и такие, что просуществуют долго — суетливое чириканье воробьев, зелень сирени, ниспадающая на ограду, белая грудь и серый круп гордого облака, скользящего по влажной синеве июньского неба.
Жадность, с какой мы стремимся поймать время, завладеть им, отражается на ударении, падающем на слово «наша», когда мы говорим о нашей эпохе. Владение призрачное, ибо время бежит сквозь пальцы, и сегодняшнее обобщение завтра не будет верно.
Снег прошлого, а не мрамор вечности я хотел бы видеть и осязать.
Ибо на самом деле мы обладаем лишь бледным образом, безжизненным телом времени, которое ушло навсегда. Мы так старательно изучаем его, мы напяливаем на него столько систем и удобных названий, что почти готовы верить: в XIII веке люди знали не хуже нас, что живут в Средневековье.
Вот удивились бы мы, увидев, какой ярлык наклеит на ХХ век будущий историк…
Человек завтрашний будет исследовать останки человека сегодняшнего, но только последнему дано уловить движения, краски, линии своего живого тела, скелет которого ему не виден. Историк настоящего, историк прошлого — оба не много знают о времени. Все, что мы можем сказать о нашей эпохе, есть скорее искусство, чем наука. Тот философ, который два или три года назад написал толстый труд, где в качестве символа эпохи вывел короткую юбку, должен теперь чувствовать себя идиотом, если случается ему просматривать журналы мод или просто выглянуть в окно. С другой стороны, есть поэты, которые считают, что небоскребы — лучшее, что имеется в современности, тогда как архитекторы (а именно мнение специалиста всегда важно) говорят нам, что тенденция времени выражается скорее в строительстве домов маленьких и низких. Вот поэтому я ужасно боюсь символов (или симптомов) того, что принято называть "нашей эпохой". Тем более, что в каждой стране — свои идолы.
Синий автомобиль уехал, небо затянуто тучами, скоро пойдет дождь, на улице Альжезирас драка, подводная лодка, скользящая по направлению к полюсу, господин без пиджака, убивающий топором жену в провинциальном тихом городе, встреча политиков в Англии, путешественник, затерявшийся в горах Тибета, капли дождя, одна, вторая, третья — и потом все вместе, колотящие о мое стекло.
Нет, я отнюдь не систематизатор, и душа моя не устроена так тонко, чтобы улавливать идеи и течения, характерные для времени. Мне не кажется, что этот век хуже какого-нибудь другого, у него есть мужество, доброта, талант, он чудесно играет в мяч, он думает, он много трудится, словом, он…
Но вот уже ловлю себя на приклеивании сомнительной таблички, названия улицы, которое изменится при будущем правительстве, цветной этикетки отеля, которая зачахнет на старом чемодане.
Перевод с французского О. Сконечной
1931 ЧТО ВСЯКИЙ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ?
(Впервые: “Новая газета”, Париж, 1931, № 5, с. 3.)
Наша эпоха, господа, — эпоха великих потрясений, тревог и поисков. Мы стоим перед грядущим будущим, чреватым переменами, и вместе с тем, подобно Орфею, должны “вычищать Авгуровы конюшни прошлого. До войны у людей была мораль, старая мораль, но теперь они мораль свою убили и закопали и написали на камне: У людей была мораль, старая мораль, но они ее убили и закопали и на камне написали: У людей была мораль, но они ее убили и закопали и на камне не написали ничего. Вместо нее появилось нечто новое, появилась прекрасная богиня психоанализа и по-своему (к великому ужасу дряхлых моралистов) объяснила подоплеку наших страданий, радостей и мучений. Кто однажды использует наше мыло для бритья “Бархатин”, навсегда откажется от других сортов. Кто однажды посмотрит на мир сквозь призму “Фрейдизма для всех”, не пожалеет об этом.
Господа, в пустом анекдоте выражена бывает иногда глубочайшая истина. Приведу следующий: Сын: “Папа, я хочу жениться на бабусе”… Отец: “Не говори глупостей”. Сын: “Почему же, папа, ты можешь жениться на моей маме, а я не могу на твоей?” Пустяк, скажете. Однако в нем, в этом пустяке, уже есть вся сущность учения о комплексах! Этот мальчик, этот чистый и честный юноша, которому отец (тупой рутинер) отказывает в удовлетворении естественной страсти, либо страсть свою затаит и будет всю жизнь несчастлив (Tantalus — комплекс), либо убьет отца (каторга — комплекс), либо, наконец, желание свое все-таки исполнит, несмотря ни на что (счастливый брак — комплекс). Или возьмем другой пример: человек, скажем, чувствует приступ непонятного страха, встретившись в лесу с тигром. Чем же этот страх объяснить? Изящный и простой ответ, господа, нам дается психоанализом: несомненно, что этого человека в раннем детстве напугала картинка или тигровая шкура под маминым роялем; этот ужас (horror tigris) продолжает в нем жить подсознательно, и потом, в зрелом возрасте, при встрече с настоящим зверем, как бы вырывается наружу. Будь с ним вместе в лесу толковый врач, он бы из пациента выудил бирюльку воспоминания, а тигру напомнил бы в простых словах, как он, тигр, в свое время вкусил человеческого мяса, отчего и стал людоедом. Результат беседы ясен.
Господа, проверяйте психоанализом ваши сны. Кому из нас не приходилось после сытных разговен, “орать во власти кошемара” или, после поездки на Фирвальдштетское озеро, видеть во сне Фирвальдштетское озеро? Но почему это бывает? А вот почему. Человек, съевший три четверти пасхи и ночью вступивший в борьбу с помесью сатира и мастодонта, находится под гнетом собственных неудовлетворенных желаний (эротических). Озеро значит то же самое.
Таким образом, чем вольготнее человеку живется, чем благосклоннее он к своим мельчайшим желаниям, чем веселее и основательнее он потворствует им, тем реже он видит дурные сны, тем здоровее его душа. Действительно: наука установила, что некоторые римские императоры (Декамерон, например) не видели снов вовсе.
Господа, вы ничего не разберете в пестрой ткани жизни, если не усвоите одного, жизнью правит пол. Перо, которым пишем возлюбленной или должнику, представляет собой мужское начало, а почтовый ящик, куда письмо опускаем, — начало женское. Вот как следует мыслить обиходную жизнь. Все детские игры, например, основаны на эротизме (это надо запомнить особенно твердо). Мальчик, яростно секущий свой волчок, — подсознательный садист; мяч (предпочтительно большого размера) мил ему потому, что напоминает женскую грудь; игра в прятки является эмиратическим (тайным, глубинным) стремлением вернуться в материнскую утробу. Тот же эдипов комплекс отражен в некоторых наших простонародных ругательствах.
Куда ни кинем глаза или взгляд, — всюду половое начало. Обратимся ли к общеизвестным профессиям — оно тут как тут: архитектор строит дом (читай: строит куры), кинооператор крутит (читай: с такой-то), докторша ухаживает за больным (читай: больной выздоравливает и ухаживает за докторшей). Филологи подтвердят, что выражения: барометр падает, падший лист, падшая лошадь, — все намеки (подсознательные) на падшую женщину. Сравните также трактирного полового или половую тряпку с половым вопросом. Сюда же относятся слова: пол-года, пол-сажени, пол-ковник и т. д. Немало есть и имен, проникнутых эротизмом: Шура, Мура, Люба (от “любви”), Женя (от “жены”), а у испанцев есть даже имя “Жуан” (от “Дон-Жуана”).
Чем бы вы ни занимались, о чем бы вы ни думали, помните, что все ваши акты и действия, мысли и думы совершенно удовлетворительно объясняются как выше указано. Употребляйте наше патентованное средство “фрейдизм для всех”, и вы будете довольны. У нас имеются благодарственные отзывы от многих писателей и художников, от 3-х инженеров, от педагогов, от акушерок и проч., и проч. Действие моментальное и приятное. Всякий человек-модерн должен этим запастись. Высоко, интересно! Поразительно дешево!
1932 “ВОЛК, ВОЛК!”
В. С. ЯНОВСКИЙ. “МИР”. Роман. “Парабола”, Берлин
(Впервые: “Наш век”, Берлин, 31 января 1932.)
Роман — скучный, шаблонный, наивный, с парадоксами, звучащими как общие места, с провинциальными погрешностями против русской речи, с надоевшими реминисценциями из Достоевского и с эпиграфом из Евангелия. Многочисленные персонажи книги чрезмерно говорливы: они густо и пошло раскрашены под русских эмигрантов. Простодушный автор заставляет их проделать все те гимнастические упражнения, которыми писатели поплоше обычно стараются оживить мертворожденных своих героев; получается нудный сумбур. Есть в романе и Смерть, и Спорт, и Любовь, и Преступление. Но все это похоже на пожар в убогом паноптикуме, когда от повышения температуры поникают головы восковых фигур, стекают щеки, разъезжаются ноги. А главное, — автор до смешного лишен наблюдательности, и потому от его образов веет фальшью и ложью. Ключом к правильному пониманию всего романа следует признать описание футбольного матча “Русские против сборной столицы” (т. е. Парижа). Любопытное описание это начинается с того, что “по площадке (т. е. полю) в одних легких трусиках и тяжелых буцах (без рубашек?), рисуясь (почему, собственно, рисуясь?), расхаживали второстепенные (?) футболисты, выставляя напоказ волосатые голени (буцы, по-видимому, надеты на босу ногу) и груди” (это множественное число прелестно). Далее следуют всякие забавные подробности игры, из которых явствует, что автор не только не знает простейших правил футбола, но вряд ли его видел вообще, или видел только в кинематографе, да и то не футбол, а другую какую-нибудь игру. “Русские форверта (вероятно, форварда?) облегли уже чужой гол, дожидаясь пасовки” (что как раз совершенно беззаконно). “Игроки свернулись в клубок (!) и покатились к голу. Жоржик беззаветно бросился в самую гущу. И вдруг раздался его визг… Остервенело дергался узел из человеческих тел. На минуту мелькнуло лицо подброшенного вверх Жоржика, перекошенное, окровавленное. Потом кучка сразу растаяла: игроки расступились, отбежали. На животе у самого гола ползал Жоржик, его нога топырилась криво и (!) как чужой предмет”. Все это донельзя нелепо и неправдоподобно: ушибаются, подшибают друг друга, но не так, никто никого не “подбрасывает”, никто не “ползает”.
Футбол как будто мелочь, пустяк, — ну, ошибся, ну, написал чепуху, — но, увы, прочтя такое описание (а оно длинно, подробно), думаешь: “полно, уж не так же ли невежественен автор и во всем другом? Автору перестаешь доверять, как мужики перестали доверять тому мальчику, который кричал: “Волк, волк!”, — когда никакого волка не было. На протяжении всей своей скучной и плоской книжки автор не переставая кричит: “Волк!” Ему больше повезло, чем мальчику из нравоучительной сказки: волк Яновского так до конца книги и не появляется.
1937 ПАМЯТИ А. О. ФОНДАМИНСКОЙ
(Впервые: сборник "Памяти Амалии Осиповны Фондаминской". Париж, 1937. С. 69–72.)
В октябре 1932 года я приехал на месяц в Париж. Илью Исидоровича я уже несколько лет как знал; с Амалией же Осиповной встречался впервые. Есть редкие люди, которые входят в нашу жизнь так просто и свободно, с такой улыбкой,[5] точно место для них уготовлено уже очень давно, — и отныне невозможно представить себе, что вчера мы были незнакомы: все прошлое как бы поднимается сразу до уровня мгновенья встречи и затем, вновь отливая, уносит с собой, к себе, тень живого образа, мешает его с тенями действительно бывшей и минувшей жизни, так что получается, что ради одного этого человека (по самому своему существу, априори, родного нам) создается некое подставное время, объясняющее задним числом чувство естественнейшей близости, прочной нежности, испытанной теплоты, которое при таких встречах охватывает нас. Вот какова была атмосфера моего знакомства с Амалией Осиповной. Накануне, помнится, я впервые побывал на Rue Chernoviz,[6] Амалию Осиповну не застал и, беседуя с И. И., любовался ее сиамским котом. Темно-бежевый, с более бледными оттенками у сгибов, с шоколадными лапами и таким же хвостом (сравнительно коротким и толстоватым, что, в соединении с мастью бобриковой шерсти, придавало его крупу нечто кенгуровое), он неизвестно на что глядел прозрачными глазами, до краев налитыми сафирной водой, — и эта диковинная лазурь, да немота, да таинственная осмотрительность движений, делали из него и впрямь священного, храмового зверя. О нем-то мы, вероятно, прежде всего и заговорили с Амалией Осиповой. Лицо ее сияло приветом, умная улыбка скользила по губам, глаза были внимательны и молоды, грациозный голос ласков и тих. Что-то было бесконечно трогательное в ее темном платье, в ее маленьком росте, в легчайшей поступи. Как все приезжие в незнакомом городе, я жадно пользовался чужими телефонами, — попросил и теперь позволение позвонить, а когда опять сел чайному столу, Амалия Осиповна, молча и без лукавства, протянула мне письмо, которое я никак не полагал могло быть у нее, — мое письмо к Степуну, однажды попросившего меня просмотреть английский перевод его «Переслегина», перевод, показавшийся мне неточным, — а так как одной из двух переводчиц являлась Амалия Осиповна, то Федор Августович[7] и передал ей письмо с моим нелестным отзывом, сказав ей, по-видимому, что мне неизвестно, кто делал перевод. Этот поворот разговора сразу вывел его на простор веселой откровенности, причем выяснилось, что Амалия Осиповна тонкая ценительница того, что можно назвать искусством гафф. Мы обсудили с ней те, которые я в русском Париже уже успел совершить — по рассеянности, по отсутствию житейского чутья, — и просто так — здорово живешь. Между тем к коту опустилось, подобно полной луне, блюдечко с молоком, которое он стал лакать, соблюдая дактилический ритм. И он, и вся обстановка квартиры — все предметы — от письменного прибора Амалии Осиповны до большого мата у дверей, под которым русские парижане доверчиво прячут ключ, — все носило неуловимую, но несомненную печать доброты и душевности, которой отличаются вещи в доме у людей лучистых, щедрых на свои лучи. С прозрачнейшей — до дна — душевной добротой сочеталась у Амалии Осиповны нежность к миру, — любовь к "своенравным прозваньям" (как выразился Баратынский), стремление особенным, собственным образом все заново именовать в мире, — словно она верила — и может быть не зря — что улучшением имени можно улучшить его носителя.
Я стал бывать у Фондаминских почти ежедневно, а к концу моего пребывания в Париже и совсем к ним переселился: Амалия Осиповна с умилительной — но и беспрекословной — заботливостью решила, что я «замотался», что мне нужно «отдохнуть» перед тем моим публичным чтением, в устройстве коего она и ее друзья принимали ничем мной не заслуженное участие. Как же я запомнил прелестную, покойную комнату, осененную книжными полками — и заботу, продуманную до мелочей — до бутылки минеральной воды, до lotion для волос, до душистого талька. И с каким жаром она продавала билеты, и как отчетливо сохранилась в памяти картина: в тихой, теплой гостиной Амалия Осиповна переписывает для меня на машинке несколько страниц из «Отчаяния», а на камине греется кот. И с каким-то острым чувством стыда, раскаяния — не могу определить — вспоминаю, как я много в квартире курил, не знал,[8] что прокуренный воздух ей вреден — она же, разумеется, не говорила мне ничего. Вообще боюсь, что я жильцом был тяжелым — но она так изящно прощала мне все. Как-то — для примера — я, вернувшись очень поздно, когда в доме все уже спали, — хотел в прихожей потушить свет, а выключателей было несколько, не знал какой, попробовал один, другой, — в окрестных комнатах начали просыпаться лампы, я испугался, что эдак освещу весь дом и, оставив свет в передней, отправился спать — но потом обеспокоилась совесть — я встал, вернулся в переднюю, стал осторожно испытывать выключатели — и было неприятно, что один из них никакого видимого действия не производил, а — впоследствии обнаружилось, что при первом опыте я зажег — и благополучно потушил — свет у Амалии Осиповны в спальне, а когда вернулся в прихожую, осветил ее спальню снова и уже так оставил, — и она погодя проснулась и погасила сама, с совершенным юмором отнесясь к этой кошмарной иллюминации.[9]
Скоро уехал из Парижа, и мое последнее воспоминание: маленькая темная фигура Амалии Осиповны на платформе: поехала меня провожать. Я уже больше никогда ее не видел. И вот сейчас хочется слабыми человеческими руками удержать еще на несколько мгновений все это, — все это чудное и такое валкое, — готовое вот-вот беззвучно рухнуть в темный и мягкий ров забвения (но что-то главное останется в душе навсегда, как бы жизнь не заметала следы,[10] как бы ненадежна ни оказалась яркость еще нынче столь памятных подробностей)[11]
1932 ПАМЯТИ А. М. ЧЕРНОГО
(Впервые: “Последние новости”, Париж, 13 августа 1932.)
Кажется, нет у него такого стихотворения, где бы не отыскался хоть один зоологический эпитет, — так в гостиной или в кабинете можно иногда найти под креслом плюшевую игрушку, и это признак того, что в доме есть дети. Маленькое животное в углу стихотворения — марка Саши Черного, столь же определенная, как слон на резинке. Но сейчас я вспоминаю не книги его.
Как ни противны мне всякие “личные выступления” (и жеманство виноватых кавычек), однако считаю непременным своим долгом сказать о той помощи, которую мне оказал А. М. лет одиннадцать-двенадцать тому назад. Один из лучших наших поэтов не так давно писал о глухонемом невнимании признанных к начинающим. Есть два рода помощи: есть похвала, подписанная громким именем, и есть помощь в прямом смысле: советы старшего, его пометки на рукописи новичка, — волнистая черта недоумения, осторожно исправленная безграмотность, — его прекрасное сдержанное поощрение и уже ничем не сдерживаемое содействие. Вот этот второй — важнейший — род помощи я получил от А. М. Он был тогда вдвое старше меня, был знаменит — слух о нем прошел “от Белых вод до Черных” (на берегах последних возникали даже лица, выдававшие себя за него). Он жил в Шарлоттенбурге, в 60, кажется, номере по Вальштрассе; против его окошка высилась кирпичная стена, в комнате было темновато; я приносил ему стихи, о которых вспоминаю сейчас без всякого стыда, но и без всякого удовольствия. С его помощью я печатался в “Жар-Птице”, в “Гранях”, еще где-то.
Он не только устроил мне издание книжки моих юношеских стихов, но стихи эти разместил, придумал сборнику название и правил корректуру. Вместе с тем я не скрываю от себя, что он, конечно, не так высоко их ценил, как мне тогда представлялось (вкус у А. М. был отличный), — но он делал доброе дело, и делал его основательно. Мне неприятно, повторяю, соваться со своей автобиографией, да и кажется, не я один могу вспомнить его помощь, — мне только хотелось как-нибудь выразить запоздалую благодарность, теперь, когда я уже не могу послать ему письма, писание которого почему-то откладывал, теперь, когда все кончено, теперь, когда от него осталось только несколько книг и тихая, прелестная тень.
1939 ПРОТЕСТ ПРОТИВ ВТОРЖЕНИЯ В ФИНЛЯНДИЮ
(Впервые: “Последние новости”. 31 декабря 1939.)
В эти дни, когда правительство СССР несет смерть, разрушение, ложь в пределы мирной Финляндии, мы, нижеподписавшиеся, считаем себя обязанными заявить самый решительный протест против этого безумного преступления. Позор, которым снова покрывает себя сталинское правительство, напрасно переносится на порабощенный им русский народ, не несущий ответственности за его действия. Преступлениям, совершаемым ныне в Финляндии, предшествовали бесчисленные, такие же и еще худшие, преступления, совершенные теми же людьми в самой России.
Мы утверждаем, что ни малейшей враждебности к финскому народу и к его правительству, ныне геройски защищающим свою землю, у русских людей никогда не было и быть не может. Между Россией и Финляндией не существует таких вопросов, которые не могли бы быть разрешены полюбовно, по мирному соглашению. Вместо этого сталинское правительство, не имеющее никакого права говорить от имени русского народа, проливает, с благословения Гитлера, русскую и финскую кровь. Ради темных замыслов, ради выгод, либо мнимых, либо ничтожных, оно готовит России катастрофу; за его преступления, быть может, придется расплачиваться русскому народу.
Мы утверждаем, что Россия, освободившаяся от коммунистической диктатуры, легко договорится с Финляндией, не нарушив своих интересов и проявив полное уважение к правам и интересам этой страны, которой мы выражаем глубокое сочувствие.
1939 ЛИТЕРАТУРНЫЙ СМОТР
Свободный сборник. Париж, 1939
(Впервые: “Современные записки”, 1940, № 70.)
Соблазнительный с первого блеска подзаголовок, — но какой странный обман! Если “свобода” сводится к тому, что редакторша (по ее собственному заверению) ничего не меняла в собранном материале, то читателя не может не рассердить каламбурное смешение “права на писание” и “правописанья”. Если же (как обещано в той же интенсивной статье) слова “свободный сборник” означают, что доступ в него открыт таким писателям и таким их произведениям, которым боязливые или непонятливые редакторы других, несвободных, органов спиной загораживают путь, то, ознакомясь с содержанием “Смотра”, читатель испытывает еще пущую досаду: ибо что же в этом сборнике такого, что не могло бы появиться в любом из альманахов избалованного русского зарубежья? Странная, очень странная затея: лично мне ее особый оттенок знаком и дорог, как принадлежащий тому миру, который показан в “Приглашении на казнь”. Редакторша, следуя любопытным законам мне хорошо известной логики, объясняет, что ее сборник есть в некотором роде “салон отверженных”. Хороши отверженные, имена которых в тех или других сочетаниях повторяются в оглавлении всякого выходящего в свет (или в темноту) журнала! Правда, З. Н. Гиппиус намекает на участие писателя, “книги которого переводятся на почти все существующие языки”, но у которого нет возможности печататься “ни в одном парижском журнале или газете”. Жаль, что редакторша (следуя все той же логике) не называет его: загадка для рядового читателя бессмысленно-трудная.
Осмотрим теперь этот салон мнимоотверженных, — и раз уж речь зашла о свободе, пускай свободой насладится и рецензент. Не буду останавливаться на “Самом важном” Адамовича, которое в разных положениях и вариантах появлялось в большинстве газет и журналов эмиграции. То, что в начале его статьи (как и в статьях некоторых других, явившихся на “смотр”) есть вежливо-ответная ссылка на посильное старанье выполнить заказ свободы (как это опять мне знакомо!), дела, разумеется, не меняет. Попытки Терапиано, Кельберина и Мамченко разрешить побольше метафизических задач с наименьшей затратой мыслительной энергии литературными достоинствами не богаты; зато в этих горних облаках ютится самая дрянная злободневность, вроде того, как альпинист находит на казавшейся неприступной скале рекламу автомобильных шин. Отрывок Фельзена — единственное украшение сборника. Хотя, вообще говоря, этого автора можно кое в чем упрекнуть (в том, например, что он тащит за собой читателя по всем тем осыпям, где авторская мысль сама прошла, то начиная обстраиваться, то бросая недостроенное и, наконец, с последним отчаянным усилием находя себя в метком слове, к которому читателя можно было привести и менее эмпирическим путем), это, конечно, настоящая литература, чистая и честная. Его же статья “Прописи” состоит из дельных, хоть и бледноватых мыслей о назначении писателя. Размышления Мандельштама “о любви” были бы сносны, если бы ему принадлежал приоритет. Серости этих бесформенных афоризмов соответствует слог (“…Но и тогда акт сочетания остается в центре любви; без его незримого продолжения или предчувствия из любви был бы вынут стержень”). И как может человек с литературным навыком почтительно перебирать изречения Шардонна и Монтерлана, книги которых не более чем congés payés[12] французской литературы? “Лошади едят сено”, статья Диона, особой новизной не грешит, — с такими же мыслями приходилось уже встречаться в “Новом граде” или в “Круге”; впрочем, лошади едят и овес. Новелла В. Зензинова проникнута благородным стремлением отыскать этическую романтику в наименее безнравственном из приключений знаменитого итальянского развратника. Отмечу злоупотребление откидным оборотом (“О, почему они не уехали в Лондон”) и излишнее доверие автора к силе простого утверждения (хотелось бы примеров “остроумия” Генриетты, о котором так много говорится; литература держится на примерах). Отлично устроенной концовкой более или менее оправдан ряд нарочито-бессвязных мыслей Червинской (иные из них весьма спорны, — например, мысль, что искусство в наши дни “должно быть серьезно”. Ведь советская литература самая серьезная, а бездарна; немые — обоих лагерей — тоже очень серьезны; не опасно ли требовать от искусства именно того свойства, которым сопровождается его падение?). Наконец, pour la bonne bouche,[13] находим статью В. Злобина о книжице Г. Иванова “Распад атома”. Автор статьи договаривается до бездн, стараясь установить, почему эта книжица была так скоро забыта. Ему не приходит в голову, что, может быть, так случилось потому, что эта брошюрка с ее любительским исканием Бога и банальным описанием писсуаров (могущим смутить только самых неопытных читателей) просто очень плоха. И Зинаиде Гиппиус, и Георгию Иванову, двум незаурядным поэтам, никогда, никогда не следовало бы баловаться прозой.
По поводу этого “свободного сборника” можно было бы еще кое-что сказать; что мистическое отношение к многострадальному сентябрю-месяцу не делает чести вкусу писателя; что модное обилие цитат чрезвычайно раздражительное явление, ибо цитаты — векселя, по которым цитатчик не всегда может платить; что называть громким именем свободы простую дружбу или единомыслие — то же самое, что сына звать Фемистоклюс… Ограничусь этими замечаниями, добавив, что общее впечатление от сборника такое, будто руководительница, скликав питомцев и посулив им неслыханное раздолье, привела их в небольшой городской сквер, где оставила их на произвол судьбы среди пыли, добрых скамеек, маленьких злых стульев и слишком мало употребляемых ресептаклей для бананных кож и вчерашних газет.
1943 ПАМЯТИ И. В. ГЕССЕНА
(Впервые: “Новое русское слово”. 31 марта 1943.)
В моем сознании прошлое И. В., связанное с прошлым моего покойного отца, вторым, живым, узлом связывалось с моим настоящим: я одновременно увидел И. В. в легендарной дали фракционных собраний, в исторической перспективе, где мое детство суживалось обратным снопом линий, и в человеческой действительности, за стаканом чая с сухарями, в тепле мне доступного мира. То, что я дорос до уровня его дружбы, было магическим анахронизмом; я гордился ею; катет ее действительности уходил глубоко в душу, а длинная гипотенуза таинственно соединяла меня с мужественным и чистым миром “Права” и “Речи”, некогда окружавшим мое несмыслящее начало. Русский Берлин двадцатых годов был всего лишь меблированной комнатой, сдаваемой грубой и зловонной немкой (он незабываем, подлый пот этого неудачного народа), но в этой комнате был И. В., и, минуя туземцев, мы ухитрялись извлекать своеобразную прелесть из тех или иных сочетаний обстановки и освещения. Моя молодость подоспела ко второй молодости И. В., и мы весело пошли рядом.
Он был моим первым читателем. Задолго до того, как в его издательстве стали выходить мои первые книги, он с отеческим попустительством мне давал питать “Руль” незрелыми стихами. Синева берлинских сумерек, шатер углового каштана, легкое головокруженье, бедность, влюбленность, мандариновый оттенок преждевременной световой рекламы и животная тоска по еще свежей России — все это в ямбическом виде волоклось в редакторский кабинет, где И. В. близко подносил лист к лицу, зацепляя написанное как бы с подола, снизу вверх, параболическим движением глаза, после чего смотрел на меня с полусаркастическим доброхотством, слегка потряхивая листом, но говорил только “Н-да” — и не торопясь приобщал его к материалу.
Равнодушный к читательским отзывам, я дорожил исключением, которое привык делать для мнения И. В. Его совершенная откровенность в суждениях, столь ужасно четвертовавших подчас авторское самолюбие, придавала особую значительность малейшей его похвале. Всегда буду слышать полнозвучную медную силу, с которой он произносил над трупом книги: “Как он мог это написать — непостижимо!” — со страшным ударением на “мог” и “жимо”. Один Пушкин был для него, как и для меня, выше человеческой критики — и как он знал эту трагическую, томную, таинственную поэзию, знакомую большинству только по отрывным календарям да четырем операм.
Его всегда увлекали приключения и перевоплощения человеческой сущности, шла ли речь о литературном герое, или о большевиках, или об общем знакомом. Его могли зараз занимать политический маневр дюжего диктатора и вопрос, был ли симулянтом Гамлет. Он был живым доказательством того, что настоящий человек — это человек, который интересуется всем, включая и то, что интересно другим. Рассказывать ему что-либо было необыкновенным наслаждением, ибо его собеседническое участие, острейший ум, феноменальный аппетит, с которым он поглощал ваши сыроватые фрукты, преображали любую мелочь в эпическое явление. Его любопытство было столь чисто, что казалось почти детским. Людские характеры или перемены погоды становились в его энергичной оценке исключительными, единственными: “Такой весны я не помню”, — говаривал он, в изумлении разводя руками.
Меня восхищал в нем союз, в который столь гармонично сливались его русское европейство и принадлежность к одухотвореннейшему племени. Я бесконечно уважал его физическую и моральную смелость; сотни раз в жизни испытал его трогательную угловатую доброту. Его слабые зрение и слух в соединении с талантливой рассеянностью служили у него в поставщиках его же юмора. С каким упоением он рассказывал, как, желая доставить удовольствие его навестившей актрисе Полевицкой, он, со словами: “Видите — ваш портрет висит у меня на стене”, бережно снял и подал ей фотографию певицы Плевицкой. Я чувствую, что сам тоже, может быть, предлагаю чужой портрет, говоря о И. В., ибо странная близорукость одолевает душу после смерти любимого человека и вместо коренного его образа подворачиваются всякие бедные пустяки.
И. В. как-то признался мне, что в юности его прельщала порочная гегелевская триада. Я думаю о диалектике судьбы. Весной 1940 года, перед отъездом сюда, я прощался с И. В. на черной парижской улице, стараясь унять мучительную мысль, что он очень стар, в Америку не собирается — и что, значит, я никогда больше не увижу его. Когда здесь, в Бостоне, я получил известие, что он чудом прибыл в Нью-Йорк — живее живого (каким он мне всегда казался), жаждущий деятельности, кипящий своими и чужими новостями, — я поспешил уличить предчувствие в ошибке. Различные обстоятельства заставили меня отложить свидание до апреля. Между тем чудо его приезда оказалось лишь антитезисом, и теперь силлогизм завершен.
1952 Н. В. ГОГОЛЬ. ПОВЕСТИ
Предисловие
(Впервые: Н. В. Гоголь. Повести. Издательство им. Чехова. Нью-Йорк, 1952.)
Николай Васильевич Гоголь родился в 1809 году в Полтавской губернии, в местечке Сорочинцах, в мелкопоместной дворянской семье. В 1828 году Гоголь окончил Нежинскую гимназию и переехал в Петербург.
В 1831 году вышел первый том “Вечеров на Хуторе близ Диканьки”, а в 1832 году — второй. В 1835 году Гоголь напечатал два тома рассказов под заглавием “Миргород” (“Вий”, “Старосветские Помещики” и пр.) и около того же времени “Арабески” (“Невский Проспект”, “Записки Сумасшедшего” и пр.). О ту же пору написал он повесть “Нос” и пьесу “Ревизор”, впервые поставленную в театре весной 1836 года. Почти сразу после спектакля Гоголь уехал за границу и в течение двенадцати лет жил то в Швейцарии, то в Австрии, то в Париже, а больше всего в Риме, лишь изредка наезжая в Россию. За границей он закончил “Шинель” и написал “Мертвые Души”, первый том которых выпустил, когда посетил Россию в 1842 году.
С 1842 по 1852 год Гоголь почти беспрерывно переезжал с места на место в тщетной погоне за здоровьем и вдохновеньем. В 1848 году посетил Иерусалим. Потом жил то в Москве, то в Одессе, то у матери в Васильевке. В 1852 году, в Москве, Гоголь сжег рукопись второго тома “Мертвых Душ” и то, что было написано им из третьего. От второго тома случайно сохранилось пять первых глав. На закате жизни он боролся с душевным разладом, мучился потерей писательского дара и разрушал постами свой хрупкий организм.
Он умер 21 февраля 1852 года.
* * *
За сто лет со дня смерти Гоголя литературная репутация, в свое время навязанная ему гражданствующей, благоустремленной, но в сущности противохудожественной критикой, мало изменилась. Несмотря на здравомыслие новых, живительных суждений, высказанных незадолго до революции — на пороге уже совершеннейшей тьмы в смысле критики, — решительного переворота в оценке Гоголя не произошло. В широких, как говорится, кругах читающей публики образ Гоголя и поныне остался верен официальной школьной версии: увы, Гоголь остался сатириком, бичующим пороки ему современного общества; двойственным юмористом — заставляющим смеяться до слез и смеющимся сквозь слезы. По невероятному стечению обстоятельств, один из величайших мировых ирреалистов был произведен в какого-то столоначальника русского реализма.
* * *
В петербургских рассказах Гоголя мы впервые видим его настоящее лицо: не того Гоголя, который будто бы смешил даже своих наборщиков, а того, который намечается в цветном тумане неровных “Арабесок” и полностью утверждается в “Носе”, в “Шинели”, в “Ревизоре”, в “Мертвых Душах”.
Его длинный и острый нос, которым, без помощи пальцев, Гоголь ухитрялся добывать понюшку из самой миниатюрной табакерки, этот необыкновенный нос учуял совершенно новые запахи в тех болотных, призрачных дебрях, где новым трепетом затрепетала русская литература. От скромной фиалки на дне чичиковской табакерки до “Ночной Фиалки” Блока один лишь шаг — по животворной, чмокающей мочежине (с которой, между прочим, немало перешло и в толстовский ягдташ). В юношеских произведениях Гоголя образ носа еще держался средневековой, карнавальной, балаганной традиции; в пору расцвета своего гения Гоголь нашел в этом незатейливом органе лучшего своего союзника. Действительно, что может быть иррациональнее и вместе с тем ближе к сущности вещей, чем запахи? Кто из нас — на углу улицы в незнакомом городе — не испытывал при мгновенном, и вот уже исчезнувшем, дуновении близость громадного, цельного, совершенно сохранившегося где-то, нашего личного прошлого, готового тут же открыться опытному нюхателю? В этом смысле художник-писатель совмещает в себе и охотника и охотничью собаку. Когда же, решив стать проповедником, ясновидцем, медиумом, Гоголь тем самым не то заспал, не то удавил в себе художника, он потерял и нюх, как Ковалев лишился носа.
Гоголь был странен во всем; но странность и есть основная черта гения. Только здоровую посредственность принимает благодарный читатель за мудрого старого друга, так славно излагающего и развивающего собственные, читательские, мысли о жизни. Великая литература всегда на краю иррационального. “Гамлет” — это дикий сон гениального школяра-неврастеника. Гоголевская “Шинель” — рваная рана, черная дыра в тусклой ткани повседневности. Поверхностный читатель примет ее за фарс; читатель “с запросами” скажет, что автор бичует то-то и то-то; но, по-настоящему, рассказ написан для читателя творческого, одаренного особым читательским вдохновением. Пушкин в зрелой “Песне” Вальсингама, в сне Татьяны или даже в заревой своей “Вольности”, Толстой в страшных видениях Карениной и Вронского и в бреду Ивана Ильича, Чехов в гениальном своем “Овраге” — каждый из них мог похвалиться проблесками сверхрассудочного прозрения. Но у Гоголя иррациональное в самой основе искусства, и как только он пытается ограничить себя литературными правилами, обуздать логикой вдохновенье, самые истоки этого вдохновенья неизбежно мутятся. Когда же, как в “Шинели”, он дает волю бредовой сущности своего гения, он становится одним из трех-четырех величайших русских беллетристов.
Есть разные способы раскрепощать житейскую логику; каждый большой писатель делает это по-своему. Прием Гоголя двоякий: он состоит из неожиданных взрывов и промежуточной трусцы. Под самыми нашими ногами вдруг распахивается до того не замеченный люк, или высоко взносит нас риторический вихрь, только для того, чтобы уронить в следующий по пути люк. Любимицей Гоголя была муза абсурда, муза нелепости. Смешное — лишь один завиток нелепости, ибо в абсурдном столько же оттенков, сколько в трагическом: в него-то, на последнем пределе спектра, и переходит гоголевская призматическая нелепица. Заметим, что вопрос не в том, ставит или не ставит Гоголь своих героев в нелепое положение: нельзя поставить в нелепое положение тех, кто и так живет в мире нелепицы. Контраст состоит в другом. Акакий Акакиевич трогателен и трагичен, и только по этому, вторичному, признаку он выделяется с пронзительной, своеродной нелепостью на фоне общей повседневной нелепости мира “Шинели” — из которого, впрочем, он произошел, без которого не мог бы существовать.
Этот фон сам по себе неровен и дыряв. Материя совпадает с манерой, сложность жизни — со слогом автора. Там и сям, в самом невинном на вид абзаце, иное простецкое, подсобное слово, какое-нибудь “даже” или “почти”, поставлено таким манером, оказывается в такой нездоровой семантической среде, в таком противоречивом контексте, что невинный абзац тут же взрывается (исподтишка, беззвучно, как далекая бомба в прежнем, немом, кинематографе). А то еще гоголевский говорок вдруг потопляет пена пышной поэзии, или даже волна какого-то почти библейского красноречия, которая, покипев, разрешается самым плоским, нарочито вялым аккордом, и все опять обращается в то бормотание, которым Гоголь, как всякий опытный фокусник, прикрывает обман, передержку, мгновенную отвратительную метаморфозу.
Кроткий Акакий представляет собой в этом нелепом мире и сокровенную сущность его, и вместе с тем патетическую попытку преодоления абсурда. Прорехи в словесной ткани соответствуют прорывам в самой жизни; чиновный, серый, студеный Петербург прерывается вдруг не просто большой черной площадью, а какой-то шаманской бездной. Где-то, в самом болотном корне земной жизни, что-то не так, что-то не то, и все люди на этой сомнительной планете могут быть сравнены с мирными и в общем довольно дебелыми умалишенными, занятыми всякими пустыми, нелепыми, им одним кажущимися важными делами. В этом мире бессмысленного унижения и бессмысленного торжества высшей целью страстных творческих устремлений становится что? — новый покров ларвы, шинель, chenille, мохнатая кожица уже и так полураздавленного червя — и эту новую шинель коленопреклоненно боготворят и портной и заказчик; а меж тем она, как и Акакий, обречена и сама собой сваливается на измызганный пол с чужой насмешливой вешалки. Я не говорю, конечно, о морали, о поучении. Какое же может быть нравоучительство в мире, где нет ни учеников, ни учителей, где все, как смерть, твердо и неизменно, в мире, который самым фактом своего существования исключает все, что могло бы его разрушить. А главное, какую же тут можно прослеживать мораль, когда судьбой Башмачкина играет гениальный, но безответственный фокусник.
Пока шьется и наконец надевается на Акакия Акакиевича шинель, пока длится вся процедура его облачения, происходит, в сущности, как раз обратное: Акакий Акакьевич постепенно разоблачается до полной наготы, до наготы призрака. Взлетами пасторского пафоса или быстрым профессиональным лепетом Гоголь прикрывает необыкновенный свой трюк: к концу повести поток как будто ненужных и не относящихся к делу подробностей производит такое гипнотическое действие на читателя “Шинели”, что от него может ускользнуть одно простое обстоятельство; между тем это чрезвычайно важное обстоятельство есть непременная часть главного замысла “Шинели”, умышленно Гоголем замаскированного. Тот, кого принимают за призрак ограбленного Акакия, и есть на самом деле вор, его ограбивший. Однако призрак Акакия существовал лишь постольку, поскольку его владелец был несправедливо лишен шинели, и вот, перед нами нелепейший парадокс: квартальный принимает за этот обиженный призрак прямую его противоположность, т. е. вора шинели. Таким образом, тема повествования описывает полный круг, круг порочный, круг заколдованный, как и все круги на свете, хоть и являются они нам порою в безобидном образе яйца, яблока, земного шара или лица человеческого — лица, на крышке табакерки прорываемого большим пальцем портного.
Сколько бы раз в жизни кочевник-читатель ни оказывался случайно у полки с живым растрепанным томом Гоголя (среди многих совершенно целых, но мертвых книжонок), Гоголь всегда его поразит своей волшебно обновляющей новизной, своими все глубже вскрывающимися слоями смысла. Точно проснулся человек посреди лунной ночи у себя в дрянном, поперечно-полосатом номере и, до того как снова забыться, услышал за тонкой, тающей в сером свете стеной как бы приглушенные звуки тихо и, на первый прислух, смешливо настроенного оркестра: пустяковые и вместе с тем бесконечно важные речи; смесь странных, прерывистых голосов, то с истерическим треском расправляемых крыльев, то с ночным озабоченным бормотаньем обсуждающих человеческое бытие. В этом соприкосновении с какой-то смежной вселенной и состоит, мне кажется, мгновенно воспринимаемая магия и вечно пребывающее значение “Петербургских Повестей”.
1956 ОТ В. НАБОКОВА-СИРИНА
(Впервые: “Новое русское слово”. 4 ноября 1956.)
Не знаю, как относится мой дорогой друг, М. А. Алданов, к русской газетной традиции юбилейных поздравлений; вероятно, с добродушной иронией. Хочу, однако же, воспользоваться тем, что он нынче жертва такого торжества, и выразить пожелание, чтобы он написал еще много прекрасных, умных книг. При этом вспоминается особенно живо: вечереющий день в эмигрантском Берлине, мне лет двадцать, зажигается на лестнице свет, входит отец, неся с выражением какого-то нежного аппетита драгоценную новинку: “Святая Елена, Маленький Остров”.
1957 ЗАМЕТКИ ПЕРЕВОДЧИКА I
(Впервые: “Новый журнал”. 1957. Кн. 49. С. 130–144.)
Работу над переводом “Онегина” на английский язык я начал в 1950 году, и теперь пора с ним расстаться. Сперва мне еще казалось, что при помощи каких-то магических манипуляций мне в конце концов удастся передать не только все содержание каждой строфы, но и все созвездие, всю Большую Медведицу ее рифм. Но даже если бы стихотворцу-алхимику удалось сохранить и череду рифм, и точный смысл текста (что математически невозможно на нищем рифмами английском языке), чудо было бы ни к чему, так как английское понятие о рифме не соответствует русскому.
Если “Онегина” переводить — а не пересказывать дурными английскими стишками, — необходим перевод предельно точный, подстрочный, дословный, и этой точности я рад был все принести в жертву — “гладкость” (она от дьявола), изящество, идиоматическую ясность, число стоп в строке, рифму и даже в крайних случаях синтаксис. Одно, что сохранил я, это ямб, ибо вскоре выяснились два обстоятельства: во-первых, что это небольшое ритмическое стеснение оказывается вовсе не помехой, а, напротив, служит незаменимым винтом для закрепления дословного смысла, а во-вторых, что каким-то образом неодинаковость длины строк превращается в элемент мелодии и как бы заменяет то звуковое разнообразие, которого все равно не дало бы столь убийственное для английского слуха правильное распределение мужских и женских рифм. Из комментариев, объясняющих содержание и форму “Онегина”, образовался том в тысячу с лишком страниц, и из него я привожу здесь несколько заметок в сокращенном виде.
1. Слов модных полный лексикон:
Одна из задач переводчика — это выбор поэтического словаря. Ни словарь времен Мильтона, ни словарь времен Браунинга Пушкину не подходит. Суживая пределы, убеждаешься в том, что “Онегин”, в идеальном английском воплощении, ближе к общему духу XVIII века (к духу Попа, например, — и его эпигона Байрона), чем, скажем, к лексикону Кольриджа или Китса. Объясняется это, конечно, влиянием на английских поэтов XVIII века французских принципов поэтики, среди коих главные: “хороший вкус”, “здравый смысл”, принятые эпитеты, примат родового термина, пренебрежение частным и т. д. Только вдавшись в эти изыскания, понимаешь, до чего лексикон Пушкина и поэтов его времени связан с той французской поэзией, которую Пушкин так поносил — и с которой он так сроднился. Словесная ткань “Онегина” по сравнению со словарем английских романтиков бедна и скромна.
Настоящая жизнь пушкинских слов видна не в индивидууме, а в словесной группе, и значение слова меняется от отражения на нем слова смежного. Но переводчику приходится заниматься отдельными словами и бесконечным повторением этих слов, и для того, чтобы передать на английском языке столь частые в русском подлиннике “томность”, “нега”, “нежность”, “умиление”, “жар”, “бред”, “пламень”, “залог”, “досуг”, “желание”, “пустыня”, “мятежный”, “бурный”, “ветреный” и т. д., надобно перед собой держать как образец соответствующую французскую серию: lanqueur, mollesse, tendresse, attendrissement, ardeur, délire, flamme, gage, loisir, désir, désert, tumultueux, orageux, volage.
Особую трудность в этом отношении представляют фразы и формулы, составные части которых уже к началу XIX века потухли, давно потеряли способность взаимного оживления и существовали лишь в виде высохших клубков. К этому ряду принадлежат “прекрасная душа” (belle âmе), “душа неопытная” (âme novice), “счастливый талант” (heureux talent), “лестная надежда” (espérance flatteuse), “мелкое чувство” (sentiment mesquin), “ложный стыд” (fausse honte), “живо тронут” (vivement touché), “лоно тишины” (sein de la tranquillité), “модная жена” (femme à la mode), “внуки Аполлона” (neveux d’Apollon), “кровь кипит” (le sang bouillonne), “без искусства” (sans art) и сотни других галлицизмов, которые английский переводчик должен как-то учесть.
2. Gent. Reader:
“Читатель благородный” до ужаса нелюбопытен. Пыльные томы написаны о каких-то “лишних людях”, но кто из интеллигентных русских потрудился понять, что такое упоминаемая Печориным “Юная Франция” или почему, собственно, так “смутился” видавший виды Чекалинский? Я знаю поклонников Толстого, которые думают, что Анна бросилась под паровоз, и поклонников Пушкина, которые думают (вместе с Достоевским — судя по вздору в его пресловутой речи), что муж Татьяны был “почтенный старец”. Я сам когда-то думал, что “лучше, кажется, была” происходит от “хорошая” (на самом деле, конечно, от “хороша”), и что Пушкин мог совершенно изъясняться и по-английски, и по-немецки, и по-итальянски, меж тем как на самом деле он из иностранных языков владел только французским, да и то в устарелом, привозном виде (до странности бледны и неправильны его переводы одиннадцати русских песен, из собрания Новикова, сделанные для Loewe de Weimars, летом 1836 г.).
3. Посредники-французы:
Пушкинисты наши недостаточно подчеркивают, что в двадцатых годах прошлого века русские образованные люди читали англичан, немцев и итальянцев, а также древних, не в оригинале, а почти исключительно в гладкой прозе несметных и чудовищно неутомимых французских пересказчиков. В мещанской среде читались лубочные русские пересказы этих французских пересказов, а с другой стороны, иная второстепенная готическая баллада превращалась русским поэтом в прекрасное независимое творение; но дворянин-литератор, скучающий щеголь, захолустный вольтерьянец-помещик, вольнолюбивый гусар (хоть и учившийся в Геттингене), романтическая барышня (хоть и имевшая “английскую мадам”), — словом, все “благородные читатели” того времени, — получали Шекспира и Стерна, Ричардсона и Скотта, Мура и Байрона, Гёте и Августа Лафонтена, Ариосто и Тассо во французских переложениях, с бесконечным журчаньем притекавших через Варшаву и Ригу в дальние места Руси.
Таким образом, когда говорят “Шекспир”, надо понимать Letourneur, “Байрон” и “Мур” — это Pichot, “Скотт” — Dufauconpret, “Стерн” — Frenais, “Гомер” — Bitaube, “Феокрит” — Chabanon, “Тассо” — Prince Lebrun, “Апулей” — Compain de Saint-Martin, “Манзони” — Fauriel, и так далее. В основном тексте и в вариантах “Онегина” даны каталоги целых библиотек, кабинетных, дорожных, усадебных, но мы должны беспрестанно помнить, что Пушкин и его Татьяна читали не Ричардсона, а Аббата Prévost (“Histoire de Miss Clarisse Harlove”[14] (sic) и “Histoire du chevalier Grandisson” (sic)[15]), и что Пушкин и его Онегин читали не Матюрина (Maturin), a “Melmoth ou l’Homme errant, par Mathurin (sic), traduit librement de l’anglais par Jean Cohen”,[16] 6 vols., Paris, 1821 (и эту-то чепуху Пушкин называл “гениальной”!).
4. Pétri de vanité:[17]
Любопытно сопоставить пушкинский эпиграф со строчкой в третьей песне “Женевской Гражданской Войны” Вольтера (1767 г.), “sombre énergumène (сумрачный сумасброд) …pétri d’orgueil”.[18] Речь идет о Жан-Жаке Руссо, о котором Эдмунд Бёрк говорит, во французском переводе (1811 г.) “Письма к Члену Национальной Ассамблеи”, что его “extravagante vanité”[19] заставляла его искать новой славы в оглашении своих недостатков. Следующее “pétri” в русской литературе находим через пятьдесят лет после “Онегина” в страшном сне Анны Карениной.
5. Байрон:
Еще в 1817–1818 гг. Вяземский, Ламартин и Альфред де Виньи знакомились с le grand Byron[20] (которого Broglie, между прочим, называл “фанфароном порока”) по отрывкам из его поэм в анонимных французских переложениях Женевской Универсальной Библиотеки. Уже в мае 1820 г., в коляске с другом, едучи из Екатеринослава на Кавказские Воды (где спустя лет двадцать Печорин читал по-французски Скотта), Пушкин мог наслаждаться первыми четырьмя томами первого издания “шестопалого” французского перевода Байрона. Переводчики, Amédée Pichot и Euzèbe de Salle, не подписали первого издания, а во втором сочетались неправильной анаграммой “А. Е. de Chastopalli”. В течение третьего издания они поссорились, и начиная с тома восьмого Пишо остался в творческом одиночестве — и своей прозой завоевал Россию.
Первые четыре издания (все у Ladvocat, Paris) этого огромного и бездарного труда следующие:
1. 1819–1821 гг. 10 томов. “Корсар” находится в т. 1, 1819 г.; “Вампир” в т. 2, 1819 г.; первые две песни “Чайльд Гарольда” в т. 4, 1819; третья песня в т. 5, 1820 г.; вместе с “Гяуром”; четвертая, последняя, в т. 7, 1820 г.; первые две песни “Дон Жуана” находятся в т. 6, 1820 г., а “Беппо” в т. 8 того же года.
2. 1820–1822 гг. 5 томов. “Гяур” и первые две песни “Дон Жуана” в т. 2, 1820; “Чайльд Гарольд” в т. 3, 1820 г., с “Вампиром” (произведением, ложно приписанным Байрону и в дальнейших изданиях не представленным).
3. 1821–1822 гг. 10 томов.
4. 1822–1825 гг. 8 томов, целиком переведенные Пишо, с предисловием Нодье. Первые 5 томов вышли в 1822 г., с “Чайльд Гарольдом” в т. 2; первые пять песен “Дон Жуана” находятся в т. 6, 1823 г.; а последние одиннадцать песен в т. 7, 1824 г.
Еще до переезда из Одессы в Михайловское, т. е. до августа 1824 года, Пушкин знал первые пять песен “Дон Жуана” по шестому тому 4-го изд. Пишо. Остальные песни он прочел в декабре 1825 года в Михайловском, получив из Риги седьмой том Пишо через Анну Керн.
6. Беппо:
В предисловии к отдельному изданию первой главы “Онегина” Пушкин подчеркивает ее родство с байроновским “Беппо”. Оригинала он не знал, а в его оценке этого “шуточного” произведения можно усмотреть влияние примечания Пишо к французскому переводу: “”Беппо” — сплошное надувательство: поэт как бы подшучивает над всеми правилами своего искусства… однако, среди постоянных отступлений, фабула не перестает развиваться”.
7. абабееввиггидд:
Чередование рифм, выбранное Пушкиным для “Онегина”, встречается как случайный узор уже в “Ермаке” (65–78 и 93 — 106) Дмитриева, которого Карамзин по дружбе называл “русским Лафонтеном”, написанном в 1794 г., а также в “Руслане и Людмиле” (в песне третьей, “за отдаленными горами” до “оставим бесполезный спор, сказал мне важно Черномор”). С этим чередованием Дмитриев и Пушкин были знакомы по французским образцам: оно повторяется, по крайней мере, три раза в “Contes”[21] Лафонтена, в разных местах третьей части (1671), напр., в сказочке “Nicaise”, 48–61, где рифмы перемежаются так; dame, précieux, âme, уеих, galantes, engageantes, gars, regards, sourire, main, enfin, dire, soupirs, désirs.
Первая половина онегинской строфы, до талии, совпадает с семью первыми строками французской одической строфы в десять строк (абабеевиив), которой пользовались Малерб и Буало и которой подражали русские стихотворцы XVIII столетия. Онегинская строфа начинается как ода, а кончается как сонет.
8. Повеса, Зевеса:
Эта богатая рифма (I, II) могла бы искупить банальность французской формулы “par le suprême vouloir” (“всевышней волею”), не будь она попросту занята у Василия Майкова (“Елисей”, 1771 г., песня 1, 525–526).
9. Ученый малый, но педант:
Невежественный и бездарный Бродский (Е. О. роман А. С. П., пособие для учителей средней школы, УЧПЕДГИЗ, 1950) пытается объяснить слово “педант” в применении к Онегину (1, V) как синоним “революционера”, что зря вводит в заблуждение учителей средней школы.
Мальбранш в начале XVIII века описывал так педанта: “светскость… два стиха из Горация… анекдоты… Педанты — это те, кто щеголяет ложным знанием, цитирует наобум всяких авторов (и) говорит только для того, чтобы им восхищались дураки”. Ему вторит Аддисон (“Спектатор”, № 105, 1711 г.): “Кто более педант, чем любой столичный щеголь? Отними у него театр, список модных красавиц, отчет о новейших недугах, им перенесенных, и он нем”. Впрочем, смысл стиха проще: важным невеждам модная “ученость” казалась чересчур точным знанием.
10. Напев Торкватовых октав:
Эта строка и следующие за ней стихи — обаятельны, они для меня насквозь осветили и окрасили полжизни, я до сих пор слышу их весной во сне сквозь все вечерние схолии — но как согласовать с далью и музыкой сухой факт, что эти гондольеры, поющие эти октавы, сводятся к одному из самых общих мест романтизма? Тут и Пишо-Байрон, “Чайльд-Гарольд” (4, III), 1820, и мадам де Сталь (“О Германии”, стр. 275, изд. 1821), и Делавинь (“Les Messéniennes”, 1823), и великое множество других упоминаний о поющих или переставших петь гондольерах.
11. Пишотизм:
Вот прелестный пример того, как тень переводчика может стать между двумя поэтами и заставить обманутого гения перекликнуться не с братом по лире, а с предателем в маске. Байрон (Ч. Г., 2, XXIV) говорит: “Волною отраженный шар Дианы”. Пишо превращает это в “диск Дианы, который отражается в зеркале океана”. У Пушкина (1, XLVII) есть “вод… стекло” и “лик Дианы”. Этим “стеклом” мы обязаны французскому клише посредника.
12. Условная краса:
Рестиф де ла Бретонн, довольно посредственный, но занимательный автор (1734–1806), пишет в своем “Le Jolipied” о некоем сластолюбце: “легкий стан нравился ему, но из всех прелестей… его больше всего влекла… хорошенькая ножка… которая и в самом деле предвещает тонкость и совершенство всех прочих чар”.
13. Желаний своевольный рой:
Еще один обыкновенный галлицизм. Лагарп в своем “Литературном Курсе” (том 10, стр. 454, изд. 1825 г.) осуждает “частое возвращение слов-паразитов, как, например, essaim[22]… все это общие места, слишком много раз повторенные…” Достаточно следующих примеров: “Au printemps de ces jours l'essaim des folâtres amours” (Gresset, “Vert-Vert”, 1734); “L’essaim des voluptés” (Parny, “Poésies Erotiques”, 1778); “Tendre essaim des désirs” (Bertin, “Elégie II”, 1785); “Des plaisirs le dangereux essaim” (Ducis, “Epître à l’Amitié”, 1786).[23]
14. Бумажный колпак:
Все английские переводчики “Онегина” делают из домашнего хлопкового колпака аккуратного немца (I, XXXV) “paper cap”. На самом деле, конечно, “бумажный колпак” — попытка Пушкина передать “bonnet de coton”.
15. Child-Arold, Child-Harold, Шильд-Арольд, Чильд-Гарольд, Чейльд Гарольд, Чайльд Гарольд:
Так писали звание и имя Childe Harold французские и русские журналисты. В прижизненных изданиях “Онегина” (где байроновский, или, вернее, пишотовский, герой упоминается в первой главе, XXXVIII, в четвертой, XLIV, и в примечании к зевоте Онегина в театре) это имя появляется в семи вариантах (из которых по крайней мере два — опечатки): Child-Harold (1825, 1829; так и в черновике), Child-Horald (1833, 1837); Чильд Гарольд (1828, 1833, 1837; так и в чистовике); Чельд Гарольд (1825), Чильд Гарольд (1829), Чальд Гарольд (1833), Чальд Гаральд (1837).
16. Hypochondria, гипохондрия:
Вот редкий случай разделения словесного труда: для означения одной и той же разновидности скуки англичане (например, Байрон) берут первую часть слова (hypo, hyp, I am hipped), а русские — вторую (хандра). Кстати, слово “сплин” (1, XXXVIII) взято Пушкиным, конечно, не у англичан, а у обычных передатчиков-французов. Так уже в учебнике Лагарпа он мог прочитать: “В Англии… знают эндемичную болезнь… сплин”.
Кстати о хандре, ждущей Онегина в деревне и бегающей за ним, как верная жена. У Делилля, в “Деревенском Жителе” (1800), хандра встречает горожанина, бежавшего в глушь, “у ворот” сельского дома и всюду “плетется за ним”.
17. Цветы, любовь, деревня, праздность,
Поля!..:
Онегин унаследовал не деревню дяди, и не авторское Зуево, а собственно Аркадию, воспетую бесчисленными французскими поэтами и переводчиками, стилизованный пейзаж с приблизительными дубами и с ручьем (doux-coulant или paisible[24]), вьющимся через мураву всех средиземноморских идиллий. В “Онегине” чувство природы по-настоящему просыпается не в ноябре, с гусем, отставшим от каравана (как мне виделось в детстве), а третьего января, с Татьяной. Замечу, что “Поля!” в приведенной цитате (1, LVI) не просто “поля”, a champs в значении campagne, включающем и леса и горы. В старину aller aux champs[25] значило aller à la campagne.[26] Между прочим, в конце XVIII века делались попытки (см. переписку Карамзина с Дмитриевым) переводить это выражением “поехать в чистое поле” в смысле “поехать в деревню”!
18. Глаза… улыбка… легкий стан — всё в Ольге:
Это перечисление, оборванное перед глаголом, представляет собой пародию не только на список черт героини “любого романа”, но подражает самой интонации такого перечисления. Иначе говоря, предметом пародии служит здесь не только суть, но и стиль. Ср., например, описание Дельфины д’Альбемар в романе г-жи Сталь, 1802, Письмо XXI: “Ее стан… ее взоры… всё в ней выражает” то-то и то-то, или описание Антонии у Нодье (“Жан Сбогар”, 1818): “Ее стан… головка… взор… всё в ней…” Пушкин прервал фразу на риторическом переходе к ее трафаретному разрешению.
19. Poor Yorick:
В шестнадцатом примечании (к 2, XXXVII) читаем: “Бедный Йорик! — восклицание Гамлета над черепом шута. (См. Шекспира и Стерна)”.
Бродский пишет (1950 г., стр. 160): “Ссылкой на Стерна… Пушкин тонко раскрывал (!) свое ироническое отношение к Ленскому в его неуместном применении имени английского (!) шута к бригадиру Ларину”. Alas, poor Brodski![27] Пушкинское примечание прямо списано из Гизотова и Пишотова исправленного издания летурнеровского перевода “Гамлета” (т. 1, 1821 г., стр. 386): “Alas, poor Yorick! Tout le monde se souvient… du chapitre de Sterne où il cite ce passage d’Hamlet”.[28]
Между прочим, в черновиках заметок и писем Пушкин постоянно сбивался на старинное французское начертание имени Шекспира (употребляется, например, Лагарпом): Schekspir.
20. Любовник Юлии Вольмар (3, IX):
Неточно. Сен-Пре был любовником Юлии д’Этанж. Во время его путешествия в условную Южную Америку она вышла за Вольмара, довольно неубедительного православного поляка, побывавшего в Сибири и перешедшего в вольнодумство. Единственное, что связывало Юлию и бывшего ее любовника, были следы ветряной оспы. Заметим, что героини романов Юлия, Валерия, Шарлотта и др. оставались столь же верны своим мужьям, как Татьяна князю N.
21. Я знаю: нежного Парни
Перо не в моде в наши дни:
3, XXIX. Любопытно, что в своих “Литературных Листках” (часть 3, № 16, авг. 1824) Булгарин, выводя с оскорбительной благосклонностью приятеля своего Грибоедова в лице “Талантина”, дает последнему такую реплику (по поводу русской поэзии): “Подражание Парни… есть диплом на безвкусие”. Еще любопытнее, что вся знаменитая строфа XXV третьей главы, написанная (как установлено Томашевским) теми же чернилами, что и датированный 26 сент. 1824 г. “Разговор книгопродавца с поэтом”, оказывается (как устанавливаю я) переложением второй пьески (“La Main”[29]) в “Tableaux”[30] того же Эвариста Парни:
On ne dit point: la résistance Enflamme et fixe les désir, Reculons l’instant des plaisirs…[31] He говорит она: отложим — Любви мы цену тем умножим. Ainsi parle um amant trompeur Et la coquette ainsi raisonne. La tendre amante s’abandonne A l’objet qui touche son cœur.[32] Кокетка судит хладнокровно, Татьяна любит не шутя И предается безусловно Любви…Tendre amante, tendre Tatiana, tendre Parny…[33] Сколько малых сих обольстила эта нежная пародия.
22. Стремнины (5, XIII):
Переводчица преспокойно пишет “rapids”. Речь, конечно, идет об оврагах, обрывах, précipices. В русской провинции, включая Москву, до сих пор путают этот европеизм со словом “стремнинá”, которое значит “быстрое течение” и не употребительно во множественном числе.
23. Он там хозяин (5, XVII):
Хотя в январе 1821 г. Татьяна, не будучи отроковицей 1824 года, еще не читала “Сбогара”, но бред Антонии (рассказанный Жану) подозрительно родственен Татьяниному сну: “Ярко-зеленые медянки, другие гады, гораздо более отвратительные, с человечьими лицами… гиганты… свежеотрубленные головы… и ты — ты тоже стоял среди них, как колдун, руководящий всеми чарами смерти”.
Кстати, о снах: польский литератор Малевский отмечает в своем дневнике (1827 г.), что на вечере у Полевого, где присутствовали Пушкин, Вяземский и Дмитриев, обсуждался “Сон”. В тридцатом примечании к этому дневнику (Лит. Насл., т. 58, 1952 г.) комментатор делает невероятную ошибку, отожествляя этот “Сон” со сном Святослава в “Слове”! Речь тут, конечно, о довольно замечательном стихотворении Шевырева “Сон” (1827 г.).
24. Но та, сестры не замечая (5, XXII):
Как прелестно повторяется этот лейтмотив: “Она зари не замечает” (3, XXXIII); “Она его не замечает” (8, XXXI); “Она его не подымает” (8, XLII). В последних двух случаях внутреннему голосу чтеца приходится тормозить на “она” и “его” (чтобы не дать строке съехать под гору на сплошных пиррихиях), чем достигается особенно патетическая протяжность мелодии (она смутно слышится мне и в печальной важности медленного: “И так они старели оба”, 2, XXXVI).
25. Две Петриады да Мармонтеля третий том (5, XXVIII):
Связь в мыслях у Пушкина между виршами в честь Петра I и пресными “Nouveaux Contes Moraux”[34] (Мармонтель, т. 3, 1819 г.) подсказана может быть двумя строками из хорошо ему известной сатиры Жильбера “Восемнадцатый Век”, 1775 г., в которой Томá (Thomas), работавший над своей “La Pétréide”,[35] упоминается рядом с Мармонтелем.
26. Belle Tatiana:
Автор романса “La Belle Dormeuse”,[36] Dufresny, не знавший нот, напел его мелодию композитору Grandval, записавшему ее (около 1710 г.). Среди многочисленных, очень чинных, подражаний этим слегка скабрезным стансам вот то, которое, вероятно, нашел Трике в ветхом “Almanach chantant”:[37]
Chérissez ce que la nature De sa douce main vous donna, Portez sa brillante parure, Toujours, toujours, belle Nina.[38]27. Замедления, обмороки речи:
Одно из непременных дел переводчика — это объяснить иностранному читателю при помощи подробных примечаний инструментовку оригинала, — например, изысканный параллелизм строк:
И утренней зари бледней, И трепетней гонимой лани,где, кроме одинакового полуударения и изумительной аллитерации на “тр”, на “л” и на “н”, есть редчайшее созвучие двух разных грамматических форм, которого эпитетами “morning” и “more tremulous”, конечно, не передашь без надлежащего объяснения.
28. Анакреон живописи:
Судьба этого забытого Альбана или Альбани (чья невозможная “Фебова колесница” все еще украшала меблированные комнаты Средней Европы моих двадцатых годов) была бы ни с чем не сравнима, — если бы ее не разделили в соседней области искусства бездарные французы-рифмачи, Вольтер, Жанти Бернар, Лемьер, Делавинь и сотни других упоминавших “l’Albane” с дрожью в зобу наряду с величайшими итальянскими художниками. Оттуда “кисть Альбана” перешла как модная формула в лицейские стихи Пушкина. Наши пушкинисты находят странным ретроспективное замечание: “хотелось в роде мне Альбана бал петербургский описать” (5, XL), но ничего нет странного в том, что пушкинисты, не знающие французской словесности или не учитывающие французской подоплеки русской словесности, многого могут в Пушкине не понять.
Лагарп, в своем “Курсе”, говорит по поводу “Свадьбы Фигаро”: “Этот прелестный паж меж этих прелестных женщин occupées à le deshabiller et à le rhabiller (ср. “одет, раздет и вновь одет”, 1, XXIII) est un tableau d’Albane”,[39] и когда Пушкин, в главе пятой, вспоминает главу первую и уединенный cabinet de toilette (ср. Парни: “voici le cabinet charmant оù les Grâces font leur toilette”[40]), откуда Онегин выходит “подобный ветреной Венере”, нетрудно увидеть сквозь это прозрачное воспоминание ту картину Альбана, которая известна в бесчисленных копиях как “Туалет Венеры”. По струе быстрых стихов ветреная реминисценция слилась с петербургским балом и тамошним essaim folâtre des désirs.[41]
29. И даже честный человек: Так исправляется наш век:
6, IV. Еще Лернер, в добродушных своих заметках, указал, что первая из этих двух строк представляет собой перевод известной фразы в конце “Кандида”. Но, кажется, никто не отметил, что и последняя строка — из Вольтера, а именно, из примечания, сделанного им в 1768 году к началу четвертой песни “Женевской Гражданской Войны”: “Observez, cher lecteur, combien le siècle se perfectionne”.[42]
30. Planter ses choux comme Horace; les augurs de Rome qui ne peuvent se regarder sans rire:
Эти два стертых пятака французской журналистики были уже невыносимы и в русской передаче, когда их употребил Пушкин (“капусту садит как Гораций”, 6, VII, и “как Цицероновы авгуры, мы рассмеялися…”, Пут. О., “XXXI”). Тут было бы так же бессмысленно приводить, что именно Гораций говорит о своих овощах olus[43] (что включает и brassica[44] и caule,[45] как и рассуждать о том, что Цицерон говорил, собственно, не об авгурах, а о занимающихся гаданием на ослиных потрохах.
31. Художник Репин нас заметил:
Александр Бенуа остроумно сравнивал фигуру молодого Пушкина на исключительно скверной картине “Лицейский экзамен” (репродукция которой переползает из издания в издание полных сочинений Пушкина) с Яворской в роли Орленка. За эту картину Общество им. Куинджи удостоило Репина золотой медали и 3000 рублей, — кажется, главным образом потому, что на Репина “нападали декаденты”.
32. Люблю я очень это слово (vulgar):
Сталь, в примечании на стр. 50 (изд. 1818 г.) 2-го тома “О литературе”, говорит, что в эпоху Людовика XIV “это слово, la vulgarité, еще не было в ходу; но я почитаю его удачным и нужным”. Не знаю, заметил ли кто пушкинскую interpolatio furtiv[46] в строфе XVI главы восьмой: “Оно б годилось в эпиграмме…” Мне представляется совершенно ясным, что тут шевелится намек на звукосочетание “Булгарин — вульгарен — Вульгарин” и т. п. Незадолго до того (в марте 1830 г.) появились в “Северной Пчеле” и грубый “Анекдот” Булгарина, и шутовской его разбор главы седьмой. Эпитет vulgar Пушкин употребляет (в черновой заметке) и по отношению к Надеждину, которого он встретил у Погодина 23 марта 1830 г.
33. Перекрахмаленный нахал (8, XXVI):
В этом стихе, со столь характерным для Пушкина применением тонких аллитераций, речь идет о кембриковом шейном платке лондонского франта. Моду крахмалить (слегка) батист пустил Джордж Бруммель в начале века, а ее преувеличением подражатели знаменитого чудака вызывали в двадцатых годах насмешку со стороны французских птиметров.
34. Тиссо:
Читая (в восьмой главе) этого знаменитого швейцарского доктора (верно “О, здоровье литераторов”, 1768 г., где разбирается по статям ипохондрия), Онегин как бы следует совету, который в 1809 г. дает читателю Бомарше (в предисловии к “Севильскому Цирюльнику”): “Если обед ваш был скверен… бросьте вы моего цирюльника… и взгляните, что в шедеврах своих говорит Тиссо об умеренности”. Это забавно сопоставить с более искристым советом, который пушкинский Бомарше дает пушкинскому Сальери.
35. Шамфор:
Не знаю, известно ли пушкинистам, что в “Maximes et Pensées”[47] Шамфора встречается (т. 4, стр. 522, изд. 1796 г.) следующее: “Некто говаривал: “Я хотел бы видеть последнего короля удавленным кишкой последнего священника””, мысль, превращенная (кажется, Баратынским) в известные стихи “Мы добрых граждан позабавим” и т. д.
36. Инвентари:
Прием “списка авторов”, который столь любили и Пушкин, и дядя его Василий, восходит к Луветову “Год из Жизни Кавалера Фобласа”, 1787 г., где кавалер на принужденном досуге прочитал сорок авторов, в перечислении коих узнаем многих пестунов русской словесности — Флориана, Колардо, Грессе, Дора, все того же Мармонтеля, обоих Руссо, убогого аббата Делилля, Вольтера и т. д.
37. Байбак (Marmota bobac):
Пушкин избежал больших сочинительских осложнений тем, что заставил своего героя hiverner comme une marmotte[48] (8, XXXIX) с начала ноября 1824 года до наступления петербургской весны. Дело в том, что после наводнения 7 ноября правительство временно запретило рауты и балы, а с другой стороны, не зазимуй Онегин, поэту пришлось бы вывести громоздкую и никому не нужную стихию на небольшую сцену этой главы. Зато домоседа Евгения как бы заменил его тезка в “Медном Всаднике” (1833 г.), прихотливо соединенном с “Онегиным” путем черновиков, известных под названием “Родословная моего героя” (1832 г.).
38. Желать обнять у вас колени и, зарыдав у ваших ног…:
Онегин следует наставлениям Жанти Бернара (Gentil Bernard) во второй песне “Искусства любить”:
Meurs à ses pieds, embrasse ses genoux, Baigne de pleurs cette main qu’elle oublie —[49]и действительно, в строфе XLII главы восьмой Татьяна “от жадных уст не отымает бесчувственной руки своей”. “Бесчувственной” отнюдь не значит “неспособной на чувство”: этот эпитет следует сопоставить с 45-й строкой Письма Татьяны и с 6-й строкой XVII строфы главы четвертой. Шарлотта С., в аналогичном положении, “le repoussait mollement”[50] (французский перевод “Вертера”, 1804 г.).
39. Соблазнительную честь:
Некоторые понимают этот эпитет в смысле scandaleux, équivoque,[51] но мне кажется, что Татьяна, хватаясь за призрачный довод, призывает на помощь свою любимую Дельфину, которая пишет Леонсу (часть 4, Письмо XX): “Спросите себя, не соблазнял ли (séduisait) ваше воображение некий ореол, которым ласка света окружала меня”.
40. Если вашей Тани вы не забыли (8, XLV):
Когда, собственно говоря, Татьяна была “его Таней”? — может спросить читатель. Но это всего лишь невинный галлицизм: во французских эпистолярных романах девушки и дамы постоянно писали о себе своим поклонникам в трогательном третьем лице — “ваша Юлия плачет”, “ваша Коринна больна”. Вся Татьяна целиком, со своей “русской душой”, с “бедными”, которым она “помогала”, с милым призраком amant[52] у своего chevet,[53] не могла бы просуществовать и двух стихов без поддержки литературных прототипов.
41. Но я другому отдана:
Критик, ищущий подтверждения свих догадок в вычеркнутых автором стихах, удаляется от текста по касательной, ведущей обратно как раз в тот хаос, который автор превозмог; однако трудно не поддаться волшебству некоторых пушкинских вариантов. Так, окончание строфы XLIV в главе восьмой читается в чистовике:
Подите… полно — я молчу — Я вас и видеть не хочу!Этот маленький истерический взвизг подсказал бы опытному Онегину, что стойкость княгини N. только литературная. “Мои уста и сердце… обещали верность избранному мною супругу… Я останусь верна этой клятве… до смерти”, — пишет Юлия к Сен-Пре (книга 3, Письмо XVIII). У Руссо все это отвратительно плоско, но, Боже мой, чего только не наплела русская идейная критика вокруг русской Юлии, заговорившей несравненным четырехстопным ямбом.
42. Кинжал Л, тень Б:
Тщательное изучение фотостатов привело меня к новым выводам насчет расположения строк в зашифрованных Пушкиным (поспешно, кое-как, и, несомненно, по памяти — что можно доказать) фрагментах главы десятой, которую он читал друзьям наизусть начиная с декабря 1830 г. Подробный разбор криптограммы потребовал бы слишком много места: скажу только, что она указывает на существование не шестнадцати, как принято считать, а семнадцати строф (так что строфа “Сначала эти разговоры” и т. д. занимает восемнадцатое место). Стих “Кинжал Л(увеля), тень Б” отношу к одиннадцатой строфе:
1……………….. 2……………….. 3 А про тебя и в ус не дует, 4 Ты — Александровский холоп. 5 Кинжал Л(увеля), тень Б…Других строк в строфе нет. Мне представляется, что в первых, недописанных, двух стихах поэт обращался к Закону (главному герою его же оды “Вольность”), предлагая ему молчать, покуда, скажем, царь танцует галоп. Почему комментаторам было так трудно догадаться, кто такой “Б” (тень которого, вместе с кинжалом Лувеля, не тревожит, скажем, трона), совершенно мне непонятно. Это генерал Бертон (Jean Baptiste Berton, 1769–1822), нечто вроде французского декабриста, героически и легкомысленно восставший против Бурбонов и взошедший на плаху с громовым возгласом: “Да здравствует Франция, да здравствует свобода!” Между прочим, Пушкин ставит имена Лувеля и Бертона рядом в заметке от 1830 г. (Лит. Газ. № 5) о выходе записок (поддельных) палача Шарля Сансона.
1957 ЗАМЕТКИ ПЕРЕВОДЧИКА II
(Впервые: “Опыты”. 1957. Кн. 8. С. 36–49.)
В Америке, когда простой любитель словесности, как я, хочет взглянуть на редкую книгу или драгоценную рукопись, то, в зависимости от расстояния между ним и нужным ему книгохранилищем (скажем, от ста шагов до трех тысяч миль), он может получить оригинал или снимок с него в кратчайший срок (от пяти минут до пяти дней). Со Старым Светом дело обстоит чуть сложнее. Когда мне понадобился фотостат малоизвестной новеллы Ламотта Фукэ (“Pique-Dame, Berichte aus dem Irrenhause in Briefen. Nach dem Schwedischen”[54]. Berlin, 1826), я получил его при посредстве Корнельской Университетской Библиотеки из туманной Германии только по истечении трех недель. Некоторые материалы, нужные мне для другого исследования, шли из Турции около двух месяцев — и это понятно и простительно. Но воображение меркнет и немеет язык, когда думаешь, какие человек должен иметь заслуги перед советским режимом и через какие бюрократические абракадабры ему нужно пробраться, чтобы получить разрешение — о, не сфотографировать, а лишь просмотреть собрание автографов Пушкина в Публичной Библиотеке в Москве или в ленинградском Институте Литературы. Поскольку американский переводчик отделен непроницаемой стеной от рукописей Е. О., он не может надеяться исчерпывающе осветить многие места романа, особенно где дело касается вариантов, почерка, пера, времени написания и т. д. (Впрочем, положение туземных пушкинистов, по-видимому, не многим лучше.) Ручаюсь за предельную точность моего перевода Е. О., основанного на твердо установленных текстах, но о полноте комментариев, увы, не может быть речи. В перерывах между другими работами, до России не относящимися, я находил своеобразный отдых в хождении по периферии “Онегина”, в перелистывании случайных книг, в накоплении случайных заметок. Отрывки из них, приводимые ниже, не имеют никаких притязаний на какую-либо эрудицию и, может быть, содержат сведения, давно обнародованные неведомыми авторами мною не виданных статей. Пользуясь классической интонацией, могу только сказать: мне было забавно эти заметки собирать; кому-нибудь может быть забавно их прочесть.
Старик… поправил свой парик (уиг)и соседу своему в ребра дал тычка (диг). (Конец строфы XLIX, главы седьмой, в “переводе” Бабетты Дейч):
Тычков и тумаков толмачи надавали русским писателям вдосталь. Я сам когда-то (вспоминаю со стоном) пытался переводить Пушкина и Тютчева стихами с “раскрытием образов”. Математически невозможно перевести Е. О. на какой-либо иностранный язык с сохранением схемы рифм. Оно неизбежно приводит к неточности, к пропуску и к припуску, к преступлению. С другой стороны, конечно, под прикрытием рифмованной парафразы перекладчику легче скрыть свое неточное понимание русского текста: простая проза выдала бы его невежество. Таким образом, не только кое-как пересказывается Пушкин, но кое-как пересказывается плохо понятый, приблизительный Пушкин. Трудно решить, какой из четырех наиболее известных переводов Е. О. на английский язык хуже — пожалуй, все-таки безграмотные и вульгарные вирши Эльтона (1936, 1937). Глаже всех перевод Дейч-Ярмолинской (1936, 1943), но совершенно непонятно, каким образом изящная и даровитая американская поэтесса могла решиться разбавить Пушкина такой бездарной отсебятиной. Американский потребитель ее Е. О. узнает, например, что Онегин “был воспитан там, где текут серые воды старой Невы” (глава первая, II), что он там “обедал, танцевал, фехтовал и ездил верхом” (IV), что он “давал классическому лавру увядать” (VI) и что, слушая его рассуждения о политической экономии, “его отец хмурился и стонал” (VII). В театре Онегин (XXI) “со своим обычным апломбом поднимает монокль” и “замечает драгоценности, кружева и цвет лица красавиц”. Он едет домой и потому находится “вне пределов досягаемости проклятий” (по-видимому, кучерских) (XXII). И т. д., и т. д. Должен все же сказать, что как ни плох этот “перевод”, он лучше чудовищных по нелепости иллюстраций, приложенных к нему в роскошном издании 1943 г. (с благоразумно ограниченным тиражом) неким Фрицем Эйхенбергом, далеко оставившим позади пресловутого Александра Нотбека.
Полусмешных, полупечальных:
Второстепенный шотландский поэт James Beattie, в письме от 22 сентября 1766 г. (см. биографию Битти, изданную Форбсом, т. 1, стр. 113, 2-е изд., Эдинбург, 1807), рассказывает приятелю о начатой поэме (“The Minstrel”[55]). Байрон в предисловии к первым двум песням “Чайльд Гарольда” (1812 г.) приводит из этого письма цитату, с которой Пушкин ознакомился по французскому переводу байроновской поэмы. Битти пишет, что он собирается дать волю воображению (цитирую дальше по 4-му изд. пишотовского Байрона, т. 2, 1822 г.) “en passant tour à tour du ton plaisant au pathétique, deu descriptif au sentimental et du tendre au satirique, selon le caprice de mon humeur”.[56]
В пушкинском посвящении Плетневу, написанном 29 декабря 1827 г., слышны отзывы не только отсюда, но и из “Пиров” Баратынского, 1827 г., (252: “Собранье пламенных замет…”) и из “Опытов” Батюшкова, 1817 г. (часть 2, “К Друзьям”, 7–8: “Историю моих страстей, ума и сердца заблужденья”). Напомним, что именно Батюшкова нечаянно обидел тот же Плетнев (в скверной элегии, напечатанной в воейковском “Сыне Отечества”, № 8, 1821 г.) — из-за чего, в свою очередь, Плетнева нечаянно обидел Пушкин (в письме к болтуну-брату от 4 сентября 1822 г.). Повинное посвящение (напечатанное в начале 1828 года при издании четвертой и пятой глав Е. О.) весьма скоро перестало нравиться автору (оно и впрямь написано темно и вяло), но как несчастная тень продолжало появляться, бряцая цепями родительных падежей, в разных углах поэмы: оно перебралось в примечание 23 к первому полному изданию Е. О. (около 23 марта 1833 г.), а затем, уже без всякого упоминания Плетнева, приютилось на обеих сторонах четвертого ненумерованного листа перед стр. 1 следующего издания (середина января 1837 г.). Корректуру, думается мне, правил сам Пушкин, и правил ее с запозданием и раздражением. Найдя опечатку “Святой исполненной”, он, по-видимому, вписал краткий знак столь размашисто и неряшливо, что Илья Глазунов, приняв его за вычерк и смык, напечатал “Святоисполненной”. В единственном виденном мной экземпляре этого редчайшего издания (№ 688 собр. Кильгура, Houghton Library, Гарвард) четвертый ненумерованный лист с бродячей пьеской оказался вплетенным между страницами 204 и 205. Вот к каким злоключениям может привести стремление совместить дружбу с искусством.
Всегда я рад заметить разность:
Судя по черновикам, относящимся к зиме 1823 г., эпиграфами к первой главе Пушкин собирался выставить стихи 252–253 из “Пиров” и довольно неожиданную английскую фразу, найденную им, вероятно, в альбоме кого-либо из его одесских друзей или приятельниц. Перевожу: “Ничто так не враждебно точности сужденья, как грубость распознаванья. Бёрк”. Мне удалось выяснить, что эта фраза находится в докладе, представленном Бёрком Вильяму Питту в ноябре 1795 г.: в нем идет речь о ценах на зерно, о зарплате, о бобах и репе и об огородных вредителях — интересовавших Пушкина еще меньше, чем новороссийская саранча.
Был глубокий эконом… педант… бранил Гомера:
Комментатор должен остерегаться слишком легких сопоставлений.
У Газлита в “Table-Talk” (1821–1822 гг.) сказано: “Человек-экономист, хорошо-с; но… пускай он не навязывает другим своей педантической причуды… Человек… объявляет без предисловий и обиняков свое презрение к поэзии: значит ли это, что он гениальнее Гомера?”
Сомневаюсь, чтобы эта выдержка успела дойти во французском переводе до бессарабского изгнанника в 1823 г. По-английски в те годы он не читал вовсе — и сведения, шедшие от Чаадаева, что Пушкин, в 1818 г., желая учиться английскому языку, занял у него (еще не изданный) “Table-Talk”, разумеется, вздор.
Комментатор должен радоваться сложным совпадениям.
Недремлющий брегет:
Дюпон, выпустивший в 1847 г. довольно удачный по дикции, но совершенно изуродованный разными промахами, прозаический французский перевод Е. О., делает забавную ошибку на своем же языке. Он пишет “son bréguet”[57] и при этом поясняет в примечании, что “из уважения к тексту сохраняем это иностранное выражение, которое у нас почитается безвкусным; в Париже говорят: мои часы…” Дюпон, конечно, не прав. И Скриб, и Дюма, и другие парижане употребляли “мой брегет” совершенно так же, как Пушкин. Но вот что мило: по-французски “брегет” не мужского рода — как думает Дюпон — а женского: “mа bréguet”.
У того же элегантного Дюпона находим: “Ленский с душою прямо гётевской”; но зачем смеяться над давно опочившим французским инженером путей сообщения, когда русский комментатор Бродский пишет (Е. О., Учпедгиз, 1950 г.), что боливар либерала Онегина “указывает на определенные общественные настроения его владельца, сочувствующего борьбе за независимость маленького народа в Южной Америке”. Это то же самое, как если бы мы стали утверждать, что американки носят головные платки (“бабýшки”) из сочувствия Советскому Союзу.
Морозной пылью серебрится:
В 1819 г. первый снег выпал 5 октября, а Нева замерзла спустя десять дней. Как хорошо повторение звука “бр” в третьем и четвертом стихах этой строфы! Бобровый воротник стоил Онегину не меньше двухсот рублей. Воротник украшал александровскую шинель. Шинель происходит от “chenille”, бархатистой шелковой ткани. Правильный французский перевод “шинели” — une karrick (от David Garrick, знаменитого английского актера, 1717–1779). Вернувшись в Англию, это слово превратилось в carrick. Теперь мы по крайней мере можем точно перевести заглавие знаменитого гоголевского рассказа, а то все пальто да пальто.
Фобласа давний ученик:
Знаменитый и бездарный роман Жана Лувэ (Louvet “de Couvray”) состоит из следующих основных частей:
1787, Год из Жизни Кавалера Фобласа (5 частей)
1788, Шесть Недель из Жизни Кавалера Фобласа (8 частей)
1790, Окончание Любовных Похождений Кавалера Фобласа (6 частей).
Все это перепечатывалось, удлинялось и сокращалось другими. Судя по списку книг, сообщенному Модзалевским (1910 г.), у Пушкина было парижское издание 1813 года (“Жизнь Кавалера Ф.”), где присвоенная автором добавочная фамилия напечатана так: Купврэ (что значит “Режь Правду”).
Ни один из обманутых мужей в романе смышленостью не отличается. “Супруг лукавый” — это тот супруг, который, прочтя “Фобласа”, кое-чему научился и ласкает поклонников жены, либо чтобы легче было за ними наблюдать, либо для прикрытия собственных шашен.
Вино кометы, le vin de la comète:
Эта безымянная, но дивная комета была впервые замечена Флогергом в городе Вивье 25 марта 1811 г. Затем, спустя пять месяцев, ее увидел Бувар в Париже. Астрономы петербургские наблюдали ее 6 сентября 1811 года по новому стилю. Она грозно украшала небо до 17 августа 1812 г. Москвичам она представлялась “звездой Наполеона”.
Онегин полетел к театру:
Второй герой этой главы обгоняет первого (вот одна из пружин главы), и когда Онегин в строфе XXI входит в театральный зал, Пушкин уже там пребывал на протяжении целых трех строф (XVIII, XIX, XX). Пируэт Дуняши Истоминой Онегин пропустил — и только через пять лет с лишком, в феврале 1825 г., пробел некоторым образом заполняется: в строфе XXXV главы восьмой Онегин, читая новую поэму приятеля, узнает и себя, и общих друзей (Каверина, Чаадаева, Катенина), и прелестную пантомимную балерину.
Клеопатра:
Клеопатр было много. Еще в 1776 году, в “Послании к графу де Ванс”, Пирон не мог припомнить всех перевиданных им на парижской сцене. А среди них, наверно, была трагедия “Родогюн” Корнеля (1644 г.), которую автор не назвал “Клеопатра” только из боязни, как бы читатель не спутал его героини, сирийской царицы Клеопатры, с более очевидной египтянкой. Не знаю, давали ли когда-либо в Петербурге оперу “Клеопатра и Цезарь”, сочиненную моим предком Грауном в 1742 г. (с итальянским либретто, основанным на ничтожнейшей “Смерти Помпея” того же Корнеля), или другую, очень известную когда-то, оперу “Смерть Клеопатры”, произведение Насолини (1791 г.), или “Клеопатру” Мармонтеля, 1750 г. (на первом представлении этой трагедии в Париже публика присоединилась к свисту механической гадюки), или, наконец, “исторический балет Клеопатра”, муз. Крейцера, поставленный впервые в Париже в 1809 г.; но, во всяком случае, никакой “Клеопатры, трагедии Вольтера”, упоминаемой Чижевским в его небрежных примечаниях к Е. О. (Гарвардское Университетское Изд-во, 1953 г., стр. 214), Онегин не мог ошикать по той простой причине, что никакой “Клеопатры” Вольтер не писал.
Уединённый кабинет:
Случайно сохранились у меня, в коробке из-под теннисных туфель, карточки с выписками из польских и немецких стихотворных “переводов” Е. О. Бездарный Бельмонт в 1902 г. и талантливый Тувим в 1954 г. героически решили сохранить смену мужских и женских рифм, а так как для первых по-польски можно пользоваться только односложными словами, то дело свелось к совершенно фантастическим суррогатам. Так, bronz[58] у Бельмонта рифмуется с чудовищным ekstrakty kwiatow — fiolet, pons[59] (первая гл., XXIV), а у Тувима, в том же месте, какое-то nа tkanin tle[60] сочетается со szkle.[61]
У немцев были, по-видимому, другие затруднения. Доктор Липерт (1840 г.) к онегинским духам щедро прибавляет “тонкие мыла”; невероятный Боденштедт (в 1854 г.) загромождает туалетный стол Онегина золотом, губками, щетками для бороды и головы; а Вольф-Лупус (1899 г.) пополняет список “изящными несессерами”.
Я помню море пред грозою:
Искать “прототипы” в личной жизни сочинителя — дело не только опасное, но и нелепое. Доцент или даже ординарный профессор, взявшись за него, распаляет свою ученость и не может ее заменить творческим воображением сочинителя. Как бы добросовестно кандидат ни лепил из архивной пыли историческое лицо, оно роковым образом будет отличаться от Галатеи поэта в той же мере, как слог кандидата отличается от слога творца. Знаменательно, что именно беллетристы посредственные особенно охотно обращаются к истории, к биографии, точно они питают тайную надежду, что “жизнь” восполнит недостатки искусства. Истинный же сочинитель, как Пушкин или Толстой, выдумывает не только историю, но и историков.
Мария Раевская, выскочившая 30 мая 1820 г. из дорожной кареты на морской берег между Самбеком и Таганрогом, вспоминала впоследствии волну, замочившую ей ножки, и молчаливое присутствие Пушкина, вышедшего из другого экипажа, — но ей было тогда не пятнадцать лет, как она замечает в своих до странности банальных и наивных “Mémoires” (СПб., 1904 г., стр. 19), а всего лишь тринадцать (она родилась 25 декабря 1806 г.). Сопоставление шестнадцатой строфы “Путешествия Онегина”, где автор возвращается мыслью к своему прибытию в Гурзуф (19 августа 1820 г.), с теми черновиками стихотворения “Таврида” (1822 г.) в тетради № 2366, где на крымском фоне появляется в зачаточном виде тема строфы XXXII гл. первой, убеждает меня, что если уж был Пушкин в кого-либо влюблен во время своего трехнедельного пребывания в Гурзуфе, то в Катерину Раевскую, Китти (как ее называла гувернантка Miss Matten), Kitty R., тезку звезды Kythereia.
Около 10 июня 1824 г., между приездом в Одессу из Москвы кн. Веры Вяземской (7 июня) и отплытием на яхте из Одессы в Крым гр. Елизаветы Воронцовой (14 июня), Пушкин и обе дамы гуляли по берегу, то приближаясь к набегающим волнам, то отступая перед ними — все это по-французски Вяземская описывает в письме к мужу. Кн. Вяземской, своей конфидантке, Пушкин, по-видимому, обещал описать волны, ложившиеся к ногам Элизы, в онегинской строфе. Я предполагаю, что, придя домой, Пушкин отыскал тетрадь с “Тавридой” и тут же стал работать над стихами о пленительных ножках, вводя романтическую тему влюбленных волн и распределяя строки по схеме онегинских рифм. Дальнейшие события, разрешившиеся в конце июля его отъездом в Михайловское, помешали, вероятно, стихам. Только в октябре 1824 г., в известном письме к Вяземской, где Пушкин, употребляя прозрачный шифр, поверяет наперснице свою тоску по Воронцовой (“все, что напоминает мне море, печалит меня”, франц.), поэт пишет: “…моя поэма не подвигается вперед; впрочем, вот строфа, которую я вам должен” (“que je vous dois” — в смысле “которую я вам обещал”, а не “которой я вам обязан”, как переведено, напр., в издании “А. С. Пушкин” 1949 г., томик десятый, под наблюдением таинственного Корчагина). Бесценный листок, приложенный к письму, пропал, но у меня нет сомнений относительно его содержания:
Ты помнишь море пред грозою. Как я завидовал волнам, Бегущим бурной чередою С любовью лечь к ее ногам.В заключение скажу: гипотеза, что стеклянный башмачок был не впору Марии Раевской, а принадлежал ее сестре Катерине, от которой перешел к Елизавете Воронцовой, кажется весьма стройной, но, вероятно, может быть разрушена так же легко, как прежние замки из того же морского песку.
И брань, и саблю, и свинец:
Можно предположить, что в этой довольно туманной строке речь идет о каких-то петербургских дуэлях Онегина (как ясно сказано в варианте), а не просто об упражнениях в фехтовании и пистолетной стрельбе. Но при чем все-таки “брань”? Кстати: не знаю, известно ли нашим пушкинистам, что поэт в конце двадцатых или начале тридцатых годов занимался фехтованием со знаменитым преподавателем этого искусства, французом Augustin Grisier (см. любопытную биографическую заметку, приложенную к труду Гризье “Les Armes et le Duel”,[62] Париж, 1847 г.).
Сплин:
Это “английское” слово Пушкин нашел у французских писателей, часто употреблявших его (напр. Парни, в первой части поэмки “Годдам”, ноябрь 1804 г., где “сплин” поставлен в один ряд с “sanglant rost-beef”[63] — правописание, принятое и Пушкиным). Пушкин находил (1831 г., Лит. Газ. № 32), что “сплин” особенно отчетливо выражен Сент-Бёвом в его “Жизнь, стихотворения и мысли Жозефа Делорма”, 1829 г., причем совершенно непонятна похвала этому до смешного бездарному произведению со стороны нашего поэта, столь хорошо (не в пример современникам) понимавшего пошлость Беранжэ и пресность Ламартина. В этом “Делорм” находится один из самых смехотворных образов во всей французской литературе: “Я вальсировал… обнимая мою красавицу влюбленной рукой… ее прекрасные груди были подвешены к моему содрогающемуся сердцу, как висящие с дерева плоды”. Как мог проницательный взгляд Пушкина не приметить этого гермафродита с анатомическим театром в выемке жилета?
Знакомые речи:
Прочитав первую главу “Онегина”, Вяземский сообщил “на ушко” Александру Тургеневу, в письме от 22 апреля 1825 г., что в “Чернеце” Козлова, третьестепенного стихотворца того времени, “больше чувства, больше мысли”, чем у Пушкина; и в тот же день (литературные судьбы, приглашая на казнь, любят соблюдать порядок) третьестепенный стихотворец Языков писал брату, что, дескать, дай Бог, “Чернец” окажется лучше “Онегина”.
Раскольников, герой “Бедных Людей”:
“Грандисон, герой Кларисы Гарлоу, — преспокойно пишет Чижевский (упом. труд, стр. 230, перевожу с англ.), — известен матери только как прозвище московского унтер-офицера!” (сарджента). Особенно хорош этот восклицательный знак. К ошибкам в русском тексте Чижевского прибавились ошибки беспомощного перевода (следовало, конечно, либо сказать “энсин”, либо объяснить удельный вес русских гвардейских чинов того времени). И далее:
“Превращение — (продолжаю переводить) — старухи Лариной из чувствительной девы в строгую хозяйку было обычным явлением и для мужчин и для женщин в России”. Что значит этот бред?
Между прочим: всякий раз, что вижу заглавие, приведенное выше, мгновенно вспоминаю (такова цепкость некоторых ассоциаций) мысль, выраженную тонким философом Григорием Ландау (захваченным и замученным большевиками около 1940 г.) в его книге “Эпиграфы” (Берлин, около 1925 г.): “Пример тавтологии: бедные люди”.
Жатва поколений (Гл. вторая, XXXVIII):
Если не знать, что эта формула не что иное, как затасканная псевдоклассическая метафора французской риторики, moisson, moisson finèbre, la mort qui moissonne,[64] то можно написать целый трактат о частом появлении этого образа у русских поэтов. Чижевский, по каким-то соображениям сопоставивший эту несчастную “жатву” с земледельческими образами в… “Слове о Полку Игореве”, оказал медвежью услугу и так небезупречной подлинности этого замечательного произведения.
Но, может быть, и это даже правдоподобнее сто раз:
Так начинается в черновике (тетрадь 2369, л. 41 об.) заключительная строфа, после XL, гл. вторая. Первая строка этой строфы — прекрасный пример гениального умения Пушкина извлекать лаконический смысл из безголосых, подсобных слов, которые он заставляет петь полнозвучным хором. Этому приему как раз противоположен прием Гоголя, состоящий, наоборот, в окончательном снижении маловажных слов, до положения каких-то бледно-клецковых буквочек в бульоне (напр., при передаче тововоно-качной речи Акакия), прием, впервые отмеченный Белым и независимо описанный мной четверть века спустя в довольно поверхностной английской книжке о Гоголе (с невозможным, не моим, индексом), о которой так справедливо выразился однажды в классе старый приятель мой, профессор П.: “Ит из э фанни бук — перхапс э литтел ту фанни”. Писал я ее, помнится, в горах Юты, в лыжной гостинице на высоте девяти тысяч футов, где единственными моими пособиями были толстый, распадающийся, допотопный том сочинений Гоголя, да монтаж Вересаева, да сугубо гоголевский бывший мэр соседней вымершей рудокопной деревни, да месиво пестрых сведений, набранных мной Бог весть откуда во дни моей всеядной юности. Между прочим, вижу я, что в двух местах я зашел слишком далеко в стилизации “под Гоголя” (писателя волшебного, но мне совершенно чуждого), дав Пушкину афоризм и рассказ, которые Пушкин дал Дельвигу.
Вечный Жид:
Пушкинисты проявили много учености в поисках сочинения, названного так в строфе XII, гл. третья. По счастию, они не набрели на “The Wandering Jew”,[65] 1819 г., благочинного Т. Кларка и на “Ahasuerus the Wanderer”,[66] 1823 г., драгунского капитана Т. Медуина (издавшего на следующий год свои сомнительные “Разговоры с Байроном”). Говорю “по счастью”, потому что не о них думал Пушкин, а об общем месте модной фантазии, отразившейся и в “Чайльд Гарольде”, и в “Melmoth ou l’homme errant”,[67] столь чтимой Пушкиным переделке J. Cohen’a (Париж, 1821 г.) романа “Mathurin”’a (вместо Maturin). Убожеством другого перевода, а именно уже упомянутого комментария Чижевского, на английский язык, вероятно, объясняется то, что эпитет в термине “Вечный Жид” (персонаж, выдуманный немцами) неправильно дан как “Eternal”. Меня, впрочем, заинтересовало другое: что такое, собственно говоря, столь внушительно приводимые на стр. 239 “пьеса L. Ch. Chaignet, 1812” и “роман R. de Corneliano”? Обратившись к индексу, узнаем, что первый был, по мнению проф. Чижевского, французским поэтом, написавшим “Этерналь Джю”, а второй — Rocca de Corneliano — был тоже французским поэтом, тоже написавшим “Этерналь Джю”. Нескольких минут в библиотеке, уделенных проверке этих интересных утверждений, было довольно, чтобы убедиться в иллюзорности этих лиц и произведений. Мосье Л. Ш. Шэнье вообще не существует (подозреваю, что он спутан с братом Андрэ Шенье), однако можно предположить, что где-то, когда-то, переходя из одной компиляции в другую (процесс, так сказать, стихийный), потерпел аварию французский драматург, Louis Charles Caigniez или Caignez (1762–1842 гг.), чья скверная мелодрама про “Иглуфа” (“Я бегу”, нем.), “Le juif errant”,[68] провалилась 7 января 1812 г. в парижском Театре де ла Гэтэ. Другой призрак, “Рокка де Корнелиано”, тоже странствует с давних пор (к проф. Чижевскому он пришел, думаю, от д-ра Ледницкого, из примечаний последнего к изданию 1925 г. бельмонтовского перевода Е. О.) Опять же, есть совершенно третьеразрядный публицист, граф Карло Пасеро де Корнелиано, автор ничтожного трактата “Histoire du juif errant par luimême”[69] (Париж, 1820 г.). По-видимому, где-то в своей блуждающей судьбе граф смешался с итальянским духовным лицом, Nasalli Rocca di Corneliano, чье биографическое бессмертие зиждется на заглавии (без даты) инвентаря, относящегося к имуществу какого-то кардинала, в Британском Музее. Но чем больше ссылок, тем авторитетнее работа, и я не сомневаюсь, что, весело подпирая друг друга, два известных французских лирика, Людовик Шэнье и Рокка, переберутся из комментария проф. Чижевского в следующий ученый труд.
Перекладные просвещения:
У английского переводчика Эльтона на именинном пиру у Лариных “девки” (wenches) удобно сидят на скамьях (benches), а затем (перевожу обратно строфу II, гл. шестая): “В гостиной слышно было, как сопел тяжеловесный Пустяков, имея общение со своей тяжеловесной половиной”.
И вот сосед велеречивый (шестая, XII):
Не знаю, предполагал ли когда-либо Пушкин позволить двоюродному брату своему Буянову быть секундантом Ленского (допустил же он, чтобы этот нечистоплотный шут сватался к Татьяне), но в Зарецком несомненно есть что-то от Опасного Соседа и от его интонации в речи, произнесенной в публичном доме: “Ни с места, продолжал сосед велеречивый”.
Для проходящих:
Мармонтель в “Essai sur le bonheur”[70] (1787 г.) говорит о грустном ответе некоего монаха тем, кто восторгался красотой дикой местности в соседстве его кельи: “Oui, cela est beau pour les passans, transeuntibus”.[71] Дмитриев воспользовался этим уже избитым выражением для плохой басни (ч. 3, кн. 2, VII, изд. 1818 г.), Вяземский сделал из него каламбур в плохом же стихотворении “Станция” (альманах “Подснежник”, 4 апреля 1829 г.), а Пушкин, из соображений дружбы, привел выдержку оттуда в примечании к строфе XXXIV, гл. седьмая. Остроумный писатель Tallemant des Réaux (1619–1692 гг.) приводит ту же реплику в своих анекдотах (т. 7, № 108, где “проходящий” — Генрих IV), но эти “Historiettes”[72] вышли (посмертным изданием, под редакцией Monmerqué) только в конце 1833 г., так что Дмитриев и Вяземский никак не могли Таллемана знать, когда сочиняли вышеупомянутые стишки. Говорю это, дабы чем-нибудь пособить несчастным студентам, пользующимся весьма ученым на вид (для проходящих) комментарием Чижевского, где на стр. 278 в объяснении пушкинского примечания 42 не только непонятен смысл фразы, но и самое имя автора “Историек” искажено в трех местах. Тут незачем разбирать по пунктам бесконечное количество курьезов и ошибок в “Комментарии”, но приходится отметить следующее. Все украшает этот странный труд — непроверенные заимствования у других компиляторов, дикие ошибки во французском языке, исковерканные до неузнаваемости имена и заглавия, неправильные даты, нелепые предположения, устаревшие толкования, восторженные упоминания каких-то чешских, польских, а главное, немецких трудов, никакого отношения к пониманию Е. О. не имеющих.
И в зале яркой и богатой, Когда в умолкший, тесный круг, Подобна лилии крылатой, Колеблясь, входит Лалла-Рук…:Так начинается строфа, которая, по-видимому, должна была следовать за XXX в гл. восьмой. Историк скажет, что Пушкину была известна приторная и бесконечно скучная поэма Мура (“Lalla Rookh”, 1817 г.) по серому французскому переводу в прозе Амедея Пишо (“Lalla Roukh ou la Princesse Mogole”,[73] 1820 г.), что Жуковский воспел под этим именем свою ученицу, когда в январе 1821 г. в Берлине Александра и “Алирис” (будущий Николай I) участвовали в фестивалях, описанных в особом альбоме (“Lallah Roukh, divertissement mélé de chants et de dances”,[74] Berlin, 1822); и что, помимо цензурных соображений (Онегин русской государыне предпочитает Татьяну), Пушкина остановил анахронизм (он думает о впечатлениях 1827–1829 гг., а время действия главы восьмой, до строфы XXXIV, не позже начала ноября 1824 г.). Словесник скажет, что эти божественные стихи превосходят по образности и музыке все в “Онегине”, кроме разве некоторых других пропущенных или недописанных строф; что это дыхание, это равновесие, это воздушное колебание медлительной лилии и ее газовых крыл отмечены в смысле стиля тем сочетанием сложности и легкости, к которому только восемьдесят лет спустя приблизился Блок на поприще четырехстопного ямба; что восхитительно соединяются и смысл и смычок посредством красочных аллитераций: “в зале яркой”, “круг”, “лилии крылатой”, и наконец “Лалла Рук” — этим заключительным ударом музыкальной фразы собираются и разрешаются предшествующие созвучия.
Так скажут историк и словесник; но что может сказать бедный переводчик? “Симилар ту э уингед лили, балансинг энтерс Лалла Рух”? Все потеряно, все сорвано, все цветы и сережки лежат в лужах — и я бы никогда не пустился в этот тусклый путь, если бы не был уверен, что внимательному чужеземцу всю солнечную сторону текста можно подробно объяснить в тысяча и одном примечании.
1963 ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
(Впервые: “Русская мысль”. 8 октября 1963. № 2057. С. 5.)
Я с грустью узнал о кончине княгини А. Л. Шаховской. Она была милым и добрым человеком. Увы, я с ней не видался больше четверти века и только раз за это время, когда был в Калифорнии, говорил с ней по телефону, чтобы передать привет от ее дочери, Наталии Алексеевны Набоковой, с которой жену и меня связывает давняя дружба.
Сожалею, что посвященная ее памяти статья в “Русской Мысли” (№ 2048) вынуждает меня просить Вас напечатать следующую поправку. Статья содержит навязанную мне фантазией г-на Березова фразу (будто бы мною сказанную княгине Шаховской): “Но что же делать, тетя, если американских читателей интересуют только такие темы?”
Этого сказать я не мог, не только потому, что “тетей” я княгиню Шаховскую не называл и “Лолиту” с ней не обсуждал, но главное потому, что считаю “Лолиту” лучшей своей книгой. Объяснить ее написание вульгарным расчетом потрафить на некий вульгарный вкус могут только бойкие невежды, не читавшие произведения, о котором судят. Сомневаюсь, чтобы г. Березов сознательно желал присоединиться к их числу.
1956 ПИСЬМА В. Д. НАБОКОВА ИЗ КРЕСТОВ К ЖЕНЕ
1908 г. (предисловие)
(Впервые: “Воздушные пути”. 1965. Вып. IV. С 265–266.)
Владимир Дмитриевич Набоков, ученый юрист, известный политический деятель, член партии Ка-Де, член Первой Государственной Думы, род. 1870 г. в Царском Селе, убит в Берлине, в 1922 г., защищая П. Н. Милюкова от двух черносотенцев, покушавшихся на его жизнь.
В июле 1906 г., в нарушение государственной конституции, указом правительства была распущена Первая Гос. Дума. Набоков был в числе двухсот депутатов, которые собрались в Финляндии и оттуда обратились к населению с призывом выразить свой протест отказом от уплаты налогов, отбывания воинской повинности и т. п. Этот призыв вошел в историю под названием “Выборгского Воззвания”. Все давшие свою подпись депутаты были привлечены к суду и лишены права баллотироваться на выборах во Вторую Гос. Думу. Суд состоялся 12–18 декабря 1907 г. (т. е. через полтора года после выпуска Воззвания). Вместе с другими обвиняемыми Набоков был приговорен к трем месяцам одиночного заключения. В “Письмах” Набоков упоминает фамилии некоторых товарищей по заключению (Петрункевич, Ломшаков, Кедрин и др.)
“Письма” написаны Набоковым в тюрьме и обращены к жене, Елене Ивановне, рожд. Рукавишниковой. Написаны они на туалетной бумаге. Свернутые листки передавались при помощи Августа Исаковича Каминки.
1972 РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ ПРИ ОСВЯЩЕНИИ КЛАДБИЩА В ГЕТТИСБУРГЕ
(Впервые: The Gettysburg Address in Other Languages (in translation) composed by Roy Basler. 1972.)
Восемьдесят семь лет тому назад наши праотцы породили на этом материке новую нацию, зачатую под знаком Свободы и посвященную принципу, что все люди созданы равными.
Ныне мы ведем великую гражданскую войну, подвергающую испытанию вопрос, может ли эта нация или любая другая нация, так зачатая и тому посвященная, долго просуществовать. Мы сошлись на поле одной из великих битв этой войны. Мы пришли освятить часть этого поля, как место последнего упокоения тех, кто отдал жизнь свою, чтобы эта нация могла жить. Такое действие нам вполне подобает и приличествует.
Но, в более обширном смысле, мы не можем посвящать, мы не можем освящать, мы не можем возводить в святыню это место. Мужественные люди, — живые и мертвые, — здесь боровшиеся, уже освятили его, далеко превысив при этом все, что мы с нашими слабыми силами могли бы прибавить или отнять. Мир мало заметит и не запомнит надолго то, что мы здесь говорим, но он никогда не сможет забыть то, что они здесь свершили. Это нам, живым, скорее, следует здесь посвятить себя незаконченному делу, которое сражавшиеся здесь двигали доселе столь доблестно. Это, скорее, нам следует посвятить себя великому труду, который еще остается пред нами; дабы набраться от этих чтимых нами усопших вящей преданности тому делу, которому они принесли последнюю полную меру преданности; дабы нам здесь торжественно постановить, что смерть этих умерших не останется тщетной; что эта нация, с помощью Божьей, обретет новое рождение свободы; и что правление народное, народом и для народа не сгинет с земли.
Авраам Линкольн (перевел Владимир Набоков)
Publ(ic) Libr(ary) of Congress, Washington 1972
1
Набоков не вполне точно вспоминает сцену из третьего действия "Трех сестер", когда пьяный Чебутыкин (напомним, что он действительно военный доктор) берет в руки фарфоровые часы, молча рассматривает их, а потом роняет и разбивает вдребезги. Кулыгин, подбирая осколки, корит его за то, что он разбил "такую дорогую вещь"
(обратно)2
От фр. riviere de diamants — колье из оправленных бриллиантов
(обратно)3
От лат. словосочетания qui pro quo, пpоизнесенного на фpанцузский лад, — недоразумение, путаница
(обратно)4
Имеется в виду Вильгельм II (1859–1941), геpманский импеpатоp с 1888 по 1918 г
(обратно)5
В автографе и машинописи: "с такою улыбкой"
(обратно)6
В автографе и машинописи: "rue Chernowitz"
(обратно)7
В автографе и машинописи: "Ф. А."
(обратно)8
В автографе и машинописи: "не зная"
(обратно)9
В автографе и машинописи: "к такой кошмарной иллюминации"
(обратно)10
В автографе и машинописи: "следов"
(обратно)11
В машинописи после последнего предложения имеются еще два абзаца:
"Неправда, что нет слов утешения! есть! Их только невыразимо трудно ввести в нашу ничтожную речь — но каждый их смутно знает, каждый — какую бы ни исповедовал веру — чует, что это не может кончиться ТАК; что последним словом жизни не может быть молчание смерти; что нелепостью непереносимой даже для нашего самим собою заколдованного разума — было бы полагать, что единственная возможность вечности есть лишь вечное расставание. Нет. Слишком много начато, и обещано, и задумано земной жизнью, слишком богата она многозначительными мгновениями подъема и просвета, слишком пропитана какой-то дикой тоской по неслыханному, неизъяснимому, но, в сущности, естественному разрешению своему…
Не может же быть, что нет больше на свете этой милой души, этой обаятельной души. Я знаком с нею был недолго, но в этом малом времени как бы сгустились долгие годы дружбы"
(обратно)12
Оплаченный отпуск (франц.).
(обратно)13
На закуску (франц.).
(обратно)14
“История Клариссы Гарлоу” (франц.).
(обратно)15
“История кавалера Грандисона” (франц.).
(обратно)16
“”Мельмот Скиталец” Матюрина, переложенный с английского Жаном Коэном” (франц.).
(обратно)17
Проникнутый тщеславием (франц.).
(обратно)18
Проникнутый гордыней (франц.).
(обратно)19
Сумасбродное тщеславие (франц.).
(обратно)20
Великий Байрон (франц.).
(обратно)21
“Сказки” (франц.).
(обратно)22
Рой (франц.).
(обратно)23
“На заре тех времен рой безумных увлечений”… “Рой наслаждений”… “Нежный рой желаний”… “Опасный рой удовольствий” (франц.).
(обратно)24
Тихо струящийся или умиротворенный (франц.).
(обратно)25
Отправиться в поля (франц.).
(обратно)26
Отправиться на природу (франц.).
(обратно)27
Увы, бедный Бродский! (англ.)
(обратно)28
Увы, бедный Йорик! Все помнят… ту главу Стерна, где цитируются эти строки из “Гамлета” (англ., франц.).
(обратно)29
“Рука” (франц.).
(обратно)30
“Картины” (франц.).
(обратно)31
Мы не говорим: сопротивленье Распаляет и укрепляет желания, Отложим миг услад… (франц.) (обратно)32
Так говорит ветреник, И так рассуждает кокетка. А нежная влюбленная девушка предается Предмету, тронувшему ее сердце (франц.). (обратно)33
Нежная влюбленная, нежная Татьяна, нежный Парни… (франц.)
(обратно)34
“Новые нравственные повести” (франц.).
(обратно)35
“Петреида” (франц.).
(обратно)36
“Спящая красавица” (франц.).
(обратно)37
“Альманах песен” (франц.).
(обратно)38
Берегите то, что нежною рукою Отпустила вам природа, Носите ее блистательный убор Всегда, всегда, прекрасная Нина (франц.). (обратно)39
Занятых тем, что раздевают его и вновь одевают… — это картина Альбана (франц.).
(обратно)40
Вот прелестная уборная, где совершается туалет граций (франц.).
(обратно)41
Безумный рой желаний (франц.).
(обратно)42
Заметьте, любезный читатель, как совершенствуется наш век (франц.).
(обратно)43
Зелень, овощи (лат.).
(обратно)44
Капуста (лат.).
(обратно)45
Капустные стебли, кочерыжка (лат.).
(обратно)46
Скрытая вставка (лат.).
(обратно)47
“Максимы и мысли” (франц.).
(обратно)48
Зимовать как сурок (франц.).
(обратно)49
Умирает у ее ног, обнимает ее колени, Орашает слазами ее бесчувственную руку (франц.). (обратно)50
Мягко отстраняла его (франц.).
(обратно)51
Скандальный, двусмысленный (франц.).
(обратно)52
Возлюбленный (франц.).
(обратно)53
Изголовье (франц.).
(обратно)54
“Пиковая дама, донесения в письмах из сумасшедшего дома. Со шведского” (нем.).
(обратно)55
“Менестрель” (англ.).
(обратно)56
Переходя поочередно от игривого тона к патетическому, от описательного — к чувствительному и от нежного к сатирическому, следуя прихотям настроения (франц.).
(обратно)57
Свой брегет (франц.).
(обратно)58
Бронза (польск.).
(обратно)59
Экстракты цветов — фиалка, мак (польск.).
(обратно)60
На фоне ткани (польск.).
(обратно)61
На стекле (польск.).
(обратно)62
“Оружие и дуэль” (франц.).
(обратно)63
Кровоточащий ростбиф (франц.).
(обратно)64
Жатва, траурная жатва, жница — смерть (франц.).
(обратно)65
“Скитающийся жид” (англ.).
(обратно)66
“Агасфер — странник” (англ).
(обратно)67
“Мельмот Скиталец” (франц.).
(обратно)68
“Вечный жид” (франц.).
(обратно)69
“История Вечного жида, написанная им самим” (франц.).
(обратно)70
“Опыт о счастье” (франц.).
(обратно)71
О да, это красиво, для проходящих (франц., лат.).
(обратно)72
“Историйки” (франц.).
(обратно)73
“Лалла-Рук, или Монгольская царевна” (франц.).
(обратно)74
“Лалла-Рук, дивертисмент из песен и танцев” (франц.).
(обратно)



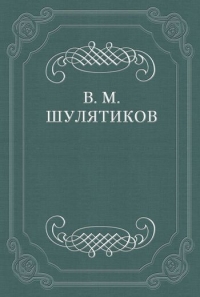
Комментарии к книге «Эссе и рецензии», Владимир Владимирович Набоков
Всего 0 комментариев