О русском крестьянстве
Люди, которых я привык уважать, спрашивают: что я думаю о России?
Мне очень тяжело все, что я думаю о моей стране, точнee говоря, о русском народe, о крестьянстве, большинстве его. Для меня было бы легче не отвечать на вопрос, но — я слишком много пережил и знаю для того, чтоб иметь право на молчание. Однако прошу понять, что я никого не осуждаю, не оправдываю, — я просто рассказываю, в какие формы сложилась масса моих впечатлений. Мнение не есть осуждениe, и если мои мнения окажутся ошибочными, — это меня не огорчит.
В сущности своей всякий народ — стихия анархическая; народ хочет как можно больше есть и возможно меньше работать, хочет иметь все права и не иметь никаких обязанностей. Атмосфера бесправия, в которой издревле привык жить народ, убеждает его в законности бесправия, в зоологической естественности анархизма. Это особенно плотно приложимо к массе русского крестьянства, испытавшего болee грубый и длительный гнет рабства, чем другие народы Европы. Русский крестьянин сотни лет мечтает о каком-то государстве без права влияния на волю личности, на свободу ее действий, — о государстве без власти над человеком. В несбыточной надежде достичь равенства всех при неограниченной свободe каждого народ русский пытался организовать такое государство в форме казачества, Запорожской Сечи.
Еще до сего дня в темной душе русского сектанта не умерло представление о каком-то сказочном «Опоньском царстве», оно существует гдe-то «на краю земли», и в нем люди живут безмятежно, не зная «антихристовой суеты», города, мучительно истязуемого судорогами творчества культуры. В русском крестьянине как бы еще не изжит инстинкт кочевника, он смотрит на труд пахаря как на проклятие Божье и болеет «охотой к перемене мест». У него почти отсутствует — во всяком случае, очень слабо развито — боевое желание укрепиться на избранной точкe и влиять на окружающую среду в своих интересах, если же он решается на это — его ждет тяжелая и бесплодная борьба. Тех, кто пытается внести в жизнь деревни нечто от себя, новое — деревня встречает недоверием, враждой и быстро выжимает или выбрасывает из своей среды. Но чаще случается так, что новаторы, столкнувшись с неодолимым консерватизмом деревни, сами уходят из нее. Идти есть куда — всюду развернулась пустынная плоскость и соблазнительно манит вдаль.
Талантливый русский историк Костомаров говорит: «Оппозиция против государства существовала в народе, но, по причине слишком большого географического пространства, она выражалась бегством, удалением от тягостей, которые налагало государство на народ, а не деятельным противодействием, не борьбой». Со времени, к которому относится сказанное, население русской равнины увеличилось, «географическое пространство» сузилось, но — психология осталась и выражается в курьезном совете-пословице: «От дела — не бегай, а дела — не делай».
Человек Запада еще в раннем детстве, только что встав на задние лапы, видит всюду вокруг себя монументальные результаты труда его предков. От каналов Голландии до туннелей Итальянской Ривьеры и виноградников Везувия, от великой работы Англии и до мощных Силезских фабрик — вся земля Европы тесно покрыта грандиозными воплощениями организованной воли людей, — воли, которая поставила себе гордую цель: подчинить стихийные силы природы разумным интересам человека. Земля — в руках человека, и человек действительно владыка ее. Это впечатление всасывается ребенком Запада и воспитывает в нем сознание ценности человека, уважение к его труду и чувство своей личной значительности как наследника чудес, труда и творчества предков.
Такие мысли, такие чувства и оценки не могут возникнуть в душе русского крестьянина. Безграничная плоскость, на которой тесно сгрудились деревянные, крытые соломой деревни, имеет ядовитое свойство опустошать человека, высасывать его желания. Выйдет крестьянин за пределы деревни, посмотрит в пустоту вокруг него, и через некоторое время чувствует, что эта пустота влилась в душу ему. Нигде вокруг не видно прочных следов труда и творчества. Усадьбы помещиков? Но их мало, и в них живут враги. Города? Но они — далеко и не многим культурно значительнее деревни. Вокруг — бескрайняя равнина, а в центре ее — ничтожный, маленький человечек, брошенный на эту скучную землю для каторжного труда. И человек насыщается чувством безразличия, убивающим способность думать, помнить пережитое, вырабатывать из опыта своего идеи! Историк русской культуры, характеризуя крестьянство, сказал о нем: «Множество суеверий и никаких идей».
Это печальное суждение подтверждается всем русским фольклором.
Спора нет — прекрасно летом «живое злато пышных нив», но осенью пред пахарем снова ободранная голая земля и снова она требует каторжного труда. Потом наступает суровая, шестимесячная зима, земля одета ослепительно белым саваном, сердито и грозно воют вьюги, и человек задыхается от безделья и тоски в тесной, грязной избе. Из всего, что он делает, на земле остается только солома и крытая соломой изба — ее три раза в жизни каждого поколения истребляют пожары.
Технически примитивный труд деревни неимоверно тяжел, крестьянство называет его «страда» от глагола «страдать». Тяжесть труда, в связи с ничтожеством его результатов, углубляет в крестьянине инстинкт собственности, делая его почти не поддающимся влиянию учений, которые объясняют все грехи людей силой именно этого инстинкта.
Труд горожанина разнообразен, прочен и долговечен. Из бесформенных глыб мертвой руды он создает машины и аппараты изумительной сложности, одухотворенные его разумом, живые. Он уже подчинил своим высоким целям силы природы, и они служат ему, как джинны восточных сказок царю Соломону. Он создал вокруг себя атмосферу разума — «вторую природу», он всюду видит свою энергию воплощенной в разнообразии механизмов, вещей, в тысячах книг, картин, и всюду запечатлены величавые муки его духа, его мечты и надежды, любовь и ненависть, его сомнения и верования, его трепетная душа, в которой неугасимо говорит жажда новых форм, идей, деяний и мучительное стремление вскрыть тайны природы, найти смысл бытия.
Будучи порабощен властью государства, он остается внутренне свободен, — именно силой этой свободы духа он разрушает изжитые формы жизни и создает новые. Человек деяния, он создал для себя жизнь мучительно напряженную, порочную, но — прекрасную своей полнотой. Он возбудитель всех социальных болезней, извращений плоти и духа, творец лжи и социального лицемерия, но — это он создал микроскоп самокритики, который позволяет ему со страшной ясностью видеть все свои пороки и преступления, все вольные и невольные ошибки свои, малейшие движения своего всегда и навеки неудовлетворенного духа.
Великий грешник перед ближним и, может быть, еще больший перед самим собою, он — великомученик своих стремлений, которые, искажая, разрушая его, родят все новые и новые муки и радости бытия. Дух его, как проклятый Агасфер, идет в безграничье будущего, куда-то к сердцу космоса или в холодную пустоту вселенной, которую он — может быть — заполнит эманацией своей психофизической энергии, создав — со временем — нечто не доступное представлениям разума сегодня.
Инстинкту важны только утилитарные результаты развития культуры духа, только то, что увеличивает внешнее, материальное благополучие жизни, хотя бы это была явная и унизительная ложь.
Для интеллекта процесс творчества важен сам по себе; интеллект глуп, как солнце, он работает бескорыстно.
Был в России некто Иван Болотников, человек оригинальной судьбы: ребенком он попал в плен к татарам во время одного из их набегов на окраинные города Московского царства, юношей был продан в рабство туркам, — работал на турецких галерах, его выкупили из рабства венецианцы, и, прожив некоторое время в аристократической Республике Дожей, он возвратился в Россию.
Это было в 1606 году; московские бояре только что затравили талантливого царя Бориса Годунова и убили умного смельчака, загадочного юношу, который, приняв имя Дмитрия, сына Ивана Грозного, занял Московский престол и, пытаясь перебороть азиатские нравы московитян, говорил в лицо им:
«Вы считаете себя самым праведным народом в Мире, а вы — развратны, злобны, мало любите ближнего и не расположены делать добро».
Его убили, был выбран в цари хитрый, двоедушный Шуйский, князь Василий, явился второй самозванец, тоже выдававший себя за сына Грозного, и вот в России началась кровавая трагедия политического распада, известная в истории под именем Смуты. Иван Болотников пристал ко второму самозванцу, получил от него право команды небольшим отрядом сторонников самозванца и пошел с ними на Москву, проповедуя холопам и крестьянам:
«Бейте бояр, берите их жен и все достояние их. Бейте торговых и богатых людей, делите между собой их имущество».
Эта соблазнительная программа примитивного коммунизма привлекла к Болотникову десятки тысяч холопов, крестьян и бродяг, они неоднократно били войска царя Василия, вооруженные и организованные лучше их; они осадили Москву и с великим трудом были отброшены от нее войском бояр и торговых людей. В конце концов этот первый мощный бунт крестьян был залит потоками крови, Болотникова взяли в плен, выкололи ему глаза и утопили его.
Имя Болотникова не сохранилось в памяти крестьянства, его жизнь и деятельность не оставила по себе ни песен, ни легенд. И вообще в устном творчестве русского крестьянства нет ни слова о десятилетней эпохе — 1602—1603 гг. — кровавой смуты, о которой историк говорит как о «школе своевольства, безначалия, политического неразумия, двоедушия, обмана, легкомыслия и мелкого эгоизма, не способного оценить общих нужд». Но все это не оставило никаких следов ни в быте, ни в памяти русского крестьянства.
В легендах Италии сохранилась память о фра Дольчино, чехи помнят Яна Жижку, так же как крестьяне Германии Томаса Мюнцера, Флориана Гейера, а французы — героев и мучеников Жакерии и англичане имя Уота Тейлора, — обо всех этих людях в народе остались песни, легенды, рассказы. Русское крестьянство не знает своих героев, вождей, фанатиков любви, справедливости, мести.
Через 50 лет после Болотникова донской казак Степан Разин поднял крестьянство почти всего Поволжья и двинулся с ним на Москву, возбужденный той же идеей политического и экономического равенства. Почти три года его шайки грабили и резали бояр и купцов, он выдерживал правильные сражения с войсками царя Алексея Романова, его бунт грозил поднять всю деревенскую Русь. Его разбили, потом четвертовали. В народной памяти о нем осталось две-три песни, но чисто народное происхождение их сомнительно, смысл же был не понятен крестьянству уже в начале XIX века.
Не менее мощным и широким по размаху был бунт, поднятый при Екатерине Великой уральским казаком Пугачевым, — «эта последняя попытка борьбы казачества с режимом государства», как определил этот бунт историк С. Ф. Платонов. О Пугачеве тоже не осталось ярких воспоминаний в крестьянстве, как и о всех других, менее значительных, политических достижениях русского народа.
О них можно сказать буквально то же, что сказано историком о грозной эпохе Смуты:
«Все эти восстания ничего не изменили, ничего не внесли нового в механизм государства, в строй понятий, в нравы и стремления...»
К этому суждению уместно прибавить вывод одного иностранца, внимательно наблюдавшего русский народ. «У этого народа нет исторической памяти. Он не знает свое прошлое и даже как будто не хочет знать его». Великий князь Сергей Романов рассказал мне, что в 1913 году, когда праздновалось трехсотлетие династии Романовых и царь Николай был в Костроме, — Николай Михайлович — тоже великий князь, талантливый автор целого ряда солидных исторических трудов, — сказал царю, указывая на многотысячную толпу крестьян:
«А ведь они совершенно такие же, какими были в XVII веке, выбирая на царство Михаила, такие же; это — плохо, как ты думаешь?»
Царь промолчал. Говорят, он всегда молчал в ответ на серьезные вопросы. Это — своего рода мудрость, если не является хитростью или — не вызвано страхом.
Жестокость — вот что всю жизнь изумляло и мучило меня. В чем, где корни человеческой жестокости? Я много думал над этим и — ничего не понял, не понимаю.
Давно когда-то я прочитал книгу под зловещим заглавием: «Прогресс как эволюция жестокости».
Автор, искусно подобрав факты, доказывал, что с развитием прогресса люди все более сладострастно мучают друг друга и физически, и духовно. Я читал эту книгу с гневом, не верил ей и скоро забыл ее парадоксы.
Но теперь, после ужасающего безумия европейской войны и кровавых событий революции, — теперь эти едкие парадоксы все чаще вспоминаются мне. Но — я должен заметить, что в русской жестокости эволюции, кажется, нет, формы ее как будто не изменяются.
Летописец начала XVII века рассказывает, что в его время так мучили: «насыпали в рот пороху и зажигали его, а иным набивали порох снизу, женщинам прорезывали груди и, продев в раны веревки, вешали на этих веревках».
В 18-м и 19-м годах то же самое делали на Дону и на Урале: вставив человеку — снизу — динамитный патрон, взрывали его.
Я думаю, что русскому народу исключительно — так же исключительно, как англичанину чувство юмора — свойственно чувство особенной жестокости, хладнокровной и как бы испытывающей пределы человеческого терпения к боли, как бы изучающей цепкость, стойкость жизни.
В русской жестокости чувствуется дьявольская изощренность, в ней есть нечто тонкое, изысканное. Это свойство едва ли можно объяснить словами «психоз», «садизм», словами, которые, в сущности, и вообще ничего не объясняют. Наследие алкоголизма? Не думаю, чтоб русский народ был отравлен ядом алкоголя более других народов Европы, хотя допустимо, что при плохом питании русского крестьянства яд алкоголя действует на психику сильнее в России, чем в других странах, где питание народа обильнее и разнообразнее.
Можно допустить, что на развитие затейливой жестокости влияло чтение житий святых великомучеников, — любимое чтение грамотеев в глухих деревнях.
Если б факты жестокости являлись выражением извращенной психологии единиц — о них можно было не говорить, в этом случае они материал психиатра, а не бытописателя. Но я имею в виду только коллективные забавы муками человека.
В Сибири крестьяне, выкопав ямы, опускали туда — вниз головой — пленных красноармейцев, оставляя ноги их — до колен — на поверхности земли; потом они постепенно засыпали яму землею, следя по судорогам ног, кто из мучимых окажется выносливее, живучее, кто задохнется позднее других.
Забайкальские казаки учили рубке молодежь свою на пленных.
В Тамбовской губернии коммунистов пригвождали железнодорожными костылями в левую руку и в левую ногу к деревьям на высоте метра над землею и наблюдали, как эти — нарочито неправильно распятые люди — мучаются.
Вскрыв пленному живот, вынимали тонкую кишку и, прибив ее гвоздем к дереву или столбу телеграфа, гоняли человека ударами вокруг дерева, глядя, как из раны выматывается кишка. Раздев пленного офицера донага, сдирали с плеч его куски кожи, в форме погон, а на место звездочек вбивали гвозди; сдирали кожу по линиям портупей и лампасов — эта операция называлась «одеть по форме». Она, несомненно, требовала немало времени и большого искусства.
Творилось еще много подобных гадостей, отвращение не позволяет увеличивать количество описаний этих кровавых забав.
Кто более жесток: белые или красные? Вероятно — одинаково, ведь и те, и другие — русские. Впрочем, на вопрос о степенях жестокости весьма определенно отвечает история: наиболее жесток — наиболее активный...
Думаю, что нигде не бьют женщин так безжалостно и страшно, как в русской деревне, и, вероятно, ни в одной стране нет таких вот пословиц-советов:
«Бей жену обухом, припади да понюхай — дышит? — морочит, еще хочет». «Жена дважды мила бывает: когда в дом ведут, да когда в могилу несут». «На бабу да на скотину суда нет». «Чем больше бабу бьешь, тем щи вкуснее».
Сотни таких афоризмов, — в них заключена веками нажитая мудрость народа, — обращаются в деревне, эти советы слышат, на них воспитываются дети.
Детей бьют тоже очень усердно. Желая ознакомиться с характером преступности населения губерний Московского округа, я просмотрел «Отчеты Московской судебной палаты» за десять лет — 1900—1910 гг. — и был подавлен количеством истязаний детей, а также и других форм преступлений против малолетних. Вообще в России очень любят бить, все равно — кого. «Народная мудрость» считает битого человека весьма ценным: «За битого двух небитых дают, да и то не берут».
Есть даже поговорки, которые считают драку необходимым условием полноты жизни. «Эх, жить весело, да — бить некого». Я спрашивал активных участников гражданской войны: не чувствуют ли они некоторой неловкости, убивая друг друга?
Нет, не чувствуют.
«У него — ружье, у меня — ружье, значит — мы равные; ничего, побьем друг друга — земля освободится».
Однажды я получил на этот вопрос ответ крайне оригинальный, мне дал его солдат европейской войны, ныне он командует значительным отрядом Красной армии.
— Внутренняя война — это ничего! А вот междоусобная, против чужих, — трудное дело для души. Я вам, товарищ, прямо скажу: русского бить легче. Народу у нас много, хозяйство у нас плохое; ну, сожгут деревню, — чего она стоит! Она и сама сгорела бы в свой срок. И вообще, это наше внутреннее дело, вроде маневров, для науки, так сказать. А вот когда я в начале той войны попал в Пруссию — Боже, до чего жалко было мне тамошний народ, деревни ихние, города и вообще хозяйство! Какое величественное хозяйство разоряли мы по неизвестной причине. Тошнота!.. Когда меня ранили, так я почти рад был, — до того тяжело смотреть на безобразие жизни. Потом — попал я на Кавказ к Юденичу, там турки и другие черномазые личности. Беднейший народ, добряки, улыбаются, знаете, — неизвестно почему. Его бьют, а он улыбается. Тоже — жалко, ведь и у них, у каждого есть свое занятие, своя привязка к жизни...
Это говорил человек, по-своему гуманный, он хорошо относится к своим солдатам, они, видимо, уважают и даже любят его, и он любит свое военное дело. Я попробовал рассказать ему кое-что о России, о ее значении в мире, — он слушал меня задумчиво, покуривая папиросу, потом глаза у него стали скучные, вздохнув, он сказал:
— Да, конечно, держава была специальная, даже вовсе необыкновенная, ну а теперь, по-моему, окончательно впала в негодяйство!
Мне кажется, что война создала немало людей, подобных ему, и что начальники бесчисленных и бессмысленных банд — люди этой психологии.
Говоря о жестокости, трудно забыть о характере еврейских погромов в России. Тот факт, что погромы евреев разрешались имевшими власть злыми идиотами, — никого и ничего не оправдывает. Разрешая бить и грабить евреев, идиоты не внушали сотням погромщиков: отрезайте еврейкам груди, бейте их детей, вбивайте гвозди в черепа евреев, — все эти кровавые мерзости надо рассматривать как «проявление личной инициативы масс».
Но где же — наконец — тот добродушный, вдумчивый русский крестьянин, неутомимый искатель правды и справедливости, о котором так убедительно и красиво рассказывала миру русская литература XIX века?
В юности моей я усиленно искал такого человека по деревням России и — не нашел его. Я встретил там сурового реалиста и хитреца, который, когда это выгодно ему, прекрасно умеет показать себя простаком. По природе своей он не глуп и сам хорошо знает это. Он создал множество печальных песен, грубых и жестоких сказок, создал тысячи пословиц, в которых воплощен опыт его тяжелой жизни. Он знает, что «мужик не глуп, да — мир дурак» и что «мир силен, как вода, да глуп, как свинья».
Он говорит: «Не бойся чертей, бойся людей». «Бей своих — чужие бояться будут».
О правде он не очень высокого мнения: «Правдой сыт не будешь». «Что в том, что ложь, коли сыто живешь». «Правдивый, как дурак, так же вреден».
Чувствуя себя человеком, способным на всякий труд, он говорит: «Бей русского, — часы сделает». А бить надо потому, что «каждый день есть не лень, а работать неохота».
Таких и подобных афоризмов у него тысячи, он ловко умеет пользоваться ими, с детства он слышит их и с детства убеждается, как много заключено в них резкой правды и печали, как много насмешки над собою и озлобления против людей. Люди — особенно люди города — очень мешают ему жить, он считает их лишними на земле, буквально удобренной потом и кровью его, на земле, которую он мистически любит, непоколебимо верит и чувствует, что с этой землей он крепко спаян плотью своей, что она его кровная собственность, разбойнически отнятая у него. Он задолго раньше лорда Байрона знал, что «пот крестьянина стоит усадьбы помещика». Литература народолюбцев служила целям политической агитации и поэтому идеализировала мужика. Но уже в конце ХIХ столетия отношение литературы к деревне и крестьянину начало решительно изменяться, стало менее жалостливое и более правдивое. Начало новому взгляду на крестьянство положил Антон Чехов рассказами «В овраге» и «Мужики».
В первых годах ХХ столетия являются рассказы лучшего из современных русских художников слова, Ивана Бунина; его «Ночной разговор» и другая, превосходная по красоте языка и суровой правдивости повесть «Деревня» утвердили новое, критическое отношение к русскому крестьянству.
О Бунине в России говорят, что «он, как дворянин, относится к мужику пристрастно и даже враждебно». Разумеется, это неверно — Бунин прекрасный художник и только. Но в русской литературе текущего века есть более резкие и печальные свидетельства о жуткой деревенской темноте — это «Юность», поверьте, написанная талантливым крестьянином Орловской губернии Иваном Волиным, это рассказы московского крестьянина Семена Подъячева, а также рассказы сибирского крестьянина Всеволода Иванова, молодого писателя исключительной яркости и силы.
Этих людей едва ли можно заподозрить в предвзятом и враждебном отношении к среде, родной им по плоти и крови, — к среде, связь с которой ими еще не порвана. Им более, чем кому-либо иному, известна и понятна жизнь крестьянства — горе и грубые радости деревни, слепота разума и жестокость чувства.
В заключение этого невеселого очерка я приведу рассказ одного из участников научной экспедиции, работавшей на Урале в 1921 году. Крестьянин обратился к членам экспедиции с таким вопросом:
— Вы люди ученые, скажите, как мне быть. Зарезал у меня башкир корову, я башкира, к о н е ч н о, убил, а после того сам свел корову у его семьи, так вот: будет мне за корову наказание?
Когда его спросили: а за убийство человека разве он не ждет наказа-
ния, — мужик спокойно ответил:
— Это — ничего, человек теперь дешев.
Характерно здесь слово «конечно», оно свидетельствует, что убийство стало делом простым, обычным. Это – отражение гражданской войны и бандитизма.
А вот это образец того, как — иногда — воспринимаются новые для деревенского разума идеи.
Сельский учитель, сын крестьянина, пишет мне: «Так как знаменитый ученый Дарвин установил научно необходимость беспощадной борьбы за существование и ничего не имеет против уничтожения слабых и бесполезных людей, а в древнее время стариков отвозили в овраги на смерть от голода или, посадив на дерево, стряхивали оттуда, чтобы они расшиблись, — то, протестуя против такой жестокости, я предлагаю уничтожать бесполезных людей мерами более сострадательного характера. Например — окармливать их чем-нибудь вкусным и так далее. Эти меры смягчали бы повсеместную борьбу за существование, то есть приемы ее. Так же следует поступить со слабоумными идиотами, с сумасшедшими и преступниками от природы, а может быть, и с неизлечимо больными, горбатыми, слепыми и проч. Такое законодательство, конечно, не понравится нашей ноющей интеллигенции, но пора уже перестать считаться с ее консервативной и контрреволюционной идеологией. Содержание бесполезных людей обходится народу слишком дорого, и эту статью расхода нужно сократить до нуля».
Много сейчас в России пишется таких и подобных проектов, писем, докладов, — очень они удручают, но и они, невзирая на их уродство, заставляют чувствовать, что мысль деревни пробуждена и хотя работает неумело, однако работает в направлении, совершенно новом для нее: деревня пытается мыслить о государстве в его целом.
Существует мнение, что русский крестьянин как-то особенно глубоко религиозен. Я никогда не чувствовал этого, хотя, кажется, достаточно внимательно наблюдал духовную жизнь народа. Я думаю, что человек безграмотный и не привыкший мыслить не может быть истинным теистом или атеистом и что путь к твердой, глубокой вере лежит через пустыню неверия.
Беседуя с верующими крестьянами, присматриваясь к жизни различных сект, я видел прежде всего органическое, слепое недоверие к поискам мысли, к ее работе, наблюдал умонастроение, которое следует назвать скептицизмом невежества.
В стремлении сектантов обособиться, отойти в сторону от государственной церковной организации мною всегда чувствовалось отрицательное отношение не только к обрядам и — всего меньше — к догматам, а вообще к строю государственной и городской жизни. В этом отрицании я не могу уловить какой-либо оригинальной идеи, признаков творческой мысли, искания новых путей духа. Это просто пассивное и бесплодное отрицание явлений и событий, связей и значений которых мысль, развитая слабо, не может понять.
Мне кажется, что революция вполне определенно доказала ошибочность убеждения в глубокой религиозности крестьянства в России. Я не считаю значительными факты устройства в сельских церквах театров и клубов, хотя это делалось — иногда — не потому, что не было помещения, более удобного для театра, а — с явной целью демонстрировать свободомыслие. Наблюдалось и более грубое кощунственное отношение ко храму, — его можно объяснить враждой к «попам», желанием оскорбить священника, а порою дерзким и наивным любопытством юности: что со мною будет, если я оскорблю вот это, всеми чтимое?
Несравненно значительнее такие факты: разрушение глубоко чтимых народом монастырей — древней Киево-Печерской лавры и сыгравшего огромную историческую и религиозную роль Троице-Сергиевского монастыря — не вызвало в крестьянстве ни протестов, ни волнения, — чего уверенно ждали некоторые политики. Как будто эти центры религиозной жизни вдруг утратили свою магическую силу, привлекавшую верующих со всех концов обширной русской земли. А ведь сотни тысяч пудов хлеба, спрятанного от голодной Москвы и Петербурга, деревня защищала с оружием в руках, не щадя своей жизни.
Когда провинциальные советы вскрывали «нетленные», высоко чтимые народом мощи, — народ отнесся и к этим актам совершенно равнодушно, с молчаливым, тупым любопытством. Вскрытие мощей производилось крайне бестактно и часто в очень грубых формах — с активным участием инородцев, иноверцев, с грубым издевательством над чувствами верующих в святость и чудотворную силу мощей. Но — и это не возбудило протестов со стороны людей, которые еще вчера преклонялись перед гробницами «чудотворцев». Я опросил не один десяток очевидцев и участников разоблачения церковного обмана: что чувствовали они, когда перед глазами вместо нетленного и благоухающего тела являлась грубо сделанная кукла или открывались полуистлевшие кости? Одни говорили, что совершилось чудо: святые тела, зная о поругании, затеянном неверами, покинули гробницы свои и скрылись. Другие утверждали, что обман был устроен монахами лишь тогда, когда им стало известно о намерении властей уничтожить мощи: «Они вынули настоящие нетленные мощи и заменили их чучелами».
Так говорят почти одни только представители старой, безграмотной деревни. Более молодые и грамотные крестьяне признают, конечно, что обман был, и говорят:
— Это хорошо сделано, — одним обманом меньше.
Но затем у них являются такие мысли, — я воспроизвожу их буквально, как они записаны мною.
— Теперь, когда монастырские фокусы открыты, — докторов надо пощупать и разных ученых — их дела открыть народу.
Нужно было долго убеждать моего собеседника, чтобы он объяснил смысл своих слов. Несколько смущаясь, он сказал:
— Конечно, вы не верите в это... А говорят, что теперь можно отравить ветер ядом и — конец всему живущему, и человеку, и скоту. Теперь — все озлобились, жалости ни в ком нет...
Другой крестьянин, член уездного совета, называющий себя коммунистом, еще более углубил эту тревожную мысль.
— Нам никаких чудес не надо. Мы желаем жить при ясном свете, без опасений, без страха. А чудес затеяно — много. Решили провести электрический свет по деревням, говорят: пожаров меньше будет. Это — хорошо, дай Бог! Только как бы ошибок не делали, поверните какой-нибудь винтик не в ту сторону и — вся деревня вспыхнула огнем. Видите, чего опасно? К этому скажу: городской народ — хитер, а деревня дура, обмануть ее легко. А тут — затеяно большое дело. Солдаты сказывали, что на войне и электрическим светом целые полки убивали.
Я постарался рассеять страх Калибана — и услышал от него разумные слова:
— Один все знает, а другой — ничего; в этом и начало всякого горя. Как я могу врать, ежели ничего не знаю?
Жалобы деревни на свою темноту раздаются все чаще, звучат все более тревожно. Сибиряк, энергичный парень, организатор партизанского отряда в тылу Колчака, угрюмо говорит:
— Не готов наш народ для событий. Шатается туда и сюда, слеп разумом. Разбили мы отряд колчаковцев, три пулемета отняли, пушечку, обозишко небольшой, людей перебили с полсотни у них, сами потеряли семьдесят одного, сидим, отдыхаем, вдруг ребята мои спрашивают меня: а что, не у Колчака ли правда-то? Не против ли себя идем?* Да и сам я иной день как баран живу — ничего не понимаю. Распря везде! Мне доктор один в Томске — хороший человек — говорил про вас, что вы еще с девятьсот пятого года японцам служите за большие деньги. А один пленный, колчаковский солдат из матросов, раненый, доказывал нам, что Ленин немцам на руку играет. Документы у него были, и доказано в них, что имел Ленин переписку о деньгах с немецкими генералами. Я велел солдата расстрелять, чтобы он народ не смущал, — а все-таки долго на душе неспокойно было. Ничего толком не знаешь — кому верить? Все против всех. И себе верить боязно.
Немало бесед вел я с крестьянами на разные темы и, в общем, они вызвали у меня тяжелое впечатление: люди много видят, но — до отчаяния мало понимают. В частности, беседы о мощах показали мне, что вскрытый обман церкви усилил подозрительное и недоверчивое отношение деревни к городу. Не к духовенству, не к власти, а именно к городу как сложной организации хитрых людей, которые живут трудом и хлебом деревни, делают множество бесполезных крестьянину вещей, всячески стремятся обмануть его и ловко обманывают.
Работая в комиссии по ликвидации безграмотности, я беседовал однажды с группой подгородних петербургских крестьян на тему об успехах науки и техники.
— Так, — сказал один слушатель, бородатый красавец, — по воздуху галками научились летать, под водой щуками плаваем, а на земле жить не умеем. Сначала-то на земле надо бы твердо устроиться, а на воздух — после. И денег бы не тратить на эти забавки!
Другой сердито добавил:
— Пользы нам от фокусов этих нет, а расход большой и людьми, и деньгами. Мне подковы надо, топор, у меня гвоздей нет, а вы тут на улицах памятники ставите — баловство это!
— Ребятишек одеть не во что, а у вас везде флаги болтаются...
И в заключение, после длительной, жестокой критики городских «забавок», бородатый мужик сказал, вздыхая:
— Если бы революцию мы сами делали, — давно бы на земле тихо стало и порядок был бы...
Иногда отношение к горожанам выражается в такой простой, но радикальной форме:
— Срезать надо с земли всех образованных, тогда нам, дуракам, легко жить будет, а то — замаяли вы нас!
В 1919 году милейший деревенский житель спокойно разул, раздел и вообще обобрал горожанина, выманивая у него на хлеб и картофель все, что нужно и не нужно деревне.
Не хочется говорить о грубо насмешливом, мстительном издевательстве, которым деревня встречала голодных людей города.
Всегда выигрывая на обмане, крестьяне — в большинстве — старались и умели придать обману унизительный характер милостыни, которую они нехотя дают барину, «прожившемуся на революции». Замечено было, что к рабочему относились не то чтобы человечнее, но осторожнее. Вероятно, осторожность эта объясняется анекдотическим советом одного крестьянина другому:
— Ты с ним осторожнее, он, говорят, где-то Совдеп держал.
Интеллигент почти неизбежно подвергался моральному истязанию. Например: установив после долгого спора точные условия обмена, мужик или баба равнодушно говорили человеку, у которого дома дети в цинге:
— Нет, иди с Богом. Раздумали мы, не дадим картофеля...
Когда человек говорил, что слишком долго приходится ждать, он получал в ответ злопамятные слова:
— Мы — бывало, ваших милостей еще больше ждали.
Да, чем другим, а великодушием русский крестьянин не отличается. Про него можно сказать, что он не злопамятен: он не помнит зла, творимого им самим, да, кстати, не помнит и добра, содеянного в его пользу другим.
Один инженер, возмущенный отношением крестьян к группе городских жителей, которые приплелись в деревню под осенним дождем и долго не могли найти места, где бы обсушиться и отдохнуть, — инженер, работавший в этой деревне на торфу, сказал крестьянам речь о заслугах интеллигенции в истории политического освобождения народа. Он получил из уст русоволосого, голубоглазого славянина сухой ответ:
— Читали мы, что действительно ваши довольно пострадали за политику, только ведь это вами же и писано. И вы по своей воле на революцию шли, а не по найму от нас, — значит, мы за горе ваше не отвечаем — за все Бог с вами рассчитается...
Я не привел бы этих слов, если бы не считал их типичными — в различных сочетаниях я лично слышал их десятки раз.
Но необходимо отметить, что унижение хитроумного горожанина перед деревней имело для нее очень серьезное и поучительное значение: деревня хорошо поняла зависимость города от нее, до этого момента она чувствовала только свою зависимость от города.
В России — небывалый, ужасающий голод, он убивает десятки тысяч людей, убьет миллионы. Эта драма возбуждает сострадание даже у людей, относящихся враждебно к России, стране, где, по словам одной американки, «всегда холера или революция». Как относится к этой драме русский, сравнительно пока еще сытый, крестьянин?
— «Не плачут в Рязани о Псковском неурожае», — отвечает он на этот вопрос старинной пословицей.
— «Люди мрут — нам дороги трут», — сказал мне старик новгородец, а его сын, красавец, курсант военной школы, развил мысль отца так:
— Несчастье — большое, и народу вымрет — много. Но — кто вымрет? Слабые, трепанные жизнью; тем, кто жив останется, в пять раз легче будет.
Вот голос подлинного русского крестьянина, которому принадлежит будущее. Человек этого типа рассуждает спокойно и весьма цинично, он чувствует свою силу, свое значение.
— С мужиком — не совладаешь, — говорит он. — Мужик теперь понял: в чьей руке хлеб, в той и власть, и сила.
Это говорит крестьянин, который встретил политику национализации сокращением посевов как раз настолько, чтобы оставить городское население без хлеба и не дать власти ни зерна на вывоз за границу.**
— Мужик как лес: его и жгут, и рубят, а он самосевом растет да растет, — говорил мне крестьянин, приехавший в сентябре из Воронежа в Москву за книгами по вопросам сельского хозяйства. — У нас не заметно, чтоб война убавила народу. А теперь вот, говорят, миллионы вымрут, — конечно, заметно станет. Ты считай хоть по две десятины на покойника — сколько освободится земли? То-то. Тогда мы такую работу покажем — весь свет ахнет. Мужик работать умеет, только дай ему — на чем. Он забастовок не устраивает, — этого земля не позволяет ему!
В общем, сытное и полусытное крестьянство относится к трагедии голода спокойно, как издревле привыкло относиться к стихийным бедствиям. А в будущее крестьянин смотрит все более уверенно, и в тоне, которым он начинает говорить, чувствуется человек, сознающий себя единственным и действительным хозяином русской земли.
Очень любопытную систему областного хозяйства развивал передо мной один рязанец:
— Нам, друг, больших фабрик не надо, от них только бунты и всякий разврат. Мы бы так устроились: сукновальню человек на сто рабочих, кожевню — тоже небольшую, и так все бы маленькие фабрики, да подальше одна от другой, чтобы рабочие-то не скоплялись в одном месте, и так бы, потихоньку, всю губернию обстроить небольшими заводиками, а другая губерния — тоже так. У каждой — все свое, никто ни в чем не нуждается. И рабочему сытно жить, и всем — спокойно. Рабочий — он жадный, ему все подай, что он видит, а мужик — малым доволен...
— Многие ли думают так? — спросил я.
— Думают некоторые, кто поумнее.
— Рабочих-то не любите?
— Зачем? Я только говорю, что беспокойный это народ, когда в большом скоплении он. Разбивать их надо на малые артели, там сотня, тут сотня...
А отношение крестьян к коммунистам — выражено, по моему мнению, всего искреннее и точнее в совете, данном односельчанами моему знакомому крестьянину, талантливому поэту:
— Ты, Иван, смотри, в коммуну не поступай, а то мы у тебя и отца и брата зарежем, да — кроме того — и соседей обоих тоже.
— Соседей-то за что?
— Дух ваш искоренять надо.
Какие же выводы делаю я?
Прежде всего: не следует принимать ненависть к подлости и глупости за недостаток дружеского внимания к человеку, хотя подлость и глупость не существуют вне человека. Я очертил — так, как я ее понимаю, — среду, в которой разыгралась и разыгрывается трагедия русской революции. Это — среда полудиких людей.
Жестокость форм революции я объясняю исключительной жестокостью русского народа.
Когда в «зверствах» обвиняют вождей революции — группу наиболее активной интеллигенции, — я рассматриваю эти обвинения как ложь и клевету, неизбежные в борьбе политических партий, или — у людей честных — как добросовестное заблуждение.
Напомню, что всегда и всюду особенно злые, бесстыдные формы принимает ложь обиженных и побежденных. Из этого отнюдь не следует, что я считаю священной и неоспоримой правду победителей. Нет, я просто хочу сказать то, что хорошо знаю и что — в мягкой форме — можно выразить словами печальной, но истинной правды: какими бы идеями ни руководились люди, — в своей практической деятельности они все еще остаются зверями. И часто — бешеными, причем иногда бешенство объяснимо страхом. Обвинения в эгоистическом своекорыстии, честолюбии и бесчестности я считаю вообще не применимыми ни к одной из групп русской интеллигенции — неосновательность этих обвинений прекрасно знают все те, кто ими оперирует.
Не отрицаю, что политики наиболее грешные люди из всех окаянных грешников земли, но это потому, что характер деятельности неуклонно обязывает их руководствоваться иезуитским принципом «цель оправдывает средство».
Но люди искренно любящие и фанатики идеи нередко сознательно искажают душу свою ради блага других. Это особенно приложимо к большинству русской активной интеллигенции — она всегда подчиняла вопрос качества жизни интересам и потребностям количества первобытных людей.
Тех, кто взял на себя каторжную, геркулесову работу очистки авгиевых конюшен русской жизни, я не могу считать «мучителями народа», — с моей точки зрения, они — скорее жертвы.
Я говорю это, исходя из крепко сложившегося убеждения, что вся русская интеллигенция, мужественно пытавшаяся поднять на ноги тяжелый русский народ, лениво, нерадиво и бесталанно лежавший на своей земле, — вся интеллигенция является жертвой истории прозябания народа, который ухитрился жить изумительно нищенски на земле, сказочно богатой. Русский крестьянин, здравый смысл которого ныне пробужден революцией, мог бы сказать о своей интеллигенции: глупа, как солнце, работает так же бескорыстно.
Он, конечно, не скажет этого, ибо ему еще не ясно решающее значение интеллектуального труда.
Почти весь запас интеллектуальной энергии, накопленной Россией в XIX веке, израсходован революцией, растворился в крестьянской массе. Интеллигент, производитель духовного хлеба, рабочий, творец механизма городской культуры, постепенно и с быстротой, все возрастающей, поглощается крестьянством, и оно жадно впитывает все полезное ему, что создано за эти четыре года бешеной работы.
Теперь можно с уверенностью сказать, что, ценою гибели интеллигенции и рабочего класса, русское крестьянство ожило.
Да, это стоило мужику дорого, и он еще не все заплатил, трагедия не кончена. Но революция, совершенная ничтожной — количественно — группой интеллигенции, во главе нескольких тысяч воспитанных ею рабочих, эта революция стальным плугом взбороздила всю массу народа так глубоко, что крестьянство уже едва ли может возвратиться к старым, в прах и навсегда разбитым формам жизни; как евреи, выведенные Моисеем из рабства Египетского, вымрут полудикие, глупые, тяжелые люди русских сел и деревень — все те почти страшные люди, о которых говорилось выше, и их заменит новое племя — грамотных, разумных, бодрых людей.
На мой взгляд, это будет не очень «милый и симпатичный русский народ», но это будет — наконец — деловой народ, недоверчивый и равнодушный ко всему, что не имеет прямого отношения к его потребностям.
Он не скоро задумается над теорией Эйнштейна и научится понимать значение Шекспира или Леонардо да Винчи, но, вероятно, он даст денег на опыты Штейнаха и, несомненно, очень скоро усвоит значение электрификации, ценность ученого агронома, полезность трактора, необходимость иметь в каждом селе хорошего доктора и пользу шоссе.
У него разовьется хорошая историческая память и, памятуя свое недавнее мучительное прошлое, он — на первой поре строительства новой жизни — станет относиться довольно недоверчиво, если не прямо враждебно, к интеллигенту и рабочему, возбудителям различных беспорядков и мятежей.
И город, неугасимый костер требовательной, все исследующей мысли, источник раздражающих, не всегда понятных явлений и событий, не скоро заслужит справедливую оценку со стороны этого человека, не скоро будет понят им, как мастерская, где непрерывно вырабатываются новые идеи, машины, вещи, назначение которых — облегчить и украсить жизнь народа.
Вот схема моих впечатлений и мыслей о русском народе.


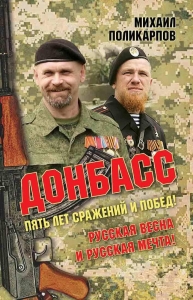
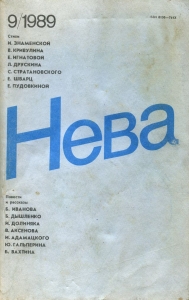
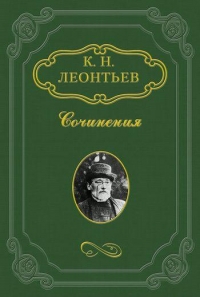
Комментарии к книге «О русском крестьянстве», Максим Горький
Всего 0 комментариев