Вадим Штепа RUТОПИЯ
Чтобы жить в мире, его надо основать
Мирча ЭлиадеПУТЬ В ТРИДЕВЯТОЕ ЦАРСТВО Предисловие
«Это утопия», — многие именно так привыкли оценивать все выходящее за рамки «реализма». Этим господам еще невдомек, что сама реальность уже изменилась.
Всеобщая виртуализация, стремительно разворачивающаяся в первые годы нового века, кардинально размыла сами критерии «реального». Мировоззрение ныне создается и легко трансформируется средствами массовой информации, смыслы жизни черпаются в музыке и кино, в общении вместо имен используются сетевые ники. Это, однако, не означает, что сетевое общество напрочь отменяет «традиционные ценности», — для тех, кто творит свои виртуальные миры, эти ценности порой оказываются куда более реальными, чем «реальность» окружающего мира. Такая вот инверсия…
В книге «ИNВЕРСИЯ» (1998), опираясь на философию Рене Генона, мы развивали идею о том, что «современный мир» («monde moderne»), тотально отменивший метафизическое измерение реальности, в своем циклическом пределе максимально воспроизводит формальные стороны традиционных обществ. Этот этап Генон называл «контр-традицией» и предрекал ему минимальные сроки перед эсхатологической развязкой, «поворотом космического колеса». Однако, как оказалось, это «колесо» развернулось иначе. Условно, на уровне историко-религиозных аналогий, это можно уподобить тому, как в средневековом католическом мире, жившем эсхатологическими ожиданиями, вдруг возник протестантизм, предложивший совершенно иную концепцию истории. «Конец Света» оказался началом новой цивилизации.
Геноновская концепция «кризиса современного мира» также, быть может, неожиданно для самой себя, оказалась пророчеством не о тотальном эсхатологическом финале, а о мире «постсовременном» («postmoderne»). В эти годы рубежа веков мы с коллегами осмысляли это «странное преломление традиции» в рамках проекта «ИNАЧЕ», в разных контекстах — философских, культурологических, политологических и т. д. Теперь, видимо, пришло время суммировать некоторые наши выводы в новой книге.
Контр-традиция и постмодерн — эти, поначалу едва ли не идентичные явления, затем проявляют интересную тенденцию к обособлению и даже противостоянию. Контр-традиция, начинавшаяся как «постмодернистская пародия» на традиционное общество, постепенно вдруг всерьез уверяется в своей «истинной традиционности», и с этих позиций принимается критиковать все «антитрадиционные явления». Постмодерн же, напротив, предельно реализовав свой деконструктивный потенциал, складывается вдруг в призрачный, виртуальный контур некоей небывалой еще прото-реальности.
Контр-традиция становится все более консервативной. Она безусловно владеет постмодернистской методологией, но всячески стремится удержать ее под своей властью, не допустить ее полной реализации, что теперь означало бы возникновение иной реальности, где перестают действовать законы «бесконечного конца истории». В нынешнем глобальном мире эту консервативную тенденцию наиболее ярко воплощают три страны — США, Израиль и Россия. Тогда как радикальный постмодерн (с его потенциалом перерастания в новое «прото-») воплощается в глобальных утопических движениях.
Само слово «утопия» становится словно бы паролем — для тех, кому малы рамки этой консервативной реальности, и «красным светом» — для тех, кто желал бы навсегда сохранить нынешний глобальный статус-кво. Хотя сами эти три страны начинались с творческих, утопических проектов, впоследствии они в той или иной степени профанировали их, превратив в свою противоположность — полицейские антиутопические режимы. Но антиутопии, при всей их кажущейся внешней мощи, никогда не бывают стабильными. Главным содержанием их политики в какой-то момент оказывается «борьба с распадом», которая становится исторической самоцелью и полностью затмевает всякое иное будущее.
Разница между утопией и антиутопией подобна ослепительному взрыву Сверхновой, которая впоследствии превращается в Черную дыру, поглощающую весь окружающий свет. Но этот процесс не предрешен и даже не одномерен. Черные дыры, попадая во взаимное гравитационное поле, аннигилируются и освобождают место для новой реальности. На уровне земной политики это отразилось во Второй мировой войне. Но могут быть и более сложные случаи. Астроном Иоганн Кеплер выдвинул предположение, что Вифлеемской звездой было соединение трех планет. Почему бы вслед за ним не предположить, что три Черные дыры, достигнув пика своего распада, не могут породить Сверхновую?
В этой глобальной Сверхновой цивилизации «русский элемент» будет играть особую роль — по причине его наибольшей пространственной близости к последней terra incognita на этой планете — Северу. Это, конечно, уже не будет «Россией» в современном инерциальном понимании — но воплощенной утопией, «Тридевятым царством». Ее описание, которое мы предпринимаем в этой книге, исходит из глубин древнерусской истории и мифологии, и простирается в постсовременность, оставляя за бортом «реальную», окружающую нас ныне страну. У нее нет будущего именно по причине отсутствия в ней трансцендентного вкуса к историческому творчеству, весь ее нынешний «патриотизм» напрочь исчерпывается внешней агрессивностью и внутренней «борьбой с распадом». Так что либо здесь возникнет Сверхновая цивилизация, либо эта Черная дыра постепенно, но неизбежно будет развеяна космическим ветром…
Первоначально эта книга мыслилась как «научное исследование», однако сам контекст затрагиваемых тем все далее выводил ее за пределы, приемлемые для нынешних академических буквоедов. Интеллектуальная интуиция, которую Генон называл главным методом традиционного постижения мира, всегда требует междисциплинарной широты и полистилистической свободы. Использование многочисленных цитат, создающее впечатление интертекстуальной полифонии, может кое-кому показаться намеренной «компиляцией» вместо «прямого» изложения авторской точки зрения. Однако на языке программистов компиляцией называется не что иное, как «процесс преобразования исходной программы в исполняемую». Так что, если угодно, перед вами — программная разработка, exe.- файл. Но запуск программы еще не означает получения ее результатов. Поэтому никакого чрезмерно подробного описания «общества будущего», чем так увлекались утописты прошлых эпох, вы здесь не найдете. Свою задачу автор видел вовсе не в том, чтобы нарисовать некую «завершенную картину» воплощенной утопии, но — показать забытые или замалчиваемые пути выхода из-под интеллектуального гипноза нынешнего статус-кво. А творческий синтез этих путей — дело самого читателя, по мере его продвижения в наше «Тридевятое царство».
Композиционно в нем повсюду встречаются перекрестные ссылки на главы, где та или другая проблема рассматривается подробнее — или выводится в новый контекст. Эти «тропы» позволяют путешественнику начать странствие с любой главы. А тем, кому покажется, что «тропы» ведут совсем в разные стороны, и автор «противоречит самому себе», напомним, что истина рождается именно в совпадении противоположностей.
Авторское пожелание лишь одно: встретить в своих читателях весьма многомерных личностей, умеющих свободно преодолевать границы между самыми разными темами — историей, мифологией, религией, политикой, экономикой и т. д., и способных увидеть за представленной «мозаикой» общий контур, а не предвзятых догматиков, замкнутых в узких рамках своих «единственно верных» идеологий и стилей. В эпоху постмодерна всякое творчество — это скорее ремейки и ремиксы, чем попытка заново изобрести колесо. Однако, как блистательно продемонстрировала группа «Laibach», эти «ремейки» могут оказаться даже более настоящими, чем забытые «оригиналы».
Утопия естественным образом возникает в виртуальной реальности, где отсутствует само явление фиксированного «топоса». Поэтому те, кто уверяет себя и других, что «больше нет никаких утопий» — глубоко заблуждаются. Как раз сегодня наяву реализуется именно «утопическое общество». И миром правят вовсе не деньги, корпорации, партии или имиджи, а те стоящие за ними утопические проекты, которые меняют этот мир изнутри.
Автор выражает глубокую признательность своим коллегам по Транслаборатории — Сергею Корневу и Сергею Титову, а также историку Роману Багдасарову, пифии сакрального матриархата Полине Журавель, обществу сознания Кости Нетова, автору эпической поэмы «Возвращение» Виктору Шаву, действительному реалисту Диме Лабрадорову, прикладному теологу LXE, инковско-поморскому семейству У.-Т. Нахмансон-Кулиш, музе Северославии Бояне Будинович, Центру славянских гендерных исследований «Святовит», Корпорации «Необитаемое Время» и другим реальным и пока еще виртуальным личностям и организациям, с кем в разное время обсуждались идеи этой книги — а многие из этих идей и родились в таких обсуждениях. Сказочное «Тридевятое царство» всегда возникает внутри нас — но исчезает подобно Китежу — если мы не готовы к его практическому воплощению, к тому, чтобы отдать «полцарства за коня!»
Май 2004,
Карелия
Часть 1. СВЕРХНОВЫЙ СВЕТ
1.1. Почему Америка непобедима?
Первым очарованием и девственным обещанием Америки было то, что это столь не похожее ни на что место. Но историческое становление Америки постепенно наделяло ее властью уравнивать времена и пространства, стирать различия между здесь и там, между сейчас и затем. И, наконец, неповторимость Америки завершилась ее способностью уничтожать неповторимость.
Дэниел Бурстин. Американцы: национальный опытДо 11 сентября 2001 года этот вопрос, кажется, вообще не ставился. В последнее десятилетие ХХ века глобальная исключительность США как «единственной сверхдержавы» и лидера «нового мирового порядка» не вызывала сомнений (вне зависимости от отношения к этому).
Вопросы о причинах и механизмах такого положения дел, конечно, возникали. Были и ответы, сколь угодно глубокие, но останавливавшиеся, как правило, на уровне рационального — политического и экономического анализа. Все альтернативные воззрения, если и попадали на «рынок идей», проходили по ведомству «мистики» или «утопий». Мышление этими категориями до недавнего времени считалось довольно маргинальным. Однако ответить на вынесенный в заглавие вопрос, заинтересовавший после известных событий как «сторонников», так и «противников» Америки, способно только оно.
Неслучайно в «вавилонском падении» башен ВТЦ и символическом «срезании» одного из углов Пентагона самые разные интеллектуалы[1] одинаково усмотрели вдруг не что иное, как «руку Провидения».
* * *
Могущество Америки состоит не в политике или экономике самих по себе, и даже не в военной мощи или массовой культуре — а в том утопическом проекте, который является их основой, мерцающим за ними «бэкграундом».
В буквальном смысле «утопия» — это «отсутствующее» (u-) «место» (topos). Однако такой буквализм «отсутствия» характерен лишь для поздней античности и эпохи модерна. Если эллины были уверены в реальности Гипербореи (хотя и доступности ее только мистериальным, «аполлоническим» путем (→ 3–7)), то римляне поставили на Геркулесовых столбах (Гибралтаре) знак «nec plus ultra» («дальше некуда»). И его силуэт позднее удивительным образом превратился в общеизвестный символ доллара ($). Даже такой знаменитый логик, как Гегель, также словно бы «не замечал» Америку, лишь однажды оговорившись о ней как о «стране будущего». Хотя это «будущее» являлось логическим следствием всей европейской истории.
Наиболее известный академический исследователь утопии Карл фон Мангейм называл утопическим
всякое мышление, стимулируемое не реалиями, а моделями и символами.
Эту мысль можно развить — впоследствии «модели и символы» сами порождают реальность и способы ее восприятия. Классический пример здесь — демократия: хотя Америка весьма отличалась от античной Эллады, где возникло это слово, она, однако, предпочла определить свой строй именно так. Начиная с Алексиса де Токвиля, автора фундаментального труда XIX века «Демократия в Америке», это слово стало плотно ассоциироваться не с античной, а с американской моделью. Именно этот современный, прагматический «ремейк» европейской античности взорвал всю тогдашнюю структуру Старого Света, где к античности относились в лучшем случае как к «славному прошлому».
Всякая утопия начинается с «большого взрыва». Мангейм подчеркивает это, давая самое лаконичное определение утопии — как
трансцендентной по отношению к реальности ориентации, которая, преобразуясь в действие, взрывает существующий порядок.
Рождение США действительно взорвало Старый Свет, вернувшись туда шквалом буржуазных революций. Однако все эти европейские революции не носили того трансцендентного характера, который был присущ американской. Если в Европе лишь менялись режимы и правители, то в Америке начиналось строительство некой принципиально иной цивилизации, которая соединила новейший пафос социального освобождения с воплощением самых фундаментальных принципов европейских мифологических и религиозных традиций. Фернандо Аинса в книге «Реконструкция утопии» так описывает эту миссию:
Все, что стало невозможным в Старом Свете, погрязшем в Железном веке, должно стать возможным в Свете Новом. Америка воплощала в себе потенциальный возврат к Золотому веку, к потерянному раю и к земле обетованной.
Этот «возврат» отразился и в самом названии «USA», очень показательном с точки зрения символической лингвистики, поскольку в нем буква S (или, если угодно, $, тот самый знак «nec plus ultra») связывает последнюю и первую гласные латинского алфавита, означающие конец старого и начало нового цикла.
Слово «утопия» имеет и второй, подразумеваемый смысл — это не просто «отсутствующее», но еще и «блаженное» (eu-) место. Народы ранней античности неслучайно располагали атрибуты рая — сад Гесперид, Елисейские поля, Острова блаженных — на Дальнем Западе, позже генуэзцы, арабы, португальцы и т. д. продолжали искать там Атлантиду. Северные народы также располагали волшебный остров Аваллон и Ultima Thule «за великим океаном». Есть даже весьма достоверные сведения, что Северная Америка была на самом деле «открыта» викингами за 500 лет до Колумба и получила с тех пор в исландском языке имя «Винланд» — «виноградная страна». А в Ирландии популярны легенды о «Плавании святого Брендана», состоявшемся еще в VI веке, в ходе которого «на севере западного океана» он обрел земной рай.
Впрочем, с философской точки зрения этот спор не принципиален. За кем бы в исторической мифологии ни укрепилось «открытие Америки», оно в любом случае знаменовало собой переход европейской истории в новый цикл. Открытие нового пространства стало и открытием нового времени. Аинса замечает:
Абстрактный, фантастический образ Эдема превращается в прекрасную реальность. С открытием Америки будущее внезапно превратилось в настоящее.
Это превращение — как, впрочем, и всякое циклическое явление — может одновременно рассматриваться и как «возникновение нового», и как «повторение старого». В данном случае акцент на той или иной трактовке был связан с конфессиональной принадлежностью переселенцев. Их основная масса, как известно, была либо протестантами (англичане, голландцы), либо католиками (испанцы, португальцы). И если первые действительно «воплощали утопию», то «трансцендентализм» вторых был существенно ограничен желанием воспроизвести в Новом Свете стандарты Старого. В первую очередь религиозные — массовое насильственное обращение индейцев в «истинную веру» испанскими конкистадорами стало одной из самых мрачных страниц мировой истории.
Этнолог и антрополог Клод Леви-Стросс утверждал:
Испанцы стремились не столько выработать новые понятия, сколько проверить истинность древних легенд: пророчеств Ветхого Завета, греко-латинских мифов, таких, как Атлантида и амазонки; на это иудео-латинское наследие наслаивались средневековые легенды — Царство Пресвитера Иоанна и источник вечной молодости — и рожденные в Америке, как Эльдорадо.
Можно заметить, что Эльдорадо (символ земного рая) в этом контексте выглядит скорее как исключение — в латинской перспективе Америка рассматривалась как «Край Земли» («Finis Terrarum»), который следует присоединить к европейской цивилизации и истолковать с ее позиций. Английские же «пионеры», напротив, уходили от Европы все дальше, ведя политику «постоянного продвижения границы»(«frontier thesis») на Дальний Запад, пока, наконец, не встретились с такими же, как и они, вольными русскими освоителями Дальнего Востока. Но Земля, увы, тогда еще не стала круглой… (→ 3–2)
Контраст самосознания Нового и Старого Света ярко и хлестко выразил один из первых государственных секретарей США Джон Куинси Адамс, обращаясь к тем, кто хотел стать американскими гражданами:
Они должны сбросить свои европейские шкуры и больше их не надевать. Они должны смотреть вперед и думать о потомках, а не о предках.
В некотором циничном смысле американский этногенез действительно можно уподобить происхождению человека от обезьяны. Однако у самих американцев на этот счет, по уверению теолога Ричарда Нибура, все же доминировала
религиозная точка зрения на свою национальную судьбу, которая истолковывала появление и существование нашей нации как попытку Бога дать некое новое начало истории человечества.
Оглядывая эту историю нового «земного рая», Рональд Рейган высказался о миссии своей страны с трогательной поэтичностью:
Я всегда считал, что эта благословенная земля была необыкновенным образом отделена от других, что Божий промысел поместил этот великий континент между океанами для того, чтобы его обнаружили люди со всех концов Земли, наделенные особой любовью к вере и свободе.
А Збигнев Бжезинский, не привыкший бросать слов на ветер, еще в 1971 году просто и лаконично назвал США «утопическим островом».
* * *
Однако Фернандо Аинса как пример «воплощенной утопии» приводит преимущественно латиноамериканские страны. И ссылается на бразильского писателя Освальда ди Андради, который утверждает, что в противоположность англо-саксонской доминации в США, в Латинской Америке произошла «транскультурация», и потому «воплощенной утопией» является именно она.
Поэтому здесь кажется уместным привести довольно язвительное суждение известного этнолога Льва Гумилёва, видевшего эту ситуацию несколько иначе:
Браки испанцев с индейцами сразу стали обычным явлением. В результате в Мексике, в Колумбии, в Перу с Боливией, в части Чили образовалось метисное население, которое в XIX в. откололось от Испании, и вместо Новой Испании, какую хотели создать испанцы, завоевывая эти страны, метисы создали Анти-Испанию с испанским языком и с официальной католической религией, хотя большинство этих метисов не верили ни в бога, ни в черта. Они приняли якобинский культ разума и европейский атеизм XVIII в. и занялись главным образом освобождением себя от Испании, для того чтобы хозяйничать в своей стране самим. Экономически они на этом ничего не выиграли, так как флота у них не было, и поэтому они попали в зависимость сначала от английских, потом от американских торговых компаний, но национально они себя освободили и весьма гордо ходили в своих сомбреро и говорили, что к испанцам они никакого отношения не имеют, что они американцы. Тем дело и кончилось.[2]
Конечно, трудно отрицать большее взаимопроникновение этносов в Южной Америке, чем в Северной. Но сама по себе метисация еще не является доказательством транскультурации, начинающейся только с возникновения особого менталитета, свободного от ограничений прежних, исходных культур. В Бразилии же, к примеру, где и поныне сохраняется жесткая религиозная монополия (90 % населения по официальным данным принадлежит к Римско-Католической церкви), индеец или протестант во главе этой страны немыслим. Это же касается и большинства других, испаноязычных стран Южной Америки.
Причину этих ограничений в созидании подлинно новой культуры католическими переселенцами в Америке можно усмотреть в том факте, который сообщает сам же Аинса:
количество чисто утопических сочинений на испанском языке крайне ограничено.
И даже
после публикации в 1516 году творения Томаса Мора испаноязычный утопический жанр отличается крайней скудостью.
Вообще, можно заметить один странный парадокс — Аинса, как и многие его земляки, ругает «хваленую западную модель демократии» — но жить почему-то предпочитает именно при ней (во Франции), а не в «утопическом» мире Латинской Америки…
* * *
На самом деле — именно Северная Америка, точнее — Соединенные Штаты являют собой классический пример «воплощенной утопии». В своей книге «Америка» Жан Бодрийар убедительно доказывает, что самое средоточие современного мира победило именно благодаря утопизму, наделившему американскую жизнь «всеми свойствами вымысла».
Анализируя фундаментальный конфликт американского и европейского сознания, французский философ, надо отдать ему должное, делает это с редкой для жителя Старого Света самокритичностью и самоиронией. На фоне мегатонн восторженных писаний европейских интеллектуалов о своей «великой истории и культуре» (и об отсутствии оных в Америке), выводы Бодрийара звучат шокирующим диссонансом, похлеще иных хвастливых утверждений о себе самих американцев:
Динамизм «новых миров» всегда свидетельствует об их превосходстве над той страной, откуда они вышли: они осуществляют идеал, который остальные лелеют как конечную и (втайне) недостижимую цель… Внезапное появление этого общества на карте сразу упраздняет значение обществ исторических. Усиленно экстраполируя свою сущность за море, последние теряют контроль над собственной эволюцией. Идеальная модель, которую эти общества выделили, упразднила их самих. И никогда больше эволюция не возобновится в форме плавного поступательного движения. Для всех ценностей — до сей поры трансцендентных — момент их реализации, проецирования или ниспровержения в реальное пространство (Америка) — момент необратимый. В любом случае именно это отличает нас от американцев. Мы никогда не догоним их, и мы никогда не будем иметь их простодушной убежденности. Мы можем лишь подражать им, пародировать их с опозданием на пятьдесят лет — впрочем, безуспешно. Нам недостает души и дерзости того, что можно было бы назвать нулевой степенью культуры, силой не-культуры.
Впрочем, с американской «не-культурой» Бодрийар, кажется, перегибает (сказывается снобизм профессора Сорбонны). Да, конечно, большинство американских «пионеров» изящными манерами не блистало, и их поначалу можно было счесть сугубыми материалистами и утилитаристами. Однако впоследствии именно эта первооткрывательская дерзость воплотилась во всех уникальных особенностях американской культуры. Более того, «обратное» культурное влияние Нового Света на Старый оказалось порою теми самыми молодильными яблоками из сада Гесперид, за которыми и посылали Геракла на неведомый Запад. Многие европейцы с детства «открывали» Америку по вольным и невместимым в тесный Старый Свет героям Фенимора Купера и Джека Лондона. Кто не играл в «ковбоев и индейцев», кто не зачитывался Марком Твеном? Особое, пробуждающее влияние на европейскую культуру оказали и романтическая поэзия Торо и Фроста, и философская проза Мелвилла, Фолкнера и Хемингуэя, и радикальные битники, и конечно классический рок-н-ролл. (→ 2–5)
Главное противоречие, которое усматривает Бодрийар между европейским и американским менталитетом, состоит в том, что последний основан на практическом воплощении всего того, что считалось в Европе сугубо «идеальным» и потому «отвлеченным»:
То, что в Европе было критическим и религиозным эзотеризмом… на Новом Континенте превратилось в прагматический экзотеризм.
Отсюда характерная инверсия в способах европейского и американского мышления:
Для них важно не осмысливать реальность, но реализовывать понятие и материализовывать идеи… Они производят реальное, исходя из своих собственных идей, мы трансформируем реальное в идеи или в идеологию. В Америке имеет смысл только то, что происходит или проявляется, для нас — только то, что мыслится или скрывается. Даже материализм в Европе — это только идея, тогда как в Америке материализм воплощается в технической модернизации вещей, в преобразовании образа мышления в образ жизни.
Наблюдательный Бодрийар, хотя и много рассуждает о специфике американской религиозности, почему-то не проводит здесь очевидную параллель с почти аналогичной разницей Ветхого и Нового Заветов. Хотя Христос пришел не нарушить, но исполнить Закон, ветхозаветные фарисеи люто Его возненавидели именно за этот «прагматизм», за «преобразование образа мышления в образ жизни»… (→ 2–3)
Европейское понимание христианства (особенно католическое, но также и протестантское — хотя Америку построили «диссиденты» от самого протестантизма) довольно жестко разделяло «божественное» и «земное», абсолютизировало принцип Богу — Богово, кесарю — кесарево. В Америке же (вот оно, начало воплощения утопии!) священное вдруг было воспринято не как «недостижимый идеал», но как «руководство к действию». Историк Майя Новинская отмечает:
Благоприятные условия этой страны укрепляли веру переселенцев в возможность для них осуществить свои религиозные идеалы, не только в мечтах, но и в реальной действительности построить свой «град на холме». Убежденность в неограниченных возможностях Нового Света, ставшая элементом массового сознания — «американской мечтой», сыграла решающую роль в трансформации протестантизма, принявшего здесь ярко выраженный посюсторонний характер в отличие от европейского прототипа с его созерцательностью и мистическим субъективизмом.
Однако эта «посюсторонность» вовсе не означала какой-то тотальной «атеизации», совсем наоборот:
В сознании американцев земная реальность смыкалась с трансцендентностью, обретала онтологию, а прагматизм и утилитаризм поднимались до высот трансцендентного этического императива.
Автор фундаментального трехтомника о «загадочной американской душе» Дэниел Бурстин также обращает внимание на этот контраст европейской и американской религиозности:
Сектанты в Старой Англии, печально известные своей прямолинейностью, в Новой Англии явили образец гибкости и разнообразия.
И приводит в качестве примера такой «гибкости» характерное признание одного бизнесмена-пуританина:
«Мне не важно, как Вы веруете, но важно, веруете ли Вы вообще, потому что с человеком, не верующим ни во что, я не могу иметь никакого дела».
Такая религиозность, в отличие от европейской, соотносит с человеком все сакральные ценности, и более того, они обретают реальную ценность лишь в случае их реализуемости на человеческом уровне. И это вовсе не какое-то «протестантское отклонение», а, собственно, основа христианства как такового с его мистерией Боговоплощения в человеческом облике и революционным учением: «Не человек для субботы, но суббота для человека». Неслучайно в США теологические институты появляются довольно поздно — только в XIX веке, хотя уже первые поселенцы были весьма религиозными людьми и даже делились именно по принципу деноминаций (пуритане, квакеры, мормоны и т. д.) Эта «отвлеченная», теоретическая теология была скорее неким вторичным заимствованием из Европы. Изначальное американское восприятие религии состояло в том, что она должна быть проявлена в повседневной жизни, а не пребывать в неких схоластических абстракциях. Противопоставляя европейскую «теологическую религию» американской «антропологической культуре», Бодрийар говорит о нацеленности последней на
формирование нравов и образа жизни. Только это и представляет интерес, так же как интересны только улицы Нью-Йорка, а не его музеи.
Последнее замечание довольно саркастично по отношению к европейцам, привыкшим соотносить «культуру» с неким музейным «наследием» и порой противопоставлять ее «современности». А в Америке «культура» и «современность» практически тождественны, что снимает множество искусственных дистанций, свойственных «аристократической» Европе. Кстати, эти пунктуально отмеренные дистанции — между «идеальным» и «материальным», «духовным» и «светским», «прекрасным» и «безобразным», «возвышенным» и «низменным» и т. п. — так и не смогли удержать «просвещенную» Европу от погружения в ХХ веке в небывалое дикарство. Защитникам «высших истин» вообще как-то свойственно «элитарно» плевать на обычную человеческую этику, а в Америке именно она и является главным плодом религиозности.
В Америке обычно мы удивляемся, что люди почти естественно забывают о разнице положений, отношения строятся легко и свободно. Эта легкость может представляться нам пошлой или вульгарной, но она никогда не смешна. Смешно наше неестественное поведение… Наша культура — культура переуплотненности, которая порождает манеры и ненатуральное поведение, их культура — демократическая культура пространства.
Пространство в Америке демократично именно вследствие его освобождения от централистских принципов европейского мышления. Весьма примечательно бодрийаровское сравнение американской и европейской свободы — уж кому об этом лучше знать, как не гражданину «родины либерализма»!
Мы всегда в центре, но это центр Старого Света. Они, некогда представлявшие собой маргинальную трансцендентность этого Старого Света, сегодня оказались новым и экс-центричным центром. Экс-центрично само их рождение. Мы никогда не сможем этого отнять у них. Мы никогда не сможем экс-центрироваться, де-центрироваться так же, как они, мы никогда не будем современны в собственном смысле этого слова и никогда не будем иметь той же свободы — не формальной, которую мы пытаемся утвердить, но той конкретной, гибкой, функциональной, активной свободы, которую мы наблюдаем в американском обществе и в сознании каждого его гражданина. Наша концепция свободы никогда не сможет соперничать с их пространственной и подвижной свободой, которая является следствием их освобождения от исторической привязанности к центру.
С того дня, как по ту сторону Атлантики родилась во всей своей мощи эта эксцентричная современность, Европа начала исчезать.
Нарастающая дистанция между этой «исчезающей» централистской Европой и все более «воплощающейся» эксцентричной Америкой вызывает у философа настоящий «крик души»:
В Америке для меня не существует истины. От американцев я требую только лишь быть американцами. Я не требую от них интеллигентности, здравомыслия, оригинальности, я только хочу, чтобы они населяли пространство, не имеющее ничего общего с моим, только прошу быть для меня недосягаемым заоблачным краем, самым прекрасным орбитальным пространством. Зачем же стремиться за пределы центра во Франции, перемещаясь в локальное этническое пространство, если оно само является лишь малой частью и остатком центральности. Я хочу экс-центрироваться, стать эксцентричным, но только там, где находится центр мира. И в этом смысле последний fast-food и самый банальный suburb, зауряднейшие американские машины-громадины или самые ничтожные персонажи из комиксов — все это оказывается ближе к центру мира, чем любые культурные манифестации старой Европы. Это единственная страна, которая дает право на существование неприкрытой естественности, вы требуете от вещей, лиц, небес и пустынь быть только тем, что они есть, just as it is.
В этом и состоит главный парадокс: то, что возникало как утопия, оказывается вдруг эталоном реальности как она есть, по сравнению с которым все исторические и культурные «наследия» начинают выглядеть искусственными подделками, ветхим антуражем, ненужным балластом:
Америка — это оригинальная версия современности, мы же — версия дублированная или с субтитрами.
Старый Свет, веками считавший себя «точкой отсчета», вдруг с ужасом обнаружил свою вторичность. И потому диагноз, поставленный ему Бодрийаром, беспощаден: «Мы пережили самих себя».
* * *
Томас Мор, сочиняя в начале XVI века свою знаменитую «Утопию», с печалью тогда признавался:
В утопической республике имеется много такого, чего я более желаю нашим государствам, нежели ожидаю.
Однако история выполнила его желания с лихвой. Его произведение оказалось воистину «программным» для американской истории, описав ее всю — с первых времен и до наших дней! Причем порою даже «слишком буквально».
Начиналась эта история как раз в те самые времена, когда открывавшие Новый Свет поселенцы, продвигаясь на Запад, то и дело сталкивались с сопротивлением индейских племен. Сэр Томас подсказал великолепный способ решения этой проблемы:
В случае отказа жить по их законам утопийцы отгоняют туземцев от тех пределов, которые избирают себе сами. В случае сопротивления они вступают в войну. Утопийцы признают вполне справедливой причиной для войны тот случай, когда какой-либо народ, владея попусту и понапрасну такой территорией, которой не пользуется сам, отказывает все же в пользовании и обладании ею другим, которые по закону природы должны питаться от нее.
Впрочем, воевать со всеми сразу индейскими племенами было бы тяжело. Поэтому вскоре был открыт более мудрый метод:
Утопийцы знают, что за большие деньги можно обычно купить самих врагов, которые готовы на измену и даже на то, чтобы вступить в открытый бой друг с другом.
Этот метод постоянно совершенствуется:
Если дело не подвигается путем подкупа, то утопийцы начинают разбрасывать и выращивать семена междоусобий, прельщая брата государя или кого-нибудь из вельмож надеждой на захват верховной власти. Если внутренние раздоры утихнут, то они побуждают и натравляют на врагов их соседей, для чего откапывают какую-нибудь старую и спорную договорную статью, которые у королей всегда имеются в изобилии. Из обещанных собственных средств для войны утопийцы деньги дают весьма щедро, а граждан очень экономно; ими тогда они особенно дорожат и вообще настолько ценят друг друга, что никого из своих граждан не согласились бы променять на вражеского государя.
Жесткая защита своих граждан и их интересов действительно стала уникальной отличительной чертой Америки, тем более когда ее политика перешагнула границы американского континента и стала глобальной. Какие основные приоритеты здесь?
Кроме богатств, хранящихся дома, у них есть еще неизмеримое сокровище за границей, в силу которого, как я сказал раньше, очень многие народы у них в долгу… После окончания войны они налагают расходы не на друзей, на которых потратились, а на побежденных. С этой целью утопийцы требуют от них отчасти денег, которые берегут для подобных же военных случайностей, отчасти же имений немалой ценности, которые удерживают у них за собой навсегда.
Подобные доходы имеют они теперь у многих народов. Возникнув мало-помалу по разным причинам, эти доходы возросли до суммы выше семисот тысяч дукатов ежегодно. Для управления ими утопийцы ежегодно посылают некоторых из своих сограждан с именем квесторов, чтобы они могли жить там великолепно и представлять собою вельмож…
Впрочем, в самой Утопии золото презирают, из него там делают знаменитые ночные горшки. Над Мором порой потешались, указывая на это противоречие — между столь прибыльной внешней политикой и «отсутствием капитализма» внутри самой Утопии. Однако отсутствие золотых денег еще не означает отсутствия капитализма. И Мор совсем не шутил, а предвидел. Сегодня, когда в Америке произошла практически тотальная виртуализация денег, обращение которых осуществляется посредством «невидимых» банковских и кредитных операций, человек, расплачивающийся золотыми слитками, действительно выглядел бы как минимум подозрительно…
Деньги теперь это время. Оно ценится превыше всего, отсюда и популярность, к примеру, фаст-фудов:
Хотя никому не запрещено обедать дома, но никто не делает этого охотно, потому что считается непристойным и глупым тратить труд на приготовление худшей еды, когда во дворце, отстоящем так близко, готова роскошная и обильная.[3]
Насытившись, утопийцы иногда размышляют:
Они разбирают вопрос о добродетели и удовольствии. Но главным и первенствующим является у них спор о том, в чем именно заключается человеческое счастье, есть ли для него один источник или несколько. Однако в этом вопросе с большей охотой, чем справедливостью, они, по-видимому, склоняются к мнению, защищающему удовольствие; в нем они полагают или исключительный, или преимущественный элемент человеческого счастья. И, что более удивительно, они ищут защиту такого щекотливого положения в религии, которая серьезна, сурова и обычно печальна и строга.
Однако в таком тонком вопросе, как религия, необходима политкорректность. Мор это также вполне предвидел:
Религия в Утопии не у всех одинакова, но ее виды, несмотря на свое разнообразие и многочисленность, различными путями как бы сходятся все к одной цели — почитанию божественной природы. Поэтому в храмах не видно и не слышно ничего такого, что не подходило бы ко всем религиям вообще. Священнодействия, присущие всякой секте в отдельности, каждый отправляет в стенах своего дома. Общественные богослужения совершаются таким чином, который ни в чем не противоречит службам отдельных сект. Поэтому в храме не видно никаких изображений богов, отчего каждый волен представлять себе Бога в какой угодно форме, так сказать с точки зрения своей религии. Утопийцы с особым старанием следят за тем, чтобы не высказать какого-либо опрометчивого суждения о какой-нибудь религии… Священниками могут быть и женщины.
Но в любом случае, как уже было замечено, религия связана в Утопии с удовольствиями. Какими именно?
Утопийцы допускают различные виды удовольствий, признаваемых ими за истинные; именно, одни относятся к духу, другие к телу. Духу приписывается понимание и наслаждение, возникающие от созерцания истины. Сюда же присоединяются приятное воспоминание о хорошо прожитой жизни и несомненная надежда на будущее блаженство. Телесные удовольствия разделяются на два вида. Первый — тот, который доставляет чувствам явную приятность. Это бывает при восстановлении того, что исчерпала находящаяся внутри нас теплота, — оно достигается пищей и питьем. Другой случай, когда удаляется то, обилие чего переполняет тело: это бывает, когда мы очищаем внутренности испражнениями, совершаем акт деторождения, успокаиваем зуд какого-либо органа трением или почесыванием.
Да уж, без «трений или почесываний» не обойтись — ведь заняться любовью с женщиной так просто нельзя — сексизм карается:
Женщина вступает в брак не раньше восемнадцати лет, а мужчина — когда ему исполнится на четыре года больше. Если мужчина или женщина будут до супружества уличены в тайном прелюбодеянии, то оба пола подвергаются тяжкому наказанию и им совершенно запрещается вступление в брак, но князь по своей милости может отпустить им вину.
Что ж, поколение «яппи» сегодня действительно выбирает неопуританство. Брак — это в первую очередь выгодный контракт.
Был упомянут некий милостивый «князь». Кому же вообще принадлежит власть в Утопии? Оказывается, ею управляет довольно сложная система выборщиков, составляющих нечто вроде масонской олигархии:
Каждые тридцать семейств избирают себе ежегодно должностное лицо, именуемое на их прежнем языке сифогрантом, а на новом — филархом. Во главе десяти сифогрантов с их семействами стоит человек, называемый по-старинному транибор, а ныне протофиларх. Все сифогранты, числом двести, после клятвы, что они выберут того, кого признают наиболее пригодным, тайным голосованием намечают князя, именно — одного из тех четырех кандидатов, которых им предложил народ. Каждая четвертая часть города избирает одного и рекомендует его сенату.
Чем же, помимо выборов друг друга, занимаются носители этих громких титулов?
Главное и почти исключительное занятие сифогрантов состоит в заботе и наблюдении, чтобы никто не сидел праздно, а чтобы каждый усердно занимался своим ремеслом.
Но все же помимо ремесел, есть и развлечения. В основном ток-шоу на разных каналах:
Они имеют обыкновение устраивать ежедневно в предрассветные часы публичные лекции; участвовать в них обязаны только те, кто специально отобран для занятий науками. Кроме них, как мужчины, так и женщины всякого звания огромной толпой стекаются для слушания подобных лекций, одни — одних, другие — других, сообразно с естественным влечением каждого.
Но есть одна тема, которая объединяет всех — повышенная забота о здоровье. Мишель Фуко явно списал свое «Рождение клиники» у Томаса Мора:
Почти все утопийцы признают здоровье большим удовольствием и, так сказать, основой и базисом всего: оно одно может создать спокойные и желательные условия жизни, а при отсутствии его не остается совершенно никакого места для удовольствия… Эти больницы прекрасно устроены и преисполнены всем нужным для восстановления здоровья; уход в них применяется самый нежный и усердный; наиболее опытные врачи присутствуют там постоянно. Поэтому хотя никого не посылают туда насильно, но нет почти никого в целом городе, кто, страдая каким-либо недугом, не предпочел бы лежать там, а не у себя дома.
Те же, кто считают себя здоровыми, обязаны вести себя правильно. Английский утопист не дожил до видеокамер постоянного наблюдения и биометрических удостоверений, но перспективу общества тотальной прозрачности, сартровской «тюрьмы без стен», превращения утопии в антиутопию угадал точно:
Чужды им всякая возможность бездельничать, всякий предлог для лености. У них нет ни одной винной лавки, ни одной пивной; нет нигде публичного дома, никакого случая для разврата, ни одного притона, ни одного противозаконного сборища; но присутствие на глазах у всех создает необходимость проводить все время или в привычной работе, или в благопристойном отдыхе.
More?
* * *
Утопия, как выясняется, вовсе не тождественна «идиллии». Хотя с точки зрения тех, кто ее воплощает, она выглядит строительством «рая на земле», с позиций других культур она может расцениваться совсем иначе.
Томас Мор создал специфический тип утопии, отразивший многие принципы англосаксонской традиции, что было вполне востребовано во времена, когда началось освоение Америки. Однако возможны и совершенно другие типы утопии, которые несводимы к моровскому. Марксисты очень крупно ошиблись, назвав Мора «социалистическим утопистом», т. е. включив его в свою собственную утопическую доктрину. Быть может, именно поэтому она и не реализовалась в тех странах, где ее пытались воплотить.
Однако ныне эти «другие типы утопии» либо попросту неизвестны, либо заведомо отвержены. Хотя великий провидец Нострадамус буквально предупреждал: «Закон Мора будет побежден иным, более привлекательным…» Воплотив собственную утопию, Америка сумела напрочь «демонизировать» все остальные, представив их в виде неких принципиально нереализуемых и одновременно кровавых химер. Но это очевидное противоречие «борцов с утопиями» почему-то не смущает.
Хотя почему развернута эта борьба, вполне понятно. Ныне сама американская утопия пребывает в глубоком кризисе и естественно опасается «конкурентов». Герои Фенимора Купера и Джека Лондона Америке уже не нужны — более того, даже порой объявляются «неполиткорректными». Там происходит стремительная редукция мировоззрения ко все более мельчающему обывательскому вкусу. Когда кажется, что больше нечего открывать нового (кроме сортов жвачек и прокладок) — возникает самоуверенный и самозамкнутый «византизм». Бодрийар восторгается мощью вымысла утопической Америки, но он замечает и эту
бредовую убежденность, что в ней реализованы все мечты.
Если так — то дальше Америку ждет только сплошная инерция и энтропия, превращение из Нового Света в новый центр все того же Старого.
Новые утопии могут возникнуть из каких-то других культур, которые сумеют «преобразовать в действие» собственные трансцендентные принципы. Но проблема здесь в том, что такие «воплощения» в Старом Свете, с укоренившейся там модернистской дистанцией между «священным» и «мирским», обычно считаются «ересью». Это очень удобно — хранить собственную традицию как некий «исторический музей», привлекательный для досужих туристов. Но именно это ее напрочь умерщвляет…
Америка же, успешно воплотившая свою утопию, — сродни Кащею Бессмертному, который «над златом чахнет». Но те, кто надеются «победить» его в прямом столкновении, не только не вняли Нострадамусу, но и забыли сказочный сюжет про иглу, которая в яйце, которое в утке, которая в зайце… Всякая утопия может быть преодолена лишь утопией альтернативной, превосходящей ее по своему трансцендентному измерению. Но никак не каким-то реактивным и агрессивным «антиутопизмом». Поэтому любые силы, нападающие на американскую утопию извне, неизбежно проиграют. Однако если в ней самой произойдет внутреннее антиутопическое перерождение, это будет означать предательство ею самой себя, и тогда миссия Нового Света перейдет к другим регионам.
Одним из наиболее очевидных знаков этого перерождения стало недавнее (2003) решение законодательного собрания штата Нью-Джерси, которое подавляющим большинством голосов признало Декларацию независимости «направленным против женщин и против чернокожих, чрезмерно восхваляющим Бога документом» и запретило учащимся средних школ читать и цитировать ее! При этом борьба со своей собственной утопией в США вполне логичным образом сочетается с нарастанием авторитарных тенденций в американской политике («Патриотический акт» и т. д.)
Именно это опасение, как представляется, выразили такие безусловные американофилы, как Елена Боннэр и Владимир Буковский в своем открытом письме президенту Бушу, для которого «борьба с международным терроризмом» превратилась в политическую самоцель:
Мы теперь находимся в полном замешательстве, не зная, был ли Джордж Вашингтон террористом или борцом за свободу?
1.2. Антивек ХХ
Многие из нас только сейчас узнали социальную фантастику ХХ века — это зазеркалье утопической мечты, где клубятся зловещие тени, громоздятся искаженные, изломанные контуры утопического идеала.
Виктория Чаликова. Идеологии не нужны идеалистыМы уже упомянули расхожее обвинение в адрес утопии, авторы которого, похоже, вовсе не задумывались о лежащем в его основе коренном противоречии: утопии осуждаются как нечто одновременно «насильственное» и «неосуществимое». Некоторые идеологи при этом даже не замечают, что рубят сук, на котором сидят. «Путь к идеалу всегда ведет через колючую проволоку», — утверждает Карл Поппер. Надо полагать, и путь к его «открытому обществу» тоже?
В действительности эта путаница происходит от смешения утопии и идеологии. Для прояснения этого вопроса следует вникнуть в довольно глубокое, но вполне четкое их различение у Мангейма. Однако прежде, чем его привести и прокомментировать, отметим весьма важный с нашей точки зрения исходный пункт немецкого философа, считавшего именно «утопические пласты» — «главным формирующим принципом конкретного сознания». Именно там «соприкасаются… воля к действию и видение». К сожалению, расшифровке этого «соприкосновения» практических и созерцательных аспектов утопии Мангейм не уделил достаточно места, однако из того сопоставления, которое он предпринял, можно сделать вполне оправданный вывод, что в утопическом сознании эти аспекты сочетаются гораздо более органично, чем в идеологиях, где «созерцательный» догматизм направляет и вместе с тем всегда ограничивает отделенную от него общественную «практику».
Сначала Мангейм определяет специфику идеологий:
Идеологиями мы называем те трансцендентные бытию представления, которые de facto никогда не достигают реализации своего содержания. Хотя отдельные люди часто совершенно искренне руководствуются ими в качестве мотивов своего поведения, в ходе реализации их содержание обычно искажается.
Так, например, в обществе, основанном на крепостничестве, представление о христианской любви к ближнему всегда остается трансцендентным, неосуществимым и в этом смысле «идеологичным», даже если оно совершенно искренне принято в качестве мотива индивидуального поведения. Последовательно строить свою жизнь в духе этой христианской любви к ближнему в обществе, не основанном на том же принципе, невозможно, и отдельный человек — если он не намеревается взорвать эту общественную структуру — неизбежно будет вынужден отказаться от своих благородных мотивов.
Это «отклонение» поведения, основанного на идеологии, от изначальных представлений может принимать различные формы, чему соответствует целая шкала различных типов идеологического сознания. К первому типу следует отнести тот случай, когда представляющий и мыслящий субъект неспособен увидеть несоответствие своих представлений действительности по той причине, что вся аксиоматика его исторически и социально детерминированного мышления делает обнаружение этого несоответствия принципиально невозможным.
Можно отметить, что этот тип идеологического сознания довольно точно характеризует «левые» (в пределе — коммунистические) движения, считающие исторической и социальной «аксиоматикой» свой догматизированный марксизм.
Вторым типом идеологического сознания можно, в отличие от первого, считать сознание лицемерное, характерным свойством которого является то, что исторически оно могло бы обнаружить несоответствие своих идей совершаемым действиям, но скрывает его, руководствуясь витальным инстинктом.
Этот тип вполне четко описывает «правых» (в пределе — фашистов), прикрывающих свой модернистский тоталитаризм внешне «традиционалистскими» лозунгами.
И, наконец, последним типом этой классификации следует считать идеологическое сознание, основанное на сознательном притворстве, т. е. тот случай, когда идеология должна быть интерпретирована как сознательная ложь: в этом случае речь идет не о самообмане, а о сознательном обмане других…
Этот последний тип как нельзя лучше соответствует современному неолиберализму, называющему власть глобальных монополий «демократией», насаждение единых стандартов — «свободой», а бомбардировки несогласных — «гуманитарными акциями».
Это — идеологии. Так в чем же, по Мангейму, их отличие от утопий?
Утопии также трансцендентны бытию, ибо и они ориентируют поведение на элементы, не содержащиеся в данном реальном бытии; однако они не являются идеологиями, т. е. не являются ими в той степени и постольку, поскольку им удается преобразовать существующую историческуюдействительность, приблизив ее к своим представлениям… Совершенно очевидно, что социальные слои, представляющие существующий социальный и духовный порядок, будут считать «действительными» те структурные связи, носителями которых они являются, тогда как оппозиционные слои данного общества будут ориентироваться на те ростки и тенденции нового социального порядка, который является целью их стремлений и становление которого совершается благодаря им. Утопией представители данной стадии бытия называют все те представления, осуществление которых, с их точки зрения, принципиально невозможно… Здесь все дело в нежелании выходить за пределы данного социального порядка. Это нежелание лежит в основе того, что неосуществимое только на данной стадии бытия рассматривается как неосуществимое вообще.
Примерно ту же мысль, только более лаконично, выразил писатель Эмиль Чоран:
Утопии для общества — то же, что предназначение для народа. А идеологии — побочный продукт, как бы простейшее выражение мессианских или утопических чаяний.
* * *
Итак, всякую историческую действительность преобразуют именно утописты, взрывая идеологическую структуру прежнего порядка. Однако когда им удается на ее руинах создать «новый социальный порядок», они с фатальностью проигрывают идеологам, считающим дальнейшее воплощение утопии «невозможным» и «неосуществимым».
Пожалуй, наиболее ярким подтверждением этой метаморфозы является судьба коммунизма в России. Социолог Ральф Дарендорф в книге «Тропы из утопии» указывает на очевидное противоречие:
Известно, сколько Ленин потратил времени и энергии на то, чтобы связать реально возможный исход пролетарской революции с образом коммунистического общества, где нет ни классов, ни конфликтов, ни государства, ни разделения труда. Насколько мы знаем, Ленину ни в теории, ни на практике не удалось выйти за пределы «диктатуры пролетариата», и почему-то это нас не изумляет.
Вообще-то как раз в теории «диктатура пролетариата» у Ленина вовсе не была самоцелью. Более того, ранние («дореволюционные») работы коммунистических «основоположников» являются совершенно утопическими. Быть может, именно поэтому они и обладали такой колоссальной энергетикой и притягательностью, оказавшейся способной впоследствии взорвать прежний социальный порядок едва ли не в половине стран мира.
Этот порядок, сложившийся после эпохи европейских буржуазных революций, несмотря на весь пафос «освобождения», предусматривал довольно жесткую социальную структуру, основанную на узкой профессиональной специализации. Тем самым человек обретал черты существа в первую очередь экономического, а все его религиозные взгляды, творческие интересы и личностные особенности, некогда первостепенные (в эпоху Средневековья и Античности), все более отводились на второй план, тогда как главной становилась его роль одномерного «винтика» в неподвластной ему экономической мегамашине. В работе «Немецкая идеология» 1845 года Маркс противопоставлял этому коммунистическое общество, где
никто не ограничен исключительным кругом деятельности, а каждый может совершенствоваться в любой отрасли, общество… создает для меня возможность делать сегодня одно, а завтра — другое, утром охотиться, после полудня ловить рыбу, вечером заниматься скотоводством, после ужина предаваться критике, — как моей душе угодно, — не делая меня в силу этого охотником, рыбаком, пастухом или критиком.
Это положение раннего марксизма парадоксальным образом напоминает «универсального человека» древних традиций! Любопытно, что это «антиэкономическое» утверждение прозвучало из уст автора, которого, напротив, принято упрекать в сведении истории к сугубо экономическим и «классовым» критериям. Известно даже такое апокрифическое высказывание Маркса, обращенное к тем, кто провозгласил себя его «идеологическими последователями» и повергшее их в шок: «Я не марксист!»
Марксизм, как известно, всегда подчеркивает сугубую «научность» своего мировоззрения, противопоставляя его всевозможному «утопизму». Однако в самой сердцевине марксова учения коренится совершенно утопическая («трансцендентная», по Мангейму) идея о «скачке из царства необходимости в царство свободы», порывающая со всеми основами прежнего социального порядка. Причем этот «скачок» должен быть совершен не с целью замены одного порядка другим, а как выход вообще из прежних представлений об этом порядке. Иными словами, чаемый «новый социальный порядок» принципиально не может быть описан в терминах прежнего. Поэтому у Маркса довольно редки характерные для других утопистов подробные описания этого будущего общества. Он скорее апеллирует к интуиции читателя, и с этой точки зрения марксизм действительно «научен» — но только не в том рациональном понимании «научности», которое утвердилось с «Эпохи Просвещения», а в более фундаментальном и парадоксальном смысле — как и воспринимались науки в традиционных цивилизациях, где «в основе всего лежит интеллектуальная интуиция».[4]
Сакральные науки древних цивилизаций были глубоко осведомлены о циклическом устройстве мироздания.[5] Частным применением этого принципа являлось знание о смене исторических эпох как о конце прежнего и начале нового цикла, между которыми мир словно бы проходит сквозь узкую апокалиптическую воронку, доступную лишь «избранным». Наиболее известной религиозной иллюстрацией этого тезиса является миф о Всемирном Потопе и Ноевом Ковчеге. Марксистскую историософию в этой связи вполне можно счесть светской экспликацией того же самого мифа. Только роль тесного Ковчега в ней играет «диктатура пролетариата», которая, по Марксу
составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов.[6]
«Диктатура пролетариата», таким образом, вовсе не является у Маркса самоцелью. Она лишь кратковременный этап — опасный, рискованный, но необходимый для полного преодоления прежнего социального порядка, для того, чтобы освободить место для рождения нового, бесклассового общества.[7] Как оно будет устроено — Маркс не предсказывает, сосредотачиваясь лишь на том, что именно необходимо преодолеть в этом «переходе», и из этого, по принципу «от противного», можно сделать вывод о том, чего за ним более быть не должно. Так, главной задачей «диктатуры пролетариата» после опыта Парижской коммуны он ставит:
не передать из одних рук в другие бюрократически-военную государственную машину, как бывало до сих пор, а сломать ее. (курсив Маркса)
В российской истории, как мы знаем, все случилось с точностью до наоборот: «диктатура пролетариата» не только не сломала эту машину, но сама превратилась в ее жесточайшую, невиданную доселе в истории модель. Именно этот момент знаменует собой проигрыш утопистов идеологам, которые, не успев взять власть, начинают считать целью ее саму, а не то, ради чего совершалась революция. Причем порою эта грань между утопистами и идеологами пролегает не между разными людьми, а внутри одной и той же личности — «до» и «после» революции. И пример Ленина здесь наиболее показателен.
В своей знаменитой дореволюционной работе «Государство и революция» он выражается с резкостью радикального анархиста:
Пока есть государство, нет свободы. Когда будет свобода, не будет государства.
Мы ставим своей конечной целью уничтожение государства, т. е. всякого организованного и систематического насилия, всякого насилия над людьми вообще.
Ход событий вынуждает революцию концентрировать все силы разрушения против государственной власти, вынуждает поставить задачей не улучшение государственной машины, а разрушение, уничтожение ее.
Однако, описывая тактику достижения этой цели, он впадает в излюбленную марксистами лукавую «диалектическую противоположность»:
Мы вовсе не расходимся с анархистами по вопросу об отмене государства, как цели. Мы утверждаем, что для достижения этой цели необходимо временное использование орудий, средств, приемов государственной власти против эксплуататоров, как для уничтожения классов необходима временная диктатура угнетенного класса.
Но, как известно из истории СССР, это «временное» стало «постоянным». Такая же инверсия постигла и другую ленинскую идею — о том, что после революции государственные функции возьмет на себя
уже большинство населения, а не меньшинство, как бывало всегда и при рабстве, и при крепостничестве, и при наемном рабстве. А раз большинство народа само подавляет своих угнетателей, то «особой силы» для подавления уже не нужно! В этом смысле государство начинает отмирать. Вместо особых учреждений привилегированного меньшинства (привилегированное чиновничество, начальство постоянной армии), само большинство может непосредственно выполнять это, а чем более всенародным становится самое выполнение функций государственной власти, тем меньше становится надобности в этой власти.
Опять же, как известно, исполнение этих функций все-таки досталось именно «привилегированному меньшинству» из новой советской номенклатуры и ее карательных органов. В чем же причина того, что средства вытеснили и в конечном итоге подменили собою цель революции? На этот вопрос лучше всего ответил в 1919 году, придя к власти, сам Ленин:
Мы признаем свободу и равенство только для тех, кто помогает пролетариату победить буржуазию.
Утопический идеал свободного общества равноправных, где уже нет никакого государственно-бюрократического принуждения, был, таким образом, принесен в жертву сугубо идеологическим «аксиомам» из марксистской экономической теории. В этих условиях «диктатура пролетариата» из точки перехода к новому обществу с фатальностью превратилась в основу этого общества, которое потому уже никак нельзя было назвать «новым». Жонглируя авторитетным лейблом «научности», Ленин изрек свое хрестоматийное финальное определение:
Научное понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть.
Наверняка под этими словами подпишутся все диктаторы мировой истории. Но только — причем здесь утопия, которую большевики якобы «воплотили»? Им так и не удалось открыть свой «Новый Свет»… Достаточно вспомнить, что знаменитые «декреты» первых дней советской власти (о мире, о земле, Декларация прав народов России и т. д.) так и не были ими выполнены, не говоря уж о «мировой революции» и «построении коммунистического общества».
* * *
Не(до)воплощенная утопия, однако, не просто превращается в застывшую идеологию нового режима. Развивая мысль Мангейма, можно утверждать, что этот отказ от воплощения декларированной утопии в пределе оборачивается самопроизвольным воплощением антиутопии — общества, которое лишь формально сохраняет какие-то черты утопического идеала, но сущностно является его абсолютной противоположностью, «утопией наизнанку».
Если утопия строится на позитивном стремлении к прямому воплощению своего трансцендентного идеала, то антиутопия возникает в результате описанного Мангеймом идеологического «отклонения», которое, хотя и клянется в верности этим идеалам, но желало бы так и оставить их чисто трансцендентными, «неосуществимыми». Вместо этого антиутопия полностью сосредотачивается на негативе — борьбе со всевозможными «врагами» и «ересями», чем постоянно откладывает «светлое будущее» за недостижимый горизонт, а по сути — предает и обессмысливает его.
Острее других этот контраст ощутили, как им и свойственно, творческие люди, особенно известные русские поэты, вначале восторженно призывавшие «слушать музыку революции», но вскоре оглохшие от ее внезапного перерастания в «бред разведок, ужас чрезвычаек» (Блок, Волошин), покончившие с собой (Есенин, Маяковский) или стертые в лагерную пыль (Клюев, Мандельштам). Прозаики (Замятин, Булгаков) оказались прозорливее, и уже в первые годы советской власти разгадали ее антиутопическую природу.
Этот трагический срыв утопии в антиутопию наиболее пронзительно изобразил Андрей Платонов в романе «Чевенгур». Когда его герои начинают видеть свою главную цель не в создании коммуны, а в ликвидации «буржуазии» и вообще «прочих» (фактически всего населения уезда), это с фатальностью заканчивается самопоеданием и окончательным уничтожением Чевенгура конным отрядом «кадетов и казаков». Разумеется, это вынужденная авторская метафора — откуда могли взяться белогвардейцы после эпохи НЭПа? — скорее всего писатель изобразил таким образом карательный отряд ГПУ, чье появление было вполне логичным, когда сами чевенгурцы превратили свою высокую утопическую мечту в кровавую антиутопическую обыденность.
А начиналось там все действительно как революционный прорыв в волшебный, небывалый доселе мир, где утопия понята со всей непосредственностью, как чистая экзистенция, оставляющая далеко позади все идеологические «правильности»:
— Какой тебе путь, когда мы дошли? Что ты, дорогой гражданин! Это вы тут жили ради бога на рабочей дороге. Теперь, братец ты мой, путей нету — люди доехали.
— Куда? — покорно спросил Алексей Алексеевич.
— Как куда? — в коммунизм жизни. Читал Карла Маркса?
— Нет, товарищ Чепурный.
— А вот надо читать, дорогой товарищ: история уж кончилась, а ты и не заметил.
<…>
— А что? — спросил Копенкин. — У вас здесь обязательно читают Карла Маркса?
Чепурный прекратил беспокойство Копенкина:
— Да это я человека попугал. Я и сам его сроду не читал. Так, слышал кое-что на митингах — вот и агитирую. Да и не нужно читать: это, знаешь, раньше люди читали да писали, а жить — ни черта не жили…
В «Чевенгуре» дано самое яркое и лаконичное определение воплощенной утопии:
— Где у вас исполнительный комитет? — спросил Сербинов у озабоченного Карчука.
— Он был, а теперь нет — все уж исполнил, — объяснил Карчук.
Ясно, что с таким утверждением чиновники этих «комитетов», только вошедшие во вкус власти, согласиться никак не могли. И продолжали «исполнять» — до уничтожения последнего утописта…
* * *
Тексты ранних советских вождей часто поражают каким-то невероятным соседством в них освободительного утопического пафоса и совершенно антиутопических средств его реализации. Как, например, у Николая Бухарина, умудрявшегося сочетать свои оды «самодеятельности масс» с формулами, до которых не додумались даже чекистские палачи:
Принуждение во всех формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи.
Но логика воплощения антиутопии жестока и иронична — и вот уже в 1937 году, перед расстрелом самого Бухарина поэт Перец Маркиш уточняет в «Известиях» его «метод выработки коммунистического человечества»:
На бойни гнать бы вас с веревками на шеях, Чтоб вас орлиный взор с презреньем провожал Того, кто Родину, как сердце, выстрадал в траншеях Того, кто Родиной в сердцах народов стал.Сам автор этого кровожадного напутствия был расстрелян в 1952 году, когда «орлиному взору» понадобился другой «человеческий материал». Так «красное колесо» антиутопии прокатилось по всем, кто его гнал…
Наиболее известным критиком этого антиутопического перерождения коммунизма был Лев Троцкий. В своих книгах, написанных после эмиграции из СССР, он рисовал себя (а кое-кто и поныне его изображает) романтическим идеалистом, чьи мечты о глобальной «перманентной революции» были предательски растоптаны сталинским режимом, взявшим курс на бюрократическое и изоляционистское «строительство социализма в одной стране»:
Бюрократия победила не только левую оппозицию. Она победила большевистскую партию. Она победила программу Ленина, который главную опасность видел в превращении органов государства «из слуг общества в господ над обществом». Она победила всех этих врагов — оппозицию, партию и Ленина — не идеями и доводами, а собственной социальной тяжестью. Свинцовый зад бюрократии перевесил голову революции. Такова разгадка советского Термидора.
С этим трудно не согласиться. Однако бюрократический аппарат нового режима стал первым создавать не Сталин, а сам Троцкий, окруживший себя в бытность председателем Реввоенсовета тысячами «идеологических работников» в черных кожанках. Именно в недрах троцкистского аппарата в 1918 году родилось зловещее для истории ХХ века понятие «концлагерь». Так что обвинения Троцкого в адрес Сталина напоминают скорее зависть постаревшего учителя к превзошедшему его ученику-выскочке. Все дело состояло лишь в том, что в борьбе бюрократических группировок сталинский аппарат оказался эффективнее троцкистского.
Глубже к анализу этой проблемы подошел известный югославский коммунист, а впоследствии диссидент Милован Джилас, обратив внимание на то, что вместо обещанного «бесклассового общества» в коммунистических странах фактически возникает некий «новый класс»:
Некогда инициативная, живая, компактная, партия с неизбежностью превращается для олигархов нового класса в аморфный привычный довесок, все сильнее втягивающий в свои ряды жаждущих пробиться наверх, слиться с новым классом и отторгающий тех, кто по-прежнему верит в идеалы.
Однако вряд ли этот «класс» является таким уж «новым». По существу, в процессе перерастания утопии в антиутопию происходит просто реставрация того же самого, «дореволюционного», консервативно-репрессивного режима — но только, по логике раскручивающейся спирали, более жестокого, чем прежний. Эту циклическую закономерность Достоевский предсказал устами Шигалёва из «Бесов»:
Мое заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу. Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом.
* * *
В 30-е годы в СССР на фоне прекрасной песни «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» происходило нечто прямо противоположное. Делалось все, чтобы максимально отдалить друг от друга «сказку» и «быль». Те, кто еще вспоминали самую что ни на есть марксистскую, коммунистическую мечту об «отмирании государства», рисковали быть немедленно обвиненными в «антисоветской пропаганде»!
Главное преступление Сталина состояло не в установлении им тоталитарного режима (он лишь довел эту тенденцию до апогея), но в том, что он доктринально обосновал его в марксистских терминах, чем создал прочную ассоциацию марксизма с ГУЛАГом. Он выдвинул и сделал официальным для советской пропаганды тезис о «нарастании классовой борьбы в процессе построения социализма». В результате «диктатура пролетариата» из краткой революционной неизбежности превращалась в постоянную необходимость, «бесклассовое общество» уходило куда-то за исторический горизонт, а коммунистическая утопия была окончательно подменена банальной охранительной идеологией.
Тем не менее, и поныне довольно часты неразборчивые попытки списать все преступления советского режима на утопию как таковую.[8] Историк и литературовед Виктория Чаликова превосходно ответила этим «обличителям утопии» в статье «Идеологии не нужны идеалисты»:
Рассуждение тут достаточно простое: если утопия — спутница тоталитаризма, если она активно помогала искоренению духа свободы, она должна была бы поощряться Сталиным. На деле мы наблюдаем прямо противоположную картину. В 20-х годах еще была утопическая фантастика, которая в основном изображала коммунистов, завоевывающих Марс, Луну… К началу 50-х такой фантастики уже не существовало, ее искоренили — хотя, казалось бы, она была вполне «правоверной» и даже пропагандистской… В 30-х годах была разогнана ленинградская секция научной фантастики (не просто разогнана, там были репрессированные и убитые).
Об отношении сталинизма к утопии говорит еще один многозначительный факт (он уже отмечен зарубежными исследователями). В 20-е годы на волне революции образовалось множество утопических коммун, построенных на марксистском принципе. Были коммуны, которые экспериментировали с личной жизнью, были художественные, эстетические, причем их члены почти всегда были правоверными марксистами-ленинцами и ничего не имели против Сталина. Эти люди проповедовали самые что ни на есть социалистические идеи. Так вот, в те же 30-е годы коммуны были разогнаны — все, вплоть до эсперантистов…
Интересно, что еще в начале 20-х годов Ленин видел «моральную победу» нового строя в том, что в западных странах запрещается и преследуется издание советской литературы. Тогда как в самом СССР тогда свободно публиковались и западные авторы, и даже мемуары белых генералов! Но переход этой «моральной победы» в грандиозное «моральное поражение» произошел очень быстро, к концу тех же 20-х годов — когда в СССР установилась жесткая цензура, а на Западе, напротив, коммунистическая пресса вышла из подполья. Но только ее пропаганда убеждала уже очень немногих…
В советской культуре победил убогий и приземленный «соцреализм», построенный на вторичной «идеализации» самой идеологии, и даже не ее исторических целей, а сиюминутной «линии партии». Даже после Второй мировой войны, когда коммунистическая идея получила в мире второе дыхание, в СССР наоборот, принялись бороться с «космополитизмом», чем сами превращали свою страну из мирового лидера в некое глобальное гетто. И это был самый наглядный пример «воплощенной антиутопии».
Лозунг «Вперед, к победе коммунизма!» стал пустым идеологическим штампом, на который уже никто не обращал внимания. Хрущевская фраза «Нынешнее поколение будет жить при коммунизме» воспринималась совершенно иронически — это была пародийная попытка реставрировать утопический пафос первых большевиков, при том, что сам «коммунизм» уже истолковывался не как идеальное общество, а лишь как сугубо материальное изобилие.
Причинами этого нового, сугубо материального истолкования коммунизма в СССР послужили как продолжавшаяся цензурная блокада идей ранних советских утопистов (в большинстве своем репрессированных) и современных марксистских концепций, так и единственное, пожалуй, достижение сталинской эпохи — мощный индустриальный прорыв. Именно на его основе стала возможной технологическая модернизация и освоение космоса, которое неожиданно вернуло советскому коммунизму (хотя и ненадолго) глобальный пафос «первооткрывателей». И в этой связи весьма любопытно развитие этого пафоса в возрожденной фантастической литературе, относительно свободной от официоза «партийных программ», но озвучивавшей то, каким представляли себе советские деятели тех лет отдаленное будущее. Классическим произведением такого рода стал вышедший в 1957 году (году запуска первого спутника) роман Ивана Ефремова «Туманность Андромеды»:
Коммунистическое общество не сразу охватило все народы и страны. Искоренение вражды и особенно лжи, накопившейся от враждебной пропаганды во время идейной борьбы века Расщепления, потребовало развития новых человеческих отношений. Кое-где случались восстания, поднимавшиеся отсталыми приверженцами старого, которые по невежеству пытались найти в воскрешении прошлого легкие выходы из трудностей, стоявших перед человечеством.
Здесь мы фактически наблюдаем продолжение все того же сталинского тезиса о постоянном «нарастании классовой борьбы». Ибо как можно «искоренить вражду» в процессе борьбы с «враждебной пропагандой»? И если коммунистическое общество самое свободное — то почему в нем «случаются восстания»? По-видимому, ложь здесь надо было искоренять в чем-то другом…
Жесткий механический рационализм такого «светлого будущего» напоминает скорее голливудские антиутопии о власти машин, чем человеческое общество. Коммунистические люди у Ефремова питаются искусственными продуктами, «борются с природой», одержали «победу над слепым материнским инстинктом» (!), и только постоянный труд у них является «высшим счастьем». Так понятое марксистское «царство свободы» уже ничем отличается от нацистского концлагеря с лозунгом «Arbeit macht frei».
Описанные в этом романе «новые человеческие отношения» действительно порой вызывают странные ассоциации именно с Третьим Рейхом. Это и удивительная для коммуниста Ефремова симпатия к «чистым расовым типам», и апология «истребления вредоносных форм жизни»…
В сущности, все это неслучайно. Вторая мировая война была столкновением антиутопий, а они мало чем различаются между собой. Тирания всегда одна и та же, и те, кто ее пропагандирует и внедряет, затем сами оказываются ее жертвами. В этом есть своя историческая справедливость. Проблема, однако, в том, что этот опыт многим внушает крайний скептицизм по отношению вообще к любому историческому творчеству. Об этом точно сказал публицист Валерий Ронкин:
Реализовать утопию не удалось. К сожалению, вместе с разочарованием в возможности абсолютной победы добра мы поставили под сомнение и само понятие добра.
* * *
Радикальным антиподом коммунистической утопии в ХХ веке была утопия фашистская. В отличие от коммунизма она черпала свое вдохновение не в «светлом будущем», но в «славном прошлом». Но не в каком-то реальном историческом режиме, а в идеальном «Золотом веке», описанном во множестве мифологий. Именно в этом, священном Золотом веке Гесиод видел исток человеческой истории, которая в дальнейшем лишь отдаляется от него и деградирует. В этом отношении «фашистской» можно назвать, пожалуй, всю античную культуру и философию.
В ситуации начала ХХ века в Европе такой вариант «трансцендентного по отношению к реальности» мировоззрения мог воплотиться лишь в тех или иных оккультных формах. Расцвет оккультизма тех лет был закономерным «восполнением» духовной нищеты европейского христианства — наиболее пассионарная «паства» которого уже давно покинула Старый Свет и воплощала свою утопию за океаном, а оставшиеся вели арьергардные бои с наступающими и все более популярными революционными движениями, проигрывая им в социальной риторике. Преодолеть эту безнадежную секулярную инерцию могла только столь же активная, но обратная, консервативная революция в сфере духа, сделавшая бы вновь актуальными самые глубокие вопросы человеческого бытия и способная стать альтернативой сугубо социально-экономическому мышлению. Этой альтернативой и стала германская ариософия, представлявшая собой уникальный синтез нордической мифологии, тибетской мистики, средневекового и каббалистического эзотеризма. Такое парадоксальное мировоззрение в ХХ веке настолько противоречило расхожим представлениям о «прогрессе», что его неожиданный политический успех был определен известными критиками как «несколько лет Абсолютно Иного».[9]
Однако этот успех уже сам по себе был амбивалентным — утопия и антиутопия в нем сочетались практически нераздельно. Наряду с утопической тенденцией к духовному самообретению, к новому воплощению своего «Золотого века», там присутствовало антиутопическое, жестко-агрессивное его противопоставление всему окружающему миру. И в конечном итоге, как и в коммунистическом проекте, «борьба с врагами» стала важнее построения собственной цивилизации, а догматичные идеологи вытеснили творческих утопистов. Ведущие ариософы, такие как Ланц фон Либенфельс, были вынуждены эмигрировать, многие интеллектуалы, испытавшие поначалу магнетическое притяжение этой «консервативной революции» (Мартин Хайдеггер, Освальд Шпенглер и др.), увидев, во что она превращается, ушли во «внутреннюю эмиграцию». И это еще, что называется, в лучшем случае…
Сделав своим официальным кумиром Ницше с его учением о «сверхчеловеке», нацисты, похоже, поняли его совершенно обратным образом, чем сам автор. У Ницше «сверхчеловек» — это воплощение активных сил, не обусловленных никаким внешним принуждением, никакими посторонними обстоятельствами, это «воля к власти» (далеко не политической!) как неукротимое свободное творчество, а не рабская жажда «сильной руки». Противоположностью активных сил в ницшеанской метафизике являются силы реактивные, чей движущий принцип — исключительно реакция на некий внешний раздражитель. Эта реакция может быть самой разнообразной — от отчаянной борьбы до безоговорочной капитуляции, — зависимая, пассивная суть действия от этого не меняется. Поскольку весь смысл действия задается извне.
Утопия по своей природе не может быть реактивной. Она, конечно, содержит в себе отрицание «существующего порядка» — но главным в ней всегда является позитивная ему альтернатива, активное утверждение своего трансцендентного идеала. Нацисты же в эти «отвлеченные» сферы особо не вникали и видели свою миссию исключительно в реактивном противодействии «врагам» — евреям, большевикам и т. д., теряя тем самым тот собственный смысл, ради которого эта борьба и ведется. И хотя сам Гитлер любил намекать на трансцендентные измерения (его знаменитая фраза: «тот, кто видит в национал-социализме только политическое движение, не понимает в нем ничего»), Юлиус Эвола обратил внимание на врожденную неполноценность нацистского утопизма, в книге с довольно рискованным после Второй мировой войны названием «Фашизм: взгляд справа»:
В своих книгах и выступлениях Гитлер часто обращался к Богу и Провидению, избранником и исполнителем воли которого он себя считал, однако, непонятно, что это было за Провидение, если он, следуя в этом скорее Дарвину, нежели Ницше, полагал высшим законом жизни право сильнейшего и считал предрассудком всякое сверхъестественное вмешательство или порядок, превознося современную науку и «вечные законы природы». То же самое можно сказать о главном идеологе движения, Альфреде Розенберге, по мнению которого современная наука являлась «творением чисто арийского духа», причем его не смущало то, что мы обязаны ей не только техническими завоеваниями, но в той же мере необратимым духовным кризисом современной эпохи, десакрализацией вселенной.
Позитивным аспектом деятельности национал-социалистических и близких им по духу кругов могло стать изучение сакрального происхождения и возвращения к истокам. Однако и в этом вопросе, решить который пытались отдельные апостолы германизма, из-за своей ограниченности они не смогли достигнуть должной глубины. В рамках партии ограничились эксгумацией древних обычаев, имевших лишь фольклорный характер, откопали древние германские символы руны, приспособив их для наименования некоторых организаций (тех же СС). Но в области символов (тесно связанной с традиционным мировоззрением) это непонимание трансцендентных измерений создавало непреодолимое препятствие, поскольку оперативный, «магический» аспект рун совершенно игнорировался. Кроме того, в том, что касается правильного понимания и использования изначальных символов, крайне сомнительно, что национал-социалисты, начиная с самого Гитлера, по-настоящему осознавали значение присвоенного ими символа свастики. По словам Гитлера, она символизировала «миссию борьбы за победу арийского человека, за триумф идеи созидательного труда (sic), который всегда был и будет антисемитским». Поистине примитивное и «профаническое» толкование! С точки зрения арийского происхождения, совершенно непонятно, какое отношение к свастике имеют темы «созидательного труда» (!) или еврейства? Кроме того, этот символ фигурировал не только в арийской культуре.
Со времени прихода национал-социалистов к власти Эвола прочитал в Германии цикл лекций об арийских традициях, однако с 1938 года службы СС признали его деятельность «неудовлетворительной» и потребовали покинуть страну. Ирония состоит в том, что его обвинили в «фашизме» — это слово было в нацистской Германии таким же ругательным, как и у послевоенных «антифашистов»! А фашистский по самоназванию режим Муссолини, проводивший пародийную реставрацию Римской империи, честил Эволу именно «утопистом».
В истории раннего итальянского фашизма (кстати, еще не получившего тогда этого названия), в 1919-21 годах существовал лишь один пример воплощенной утопии — Регентство Фиуме, руководимое «безумным поэтом» Габриэле Д’Аннунцио. Это, как пишет Илья Кормильцев,[10] было «одно из самых странных государств, существовавших в ХХ веке». Д’Аннунцио так приветствовал своих соратников:
Итальянцы Фиуме! В этом недобром и безумном мире наш город сегодня — единственный островок свободы. Этот чудесный остров плывет в океане и сияет немеркнущим светом, в то время как все континенты Земли погружены во тьму торгашества и конкуренции. Мы — это горстка просвещенных людей, мистических творцов, которые призваны посеять в мире семена новой силы, что прорастет всходами отчаянных дерзаний и яростных озарений.
Итальянский флот, базировавшийся в Фиуме, перешел на сторону этой утопической республики, на флаге которой сияло созвездие Большой Медведицы. Конституция Фиуме была написана Д’Аннунцио в стихах, где для всех граждан провозглашалось обязательное музыкальное образование. (→ 2–5) Также был введен государственный культ муз с сооружением соответствующих храмов. На улицах Фиуме творился непрерывный сюрреалистический карнавал, бесплатно раздавался кокаин, в республику стягивались самые экстравагантные творческие личности. Но были и вполне классические персонажи — так, министром культуры Фиуме стал знаменитый композитор и дирижер Артуро Тосканини. Министр иностранных дел, анархист (!) Леон Кохницкий обратился с предложением о сотрудничестве к Советской России, которая тогда еще пользовалась в Европе славой великой воплощенной утопии. Но из Москвы, где освободительная утопия уже стремительно выродилась в репрессивную антиутопию, никакого вразумительного ответа получено не было. И вскоре, оказавшись в тотальной изоляции, эта утопическая республика пала.
В самой же Италии, где Муссолини в своей «Доктрине фашизма» проповедовал поклонение идолу «священного государства», победило серое чиновничество. А после государственного конкордата с Ватиканом многие поэты и философы (тот же Д’Аннунцио, Эвола, Регини и др.) также, как и в Германии, оказались во «внутренней эмиграции»…
* * *
В отличие от коммунизма с его мессианской ролью пролетариата как «самого прогрессивного класса», национал-социалистическая утопия носила расовый характер, стремясь воссоздать «высшую расу арийцев». Однако в антиутопию ее превратила не только агрессивная реактивность, подменившая путь к собственным истокам уничтожением «враждебных рас», но и профанация самого понимания расы, низведенной до сугубо биологических параметров. Эволу с его доводами о том, что раса начинается не с биологии, а с сакрального архетипа, слушать не пожелали, а когда в ходу только «низшие», чисто материальные критерии, отличить «высшую расу» возможно настолько же, как нарисовать объемную фигуру в плоской системе координат.
Это плоское понимание расы нацисты во многом заимствовали из дарвинизма, симпатии к которому странным образом объединяют их с коммунистами, считающими это учение «прогрессивным». Так что во вскармливании и нацистской, и других расистских антиутопий немалая доля «заслуг» принадлежит тем, кто решил «основной вопрос философии» в пользу материализма. Другим источником нацистского расизма, и особенно их радикального антисемитизма, послужил, как ни парадоксально, сам сионизм. Если в традиционном иудаизме принцип «избранного народа» имеет сакральные обоснования, и евреем считается лишь тот, кто исповедует иудаизм, то в сионизме эта «избранность» деградировала от вероисповедания до чисто биологических критериев, «принципа крови». (→ 2–2) Именно этот принцип и отразился в реактивном нацистском зеркале, когда свою «высшую расу» они отмеряли «от противного» — от отсутствия в «истинных арийцах» еврейской крови. А позитивные аспекты — к примеру, знают ли хоть что-нибудь эти «арийцы» о традиции древних ариев — уже мало кого интересовали…
Неудивительно, что с такой, сугубо материалистической идеологией «воссоздание расы сверхчеловека» превратилось в Третьем Рейхе в свою смысловую противоположность — аналог животноводческих ферм. Речь идет об известной программе СС «Лебенсборн», нацеленной на искусственное размножение «расово чистых» особей путем принудительного скрещивания «арийских» самцов и самок. Ирония в том, что сама по себе эта программа имела в буквальном смысле «недочеловеческий» характер, поскольку напрочь отсекала присущую «сверхчеловеку» свободу выбора своей любви.
Впрочем, в создании этого «антропарка» можно было бы увидеть и вполне позитивные, утопические черты — если бы эта программа развивалась как добровольный эксперимент внутри некой общины, считающей себя «истинными арийцами». Однако, как оказалось, даже во всей Германии тех лет достаточного «генетического материала» не хватало… И потому во время Второй мировой войны по личному распоряжению Гиммлера в Германию ввозились тысячи «расово приемлемых» женщин и детей из оккупированных стран, особенно из Польши, Чехословакии и Югославии. Так нацистский догмат о «славянской неполноценности» на практике опровергался самими же его идеологами. А с ним — поскольку насильно мил не будешь — и вся антиутопия «арийской расы».
* * *
Вообще, в этих искусственных нацистских биоконструкциях не было бы никакой нужды, если бы немецкая молодежь начала ХХ века сохранила свою свободу. Это могло иметь не менее глобальные, но куда более позитивные последствия. Поскольку именно в этой стране в то время созревал очень популярный утопический проект, который современный историк Константин Орехов остроумно называет «хиппиюгендом»:
Имя «Wandervogel» («Перелетные птицы») было заимствовано у кочующих школяров Средневековья. Оно должно было символизировать «свободный дух» молодости, независимость его носителей от старшего поколения городских буржуа, механической рутины их жизни… Радикальный нонконформизм европейских бунтарей 60-х годов ХХ века полностью соответствовал духу их «протофашистских» предшественников. Молодежь «Перелетных птиц» презирала всех идолов кайзеровской Германии, монументальный архитектурный стиль вильгельмовской эпохи, опереточный культ всего германского. Вместо этого Wandervogel придерживались революционного консерватизма — единственно приемлемого в том обществе, где традиционный консерватизм уже невозможен, так как выливается в мучительную «патриотическую» или эрзац-религиозную профанацию.
«Истинные» Wandervogel были далеки от государства и политики (видя в ней лишь фальшь и лицемерие как «слева», так и «справа»), они проводили регулярные слеты, фестивали, дискуссии, основывали собственные поселения, «коммуны», «сквоты»… (→ 3–8) Длительный (2–3 месяца и более) поход вдали от внимания родителей и учителей в спартанских условиях по местам Германии, слабо затронутым индустриальной цивилизацией, был одной из основных форм коллективного времяпровождения «хиппиюгенда». Походы сопровождались полным уходом в собственный мир (в тонах «стиля фэнтези», как сказали бы сейчас), а также изучением национальных традиций, воссозданием фольклорных песен (например старинных баллад ландскнехтов), традиционных игр и костюмов… «Походы» виделись участникам Wandervogel как форма протеста против тогдашнего буржуазного, индустриального и милитаризованного общества — не бесплодная «революционная» борьба с «Системой» на ее собственном игровом поле, но Исход «нового народа», «детский крестовый поход» (в «Перелетные птицы» брали с 12 лет) в духе притягательного для «хиппиюгенда» Средневековья и милленаристских чаяний радикальных мистических сект германской Реформации XVI в. или Гуситских войн.
Вызов старшему поколению буржуа, равно как и всему духу своего времени должен был читаться и во внешнем облике участника Wandervogel. Предпринимались попытки воссоздать средневековый костюм школяров-скитальцев, давших движению имя, — как протест против вычурной и «упаднической» городской моды обеспеченных мещан, подавлявшей индивидуальность внешним лоском. На «фенечках», которые носили участники движения, были руны и свастика.
Исток субкультуры нудизма многие исследователи также относят к Wandervogel. Открытость свету Солнца, радость единения с иррациональными силами природы, культ красоты молодости, вырвавшейся на свободу из индустриальной тюрьмы города — в ореоле романтической перспективы нового рождения здоровой нации — лежали в основе этой утопии.
Наиболее четко «зеленая» программа Wandervogel была изложена в эссе философа Людвига Клагеса «Человек и Мир», написанном специально для легендарного съезда и фестиваля «Перелетных птиц» в Мейсснере (1913 г.) и ставшем одним из наиболее значительных и радикальных экопацифистских манифестов в «реакционном», как сказали бы левые, духе. Одним из лозунгов слета стал такой: «В германском доме пожар, и пожарная бригада — это мы», который неплохо уживался с лозунгами за эмансипацию женщин и другим «левачеством».
Весь «хиппиюгенд» зачитывался произведениями своих современников Редьярда Киплинга и Джека Лондона, где романтика дальних странствий и благородство диких племен — детей природы переплетается с гордым осознанием почетного «бремени белых», и всю мощь своей расы «ариец» может почувствовать только на диких просторах, вдали от буржуазной мещанской Европы, ее городов, фабрик, чиновников, законов и добропорядочных недочеловеков.
Развитие этой утопии было прервано Первой мировой войной, с полей которой многие «птицы» вернулись уже «хищниками»:
Наследники «хиппиюгенда», прекратившего активное существование после Первой мировой войны, расстались со многими иллюзиями юности своих идеалистических предшественников-мечтателей. Теперь они выступали единым фронтом, где-то даже фактически совпадали с т. н. объединениями «новой молодежи», прошедшими «стальные грозы» войны, отличавшимися духом беззакония, авантюризмом и ярым национализмом, чувствовавшими себя в «Версальской», Веймарской Германии не у дел. На их фоне разрозненные осколки «хиппиюгенда», пытавшиеся возродить наивно-свежий дух «истинных» довоенных Wandervogel, выглядели безнадежным романтическим анахронизмом… После прихода национал-социалистов к власти все молодежные движения были поглощены централизованными партийными организациями. «Хиппиюгенд» превратился в Гитлерюгенд.
Эта эволюция немецкой молодежи начала ХХ века живо напоминает не только аналогичную у советской при Сталине, но и совсем недавнюю в «демократической России» конца ХХ века, когда романтическое «поколение перестройки» прошло сквозь мясорубку чеченских войн. Причины перерождения утопии в антиутопию всегда одинаковы и проявляются даже на кратких исторических этапах.
* * *
В контексте немецких утопических проектов ХХ века нельзя не упомянуть также очень значимую и своеобразную фигуру философа и писателя Эрнста Юнгера. Он был весьма далек от ариософской мистики и даже, кажется, вообще от официального национализма Третьего Рейха, хотя его тексты 30-х годов, особенно «Труженик»,[11] произвели колоссальное влияние на интеллектуалов того времени, и не только. Юнгер развил оригинальную и специфически немецкую альтернативу социальному учению марксизма, в которой фигура «труженика» наделяется чертами субъекта тотальной технократии, строящего не «светлое будущее», а «великое настоящее». «Немецкость» здесь проявлена как в жестком практическом тоне этого текста, так и в самом понятийном аппарате. Вместо «глобального» термина «буржуа» Юнгер использует его прямой немецкий аналог «бюргер», чем неожиданно вскрывает французские языковые и смысловые корни марксизма. Поэтому для иноязычного читателя эта книга вызывает известные затруднения — особенно это касается ключевого для Юнгера термина «гештальт», буквальный перевод которого на русский был бы равнозначен попытке ввести в западную философию понятие «sobornost’».
Тем не менее, даже в самой Германии, несмотря на всю национальную специфику философии Юнгера, она не была реализована, «труженик» так и не победил «бюргера». Во многом это объяснялось «бюргерским» характером самого нацистского режима, на который Юнгер, как и многие его коллеги, возлагал излишние надежды. Более того, от партийной бюрократии он так же, как и Эвола, удостоился ярлыка «фашист». Порой создается впечатление, что Рейхом управляли самые принципиальные «антифашисты»…
Однако именно этому «фашисту» в послевоенном (1949) романе «Гелиополь» удалось не только превосходно описать ретроспективу нацистской утопии, но и предсказать перспективу вырождения утопического режима по ту сторону фронта — в СССР и даже «новой России»:
Сначала появлялись теоретики и утописты — каждый в своей рабочей келье, — жившие в строгости, в согласии с разумом и логикой, большей частью праведники, посвятившие себя угнетенным, их счастью и их будущему. Они несли в массы свет. Потом приходили практики, победители гражданских войн и титаны новых времен, любимцы Авроры. Их деятельность оказывалась кульминацией и провалом утопии. Становилось очевидным, что утопия — идеальный стимул. И становилось ясно, что мир можно изменить, но не его основы, на которых он зиждется. За ними следовали деспоты в чистом виде. Они ковали для масс новое чудовищное ярмо. Техника оказывала им при этом поддержку такого рода, которая превосходила даже самые смелые мечты древних тиранов. Старые способы возвращались назад под новыми именами — пытки, крепостничество, рабство. Разочарование и отчаяние множились, росло глубочайшее отвращение ко всем фразам и уловкам политиков. Все доходило до такой точки, когда дух обращался назад, к культам, начинали расцветать секты, а умы и таланты, замкнувшись в маленьких элитарных кружках, посвящали себя служению прекрасному искусству, поддержанию традиций и эпикурейству. И тогда огромные народные массы отворачивались от них. Вот тут-то и всплывали калибаны (Калибан — герой драмы Шекспира «Буря». — ред.), которых массы тотчас же признавали олицетворением и идолами той животной чувственности, что стала их уделом. Они любили своих идолов, их напыщенность, высокомерие и ненасытность. Искусство, прежде всего кино и большая опера, подготовило почву для их расцвета. Под конец уже не оставалось больше ни пошлости, ни бесстыдства, ни ужасов, не вызвавших бы бурю восторгов. Если предпоследняя команда предавалась роскоши, порокам, буйствам еще внутри своих резиденций и на закрытых загородных виллах, то последняя вынесла все это на рыночные площади и общественные гуляния, напоказ народу, для услады их глаз. В этом они открыли для себя источник популярности.
* * *
В 1937 году в Москве вышел сборник пропагандистских инструкций «О коварных методах и приемах иностранной разведки», где фигурировало на первый взгляд абсурднейшее определение — «троцкистско-фашистские разведчики». В Берлине тех лет также выпускались соответствующие инструкции, причем «образ врага» зачастую рисовался совершенно аналогичным! Так два противоположных антиутопических режима демонстрировали свою фатальную реактивность и взаимозависимость, изображая в качестве враждебной «активной силы» некий фантастический, трансцендентный синтез так и не реализованных ими утопий…
Но сегодня ХХ век — век символических крестов на обеих антиутопиях — наконец-то окончен. По существу, главным содержанием этого века и стало их столкновение и взаимоуничтожение — и хотя советский коммунизм просуществовал еще несколько десятилетий, это была уже только инерция, где о своем утопическом идеале вспоминали разве что иронически. Единственным победителем на исходе этого века фактически оказался неолиберализм.
Отличием неолиберализма от либерализма классического является отсутствие в нем собственной утопической парадигмы. Если для либералов такие понятия, как «свобода», «демократия», «гуманизм», несут в себе смысл трансцендентных идеалов, то для неолиберализма это чисто функциональные категории поддержания статус-кво существующего мирового порядка. По существу, несмотря на приставку «нео-», неолиберализм является воплощением глобального консерватизма, репрессивно реагирующего на любой «утопизм». Он не нуждается ни в каком историческом творчестве именно потому, что ему в своем контексте удалось реализовать элементы обеих противостоявших друг другу в ХХ веке утопий, тем самым напрочь их нейтрализовав. Так, коммунистическая формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям» довольно точно описывает именно неолиберальное общество — с поправкой лишь на то, что сами эти способности и потребности перестают быть чем-то «стихийным», а становятся вполне рассчитанной маркетинговой задачей. То же можно сказать и о нацистской утопии «высшей расы», которая трансформирована в концепцию «золотого миллиарда» и его непрерывной «борьбы с терроризмом». В сумме получается «идеальное» потребительское общество, охраняемое всевидящим оком полицейского государства и не нуждающееся более в продолжении истории…
Однако утопию, как показал Мангейм, удастся «отменить» только с отменой самого «человеческого факта»:
Полное исчезновение утопии привело бы к изменению всей природы человека и всего развития человечества. Исчезновение утопии создаст статичную вещность, в которой человек и сам превратится в вещь. Тогда возникнет величайший парадокс, который будет заключаться в том, что человек, обладающий самым рациональным господством над средой, станет человеком, движимым инстинктом; что человек, после столь длительного, полного жертв и героических моментов развития, достигший наконец той высшей ступени сознания, когда история перестает быть слепой судьбой, когда он сам творит ее, вместе с исчезновением всех возможных форм утопии, утратит волю создавать историю и способность понимать ее.
1.3. Великий Пост-
Подлинное столкновение цивилизаций — не схватка между Западом и кем-то из остальных. Это будет схватка между Западом и «Пост-Западом», сложившимся в рамках западной цивилизации. Столкновение уже началось — в мозгу западной цивилизации, среди американских интеллектуалов.
Джеймс КурцНедавняя календарная смена веков ознаменовалась довольно резким контрастом в самом восприятии времени. Если к концу ХХ века «номера лет» нарастали вплоть до трех девяток подряд — что порождало характерное культурно-психологическое состояние «конца века» (декадентский «fin de siecle»), все более модными становились финалистские, апокалиптические настроения, само время словно бы заканчивалось, притягиваясь своей полуночью, — то на рубеже веков случилось долгожданное «обнуление», и история вновь «началась сначала». Сегодня уже вошел в привычку простой, односложный счет лет — год третий, пятый, седьмой…
Во многих странах и культурах, в том числе в России, этот «миллениум» по христианскому летоисчислению вообще был единственным и беспрецедентным — 1000-го года «от Рождества Христова» здесь вообще никто не отмечал, поскольку тогда в ходу было ветхозаветное летоисчисление «от сотворения мира». Оно насчитывало множество тысячелетий, смена которых также сопровождалась апокалиптическими настроениями, однако христианство с введением своего календаря ввело и особое, незнакомое прежде понятие современности. Ранние христиане называли себя moderni, отличая таким образом свою «новую», вполне утопическую общность от людей окружавшего их «ветхого» мира — antiqui. (→ 2–6) С тех самых пор во всех западноевропейских языках само слово «современность» звучит как «modern», обозначая не просто соответствие своему времени, но некую общую, качественную характеристику эпохи.
Однако, став официальной религией и адаптировав римское право, западное христианство лишилось своего утопизма и постепенно придало «эпохе модерна» самый что ни на есть консервативный, антиутопический, репрессивный характер, полнее всего выразившийся в инквизиции. Но парадокс состоял в том, что даже диссиденты и просветители Нового времени, избавляясь от церковной тирании, продолжали числить себя «модернистами». Тем самым термин «модерн» приобрел свою многозначность, дополненную позднее и «модернистскими» стилями искусства. Поэтому вошедший в активный обиход в конце ХХ века термин «постмодерн» вызывал естественные затруднения — относительно чего этот «пост-» провозглашался? Шла ли речь о постхристианской эпохе вообще, или только о конце Нового времени, или об исчерпании модернизма в искусстве?
Последнее можно было бы оставить исключительно на усмотрение искусствоведов, если бы не то известное обстоятельство, что у многих носителей других, незападноевропейских языков, и в частности у русских, слово «постмодерн» получило почти однозначную ассоциацию с разного рода скандальными и экстравагантными «художествами». В этом сказывается именно языковое различие: поскольку модерн здесь был не религиозно-исторической, а сугубо эстетической категорией, обозначавшей модернистское искусство, то и постмодерн воспринимается в основном не как эпоха после модерна, а тоже как некий «стиль». Хотя как раз никакого «постмодернистского стиля» не существует, постмодерн — это сплошная полистилистика. Вообще, имеет смысл разделять постмодерн как историческую ситуацию (или «состояние», по Жану-Франсуа Лиотару) и постмодернизм — интеллектуальные и художественные практики, которые эта ситуация предполагает, но к которым всецело не сводится. То же касается модерна и модернизма. Модернистские стили искусства могли быть сколь угодно критичными и «деструктивными» по отношению к эпохе модерна, но от этого они не переставали быть ее частью.
Итак, можно ли вывести некую «общую формулу» модерна, относительно которой и был заявлен этот «пост-»? На первый взгляд, это кажется желанием объять необъятное — ведь в таком случае одним и тем же термином пришлось бы объединять непримиримых идеологических противников, таких, как, к примеру папские инквизиторы и деятели Великой французской революции. Однако ключ здесь скрывается в самом этом слове — идеология. Именно идеологическое мышление, с такими его характерными атрибутами, как недостижимость трансцендентного идеала, тотальная иерархия, всеобщая классификация, рационализм и линейный прогресс, стало основным содержанием модерна как эпохи. При этом различные идеологии могут сколь угодно противоречить друг другу — их модернистская сущность от этого не меняется. Более того, сам модерн и существует за счет этого напряжения между различными идеологическими антиподами, погружая тем самым всю реальность в контекст их борьбы и не оставляя никакого места для оригинальных, независимых проектов — так по сути и возникло само слово «утопия»…
Канадский культуролог Марк Анжено делает из этого интересный вывод — «утопией» в таком случае становится весь реальный мир вообще, поскольку
в рамках идеологии одна форма извращенного сознания всегда дополняется другой формой, противоположной и дополняющей, и также отчужденной. В обоих случаях как встревоженный пессимист, так и наивный простак не делают главного: они даже не пытаются увидеть мир таким, какой он есть на самом деле, а не черным или белым.
Классическим примером этого «черно-белого» мышления эпохи модерна стало начавшееся в революционном французском конвенте (и продолжающееся поныне) деление политиков на «левых» и «правых». Именно оно заставило всех позиционироваться по этой условной шкале и выражать «левые» или «правые» идеи вместо своих собственных. Гильотина с тех пор успешно работала и налево и направо, и этот дуализм дошел до апофеоза во Второй мировой войне. Сегодня же, когда всевозможные «новые левые» и «новые правые» идеологи сочиняют свои «концепции постмодерна», они производят впечатление заговорившего музейного экспоната — эти господа никак не желают замечать, что по самому своему названию они принадлежат еще эпохе модерна. Как, впрочем, принадлежит этой эпохе и идеология либерального «центризма». Немецкий философ Петер Козловски видит разницу между ними лишь в степени исторического «форсажа»:
Модерн, как эпоха, нравится нам это или нет, включает не только либеральный «проект модерна и прогресса», но и тотальную мобилизацию фашизма, национал-социализма и ленинизма. Модерн — это век форсирования истории и все ускоряющегося прогресса, и эти признаки признаны всеми идеологиями, порожденными модерном. Идеологии тотальной мобилизации по своей мифологии и риторике являются даже более модернистскими, более экстремистскими, чем модерн буржуазный, так что они могут быть противопоставлены ему как модернизм, как преувеличение модерна.
Если ранние христиане ввели понятие «модерн» для обозначения собственной утопии, то их официальные последователи перетолковали его в «ветхозаветном» духе — превратив христианскую утопию в новую имперскую идеологию.[12] А поскольку всякая идеология не просто предусматривает, а с неизбежностью требует существования «антипода», со временем в рамках того же модерна, с теми же его тотально-классификационными атрибутами, возникла атеистическая идеология «Просвещения». И эта борьба между религией и атеизмом стала главным «мировоззренческим фронтом» модерна. Модерн противопоставил человека и Бога, однако любой «выбор» здесь оказывался заведомо ущербным, ибо в первом случае требовался отказ от всякого трансцендентного мировоззрения, а во втором обессмысливалось само человеческое существование, непонятно зачем этим трансцендентным Богом созданное.
Однако восточное, православное христианство было гораздо свободнее от этой дуалистической схоластики западных церквей. Эта модернистская грань между Богом и человеком, стертая на Западе только постмодерном, в православии изначально преодолевалась мистической практикой обожения. В этом смысле на Руси никакого «развития» модерна в постмодерн и не требовалось, вообще «модерн» как специфический тип мышления здесь утвердился только с Петровских времен. Любопытна полемика между «модернизатором» Николаем Карамзиным и «консерватором» Александром Шишковым как раз по поводу термина «развитие», который был впервые введен в русский язык именно Карамзиным. Шишков остроумно заметил, что это слово воспринимается русскими через ассоциацию: взяли веревку и расщепляют, «развивают» ее по ниточке. Карамзин возражал, что он имел в виду совсем не это — но что именно, слов в русском языке у него не находилось. Отсюда ясно, что оба были сторонниками одной и той же модернистской тотальности, только перетягивая эту «веревку» каждый на себя. И понятно, что для обоих именно «нитевидная», сетевая структура староверческих согласов, развивавшаяся как раз в то самое время, выглядела чем-то абсурдным и непостижимым. (→ 2–3) Слова «постмодерн» еще не существовало…
* * *
В 1927 году во Франции вышла книга еще мало кому известного автора Рене Генона «Кризис современного мира» (буквальное название — «La Crise du Monde Moderne»), которую вполне можно назвать манифестом мировоззрения эпохи постмодерна. И хотя само слово «постмодерн» в ней не употреблялось, авторская дистанция по отношению к эпохе модерна выглядела очевидной. Генон четко сформулировал все основные характеристики этой эпохи — тотальный рационализм, линейный прогрессизм и массовый материализм, напрочь исключающие всякое представление о трансцендентном — вплоть до того, что никакой сущностной разницы между атеизмом и религией не остается, поскольку последняя превращается в простой «обычай». Однако
уважение к обычаю как таковому по сути своей является ничем иным, как уважением к человеческой глупости, так как именно она и выражается в этом поклонении «мнению окружающих».[13]
«Миру модерна» Генон противопоставил свою виртуозную утопию «мира традиции», который он никогда не соотносил ни с каким конкретным историческим обществом, существовавшим «до модерна». Традиция у него имеет чисто трансцендентный характер и постигается в процессе «интеллектуальной интуиции», а виртуозность этой концепции состояла в том, что ему удалось интертекстуально и непротиворечиво синтезировать в ней самые фундаментальные символы и положения множества религий, мифологий и оккультных учений, создав тем самым магнетический образ «интегральной традиции», существующей как некий «отсутствующий центр». Недаром он, как и многие выдающиеся фантасты, был профессиональным математиком. При этом он довольно язвительно отзывался о «традиционалистах», пытавшихся буквально реставрировать те или иные древности — они, по его словам, «не имеют ни малейшего представления об истинном духе традиции». В чем состоит этот «истинный дух», Генон деликатно умалчивал, предоставляя всем желающим искать его проблески в своих семиотически многомерных текстах, где, по меткому наблюдению его переводчика В. Быстрова,
целые предложения переходят из одной книги в другую практически без изменений, причем чаще всего эти повторяющиеся сентенции появляются в совершенно ином контексте и в силу этого приобретают совершенно иной смысл… либо переключающие внимание читателя настолько резко и внезапно, что он полностью теряет уже, казалось бы, ухваченную нить рассуждения автора. Возникает достаточно странное ощущение, что автор вполне намеренно разрушает всякое целостное впечатление от своей книги, и если мы правы, это вполне соответствует его стремлению изменить сознание читателя. Можно даже сказать, что перед нами своего рода гипертекст или что-то вроде «бесконечной книги», которую можно читать и с начала, и с середины, и с конца, и в каждом случае, всякий раз меняя последовательность читаемых отрывков, мы будем открывать для себя новые и новые смыслы.
Сам переводчик, однако, столкнувшись с такой явно постмодернистской технологией у «Пророка Золотого века»,[14] все же предпочитает не называть вещи своими именами — вероятно, опасаясь рассердить этих самых «традиционалистов», которые в постмодерне ничего не смыслят, но его «не любят» — и отсылает к аналогичной практике «сакральных сочинений» в Адвайта-веданте. Эта отсылка по сути изображает сочинения самого Генона «сакральными» — но впрочем, это дело веры… Нам же представляется, что Генон в своих текстах предвосхитил технологию ризомы, которая была открыта гораздо позже, и уже бесспорно постмодернистскими авторами — Жилем Делёзом и Феликсом Гваттари. Этот термин был заимствован ими из ботаники, где он означает специфическое строение корневой системы, характеризующееся отсутствием центрального стержневого корня и состоящей из множества переплетающихся, периодически отмирающих и регенерирующих побегов, непредсказуемых в своем развитии. Действительно, в текстах Генона невозможно найти выделения некоей одной «самой правильной» традиции. Несмотря на то, что он лично принял ислам, и более того, стал суфийским шейхом (а может быть, именно благодаря этому?) — он продолжал писать и об индуизме, и о христианстве, и о масонстве, и вообще о «множестве состояний бытия», чем, кстати, вызывал известное недоумение у ограниченных представителей каждой из этих традиций. А его рассуждения об эзотеризме, который вполне может скрываться «под маской популярности», намеки на тайных советников из инициатических орденов и козни контр-инициации (уж не отсюда ли Умберто Эко позаимствовал сюжет своего «Маятника Фуко»?) или утверждения о реальном обитании в Африке племени волколюдей (ликантропов) делают его вполне постмодернистской фигурой в привычном сегодня значении этого слова.
В текстах Генона нет навязчивых дидактических поучений, столь свойственных всевозможным «учителям» эпохи модерна и его собственным эпигонам. Вообще постмодернистский текст учит не «правильно жить», а многомерно мыслить. Есть у него и ирония — непременный атрибут постмодернистского текста — правда, довольно мрачная, но быть может, тем и более эффективная на фоне натужного веселья иных постмодернистов. Во всяком случае, даже такой серьезный православный философ, как Павел Флоренский, признавал, что «история претерпевает величайшие сдвиги не под ударами многопудовых снарядов, а от иронической улыбки». Ознакомившись с трудами Генона, действительно уже трудно воспринимать всерьез многие модернистские «поверхности» — религиозные, культурные, идеологические…
Фактически Генон своей утопией «мира традиции» осуществил деконструкцию модерна. Изобретенное им идеальное «традиционное общество» оказалось очень эффективным симулякром (термин, который, опять же, был введен постмодернистом Бодрийаром гораздо позже) для высвечивания всей «ложной структурированности» модернистского «текста», основанного на тотальной рационалистической «репрессивности». Или точнее — трансгрессором (→ 1–4), выводящим за пределы этого «текста». Тем самым Генон сделал важнейшее и опередившее свое время открытие — адекватно познать традицию можно только в «состоянии постмодерна».
Однако геноновская деконструкция была все же неполной — так, отсчет «современного мира» он вел лишь от окончания Средневековья, а не от возникновения самого слова «модерн». Хотя эти века потому и «Средние», что находились в середине эпохи модерна и отличались от последовавшего за ними «Нового времени» лишь уже упомянутой идеологической противоположностью. Также он возлагал чрезмерные надежды на большую «традиционность» современных ему восточных цивилизаций — что теперь, в эпоху глобализации, кажется наивным. Но это не «ошибки», а сугубо временные аберрации — его метод остается эффективным и поныне.
* * *
Если в философии постмодерна весь мир принято воспринимать как «текст», то деконструкция, согласно фундаментальному словарю Вадима Руднева, это
особая стратегия по отношению к тексту, включающая в себя одновременно и его «деструкцию», и его реконструкцию.
Здесь «деструкция» в кавычках не случайно — она означает не тотальное разрушение исходного текста (как следовало бы из буквального перевода), но лишь вскрытие его внутренних противоречий. Любопытно, что у Хайдеггера, введшего этот термин, деструкция означала и вовсе не разрушение, а «предельное осмысление основ бытия». Хотя, быть может, эти «основы» можно осмыслить, лишь разрушив «надстройку»?
Эпоха модерна, по Генону, сопровождалась неуклонным «уплотнением мира». Это проявлялось даже в прогрессирующей плотности обиходных материалов — от древности (этимологически восходящей к «древу») через каменные инструменты и сооружения до абсолютного торжества металла в индустрии. Социально этому соответствовали нарастающий культ «производства», тотальная массовизация и материализм как «самая прогрессивная» философия. Механизмы порождают соответствующее мышление. В результате это привело к обезличиванию человеческих отношений и превращению социальных институтов в механические «аппараты».[15] Отношения между самими людьми начинают напоминать отношения между вещами — поскольку критерием человеческого статуса становится не личностная уникальность, а обладание неким «профессиональным» набором отчужденных и экономически обмениваемых свойств. К чему неизбежно приводит эта ситуация для всех желающих остаться самими собой, точно показали известные критики модернистского «Просвещения» Макс Хоркхаймер и Теодор Адорно:
Овеществление стало настолько плотным, что любая спонтанность, даже просто представление об истинном положении вещей неизбежно превращается в зарвавшуюся утопию, в раскольническое сектантство.
Однако это овеществление всего и вся странным образом привело к результату, противоположному тому, который предполагали рациональные модернисты. Отказавшись от всякой трансцендентности как «иррациональной» и сосредоточившись исключительно на создании и постоянном усовершенствовании множества «разумных» социальных, политических, экономических, технологических систем, они на каком-то этапе вдруг с ужасом для себя обнаружили, что эти системы становятся все более непостижимыми для самих их создателей и все менее поддаются контролю с их стороны. В итоге им приходится предпринимать парадоксальные попытки путем «объективного анализа» понять то, что они сами придумали и создали. А это означает ни больше ни меньше как обретение техническими, экономическими и прочими системами своей собственной автономной «жизни». Таким образом, на смену кажущемуся «расколдовыванию мира» — чем так гордились рационалисты эпохи модерна — приходит его, по выражению Мишеля Маффесоли, «новая околдованность».
Миром начинают править не вещи, а образы этих вещей — именно эта перемена знаменует собой переход от эпохи модерна к эпохе постмодерна. Мир с очевидностью «развеществляется» — что проявляется даже на той же шкале материальной «плотности», где на смену металлу все более приходит пластик.
Наиболее точно и остроумно описал эту метаморфозу Виктор Пелевин в рассказе «Святочный киберпанк»:
Ведь даже богатство, к которому всю жизнь стремится человек, в наши дни означает не подвалы, где лежат груды золота, а совершенно бессмысленную для непосвященных цепочку нулей и единиц, хранящуюся в памяти банковского компьютера, и все, чего добивается самый удачливый предприниматель за полные трудов и забот годы перед тем, как инфаркт или пуля вынуждают его перейти к иным формам бизнеса, так это изменения последовательности зарядов на каком-нибудь тридцатидвухэмиттерном транзисторе из чипа, который так мал, что и разглядеть-то его можно только в микроскоп.
На позднее религиозное сознание эпохи модерна, привыкшее воспринимать мир не менее «материалистически», чем самые твердые материалисты, эта цивилизационная трансформация производит порой весьма гнетущее впечатление. В развитии цифровых технологий и буйстве виртуальных образов эти «верующие» усматривают опасные «соблазны и искушения», и зачастую склонны к апокалиптической панике по поводу того, что теперь оказалось возможным создавать и тиражировать образы любых, самых сакральных сюжетов. Несмотря на всю свою проницательность, на эту уловку клюнул и сам Генон — так, в своей поздней книге «Царство количества и знаки времени» он утверждает, что это «развеществление мира» означает не что иное, как проникновение в мир инфернальных влияний и их виртуальную пародию на любую сакральность. Хотя сам этот абсолютный дуализм сакрального и инфернального появился лишь в эпоху модерна — и потому эта плоская, двухмерная апокалиптика касается только самого модерна и тех, кто загружен его идеологическими схемами. Иными словами, если утопическое сознание ранних христиан было обращено напрямую ко Христу, то идеологическое сознание религиозных деятелей эпохи позднего модерна исповедовало в первую очередь «борьбу с Антихристом». В итоге позитивный смысл этой борьбы становился все более иллюзорным, хотя конец самого модерна — это и есть конец иллюзии.
* * *
Непонимание реконструктивной миссии постмодерна приводит зачастую к курьезным ситуациям. Так, доктор философии профессор Владимир Катасонов жалуется на
западные образовательные схемы, по которым в школах должны преподавать не физику, математику, биологию, а некую единую дисциплину, которая по-английски называется science — просто наука.
Но по существу, это и есть традиция! В Античности и раннем Средневековье дело обстояло именно так — все науки мыслились целостно, и только затем, в эпоху модерна началось их разделение и бесконечная классификация. На этом примере вновь легко убедиться в правоте Генона, считавшего современных «традиционалистов» плотью от плоти цивилизации модерна.
Постмодерн заменяет всякий ограниченный модернистский стиль стилизацией подо что угодно — поэтому никакая внешняя атрибутика больше не может служить критерием «строгого следования» той или иной идеологии. Наконец, сама современность перестает быть самоцелью — по наблюдению социолога Дмитрия Иванова, постмодерн
означает уравнение в правах «объективного» и «субъективного», «рационального» и «иррационального», «научного» и «ненаучного», «архаичного» и «современного».
Однако за этим кажущимся «всесмешением» есть и довольно внятные тенденции. Постмодернистская «реконструкция после деструкции» означает, что на смену некогда однозначным и оригинальным явлениям (чья «оригинальность» в эпоху модерна, впрочем, была зачастую слишком преувеличена) приходят повсеместные переделки, ремейки. И главная проблема начинает состоять в том, что эти ремейки, порою даже не отдавая себе отчета в своей постмодернистской природе, пытаются играть еще по правилам модерна, претендуя на собственную «тотальность» вместо ясного осознания наступившей тотальной плюральности.
Это на одном известном примере точно заметил эссеист Кирилл Кобрин:
В условиях постсоветской культуры явно постмодернистским феноменом представляется возвращение, ренессанс традиционных конфессий, особенно православия. Потерявшее всякий позитивный смысл, современное русское православие с его кокетливым эстетским традиционализмом есть не что иное, как религиозные «Старые песни о главном». Православный поп на бандитской презентации — таков постмодернистский ремейк Сергия Радонежского, благословляющего Дмитрия Донского.
Неслучайно в нынешнем официальном православии все более популярным становится не «позитив» (познание его внутреннего смысла), а «негатив» (борьба со всевозможными «ересями»). Именно подобные явления Генон именовал «контр-традицией», добавляя, что «те, кто считает себя «борцами с дьяволом», зачастую становятся лучшими его слугами». Контр-традиция не выступает «против традиции» как некой внешней атрибутики — но как раз наоборот: она пытается узурпировать традицию и вещать от ее имени, чем уничтожает ее гораздо более эффективно, нежели прямое отрицание. Это обстоятельство довольно ясно запечатлено в христианской эсхатологии, где говорится, что Антихрист стремится всячески подражать Христу.
Постмодерн в итоге может быть распознан как позитивный или негативный проект, или, иными словами — утопический или антиутопический. «Антиутопический» в данном случае следует понимать не как заведомое создание некой негативной реальности, но именно как «отрицание всяческих утопий», за счет чего эта «негативная реальность» возникает словно бы самопроизвольно. В этом условном разделении постмодерна на позитивный и негативный вряд ли следует видеть продолжение идеологического дуализма, свойственного модерну. Эта пара — не идеологическая, но скорее «энергетическая», зависящая от присутствия или отсутствия активных, творческих сил.
Позитивный постмодерн создает новые контексты, негативный — склонен к консервации статус-кво и порой буквальным, модернистским реставрациям. (→ 1–9) Одной из самых актуальных таких реставраций оказывается последовавшее после 11 сентября 2001 года новое разделение мира на «цивилизованные страны» и варварскую «ось зла». Тем самым государства, успевшие громко провозгласить себя «постмодернистскими»,[16] на деле показали, что пребывают еще в «состоянии модерна». Они не удержались от символического искушения о власти над «всеми царствами мира», чем по существу только затормозили реальную тенденцию постмодерна — становление глобального сетевого общества.
Можно провести и морфологическую параллель: «постмодернизм», отрицающий любые проекты будущего, находится в таком же отношении к постмодерну как эпохе, что и «традиционализм», пытающийся реставрировать прошлое, к традиции как метафизической реальности.
В действительности не «трагедия повторяется как фарс», а наоборот, пародия предшествует оригиналу, как в традиционной эсхатологии Антихрист — Христу. Нынешний антиутопический «постмодернизм» является пародией на неоутопический постмодерн. Он подменяет то, что действительно наступает после модерна, постоянными схоластическими редупликациями, когда разговоры о «конце постмодернизма» сами становятся бесконечными…
Довольно показательной в этой связи была нашумевшая мистификация американского физика Алана Сокала, опубликовавшего в респектабельном постмодернистском журнале «Social Text» заведомо бессмысленную статью, перегруженную модной постструктуралистской и герменевтической лексикой. Статья была принята всерьез, о ней началась «научная» полемика, после чего автор раскрыл карты, и в итоге разразился грандиозный скандал. Эта мистификация высветила довольно странный парадокс: постмодернисты, затратившие столько сил на развенчание «логоцентризма», сами на поверку оказались консервативными догматиками, поклоняющимися авторитетам French theory как своему непререкаемому «логосу». Кстати, показательно и то, что академическая постмодернистская теория с ее нагромождением взаимообъясняющих терминов, именуется в Америке именно «французской».
В последнее время в моду вошло и словечко «пост-постмодернизм», призванное объяснить новейшие практики, уже не вписывающиеся в терминологическую систему теоретиков прошлого века. Однако и это означает не реальное наступление новой эпохи, а все то же реактивное отталкивание от старой. Очевидно, что утверждение постмодерна как эпохи зависит от изменения самой точки зрения наблюдателя, который рассматривал бы ее не с позиций отличий от прошлого, но уже изнутри настоящего. В этой связи очень интересным и перспективным видится предложение профессора Михаила Эпштейна:
Вместо умножения этих «пост», я бы предложил определить современность как время «прото»… Раньше определение «прото» давалось тому, что предшествовало уже заранее известному, оформившемуся. Когда ренессанс представал уже завершенным, отходил в прошлое, тогда получала обозначение и начальная ступень, ведущая к нему — проторенессанс. Так, из уже готового, осуществленного будущего переименовывалось прошлое, выступая как ступенька, ведущая к предназначенному концу. Такова была уловка детерминизма, предопределявшего прошлое его же собственным будущим, но создававшего иллюзию, что прошлое само предопределяет будущее.
«Прото», о котором я говорю, не имеет ничего общего с детерминизмом и телеологией. Оно не задается прошлому из уже состоявшегося будущего — и не определяет будущее из прошлого. «Прото» — это новое, ненасильственное отношение к будущему в модусе «может быть» вместо прежнего «должно быть» и «да будет». И тогда оригинальность, убитая постмодернизмом, возрождается опять как проект, не предполагающий реализации, но живущий по законам проекта, в жанре проекта… Утопические, метафизические, исторические проекты — сколько забытых, осмеянных и уже невозможных модусов сознания заново обнаружат свою возможность, как только они будут поняты протеически — именно в качестве возможностей, лишенных предикатов существования и долженствования.
Современная культура России все менее определяется своим отношением к коммунистическому прошлому, скорее, это прото-культура какой-то еще неизвестной формации, о названии которой можно пока еще только догадываться.
С последним утверждением мы целиком солидарны, более того — в этой работе пытаемся его развить, предлагая один из таких проектов. Однако любой «проект, не предполагающий реализации» бессмыслен. Возможность, замкнутая на саму себя, без перехода в действительность, превращается в невозможность. Иное дело, что она не гарантирована, никому не «должна» осуществиться — подобно тому, как Пасха не является «результатом» Великого Поста, хотя его и предполагает…
1.4. Воображаемое общество
Во время обсуждения какой-нибудь очередной идеи, когда все замолкали, задавался вопрос: «А что думает народ?» Все глядели на Ослона. И он, углубляясь в свои тетрадки, выносил окончательный вердикт, что по такому-то поводу народ думает. Под этим условным именем — «Народ» — Александр Ослон и работал в аналитической группе.
Борис Ельцин. Президентский марафонЕще в 60-е годы ХХ века радикальный французский мыслитель Ги Дебор назвал современное общество, где главным товаром становятся образы, «обществом спектакля». Этот термин с тех пор получил культовую известность среди «левых» активистов, проповедовавших борьбу с «буржуазными режиссерами». Однако проблема состоит в том, что у этого «спектакля» нет постоянных «режиссеров», и в этом проявилась историческая ограниченность марксизма, сводящего социальную реальность к извечной борьбе эксплуатирующих и эксплуатируемых классов. С развитием медиа-технологий этот «спектакль» уже не ставится первыми для вторых — в него превращается все общество. Точнее, само общество становится воображаемым — с разных точек зрения, но в зависимости от их широты.
По мнению одного из самых интересных представителей «постмарксистского» экономического анализа Владислава Иноземцева, современное общество переходит в «постэкономическое» состояние, когда рутинный труд все более сменяется творческой инициативой:
Постэкономическое общество вызывается к жизни преобладанием творчества в общественном производстве; в основе экономического же общества лежит труд. Таким образом, главные характеристики этих двух типов общества не просто различны; они различаются так, как никогда ранее не различались фундаментальные черты двух сменяющих друг друга исторических состояний. Важнейшие социальные противоречия прошлых эпох определялись хозяйственными закономерностями и воплощались в отношениях по поводу распределения производимых в обществе материальных благ. Формирование постэкономического строя означает перемену основных принципов организации нового общества; из сферы производства и распределения благ они перемещаются в область социопсихологии, ведающей законами формирования самосознания людей.
Концепция Иноземцева во многом базируется на доктрине известного теоретика постиндустриального общества Дэниела Белла, который еще в 70-х годы ХХ века[17] обратил внимание на стремительный рост в экономике информационной сферы и числа занятых в ней. Основным экономическим ресурсом фактически стала информация и смежные с ней области рекламы, маркетинга, консалтинга и т. д., что с неизбежностью привело к тому, что именно образы и их творческое создание начинают в гораздо большей степени определять экономическую эффективность, чем массовое и обезличенное индустриальное производство. Именно в этом, заметим попутно, состояла одна из главных причин краха «социалистической» экономики эпохи модерна, пытавшейся «догнать Запад» по количеству тонн и кубометров, совершенно упустив из виду изменение самих критериев лидерства.
Однако и сам Белл заявлял, что информационная экономика вовсе не означает ликвидацию индустриализма, но лишь надстраивается над ним:
Постиндустриальное общество не замещает индустриальное, так же как индустриальное общество не ликвидирует аграрный сектор экономики. Подобно тому, как на древние фрески в последующие эпохи наносятся новые и новые изображения, более поздние общественные изменения накладываются на предыдущие слои, стирая некоторые черты и наращивая ткань общества как единого целого.
Интересно, что первым термин «постиндустриализм» употребил еще в 1914 году индийский философ-традиционалист, позже друг и сотрудник Генона, Ананда Кумарасвами.[18] Он соотносил постиндустриальную эпоху с возрождением традиционной производственной логики, по своей сути творческой. В индуизме сфера деятельности касты вайшья (ремесленников, купцов, земледельцев) описывается термином артха — случайно ли его созвучие с европейским art? И хотя сам Иноземцев, ссылаясь на Кумарасвами, относится к его точке зрения скептически, трудно все-таки не увидеть, что «вайшьи» постиндустриальной эпохи по своей деятельности и самому стилю жизни довольно существенно отличаются от работников модернистского конвейера.
Если с точки зрения ортодоксального марксизма тот факт, что «буржуазия» почему-то исторически победила «пролетариат», выглядит какой-то нелогичной загадкой, то с позиций постэкономического общества ответ на эту загадку довольно прост. Отныне исторически побеждают те, у кого образов мира больше, кто более способен к их творчеству. А «эксплуатируемыми» остаются лишь те, кто сами считают себя таковыми. Это и есть мышление категориями нового «прото»-общества, которое созидают те, чье воображение оказывается объемнее.
Эпоха модерна во многом строилась на искусственной подгонке социальной реальности под символические образы тех или иных идеологий. Анализу того положения дел посвящена известная монография Бенедикта Андерсона «Воображаемые сообщества». Однако в ней автор сосредотачивается преимущественно на исследовании феномена национализма, упуская из виду, что не менее воображаемыми являлись социальные категории и других модернистских идеологий, вроде «трудового народа» или «гражданского общества».
Иной, более адекватный эпохе постмодерна исследовательский метод предложил петербургский социолог Дмитрий Иванов в книге «Виртуализация общества». Вывод, который следует из ее блестящего многостороннего анализа, охватывающего политику, экономику, науку, искусство и семейные отношения современного индивида, состоит в том, что
мы живем в эпоху общества образов и образов общества.
В политике главную роль начинают играть не идеалы, а имиджи. В экономике производство вещей все более уступает место созданию модных брендов. Сами деньги из некогда буквальной ценности (золотая монета) превращаются в «образ платежеспособности» (кредитная карточка). В науке все более различима эволюция от поиска истины к созданию «образа компетентности», заслуживающего грантовой поддержки. В искусстве на смену уникальному творчеству приходит постмодернистская игра цитат и аллюзий, создающая «образ произведения искусства». Наконец, семейные и гендерные отношения также покидают лоно модернистских «норм» и могут быть совершенно различными вплоть до принципиальной неопределенности и полной виртуализации, симулируя, однако, в игровых формах образы прежних идентичностей…
Само общество из некогда статичной системы институтов становится сплошным потоком образов — поскольку практически любой из этих институтов может быть воспроизведен виртуально. (→ 1–5) Даже актуальная в последние годы «борьба с терроризмом» все более выглядит скорее борьбой с известным образом террориста, чем с причинами этого явления.
Конечно, эта «диктатура образов» была бы невозможна без интенсивного развития информационных технологий. Антиутопическая перспектива этого процесса, когда техника, с помощью которой создаются эти образы, сама сливается с ними и объявляет войну «устаревшему» человеку, довольно ярко показана в популярной серии фильмов о терминаторах. Но это, если угодно, всего лишь «эстафета» — подобно тому, как человечество отказалось от веры в своего Творца, почему бы и сотворенным человеческими руками машинам в свою очередь не поступить аналогично? (→ 2–9) Однако возможен и позитивный, утопический взгляд на эту перспективу, изложенный еще в середине ХХ века Эрнстом Юнгером:
Развитие техники незаметно вступает в третью фазу. Первая была титанической, она заключалась в построении мира машин. Вторая — рациональной и вела к полной автоматизации. А третья — магическая, наделившая автоматы разумом и чувствами. Техника принимает фантастический характер; она становится гомогенной желаниям. К механическому ритму присоединяется лирика. Тем самым возникла новая реальность, мы можем отложить в сторону гаечные ключи.
Если исходить из этой точки зрения, можно было бы сказать, что ныне уже фактически созданы все технические предпосылки к абсолютной утопии. Когда модернистские стереотипы рухнули и каждому можно творить свой образ мира и жить в нем — не в этом ли состояла мечта великих утопистов? Однако неслучайно проницательные мыслители вроде Бодрийара не спешат идеализировать это состояние. Они называют его не утопией, но «гиперреальностью», где правят бал «симулякры».
Власть симулякров — это замкнутая на общепринятые стереотипы образная структура, создающая лишь иллюзию «творческого воспарения» над реальностью, но по сути плотно привязанная к самым тривиальным и сиюминутным потребностям «общества спектакля». Тогда как необходимым атрибутом всякой утопии является ее трансцендентное измерение — собственная мифология, выводящая за пределы статус-кво, или, по Мангейму, «данного социального порядка». Сергей Корнев предложил называть этот альтернативный симулякрам тип образов трансгрессорами:
Понять, что такое трансгрессор, поможет аналогия с иконой. Трансгрессор отличается от симулякра так же, как православная икона отличается от магического фетиша или от простой картинки-изображения. Икона и была первым настоящим трансгрессором: рукотворный образ, внешняя имитация божества, которая, не претендуя на самоценность и самодостаточность, из тварного мира выводит сознание в мир горний, приуготавливает его к адекватному восприятию высшей реальности.
Трансгрессор — это мысль об Ином. Суть трансгрессора не в том, что он является хранилищем актуально присутствующей подлинности, а в самой трансгрессии, в том, что он выводит сознание за пределы данного, за пределы мира репрезентации. Он выводит сознание за эти пределы — но не дает взамен ничего. Он спасает именно тем, что обнажает отсутствие подлинного в окружающей реальности, и толкает к поискам подлинного, к сотворчеству подлинного в собственной жизни. Здесь нужно вспомнить функцию дзэнского коана: при помощи простых, на первый взгляд обыденных слов и жестов, вывести сознание за пределы обыденности, за пределы рутинных стереотипов, в пространство тотальной свободы.
Парадокс состоит в том, что в гиперреальном мире тотальных симуляций подлинными являются лишь утопические проекты.
1.5. Виртуальное государство
Моника Л. снова поворачивается к залу лицом, раздвигает ноги, берется руками за большие губы своего детородного органа, и резким движением в разные стороны разрывает кожный покров, который не разрывается, но разъезжается — как будто была молния по линии симметрии тела. Из кожи выпрыгивает желеобразное полупрозрачное существо и кричит в зал:
— Никаких взрывов на самом деле не было, ламеры! Это компьютерная графика, инсталлированная в ваши пустые мозги. Ваша старая добродетельная реальность уже давно переродилась в нашу реальную виртуальность. Виртуальность стирает границу между воображением и реальностью, проход свободен (делает тазом неприличные движения)как туда, так и обратно.
Костя Нетов. Politics for dummies. Метавиртуальный спектакль.Виртуальность всех современных государств выражается в том, что их главным политическим орудием все более становится не экономическая или военная мощь, а позитивный образ — демократичности, стабильности, привлекательности и т. д. В иную эпоху сексуальный скандал с президентом или разрушение глобального торгового центра могли бы повлечь серьезный политический кризис, но не сегодня, когда США всеми силами пытаются спасти свой образ единственной сверхдержавы. Однако транснациональным организациям не нужна эта глобальная однополярность, и они все более ее размывают. В результате граница между «реальной» и «виртуальной» политикой истончается до последних пределов, поскольку само создание позитивного образа государств зависит от их участия в транснациональной экономике, которая, в силу своей сетевой природы, стремится нигде не сосредотачиваться, а стало быть, не заинтересована в «слишком позитивном» образе ни одного государства.
Это неизбежный кризис самого института государственности в том виде, как он сложился в эпоху модерна. В эпоху постмодерна он начинает все более зависеть от общепринятого позитивного образа, а если расходится с ним, то именно этот образ, а не какие-то специфические особенности данного государства, становится главной основой для принятия политических решений. На эту небывалую влиятельность сферы репрезентации самой по себе обратил внимание политолог Андрей Новиков:
Виртуальная реальность и есть бесконечная «утопия» — «места, которых нет». Тем не менее, виртуальная топология настолько реальна, что мы про нее должны сказать, что она всё-таки «есть»; и что вообще есть всё, что можно себе представить. Материальная реальность, жизнь может показаться нам «менее реальной», чем виртуальность: именно тем, что она подчас «менее представима», чем последняя.
Одним из важнейших открытий «виртуальной эпохи» становится то, что образы могут быть совершенно автономными от какой бы то ни было «реальности». В том числе и государственной. Можно открыть сайт в интернете и назвать его «официальным представительством» любой выдуманной страны — причем по качеству технического и художественного исполнения он может не только ничем не отличаться от правительственных сайтов реальных государств, но и превосходить их. На текущий момент эта возможность тормозится лишь распределением географических доменов первого уровня между реальными странами, но это, скорее всего, лишь вопрос времени. В скором будущем нельзя исключать того, что многие транснациональные группы для адаптации своих проектов к «недостаточно глобальному» мировосприятию большинства человечества просто позиционируются в качестве виртуальных, но вполне суверенных государств.
Отличие таких, активно создаваемых виртуальных государств от государств реальных состоит в том, что последние «виртуализируются» вынужденно, по инерции, под властью исторических обстоятельств. Но когда критерием самой реальности как таковой становится лишь поток образов (→ 1–4) — тогда граница между реальными и виртуальными государствами исчезает полностью. Фактически это означает глобальную революцию — когда борьба с властью или за власть остается актуальной лишь для тех, кто делегирует ее кому-то вне своего собственного мира.
Теоретическое обоснование закономерности победы виртуальных государств содержится в одной из разработок Транслаборатории:
Несмотря на частичную «виртуализацию» управления и экономики, центр тяжести современных государств лежит в «старой реальности», где они составляют компактные массы, ограниченные со всех сторон географическими рубежами. Однако в условиях глобализации значимость этой материальной компактности теряется. Уже можно представить себе возникновение государства, центр тяжести которого лежит в виртуальном мире. Такое государство образует не общность территории, а общность граждан, тесно связанных друг с другом в пространстве коммуникации. Материальные анклавы такого государства могут быть разбросаны по всему миру: участки земли, предприятия, офисы, военные базы, космические станции и т. п. Юридически большая часть этих объектов может лежать на территории обычных государств, а большинство «виртуальных граждан» может пользоваться выгодами двойного гражданства, — что не мешает этому «виртуальному государству» в политическом, экономическом, культурном и даже военном смысле составлять могущественную целостность, с которой придется считаться всем остальным мировым силам. От обычного государства оно отличается только тем, что его центр власти, центр его общественной жизни, источник его суверенитета находится в виртуальном пространстве, то есть «нигде».
Основать в виртуальном пространстве настоящее государство с полноценным социумом — это и значит открыть Сверхновый Свет.
Тем, кто хочет стать его первооткрывателями, сегодня не нужно плыть куда-то за тридевять земель, достаточно, не отходя от своих компьютеров, организовать и воспроизвести в пространстве коммуникации те отношения, которые и составляют социум: экономические, общественно-политические, культурные. При этом не имеет значения, в каком модусе первоначально развиваются эти отношения. Виртуальное государство может стартовать как «игра» — это нисколько не умаляет реальности образующихся в нем связей. Экономическая игра, которая приносит своим участникам реальный доход, позволяет им завести реальные экономические отношения, это не «виртуальная тренировка», а самая настоящая экономическая система. Также и общественно-политическая игра, которая позволяет реально организоваться массам людей, способных реально влиять друг на друга и на ситуацию «вне игры», — это не игра, а реальная общественно-политическая система. А в области культуры вообще нельзя провести грань между «игрой» и «реальностью». Важно только, чтобы эти потоки коммуникации — экономический, общественно-политический, культурный, — развивались не по отдельности, а вместе: чтобы они регулировали друг друга, реагировали друг на друга, достраивали друг друга. О перерастании этой игры в настоящий социум можно говорить тогда, когда эта «игровая» сеть отношений для участника игры станет более значимой, чем отношения, связывающие его с «обычным» социумом. Ведь социум — это не более чем потоки коммуникации.[19]
Что касается управления виртуальным государством, то именно в этом, «постсовременном» социуме парадоксальным образом возрождаются самые древние, «вечевые» формы прямой демократии — в виде постоянных референдумов среди граждан этого государства. Одно это обстоятельство, а также техническая простота его организации в сети, несравнимая со сверхзатратным спектаклем «выборов» в реальных государствах, более чем наглядно показывает все устарелое излишество последних, всякий раз завершающееся лишь разбуханием аппарата «народных представителей». Так, с точки зрения эффективности управления, виртуальные государства оказываются куда более реальными, и наоборот.
Что же касается творческого самовыражения, то здесь эта перемена местами «реального» и «виртуального» еще более наглядна. Именно в виртуальном мире личность обретает куда большую возможность быть самой собой, формировать и заявлять собственное уникальное мировоззрение, чем в «реале», перегруженном стандартами и условностями.
Несколько перспективных форм виртуального государства называет аналитик Сергей Переслегин:
Важным направлением деятельности виртуального государства может стать регистрация, создание и дальнейшая эксплуатация международного виртуального университета. По сути, речь идет об очень привлекательной возможности создать образовательный центр, юридически изъятый из-под юрисдикции отдельных национальных государств и осуществляющий свою деятельность в интересах того или иного глобального проекта… Виртуальное государство может представлять интерес как влиятельный международный политический клуб… Интересной и востребованной формой виртуального государства может быть «литературное государство» (мир Толкиена, мир Стругацких и т. п.).
Что касается «литературных государств» (а также «музыкальных», «художественных» и т. д.), то их в интернете уже существуют тысячи, однако чаще всего эти «государства» представляют собой просто тусовку фанатов того или иного культового произведения или героя. Ближе к теме выглядит формат «политического клуба» — на момент написания этих строк[20] в рунете действует самый раскрученный проект такого рода — . Однако фантазия его создателей не продвинулась далее сетевой пародии на реальное государство, с копированием всех его структурных элементов. Забавнее всего выглядит борьба его активистов с «клонами» хитроумных граждан, обеспечивающих себе таким путем «большинство голосов» и «контрольные пакеты», — какой смысл в этой борьбе, если сама эта «РР» является клоном РФ? Также некоторое время назад стало модно называть «виртуальными государствами» банальные торговые пирамиды (→ 1–6) — впрочем, было бы удивительно, если бы они именовались тем, что они есть на самом деле.
Виртуальное государство может возникнуть лишь на основе оригинального творческого проекта — а он всегда альтернативен «существующему порядку», потому что выходит за его пределы. «Классикой жанра» здесь является основанное еще в 1966 году Княжество Силандия (), признаваемое историками первым виртуальным государством — хотя в те далекие времена даже интернета еще не было. Однако сам стиль его появления вполне соответствовал «открытию сайта» — британский майор Рой Бейтс высадился за заброшенной морской платформе времен Второй мировой войны, и провозгласил себя князем этого никем не занятого рукотворного «острова» в Ла-Манше. И английская юстиция, имеющая славу едва ли не самой дотошной в мире, не нашла никаких законных препятствий этой робинзонаде, поскольку платформа располагалась за пределами территориальных вод Великобритании. Силандия с тех пор выпустила свои паспорта и почтовые марки, направила во многие страны своих послов и коммивояжеров (умудрявшихся заключать реальные контракты), а с появлением интернета легко освоилась в нем, открыла свой сервер и предлагает его в качестве «сетевого убежища» для хранения информации, почему-либо считающейся в реальных странах «незаконной».
Виртуальные микронации (), как правило, обмениваются взаимным дипломатическим признанием и поддерживают друг друга в конфликтах с реальными государствами.
Один из таких конфликтов случился в 1982 году, когда в городке Ки-Уэст во Флориде была провозглашена независимая Республика Конк (members.aol.com/brooks957/crhist.htm). Причем не просто провозглашена — но с одновременным объявлением войны США. Война, конечно, была сразу проиграна — поскольку у федералов с чувством юмора оказалось туго, и они реально блокировали город. Однако с тех пор там нет отбоя от туристов, желающих посетить «исторические места», а сами жители Ки-Уэста сохранили «двойное гражданство» и ежегодно отмечают свой День независимости.
Есть, впрочем, и куда более масштабный пример виртуального государства — Техас. До 1845 года он и в реальности был независимым государством, а при его аннексии Соединенными Штатами в конгрессе, как выяснили историки, не было кворума. За восстановление исторической справедливости борется временное правительство Республики Техас (-of-texas.net).
Кстати, независимая и признанная многими иностранными государствами Дальневосточная Республика (ДВР) также при весьма спорных обстоятельствах оказалась в 1922 году включенной в состав РСФСР. Однако виртуального государства, рассматривающего эту историческую альтернативу как свой творческий проект, на Дальнем Востоке пока не возникло. Зато Балтийская Республика (/~baltia), создаваемая калининградскими активистами, уже «запрещена» федеральными чиновниками — до них никак не дойдет, что они имеют дело уже с совсем другим измерением…
Виртуальные государства, конечно, содержат в себе немалый элемент мистификации — и порою даже «многоэтажный», как в нашумевшем деле о торговцах паспортами Силандии, неведомых самому ее князю, — но кто возьмется утверждать, будто в деятельности реальных государств мистификаций меньше?
В отличие от национально и территориально ограниченных реальных государств, «границами» государств виртуальных является наднациональная и экстерриториальная общность тех или иных взглядов, интересов, стилей жизни… Именно этот принцип сразу положило в свою основу одно из первых виртуальных государств, а к сегодняшнему дню едва ли не самое легендарное — NSK (расшифровка: Neue Slowenische Kunst — Новое Словенское Искусство), построенное группой «Laibach» (). Оно ставит своей задачей создать «экстерриториальную нацию артистов и художников», выдает паспорта всем желающим к ней присоединиться, но с особым вниманием относится к людям искусства, притесняемым в своей стране. Все это можно было бы вновь счесть «лишь игрой», если бы не одно историческое обстоятельство — во время югославской войны 90-х годов многим беженцам разных национальностей удалось покинуть блокированную Боснию, пройдя через ООН-овские кордоны именно с «виртуальным» паспортом NSK, а не с «реальным» югославским! Именно с этого момента начался отсчет процесса глобальной перемены местами «виртуального» и «реального».
Один из лидеров «Laibach» Иван Новак проводит интересное сопоставление реального и виртуального государства, показывая, как первое само заставляет творческих людей создавать второе. Утопия NSK, по его словам,
базируется на классических отношениях между артистом и государством. Мы не признаем существование правительства в любой форме, потому что не верим в то, что без него существование страны невозможно. Прежде чем Словения формально образовалась внутри Югославии, она представляла из себя что-то вроде утопической системы с тем отношением государства к искусству, к которому мы стремимся. Работать было легко, потому что мы представляли несуществующее государство без правительства. После того, как Словению формально признали, нам стало значительно труднее жить. Пришлось организовать собственную страну.[21]
Однако, когда граждане всей Югославии (которая сама по себе была недовоплощенной утопией (→ 3–4)) окончательно разбрелись по «национальным квартирам», ее место заняла новая, виртуальная утопия «КиберЮгославия» (), напротив, только пополняющая свое население гражданами всего мира. С достижением определенного их количества, администрация этого проекта намерена обратиться в ООН за официальным признанием. И к тому времени это уже будет тест для самой ООН — на соответствие новым мировым реалиям…
В России также уже есть аналоги подобных «виртуально-реальных» наций — к примеру, проект «Великая Скифия» (scythia.narod.ru). Вероятно, это именно его представители на последней всероссийской переписи населения тысячами указывали свою национальность как «скифы». Но еще больше оказалось казаков, поморов, ингерманландцев и прочих «виртуальных» (с точки зрения этого пока еще реального государства) народов, не говоря уж об эльфах, хоббитах, гоблинах…
В разработке Транслаборатории говорится о причинах и перспективах такого выбора многих «виртуалов»:
Сверхновый Свет предоставляет человеку дополнительную степень свободы — выбирать не только свое место в уже готовом мире, но и сам мир, в котором он хотел бы жить. Творческий потенциал человечества больше не будет сдерживаться теснотой мира и заполненностью социальных ниш, которые цепко контролируют нынешние элиты, используя различные «неспортивные» методы. Из государства-тюрьмы и государства-профилактория активные люди будут переселяться в государство, которое нуждается в их творчестве, в их свободной воле. И, задействуя максимум их творческой энергии, такое государство будет побеждать остальные в неизбежной конкуренции. Место революций займет тотальная миграция людей из одного виртуального социума в другой. «Монополия на мироустройство» уничтожается, вместо этого наступает «свободная конкуренция миров», которая станет главной движущей силой истории. Она разрушит нынешнюю реальность, поскольку никто больше не захочет играть быдло в скучной массовке. Зачем быть никем, если там, в Сверхновом Свете, ты получаешь шанс стать самим собой?
Эта «свободная конкуренция миров», конечно же, не ограничивается земными рамками. Так, основатели самой малочисленной, но и самой масштабной разновидности виртуальных государств разрабатывают проекты типа — космического ковчега, на борту которого сможет возникнуть новое человечество, свободное от пространственных ограничений Земли.
А тем, кто решит остаться на родной планете, правитель антарктического Княжества Иммортии () Сергей Первый предлагает ни много ни мало вечную жизнь. Для этого не требуется ничего сверхъестественного — просто всю эту, пока не вечную, жизнь копить деньги на процедуру криогенного замораживания (подробный бизнес-план прилагается) — а когда вас разморозят через пару-тройку веков, вас будет поджидать ваш собственный свежий клон, которому останется только пришить вашу голову. Потому что мозги, по мнению автора, клонировать слишком затруднительно… (→ 2–8)
Литератор Алексей Машевский видит перспективу создания новых виртуальных миров именно в технологической программируемости мозгов каждого индивида — но с характерным для гуманитария беспокойством об экзистенциальных вопросах:
Мощность и быстродействие машин удваиваются примерно каждые два года, растут возможности расширения контакта с той «реальностью», которую продуцируют эти «электронные джинны». Все, что мы видим, слышим, осязаем, обоняем, в конечном итоге — лишь образы, возникающие в мозгу, благодаря сигналам, передаваемым от различных рецепторов. Научитесь синтезировать и вводить эти сигналы в мозг напрямую, либо посредством устройств, дублирующих наши зрительные, слуховые и прочие органы, — и человеческое «я» окажется в том мире, который задаст определенная компьютерная программа. Человек окажется в том мире, в котором пожелает, причем чувственно эта вторая, третья, миллиардная «реальность» будет неотличима от той единственной — первой.
Это популярнейшее вот уже несколько лет обращение к теме «Матрицы» — с ее резким контрастом между «виртуальными иллюзиями» и «ужасной реальностью». Но в наши задачи не входит обсуждение подлинности самого этого фильма. Обратимся лучше к тому малоизвестному обстоятельству, что Рене Генон (→ 1–3), хотя и не дожил до эпохи интернета, охотно оперировал термином «виртуальность». Однако не противопоставляя ее «реальности», а сопоставляя с совсем другим понятием — «эффективностью». Речь в его рассуждениях шла о том, что «виртуальная инициация», под которой он понимал передачу знания, являет собой не данность, но задание. А всякое знание, пусть даже самое истинное и глубокое, совершенно бессмысленно само по себе — до тех пор, пока оно не воспринимается как оперативный инструмент. Только в этот момент инициация становится эффективной. В переводе на язык нашей темы это означает, что поток образов реален не сам по себе, но лишь в той мере, в какой их «спецэффекты» выходят за пределы сугубой виртуальности и грань между ними и «реальными событиями» окончательно исчезает.
Реализоваться виртуальным государствам позволяет лишь утопизм — творческое создание собственных, альтернативных цивилизаций, которые постепенно становятся критерием новой реальности. В противном случае эти государства превращаются просто в интернет-магазины или пустопорожние ток-шоу, т. е. разновидности реальности старой, помогающие ей сохранять иллюзию того, что она едина и будет длиться вечно. Кроме того, там, где утопизм исчезает (или изгоняется), его место тут же занимают проекты тотальной унификации, весьма распространенные в современном мире. Эти проекты обнаруживаются и у такого увлеченного идеолога виртуальных государств, как Сергей Переслегин:
Интересной возможностью развития виртуального государства является регистрация на его «территории» единой международной транспортной системы (практически это означает изъятие международного транспорта из юрисдикции национальных государств и передача его единой транснациональной монополии). Аналогичным образом, виртуальное государство может стать «центром кристаллизации» единой международной (внегосударственной) финансовой системы, единой международной информационной системы.
Однако склонность к глобальному монополизму означает не что иное, как крах виртуальных государств, того, во имя чего они создаются. Какой смысл строить свой собственный мир, если он ничем не отличается от окружающего? Хотя, может быть, кому-то просто нравится играть в игру под названием «мировое правительство». Это их право. Но подключаться к этой игре — значит отказываться от своей.
1.6. Крушение пирамид
Отчужденный труд исчезает, чтобы уступить место свободному акту творчества в тот момент, когда вы осознаете, что инстанции, всю жизнь выдававшие себя за ваших наставников, на самом деле крали у вас главное — сам смысл вашего присутствия здесь.
Герберт МаркузеОсновное противоречие эпохи постмодерна, глобализации и виртуализации пролегает между символами пирамиды и сети. Пирамида символизирует иерархическую структуру общества эпохи модерна, тогда как «в сети, — по выражению теоретика информационного общества Мануэля Кастельса, — власть информационных потоков преобладает над потоками власти».
Многие исследователи указывают на принципиально антимонополистскую природу сети: даже контролировать технологию — еще не значит контролировать информационные потоки. Сама технология постоянно подсказывает выход из-под контроля. Речь идет о становящихся все более популярными в сети способах обмена информацией «peer-to-peer», т. е. напрямую между пользователями, в обход центральных серверов. Впрочем, в этой ситуации и само слово «центральный» утрачивает смысл.
Интересно, что сами технологии этого «распределенного управления» информационными потоками, не нуждающиеся в едином центре, были созданы в свое время Пентагоном — с целью сделать свои штабы неуязвимыми для противника. Но теперь генералы и чиновники «реальных государств» уже откровенно опасаются собственного детища. И пытаются изобретать все новые и новые методы контроля за всемирной паутиной. Хотя по самой своей природе все эти методы из арсенала ушедших эпох совершенно неприменимы к сетевой реальности. Причем исторический и географический контраст между ними порою оказывается удивительно резким. Так, к примеру, Верховный суд штата Калифорния (где и расположена Силиконовая долина — «глобальная киберстолица»!) в 2003 году запретил публиковать в интернете коды для копирования DVD-дисков. Этим судьям в средневековых мантиях, видимо, совершенно невдомек, что оградить какую-либо информацию от просачивания в интернет-потоки с их миллионами серверов по всему миру — все равно что искать в океане одну «запрещенную» дождевую каплю…
Видимо, Декларация независимости Киберпространства, составленная сетевым активистом Джоном Перри Барлоу еще в 1996 году, и ставшая с тех пор «классикой жанра», остается актуальной и поныне:
Сейчас вы создали в Соединенных Штатах закон — Акт о реформе телекоммуникаций, — который отвергает вашу собственную конституцию и оскорбляет мечты Джефферсона, Вашингтона, Милля, Мадисона, де Токвиля и Брандеса. Эти мечты должны теперь заново родиться в нас… Правительства Индустриального мира, вы — утомленные гиганты из плоти и стали; моя же Родина — Киберпространство, новый дом Сознания. От имени будущего я прошу вас, у которых все в прошлом, — оставьте нас в покое. Вы лишние среди нас. Вы не обладаете верховной властью там, где мы собрались… Мы творим мир, в который могут войти все без привилегий и дискриминации, независимо от цвета кожи, экономической или военной мощи и места рождения. Мы творим мир, где кто угодно и где угодно может высказывать свои мнения, какими бы экстравагантными они ни были, не испытывая страха, что его или ее принудят к молчанию или согласию с мнением большинства.
Один из популярных способов поиска информации в интернете — это поиск по каталогам. Однако сама по себе каталогизация — это пережиток эпохи модерна с ее повсеместным созданием статичных и ограниченных структур. И поныне многие представители той эпохи заняты в интернете вместо собственного творчества лишь одним — непрерывным «раскладыванием по полочкам» всех попадающихся им сайтов, и даже конкурируют между собой в том, кто больше всего распределит. Хотя об эффективности этой работы прекрасно свидетельствует одно наблюдение Умберто Эко:
Позавчера я просматривал сайты неонацистов. Если целиком полагаться на алгоритм поиска, можно сделать вывод, что степень фашизации зависит от частотности употребления слова «наци». В то время как чаще всего оно употребляется как раз на антифашистских сайтах.
Сама сеть, таким образом, словно бы иронизирует над теми, кто привык воспринимать информацию по критериям «реального мира». Сколько бы кто ни пытался строить «клеток каталога», информация все равно в них не уместится и найдет для себя новые, полистилистические и междисциплинарные пространства. А «каталогизаторам» останется лишь вновь и вновь ломать голову над тем, к какому «-изму» их отнести…[22]
Не срабатывает в сетевой реальности и другой известный прием прошлой эпохи — запрещение литературных произведений. Просто потому, что теперь эти произведения не нуждаются в печатном станке как необходимом орудии для своего распространения. Они теперь с помощью сети могут сами постоять за себя — и даже нанести ущерб самим цензорам. Недавняя остроумная акция русских сетевых деятелей также уже стала классической. Когда одна официальная псевдомолодежная организация решила провернуть, как ей казалось, удачный пиар-ход с обменом книг «сомнительных» писателей на «правильные», она никак не ожидала, что эти «неправильные» книги ей будут присылать в электронном виде и в таких объемах, что ее почтовая программа будет ежедневно выходить из строя…
Показательно, что в цензорских покушениях на сеть вполне совпадают религиозные фундаменталисты (талибы, к примеру, во время своего пребывания у власти пытались «запретить» все неисламские сайты по всему миру) и борцы с этим самым фундаментализмом, которые одержимы теперь розыском в сети посланцев мифологического бен Ладена. За этими антиподами, как выясняется, стоит одна и та же прошлая эпоха — с ее опорой на силовые структуры, административные аппараты, консервативное население. На стороне же обитателей сети — глобальное мышление, мобильность и утопия.
* * *
Субъектом утопии в сетевом обществе становятся микрокорпорации — творческие альянсы, реализующие свой стратегический проект. Эти альянсы чаще всего не имеют центрального офиса, должностной иерархии и прочих атрибутов «реальной» корпорации, однако, зачастую именно поэтому они действуют гораздо эффективнее первых. Владислав Иноземцев называет их «креативными корпорациями», Дмитрий Иванов — «виртуальными», но по сути речь идет об одном и том же феномене. Составляют эти корпорации интеллектуальные работники (knowledge-workers) — без каких-то жестких разделений по узким специализациям, поскольку диапазон задач, которые они решают, бывает довольно широк. Прежние, громоздкие институциональные пирамиды, построенные по иерархическому принципу и давившие творческую свободу необходимостью «согласований» на разных «этажах», уступают место динамичным ситуативным структурам, возникающим «под задачу».
Даже самые малые креативные корпорации географически могут быть трансконтинентальными и успешно решать задачи транснационального масштаба. Они могут заниматься чем угодно — брендингом, экспертизой, аналитикой, программированием, проектированием, медиа-артом, дизайном… — но в их деятельности непременно присутствует собственная, особая мифология, отличающая их от тривиальных посреднических структур.
История креативных корпораций начинается, по Иноземцеву, еще
с середины 60-х годов, когда быстро распространялись новые технологии, предполагавшие децентрализацию, демассификацию, фрагментацию производства и требовавшие работников, одним из важнейших качеств которых является выраженное стремление к автономности. Эти перемены ознаменовали переход к системе гибкой специализации… Персонал компании предпочитает сегодня работать там, где царит дух равенства, где идеи ценятся выше, чем положение на иерархической лестнице.
Такие компании, представляющие собой уже не столько элементы общества (society), сколько общности (communities), организуют свою деятельность не на основе решения большинства и даже не на основе консенсуса, а на базе внутренней согласованности (congruence) ориентиров и целей. Впервые мотивы деятельности в значительной мере вытесняют стимулы, а организация, основанная на единстве (coexistence) мировоззрения и ценностных установок ее членов, становится наиболее самодостаточной и динамичной формой производственного сообщества.
Креативные корпорации кардинально отличаются по своей природе не только от «реальных государств», но и от крупных медиа-империй, также строящихся по строгому пирамидальному принципу. Именно на это обратил внимание Ричард Барбрук:
Сеть сегодня объявляют новой парадигмой общества, в свете которой должны перестроиться бизнес, правительство и культура. Хотя медиа-корпорации часто рассматриваются как пионеры высокотехнологичного будущего, их эта парадигма пугает.
Крупные медиа-корпорации сопоставимы в этом контексте с Пентагоном, который развил сетевые технологии, но сам же испугался их всеобщего распространения. Медиа-корпорации также имеют основания опасаться, что их массовые и «самые информированные» телеканалы и газеты лишатся львиной доли своего рынка, когда каждый человек сможет сам легко получить нужную ему (и более достоверную!) информацию, по своим, интерактивным сетевым каналам. Это не «конкуренция» с медиа-концернами, а просто выход за пределы их прежней информационной монополии.
Иноземцев перечисляет еще некоторые характерные признаки этого нового типа альянсов:
Креативная корпорация, как правило, не следует текущей хозяйственной конъюнктуре, а формирует ее. Продукция креативной корпорации чаще всего представляет собой качественно новые знаниеемкие продукты или услуги. Креативные корпорации не только способны развиваться, используя внутренние источники, но и обнаруживают возможность постоянно преобразовываться, давая жизнь все новым и новым компаниям. В условиях, когда деятельность становится ориентированной на процесс, а отдельные работники в некотором смысле персонифицируют определенные его элементы, что находит свое воплощение в достаточно условном, но вполне показательном термине «владелец процесса» («process owner»), не существует серьезных препятствий для выделения из компании новых самостоятельных структур. В результате от креативной корпорации постоянно «отпочковываются» самостоятельные фирмы, в своей последующей деятельности руководствующиеся подобными же принципами. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что в следующем столетии роль и значение креативных компаний будут лишь возрастать.
Возрастающая роль виртуальных корпораций вызывает и возрастающую тревогу у аналитиков, обслуживающих «реальное государство». Так, думский советник Александр Давыдов рисует весьма правдоподобный прогноз того, чем кончится столкновение государственной пирамиды с сетевыми «неформалами»:
Возможность связи «всех со всеми» создает ситуацию, когда для любого действия всегда найдется доселе неизвестная форма его реализации, а контролировать неведомое невозможно… Способом обессмысливания фискальных усилий государства, видимо, станет создание «дурной бесконечности» объектов контроля путем юридического дробления производства, то есть предельное, вплоть до уровня «предпринимателя без образования юридического лица», разнесение технологических процессов по формально независимым соисполнителям. В принципе, передовые информационные технологии позволяют организовать такую систему торговли, в которой товары будут обмениваться друг на друга без посредничества какого бы то ни было общего эквивалента стоимости. Появления же безденежной экономики современное государство не выдержит, поскольку деньги являются его ключевым инструментом.
Те, кто не мыслит себе реальности без иерархических категорий, символически стремятся достроить «усеченную пирамиду». Однако для ока, которое открывается на ее вершине, эта постройка более не нужна.
1.7. Альтерглобализм
Опустошенное чучело Абсолютного Государства окончательно рассыпалось в 1989 году. Капитализм, последняя идеология — не более чем экзема на коже Позднейшего Неолита. Это машина желаний на холостом ходу. Я надеюсь дожить до его полного разжижения, как на картинах Дали. И когда гнойник прорвется, хотелось бы иметь место, куда деться. Разумеется, смерть Капитализма вовсе необязательно повлечет уничтожение всей человеческой культуры монструозными годзиллами; это всего лишь фильм ужасов, самим Капитализмом пропагандируемый. Все же естественно ожидать, что загипнотизировавший сам себя труп будет корчиться в спазмах, прежде чем наступит последнее окоченение, — и не слишком умно пережидать шторм в Лос-Анджелесе или в Нью-Йорке. (А шторм, возможно, уже начался.) [С другой стороны, Нью-Йорк и Лос-Анджелес — не худшие возможные места для создания Нового Мира; можно представить себе районы, целиком захваченные сквоттерами (→ 3–8); уличные шайки, превратившиеся в Народную Милицию, и т. д. ] Так вот, цыганско-бродяжнический образ жизни, возможно, хороший ответ на продолжающееся разложение Слишком Позднего Капитализма — но я лично предпочел бы старый добрый анархистский монастырь где-нибудь далеко — традиционное место, в котором «ученые» пережидают «Темные века». Чем в большей степени мы организуем это сейчас, тем проще нам будет потом. Я не говорю о «выживании» — меня не интересует только «выживание». Я хочу процветать. Назад в Утопию.
Хаким-Бей. Постоянные Автономные ЗоныСегодня так много говорится о глобализации, что может создаться впечатление, будто этот процесс начался совсем недавно. Обычно его изображают так:
Буржуазия путем эксплуатации всемирного рынка сделала производство и потребление всех стран космополитическим… На смену старой местной и национальной замкнутости и существованию за счет продуктов собственного производства приходит всесторонняя связь и всесторонняя зависимость наций друг от друга. Это в равной мере относится как к материальному, так и к духовному производству. Плоды духовной деятельности отдельных наций становятся общим достоянием. Национальная односторонность и ограниченность становятся все более и более невозможными, и из множества национальных и местных литератур образуется одна всемирная литература.
Приведя эту цитату, автор книги «Что такое глобализация?» Ульрих Бек иронично признается, что взял ее не из какой-то современной аналитики, а из «Коммунистического манифеста» Маркса и Энгельса, опубликованного еще в 1848 году. Глобализация, таким образом, распознается как довольно давний исторический процесс, порожденный объективными экономическими и культурными закономерностями. Причина же того, почему о ней стали так активно говорить именно в последнее время, состоит в том, что этот процесс стал просто более наглядным после крушения великих антиутопий ХХ века (→ 1–2), пытавшихся в той или иной мере ограничить его своими идеологическими рамками. А также потому, что бурное развитие сетевых технологий и отношений радикально размыло все прежние национально-государственные границы.
Глобализация — необходимый атрибут утопического проекта, поскольку всякая развитая утопия желает быть глобально значимой. Однако грань между утопией и антиутопией здесь довольно зыбка и пролегает там, где эта глобальная значимость перерастает в претензию на глобальную монополию. В этом и состоит сущностная разница между глобализацией как объективным процессом и глобализмом — идеологией власти глобальных монополий. И, сколь бы парадоксально это ни звучало, именно глобализм является фактором, тормозящим глобализацию, поскольку сводит ее к власти глобальных монополий, построенных по пирамидально-иерархическому принципу, и препятствует развитию прямых сетевых отношений.
Именно с этой сложностью пришлось сразу же столкнуться неформальному интернациональному движению противников глобального монополизма, которых принадлежащие этим самым монополиям масс-медиа окрестили «антиглобалистами». Тем самым создавалось искаженное представление, будто эти молодые активисты из разных стран выступают против глобализации как таковой и пытаются отстоять свои национальные границы.[23] Хотя на деле они выступают лишь против сведения глобализации к власти глобальных монополий. Что же касается технологических и культурных преимуществ глобализации (свобода общения, передвижения и т. д.), то они не только не имеют ничего против этого, но даже наоборот — сами всемерно развивают новые технологии свободных информационных обменов. Словом, «нет ничего более глобального, чем антиглобализм», как афористически выразился американский обозреватель Уолтер Андерсон.
В предисловии к недавнему сборнику статей о теории и практике своего движения,[24] российские активисты заявляют:
Ярлык «антиглобализм» был нам приклеен неолиберальными средствами массовой информации. Это было сделано неслучайно: наши противники активно стремятся представить нас некими «луддитами XXI века», разрушителями основ цивилизации. Между тем — и об этом мы твердим постоянно — наши практические и теоретические задачи состоят в развитии позитивной альтернативы господствующей ныне неолиберальной капиталистической модели глобализации. Мы выступаем за интеграцию в интересах людей, культуры и природы, интеграцию, проводимую снизу и демократически. Вот почему мы — альтерглобалисты.
Термины «альтерглобализм», «альтернативный глобализм» уже давно в ходу у европейских и американских активистов этого движения, становящегося все более массовым. Однако, как и во всяком движении, обозначающем себя как «альтернативное», здесь появляется концептуальный риск подмены позитивных программ чистой реактивностью — когда «сопротивление противнику» становится самоцелью, собственный утопический проект выхолащивается.
Так, составитель этого сборника, московский профессор Александр Бузгалин, считающийся одним из ведущих теоретиков российского альтерглобализма, выдвигает много справедливых лозунгов об «анти-тотальности» и «анти-гегемонизме», называя главной мировоззренческой целью альтерглобалистов «преодоление отчуждения». В марксистской идеологии, которой следует этот автор, отчуждение означает присвоение господствующими структурами всех естественных отношений, качеств и способностей человека, в результате чего он начинает «воспринимать сам себя как функцию внешнего мира». С этой точки зрения борьба за возвращение человека «к самому себе», к своей личностной и творческой уникальности выглядит, безусловно, благороднейшей миссией. Но одновременно и — невыполнимой в рамках марксизма, который принципиально рассматривает человека как существо в первую очередь социально-экономическое, а потому неизбежно должное делегировать часть «самого себя» (или полностью) внеличностным идеологическим структурам «классовой борьбы», «прогресса», «социализма» и т. д. Здесь очевидно противоречие между реальным, очень многоликим движением альтерглобалистов и идеологией, под которую его пытаются подверстать. Это отражается и в примечательных авторских оговорках. Так, Бузгалин приветствует
полицентричность, сетевой принцип организации акций; отсутствие единой политической или иной институциональной структуры, организующей акции; подвижность и временность координирующих акции сетей.
Но — буквально несколькими строками ниже призывает сделать
команду — единой, рулевых — умелыми, а штурманов — способными проложить верный курс.
Этот образный ряд, явно преемствующий советские слоганы «Народ и партия едины» и «Верной дорогой идете, товарищи!», довольно наглядно свидетельствует о том контрасте, который существует в самом альтерглобализме между уличным молодежным движением и кабинетными профессорами, желающими им «порулить».
Эта идеологичность большинства самопровозглашенных теоретиков альтерглобализма заставляет их продолжать модернистское деление политики на «левую» и «правую». (→ 1–3) Сами себя они именуют «левыми», а политику глобальных монополий — «правой». Хотя в ситуации постмодерна этот дуализм уже не только совершенно неадекватен, но и способен представить ситуацию «с точностью до наоборот» — к примеру, глубокое увлечение многих демонстрантов различными культурами и религиями (а традиционализм обычно соотносится с «правизной») — против модной «левой» риторики заседателей глобальных финансовых форумов…
Разумеется, теоретики альтерглобализма совершенно правы в своем подчеркнутом размежевании с теми, кто истолковал модное слово «антиглобализм» как возврат к национальной изоляции. Но вместо ироничного отношения к этим гостям из прошлого бывает странно наблюдать настолько резкие инвективы в их адрес, которые порой превосходят даже критику глобальных монополий. Более того, на альтерглобалистских сайтах иногда встречается такая суровая идеологическая цензура (вплоть до того, что всех, публично не исповедующих «левую веру», объявляют «фашистами»), которая напрочь противоречит декларируемой «свободе» и выглядит каким-то кривозеркальным преувеличением и без того жесткой политкорректности неолиберальных масс-медиа.
Именно поэтому здесь представляется уместным привести фрагмент из романа «Гелиополь» Эрнста Юнгера — автора, которому и в нацистской Германии лепили ярлык «фашиста». В этом романе, написанном в середине ХХ века, предсказывается одно уникальное технологическое изобретение эпохи глобализации, которое к настоящему моменту существует пока только в своих «составляющих» — электронное удостоверение личности, кредитная карточка, интернет, мобильный телефон и т. д. Но тенденция к их синтезу становится все более заметной. И предсказание Юнгера особенно ценно тем, что наглядно демонстрирует глубинную, параллельную взаимосвязь утопии технической свободы и антиутопии социального контроля. Для многих странствующих альтерглобалистов это наверняка может стать куда более плодотворной пищей для ума, чем идеологические догматы своих самозваных «рулевых».
Фонофор стал идеальным средством планетарной демократии, таким средством коммуникации, которое незримо связывало каждого с каждым. Присутствие на народных референдумах, форумах, участие в рыночных операциях расширилось до размеров всей планеты и даже вышло за ее пределы. Прежде всего фонофор необыкновенно все упрощал… Правда, констатировал Сернер, право ставить вопросы всегда принадлежало немногим. И хотя все могли слышать, о чем идет речь, и давать свои ответы, темы референдумов, однако, определяли единицы. Царило пассивное равенство при огромной разнице функций. Старый обман избирательного права повторялся теперь с помощью вычислительной техники.
Фонофор носил также характер опознавательной эмблемы, поскольку определял его обладателя prima vista как лицо, относящееся к деловым и политическим кругам. Прежнему поражению в гражданских правах соответствовало теперь лишение права на фонофор, что означало вычеркивание из системы координат. Потеря личного номера влекла за собой потерю личности.
Луций взял золотой аппаратик и поднял его против света. Словно читая рекламный текст, он показывал Будур Пери на светящиеся цифры:
— Аппарат универсальной связи. Модель для абонента с нормальным слухом. Не подлежит купле-продаже и передаче другому лицу; предназначен только для выполнения служебных функций владельца, отнюдь не для личного пользования, за исключением лиц, отмеченных особыми почестями.
Сообщает в любое время суток местное и астрономическое время, долготу и широту, погоду на данный момент и прогноз на дальнейшее. Заменяет удостоверение личности, разные пропуска, часы, солнечные часы и компас, навигационные и метеорологические приборы. Передает автоматически на все спасательные станции точные координаты местонахождения владельца в случае возникшей опасности на суше, на воде и в воздухе. Определяет методом пеленгации направление и маршруты на пути к желаемой цели. Удостоверяет лицевой счет владельца в энергионе и заменяет тем самым чековую книжку для любого банка, любого почтового ведомства и при непосредственных расчетах по оплате за проезд на всех видах транспорта. Служит также гарантом, если требуется помощь местных властей. Дает право отдавать приказы при беспорядках в городе.
Передает программы всех радиовещательных станций и информационных агентств, академий, университетов, а также периодические сообщения Координатного ведомства и Центрального архива. Позволяет заглянуть во все книги и рукописи, по мере того как Центральным архивом была осуществлена их звукозапись и произведена регистрация в Координатном ведомстве. Предоставляет возможность подключения к театрам, концертным залам, биржам, лотереям, собраниям, избирательным кампаниям и конференциям и может быть использован как газета и справочник, как библиотека и энциклопедия.
Гарантирует связь с любым другим фонофором мира, за исключением секретных номеров. Может быть экранирован от внешних звонков. Допускает одновременное подключение любого числа абонентов, что означает возможность присутствия на конференциях, докладах, совещаниях. Таким образом, все преимущества телефонной связи объединены в нем с преимуществами радиосвязи.
Впрочем, тут имеется еще один технический недостаток, а именно: пока вы пользуетесь аппаратом, ведете прием или передаете сами, вы полностью на крючке. Место, где вы находитесь, всегда можно безошибочно установить. Для полиции это неоценимое качество фонофора.
* * *
Вышедшую в 2000 году книгу итальянского политзаключенного Антонио Негри и американского философа Майкла Хардта «Империя» проницательные читатели уже назвали «Капиталом» новой эпохи». Негри и Хардт действительно похожи на «Маркса и Энгельса» мирового альтерглобалистского движения. Прежде всего потому, что они напрочь распрощались со всеми устаревшими иллюзиями относительно «защиты национальных государств от глобального рынка» и выдвинули революционную стратегию — вместо обреченной борьбы с глобалистами на стороне государств необходимо, напротив, всемерно развивать процессы глобализации, способствуя дальнейшему краху национально-государственных перегородок между людьми. Чтобы затем, уже в глобальном мире, лишить глобалистов возможности создавать монополии и диктовать всему человечеству единые стандарты потребления и образа жизни. Методологически это действительно четко соответствует марксистскому тезису о том, что пролетариат должен не солидаризоваться с отживающими феодалами против капиталистов, но напротив — всемерно поддерживать развитие капитализма, чтобы стать его «историческим могильщиком». С одной лишь разницей — нынешний капитализм уже давно и совершенно не соответствует историческому образу «буржуа», но являет собой полувиртуальную, но оттого только более эффективную, планетарную структуру власти:
Безусловно, в процессе глобализации суверенитет национальных государств, пока все еще эффективный, будет стремительно разрушаться. Первичные движущие силы производства и обмена — деньги, технологии, люди и товары — все с большей легкостью пересекают национальные границы; поэтому у национальных государств остается все меньше и меньше возможностей регулировать эти потоки и воздействовать на экономику. Даже наиболее влиятельные национальные государства не могут больше считаться носителями верховной суверенной власти ни вне, ни внутри собственных границ. Тем не менее, упадок суверенитета национальных государств вовсе не означает, что суверенитет как таковой приходит в упадок. На протяжении нынешних преобразований средства политического контроля, государственные функции и регулирующие механизмы продолжали управлять сферой экономического и общественного производства, а также обмена. Наша основная гипотеза состоит в том, что суверенитет приобрел новую форму, которая состоит из ряда национальных и наднациональных организмов, объединенных единой логикой господства. Этот новый глобальный вид власти и есть то, что мы называем Империей.
Негри и Хардт решительно отличают «Империю» от «империализма» — феномена, который они справедливо соотносят с ушедшей эпохой модерна. Империализм, о который Ленин сломал столько копий, остался в прошлом веке, когда мировые правила игры задавали крупные капиталистические державы. Но сейчас этих держав нет — разве что США, еще удерживающиеся за счет сильной исторической инерции своей «воплощенной утопии». (→ 1–1) Империя — нечто совершенно транснациональное, это феномен эпохи постмодерна, претендующий сделать этот «пост-» вечным, утвердить на планете некий «окончательный порядок». Ничего исторически нового здесь не может уже возникнуть в принципе. Любопытно, что у Генона встречается буквальное совпадение — крайнюю степень контр-традиционного общества он также предвидит в форме некой «священной империи»… Но Негри и Хардт рисуют ее более наглядно:
В противоположность империализму Империя не устанавливает территориальный центр власти и не опирается на фиксированные границы или преграды. Это — децентрированный и детерриториализированный аппарат управления, который постепенно включает всю глобальную сферу в свои открытые и расширяющиеся границы. Империя управляет гибридными идентичностями, гибкими иерархиями и множественными обменами, модулируя сети управления. Различные национальные цвета империалистической карты мира размываются и сливаются во всемирную имперскую радугу.
Местами эта конспирология, впрочем, сливается с параноидальностью — поскольку внешние признаки Империи и ее врагов становятся неотличимыми. Ведь альтерглобалисты также выступают за децентрацию, практикуют множественные обмены, да и флаги некоторых из них именно радужные… В условиях этого тотального всесмешения для «различения духов» следовало бы применить ницшеанскую разницу между активными и реактивными силами — между теми, кто является самостоятельным субъектом исторического действия, и теми, чья деятельность обусловлена лишь сопротивлением ему, не содержа в себе никаких собственных позитивных целей. Все утопии перерастают в антиутопии именно когда противодействие чему бы то ни было становится в них самоцелью и начинает доминировать над воплощением собственных идеалов.
Тупик этой безвыходной реактивности освещается в разработке Транслаборатории «Сверхновый свет»:
Сегодня те, кого не устраивает теснота, завершенность окружающего мира, тирания окостеневших структур, вынуждены ограничиваться суррогатом, одним из шаблонных «протестных» или «нонконформистских» выборов: революция, антиглобализм, анархия, андеграунд, традиционализм и т. п. Все эти выборы по-своему ущербны, ибо вынуждают растрачивать энергию свободы на бессильное противодействие старому по правилам этого старого, а не на строительство нового, исходя из его собственной логики. Типичной для нашего времени является фигура революционера, который сам не верит в реальность революции и использует революционную позу как прибыльный поп-арт. Типичной является фигура традиционалиста, который сам первым готов признать полное вырождение традиции, а свою миссию видит в том, чтобы ее безутешно оплакивать.
«Протест» всегда реактивен, он наполняется смыслом от того, против чего направлен. Или же за протестом стоит собственный «позитив», защищаемый этим протестом и выталкиваемый «враждебной реальностью»? Если так, то этот «позитив» первичнее, чем протест. Значит, смысл искомой идентичности — не в том, что она против существующей реальности, а в том, что она выходит за пределы существующей реальности. Она стремится к чему-то, чего в реальности нет и быть не может — пока реальность такая, какая есть. Это не «Воля к Протесту», а «Воля к Чуду».
* * *
Альтерглобалистское движение возникло и развивается в эпоху постмодерна — именно поэтому оно не вписывается в плоские «право-левые» идеологические рамки модерна. Но если «правые», пытающиеся играть на поле «антиглобализма» свою заведомо проигрышную партию защиты национальных государств, во всяком случае не претендуют на «приватизацию» всего движения, то на другом идеологическом фланге слова «альтерглобализм» и «левые» зачастую просто рассматриваются как синонимы. Эта устаревшая (и кстати, популярная именно в Старом Свете) модернистская идеологизация способна привести только к сужению потенциальной базы альтерглобалистов.
В постэкономическом обществе (→ 1–4), где труд все более сменяется творчеством, апелляция к сугубо экономическим отношениям, которые для марксистов и вообще большинства «левых» являются фундаментальными, становится все менее эффективной. Разумеется, требование социальной справедливости в глобальном масштабе было и останется основным стимулом альтерглобализма. Однако когда эта справедливость истолковывается сугубо реактивно и распределительно, в духе «все взять и поделить», за этим постепенно исчезают все идеальные проекты движения — воля к новому историческому творчеству, живое мифологическое многоцветье, которое неподвластно никаким идеологам. Сведение же теории альтерглобализма к функции «доброго глобального завхоза» означает то же самое «отчуждение людей от самих себя», в котором привыкли обвинять глобальные монополии.
Субъектом исторического действия, воплощающим в себе все многообразие альтерглобалистских тенденций, выступают новые общественные движения, свободные от «право-левого» дуализма эпохи модерна, — молодежные, экологические, женские, ролевые, граждане виртуальных государств (→ 1–5) и т. д. Они уже по определению транснациональны и потому воспринимают всю глобальную политику как «внутреннюю», а «внешней» могут называть разве что контакты с инопланетянами (да и то не все). Именно на глобальном пространстве их творчество, мифы и утопии конкурируют с навязчивыми стандартами Империи. А порой — и с идеологией некоторых «антиимпериалистов».
Экономист (и, видимо, поэт) Светлана Долматова предлагает оригинальное русское прочтение термина «глобализация» в ее имперском варианте — «оглобление»:
«Оглобление» как одно из проявлений феномена глобализации имеет противоположные ему как целому характеристики: однобокость, однополярность, происхождение из одного центра вопреки универсальной общности… «Оглобление» — это огрубление, оглупление, озлобление и, фактически, угробление богатого своим многообразием и взаимосвязями глобального мира.
Движение сопротивления этому она блестяще предлагает именовать «Движением антиоглобалистов», сокращенно — ДАО-глобалистов. И напоминает две замечательные староверческие (→ 2–3) пословицы из словаря Даля: «Об одной оглобле ездить грешно» и «Антихристова колесница об одной оглобле». Какой бы эта оглобля ни была — левой или правой.
1.8. Глокализация
Вряд ли тотальное присутствие «МакДональдса» вытеснит качественную национальную кухню, а голливудские спецэффекты заполнят весь рынок киноиндустрии. Этот слой глобальной масс-культуры непременно будет присутствовать, но не будет тотальным и определяющим, а просто займет свое место. И произойдет это именно по причине усилившейся глобализации.
Транслаборатория. Наша Федерация будет глобальнойКритики глобализации обычно упрекают ее в том, что она нивелирует и унифицирует все мировые культуры. Однако более наблюдательные аналитики уже давно обратили внимание на то, что глобализация избегает тенденции к тотальному однообразию. Напротив, с усилением глобальных процессов возрастает и их дифференциация — множество локальных культур и традиций словно бы обретают «второе дыхание». Глобализация оказывается весьма многоликой и многозвучной — даже такой законодатель мировых музыкальных мод, как MTV, не может обойтись без разнообразнейших этнических композиций стиля «World Music». Показательно, что само название этого стиля — «мировая музыка» — подчеркивает не какую-то всеобщую универсальность, а именно уникальность различных культур. Хотя в данном случае они представляются не в архаично «чистом» виде, а в синтезе с действительно универсальными, цифровыми музыкальными технологиями. (→ 2–5) Но во всяком случае, парадокс налицо — чем сильнее глобализация, тем востребованней оказывается всевозможная локальная специфика.
Для обозначения этого двоякого процесса английский социолог Роланд Робертсон предложил очень удачный термин «глокализация». Он утверждает, что глобальные и локальные тенденции
в конечном счете взаимодополняемы и взаимопроникают друг в друга, хотя в конкретных ситуациях могут прийти в столкновение.
Эти негативные «конкретные ситуации» порождаются еще дуалистическим сознанием эпохи модерна, когда конфликт между традиционными локальностями и универсалистскими тенденциями казался закономерным и самоочевидным. Но в ситуации постмодерна начинается их взаимная адаптация и более того — осознание взаимозависимости и взаимообусловленности. Локальные культуры осознают, что они могут сохраниться и развиваться лишь будучи известными и узнаваемыми в глобальном пространстве — изоляционизм их погубит. А субъекты глобальной экономики, в свою очередь, понимают, что всеобщая унификация жизненных стандартов только вредит динамике рынка. Ульрих Бек формулирует это даже более радикально:
Додуманная до конца унифицированная культура, в которой, с одной стороны, отмирают локальные культуры, а с другой — все потребляют (едят, спят, любят, одеваются, аргументируют, мечтают и т. д.) по одной схеме, даже если разделять все это в строгом соответствии с доходами той или иной группы населения, означала бы конец рынка, конец прибылей.
Маркетологи, разрабатывающие «глобальные бренды», в ситуации мультикультурного постмодерна рискуют обанкротить собственные компании. Глокализация изменяет саму стратегию брендинга, требуя максимального учета культурных особенностей потребителя. «Локализуется» не только сам продукт, но и весь комплекс маркетинговых коммуникаций, и порой даже имидж самих маркетологов…
Глокализация проявляется зачастую в самых неожиданных контекстах и активно используется теми компаниями, которые привыкли видеть в числе самых настойчивых проводников глобальных стандартов. Так, во французских роликах «МакДональдса» всячески воспевается качество французских продуктов, из которых только и получаются «настоящие гамбургеры». А кубинцы, уже десятилетиями пьющие коктейль «Cuba libre» («Свободная Куба») из рома и кока-колы, могут даже обидеться, если им сообщат, что кока-кола — напиток янки. По-видимому, вскоре подвергнется любопытному переосмыслению и понятие «квасного патриотизма». Та же компания «Кока-кола» в 2002 году приобрела у одной из эстонских фирм не только традиционную технологию изготовления кваса, но и бренд «kvass»!
Однако эта практика не является достоянием лишь «акул мирового бизнеса». Она открывает и аналогичные, «зеркальные» возможности для локальных производителей уникальных товаров и услуг повсюду в мире. На адаптацию глобальными монополиями своих стандартов к местным особенностям они отвечают глобальным продвижением собственных локальных брендов. Часть из них (наиболее успешная) обычно скупается глобальными корпорациями, но все же ни одна монополия не может производить «всё». Да и сами эти монополии, развивая множество локальных брендов, все более теряют имидж неких глобальных «стандартизаторов». Глокализация, в сущности, ведет к тому, что глобальность оказывается не каким-то одномерным пространством, но транс-локальностью.
* * *
Глокализация, однако, не означает буквальной реставрации прежних местных особенностей «доглобальной эпохи». Она выводит эти особенности из-под опеки национальных государств напрямую в глобальный мир. «Новый регионализм», все более стирающий государственные границы, развивается одновременно на макро- и микрорегиональном уровне. Его глубоко анализирует японский экономист Кеничи Омаэ в книге с весьма говорящим названием: «Конец национального государства. Подъем региональных экономик».[25] Там описывается становление и развитие на многих континентах особых экономических зон, объединяющих регионы, юридически принадлежащие к разным государствам, но практически гораздо сильнее связанные между собой. Автор обращает особое внимание на бурно развивающееся пространство Юго-Восточной Азии, однако и в «старой Европе» этот процесс становится все более наглядным и даже доминирующим.
Унитарное национальное государство было стержневой политической моделью эпохи модерна. Но сегодня на смену «Европе национальных государств» все более настойчиво приходит «Европа регионов» — и этот процесс набирает силу именно по причине общеевропейской интеграции. Так макро- и микрорегиональный уровни формируют единую, но многообразную регионально-континентальную сеть, где прямые контакты между регионами, упростившиеся благодаря общей европейской валюте, делают государственную бюрократию излишней. Неудивительно, что ее представители и идеологические защитники пребывают в состоянии паники:
Национальное государство, величайшее политическое образование Запада, находится на краю гибели. В Великобритании бывшие королевства Шотландии и Уэльса имеют свои парламенты. Во Франции бретонцы, баски и эльзасцы требуют права на самоопределение. Корсика настаивает на своей независимости и праве говорить на своем языке (какая наглость! — В.Ш.). В Италии существует Лига, жаждущая отделить Север от Юга. В Венеции образована партия, мечтающая об отделении этого города от государства…[26]
С точки же зрения глокализации этот процесс выглядит совершенно иначе. Дабы не раствориться в потоке глобальной, усредненной масс-культуры, каждый регион просто вынужден создавать свой уникальный бренд, узнаваемый в мировом контексте. Развивается и логично дополняет этот процесс система еврорегионов — культурно близких территорий на границах двух или нескольких государств, специфика существования которых постепенно приводит к их юридической экстерриториальности, т. е. независимости от той или иной «метрополии» с ее централизованным бюрократическим аппаратом. Причем реализуется этот проект не только внутри ЕС, но и на его границе с Россией (Еврорегион Карелия).
Этот процесс вполне соответствует «духу постмодерна» (→ 1–3) с его особым вниманием к междисциплинарным пространствам. Кроме того, в сетевом информационном обществе географические расстояния окончательно утрачивают какое бы то ни было значение для интенсивности взаимодействий. Среди мировых альтерглобалистских движений также все больше становится открывателей новых, трансрегиональных пространств.
Знаменитым примером такого движения является «Партизанская армия субкоманданте Маркоса», действующая в мексиканском штате Чиапас. Эта полувиртуальная армия выдвигает свою глобальную утопическую доктрину, основываясь на революционных латиноамериканских и более древних, индейских традициях. При этом она особенно заботится об информационных технологиях продвижения своего имиджа, справедливо полагая, что без такой глобальной узнаваемости все это «восстание» осталось бы мало кому известным и интересным эпизодом истории прошлого века. Это приводит к любопытным парадоксам — вроде того, что о Маркосе гораздо более наслышаны в заокеанской Европе, чем в географически соседних США.
Вся мировая политика в процессе глокализации трансформируется из межгосударственной во внутриглобальную. Но в процессе этой трансформации все более обнаруживается и нарастает разница между позициями «вертикального», иерархического глобализма и «горизонтальной», сетевой трансрегиональности. Первая позиция выражает объединенные интересы глобальных монополий и государственных бюрократий. Именно ими объявлена «война международному терроризму», в котором подозревают всех защитников локальных идентичностей, критически настроенных по отношению к монополиям и государствам, даже если они и не предпринимают никаких насильственных действий. Но адекватное понимание природы терроризма и решение этой проблемы может быть найдено лишь в контексте трансрегионального мировоззрения:
Проблема «права на самоопределение» является основным идеологическим базисом для мирового терроризма и исходит из репрессивного давления 200 государств на 5000 этносов. Создание глобальной трансфедеральной и трансрегиональной структуры позволит устранить этот объективный базис у терроризма, так как половина террористов добьются того, чего хотят — самостоятельности своих народов, а другая половина, являющаяся профессиональными преступниками без каких-либо политических целей, просто пополнит ряды мировой преступности, которая на самом деле давно уже живет в едином мире и только пользуется противоречиями между отдельными государствами.[27]
* * *
Причина слабой популярности альтерглобалистских движений в современной России состоит в том, что их идеологи, справедливо критикуя глобальный монополизм, часто забывают оглянуться на государство, в котором живут сами. А оно построено по принципу едва ли не самой жесткой монополии в мире. Ни в одной крупной стране, кроме нынешней РФ, в столице не сосредотачивается до 90 % всех финансовых, политических, информационных ресурсов, а все пространство за пределами столичной кольцевой дороги, в том числе города с миллионным населением, не объявляется «провинцией». Этот монополизм проявляется и в культурно-языковой сфере, где все континентальное многообразие России подавлено навязыванием московского стандарта, изображаемого как «норма». Если во Франции и, тем более, Великобритании региональные культуры успешно добиваются официального признания и равноправного сосуществования наряду с «титульной», то в РФ даже русские регионы вытеснены на уровень некоей «провинциальной экзотики». И до тех пор, пока московские альтерглобалисты, увлеченные виртуальной борьбой с «глобальным монополизмом», не замечают этой, куда более очевидной и конкретной, монополии, они будут выглядеть в российском культурном контексте довольно экзотическим движением.
Москва в современной России играет фактически ту же самую роль, что и нынешние США на мировой арене. Тот же финансовый и информационный централизм, та же «вертикаль власти», та же ставка на силовое решение локальных проблем. Эта политика глобальной «американизации» и российской «московизации», безусловно, имела свои определенные исторические позитивы. Прежде всего они были связаны с тем, что в ХХ веке Америка в мире и Москва в СССР пользовались имиджем носителей «духа современности» и действительно оказали немалое модернизирующее влияние на ориентировавшиеся на них страны и регионы. Однако наступивший затем постмодерн — не отвергая никаких технологических, социальных, стилевых новаций эпохи модерна — переносит акцент с погони за «современностью» на парадоксальные творческие проекты. Но именно к этому ни Америка, ни Москва оказались не готовыми — если не считать, конечно, «творческим проектом» само сохранение их «центрального» статуса.
Более того, сам централизм в какой-то момент становится глубоко провинциальным явлением. Транснациональные движения, прилежно усвоив модернизирующие «уроки Америки», перестают нуждаться в ее глобальном лидерстве. Аналогично и формирующиеся российские трансрегиональные проекты, многому научившись у «продвинутой Москвы», в дальнейшем стремятся обойтись без ее централизаторской опеки. Эти процессы происходят не в результате какого-то умышленного «сепаратизма», а потому что сами «центры», зафиксированные на собственной, устаревающей картине мира, перестают понимать текущие глобальные тенденции. Забавно наблюдать, как многие американцы, уверенные в своем «глобальном лидерстве», не могут найти на карте территории «подданных», а московская «элита» продолжает проповедовать плоскую «восточно-западную» геополитику, не замечая, что глобальные отношения уже пришли в соответствие с формой нашей планеты…
Глокализация сменяет прежнее геополитическое соперничество централизованных национальных государств сетевой геоэкономической конкуренцией и прямым геокультурным обменом между различными регионами. Причем эти регионы со своими уникальными брендами первоначально могут возникать и как виртуальные проекты. Точно так же, как некогда из «виртуальных» картин Томаса Мора и Френсиса Бэкона, на дальней, неведомой периферии тогдашнего мира кристаллизовалась и сама Америка.
1.9. Рождение Севера
Иммиграция — острейшая проблема, требующая немедленного решения, ибо ставится вопрос о том, а кто мы, американцы, собственно, такие? Подобно Миссисипи, неторопливой, долгой и дарующей жизнь, иммиграция во многом обогатила Америку, о чем не позволит забыть наша история. Но когда Миссисипи выходит из берегов, опустошение остается чудовищное…
Патрик Бьюкенен. Смерть ЗападаБывший советник Ричарда Никсона и Рональда Рейгана, а ныне свободный философ Патрик Бьюкенен издал в 2002 году книгу с шокирующим для его кругов названием — «Смерть Запада». По многомерности сюжета и фундаментальности выводов эта работа ничуть не уступает культовому среди западных либералов «Концу истории» Френсиса Фукуямы. Но написана она с принципиально противоположных и далеко не оптимистических позиций.
Работу над этой книгой Бьюкенен начал еще до терактов 11 сентября, но они вполне подтвердили его вывод о том, что «линия фронта» грядущих глобальных коллизий пройдет не по геополитическим границам между разными государствами, а внутри самой западной цивилизации. Показательно, что самолеты, врезавшиеся в ВТЦ и Пентагон, были не иностранными бомбардировщиками, но захваченными гражданскими лайнерами внутренних американских рейсов. Некоторыми выводами книга Бьюкенена близка другому «оракулу» западных интеллектуалов — «Столкновению цивилизаций» Сэмюэла Хантингтона. Но в отличие от него Бьюкенен смотрит на будущее Запада гораздо более тревожно, предрекая ему гибель не от столкновения с иными цивилизациями, а по причине его собственного вырождения.
Картина этого вырождения у автора выглядит гораздо мрачнее пожеланий иных недоброжелателей Запада. Таких недоброжелателей, кстати, хватает и в России — хотя Бьюкенен включает русских в западную цивилизацию, предрекая всем общую судьбу.
За вторую половину ХХ века население Земли увеличилось вдвое, с трех до шести миллиардов человек, но белые народы практически прекратили свое воспроизводство. По прогнозам ООН, на которые опирается Бьюкенен, к 2050 году белые будут составлять всего лишь одну десятую часть мирового населения, причем треть из них окажется преклонного возраста. Пятивековая (если вести отсчет от экспедиции Колумба) экспансия народов Запада сменяется «реконкистой» — исконное жизненное пространство «золотого миллиарда» все решительнее занимают выходцы из Азии, Африки и Латинской Америки.
Уже сегодня вся Европа — за исключением Турции, Албании и мусульманских регионов России — демонстрирует отрицательную демографическую динамику. При сравнительно высоком уровне жизни и развитии медицины смертность, тем не менее, неуклонно превосходит рождаемость. В этих условиях иммиграция становится практически неизбежной — хотя бы для поддержания социальной инфраструктуры.
Поэтому, в отличие от недалеких расистских идеологов, Бьюкенен не винит в этих процессах самих иммигрантов. Его анализ причин депопуляции западных обществ гораздо глубже:
Иммигранты не виноваты в разрушении Европы. Европейцы совершают этническое самоубийство. То, что мы переживаем в Европе и зачастую повсюду на Западе, является закатом христианства и западноевропейской традиции. Многие американцы чисто инстинктивно положительно относятся к иммиграции, потому что их дедушки и прадедушки сами были иммигрантами. Старые мифы все еще имеют значение, и это можно понять. Но нужно также осознать, что мы имеем дело с миллионами людей из стран с культурой, которая чужда нашему образу жизни. Мы идем прямым курсом к подлинной балканизации (→ 3–4) нашего общества.
В отличие от иммигрантов прошлых эпох нынешние зачастую даже не стремятся к интеграции в западные общества, но обосабливаются в растущие и порою весьма агрессивные «гетто». Возникает такое явление, как «расовый рэкет» — то, за что белому грозит неотвратимое наказание, цветному, как представителю «угнетенного меньшинства», может вполне сойти с рук. Под влиянием догматов политкорректности на Западе все более начинает господствовать «расизм наизнанку» — когда, например, в академической сфере любая, даже самая отвлеченная критика идей небелого ученого может быть обжалована в суде! Этой же удобной моралью «вечно гонимых» охотно руководствуются и криминальные отморозки из цветных кварталов. Бьюкенен приводит целый ряд впечатляющих случаев «странного» поведения массовой прессы, поднимающей крик всякий раз, когда преступления совершают белые, но упорно замалчивающей гораздо более частые и порою шокирующие акты насилия со стороны представителей «меньшинств». Он исследует причины этой предвзятости:
Преступление есть преступление, оно подлежит наказанию, вне зависимости от этнической принадлежности или цвета кожи совершившего его лица. Справедливость должна быть равнодушной к цвету кожи. Однако кампания за выделение «преступлений ненависти» в отдельную категорию противоправных деяний не имеет ничего общего со справедливостью, зато очень много — с идеологией.
«Преступления ненависти» («hate crimes») — это идеологический конструкт эпохи позднего модерна. Точнее — происходящая на фоне естественной постмодернистской мультикультурности какая-то нелепая реставрация догматов сталинского прокурора Вышинского о «презумпции виновности». Как тогда всякий попавший в поле зрения НКВД должен был доказывать, что он «не антисоветчик», так и теперь принадлежащие к «белому большинству» ставятся в положение «заведомо виноватых» и вынуждены постоянно оправдываться в отсутствии всяческих «-фобий». Так терпимость из этической нормы превращается в жесткую политическую идеологию (→ 1–2), напрямую отсылая к тем самым тоталитарным режимам, которым «политкорректоры» на словах противостоят.
Эту вывихнутую идеологию «заведомой правоты» иммигрантов придумали не они сами, но «левые» теоретики, доминирующие в культурно-информационной сфере Запада. Хотя всякая идеология, как точно заметил Маркс, это «ложное сознание». Всем идеологиям свойственно подгонять под себя или игнорировать реальное мировое многообразие. На это обращал внимание и такой полярно противоположный Марксу мыслитель, как Юлиус Эвола:
Белые, левые французские интеллектуалы и деятели искусств, совместно с шайкой Ж.-П. Сартра выдумали и воспели негритюд, создав миф, до которого никогда бы не додумался ни один негр. Эта нелепая выдумка должна была стать для негров чем-то подобным тому, чем является итальянскость для Италии, германскость для Германии и т. д., хотя негры никогда не составляли единого народа с общей цивилизацией, ибо не существует единой «негритянской нации», но есть множество родов, племен и этносов, каждый из которых обладает своими традициями, обычаями и верованиями, значительно разнящимися между собой.
Однако именно так, искусственно, белыми «антирасистами» и была создана «расовая проблема», приобретшая с тех пор глобальную напряженность. Эвола саркастически описывает возможные пути ее решения:
Хорошо известно, что негры не меньшие «расисты», чем белые, но их расизм почему-то ни у кого не вызывает протеста, хотя малейшее проявление расизма со стороны белых клеймится «нацизмом». Однако именно черный расизм является одной из основных причин обострения «расовой проблемы», принимающей все более угрожающий характер. Можно было бы довольно просто решить эту проблему, выделив американским неграм один из штатов (предварительно эвакуировав оттуда всех белых), дабы они наслаждались там своим негритюдом во всей его чистоте, сами бы управляли собой и делали все, что им заблагорассудится. К сожалению, о втором возможном решении, суть которого состоит в том, чтобы предложить всем черным расистам и активистам «Black Panthers» вернуться к своим сородичам в родные края, переселившись в новообразованные африканские государства, бесполезно даже мечтать: ни один американский негр никогда на это не согласится, поскольку его мнение о своих африканских собратьях гораздо ниже, чем у белых. Поэтому они предпочитают жить среди последних и извлекать выгоду из созданных теми общественных институтов.[28]
Анализируя деятельность этих институтов, Бьюкенен указывает на их философские основы и выносит однозначный, хотя и удивляющий своей диспропорциональностью вердикт:
Рассуждая о смерти Запада, мы должны рассматривать Франкфуртскую школу как главного обвиняемого в этом преступлении.
Неужели в гибели великой западной цивилизации повинен именно этот странствующий неомарксистский кружок, к тому же прекративший свое существование в 70-е годы ХХ века? Прямо-таки как горстка ранних христиан, сокрушившая Римскую империю… (→ 2–6) Однако Бьюкенена эти диспропорции не смущают, и он всерьез развивает конспирологию «марксистского заговора», в котором объединились агенты Коминтерна, вроде Антонио Грамши и Дьердя Лукача, и философы-космополиты, вроде Теодора Адорно и Герберта Маркузе. Общими усилиями они соорудили такую «критическую теорию общества», которая возобладала в массовой культуре, напрочь подорвала все устои западного христианства и подготовила почву для контркультурной и сексуальной революции 60-х годов.
Всякая конспирология, как известно, содержит элементы параноидальности. Но у Бьюкенена их оказывается, к сожалению, с перебором, что заставляет и к иным местам его книги, где затрагиваются совсем не смешные темы, относиться с некоторой ироничностью. Как выразился сам же Бьюкенен о революционной эпохе (причем такое сравнение в устах консервативного моралиста звучит весьма пикантно): «подобно героину, такая цивилизация хороша в малых дозах, а при передозировке просто-напросто убивает».
Если лево-либертарианская утопия Франкфуртской школы смогла сокрушить все вековые традиции западного общества — много ли эти традиции значили? Однако Бьюкенен оказывается тем более прав, чем дальше сами левые отходят от позитивных идеалов собственной утопии. Их уже все менее интересует революционная трансцендентность взглядов Маркса, Маркузе и Дебора — и они сами ныне предпочитают сооружать то «общество контроля», возникновения которого опасался Жиль Делёз. «Контролировать» они намерены всякие отступления за рамки политкорректности. А с другой стороны это же самое «общество контроля» предлагает и Бьюкенен — только с позиций «традиционной морали». Таким образом, мы наблюдаем странную «войну контролей» — «традиционалистского» и «прогрессистского». Войну, которая, в конечном итоге, ведет к их сращиванию — в форме «правого» полицейского государства с левой «полицией мысли». Всякие утопические проекты подавляются здесь уже с обеих сторон. Это характерное состояние поздней Римской империи, где также вполне уживались «патриотический» милитаризм снаружи и контролируемое «либертарианство» внутри…
* * *
Близкие Бьюкенену взгляды высказывает и Владимир Буковский, приходя к весьма неожиданным для бывшего советского диссидента выводам:
Это политическая корректность, новая доктрина контроля за речью, идеологическая цензура, которую ввели почти везде, а у нас в Англии чуть не ввели закон, почти «70-ю статью», по которому в тюрьму можно посадить человека за выражения, которые считаются выражениями ненависти. Любые замечания, которые всего лишь можно истолковать как расизм, — вот, «70-я статья», к ним предлагалось семь лет тюрьмы. Замечательное нововведение. Но я бы не хотел жить в таком мире. Я предпочел бы даже лучше бывший СССР, там все было яснее и четче, это была империя зла, и все это понимали. А это какая-то хитрая вещь — под видом того, что теперь сделают лучше, для твоего же блага тебе не дают жить так, как тебе нравится, тебя спасают от тебя самого.
Будучи сам натурализованным британским гражданином, иммигрантом, я симпатизирую этим людям, стремящимся найти убежище от преследований. Я симпатизирую способности этих людей жить в мультиэтническом окружении, имея дело с самыми разнообразными вкусами и образом жизни других людей. Я очень терпимый человек. Но одно дело быть терпимым к тому, что для тебя является чем-то данным, и совсем другое дело — намеренно создавать громадную проблему. Намеренно создавать проблему, которая впоследствии превратится в разрушительную. Мы все знаем, что адаптация вновь прибывших иммигрантов, и особенно иммигрантов из третьего мира, является весьма болезненным процессом. Он будет болезненным и для иммигрантов, и для общества.
Почему левые делают это? А потому, что это очень удобно. Во-первых, они получают привязанный к ним электорат, людей, которые обречены голосовать за трудовые или социал-демократические партии как единственные партии, распределяющие и перераспределяющие общественные средства и помощь, предоставляемые им. Во-вторых, мы все будем испытывать чувство вины. Это так мило. Любой, кто заикнется по поводу этой проблемы, немедленно превратится в парию. И это так удобно для того, чтобы применять репрессивные меры и затыкать рот любым оппонентам. В-третьих, окончательной целью этих людей, этих утопистов, является одно-единственное большое государство на весь мир.
В таком негативном восприятии утопии у Буковского, вероятно, сказывается еще влияние советской идеологии, считавшей саму себя «научной» и отрицавшей всякий «утопизм». Однако результаты этой «научности» всем известны… Что же касается проекта «одного-единственного большого государства на весь мир» — то это безусловная антиутопия. Вряд ли Буковский не читал Замятина и Хаксли. Причем совершенно неважно, кто проповедует эту антиутопию — «левые» или «правые». Главная проблема состоит в том, что противостоять ей может только иной — позитивный, действительно утопический проект новой цивилизации.
В нынешней мировой ситуации все одномерные «правые» и «левые» теории стремительно теряют свой собственный позитивный смысл, предлагая лишь те или иные реакции на оппонента. Глобализация все более размывает и другой известный дуализм эпохи модерна — географический: так, к Востоку или Западу относятся Австралия и Новая Зеландия? А соседняя с ними бурно развивающаяся Малайзия, чья столица Куала-Лумпур все более превращается в шедевр сверхсовременной архитектуры? А Париж, где негров, арабов и китайцев уже больше, чем потомков франков и галлов, — это чья столица?
Отсутствие новых утопических проектов означает безысходное зависание в негативном постмодерне, который временами откатывается к модернистским стандартам, причем воспроизводя их во все более жестких версиях. Преодолеть это зависание — значит произвести историческую «перезагрузку» и осмыслить нашу эпоху уже не как «пост-», но как «прото-». (→ 1–3) Это, кроме прочего, означает переход от консервативного к революционному мировоззрению. Что временами осознает даже такой консерватор, как Бьюкенен:
Дабы отстоять свое право жить так, как им хочется, отцам-основателям пришлось стать мятежниками. И мы должны последовать их примеру.
Однако новый «мятеж» уже требует выхода за рамки исчерпанного дуализма «Запад-Восток». Гораздо более адекватным новой реальности становится мышление категориями Севера. Север при этом противоположен не столько Югу (Юг для него это скорее некое цивилизационное Другое), сколько — «Центру», определяющему мировой статус-кво. Американские отцы-основатели, в сущности, демонстрировали именно такое, северное мышление, видя своего главного противника не в экспансивных испанцах и португальцах, довольно решительно колонизировавших южную часть Американского континента, но — в Британской монархии. Фактически они восстали против своей исторической родины, препятствовавшей своим детям обрести автономную субъектность на открытом ими новом пространстве. Это характерная логика утопистов — и Север вообще является «архетипом» множества утопий. (→ 2–1)
Север, выводящий сознание за пределы иерархически централизованного «существующего порядка», формирует особое мировоззрение — позитивный постмодерн, обращенный к чему-то еще неосуществленному, «прото-реальному». Север снимает все догматические противоречия, но не за счет их «усреднения», а — трансцендентализации. Истоки этой метафизики описывает в книге «Сакральная география Русского Севера» архангельский философ Николай Теребихин:
Мистицизм Севера скрыт в его запредельности, недоступности, неподвластности законам «земного тяготения». По мере продвижения на Север весь тварный, видимый и осязаемый мир начинает терять свои «обычные» твердые формы и установленные очертания. Структурированный космос расплывается, становится текучим, зыбким, призрачным. Мир покидает свою пространственно-временную ограниченность, предельность, конечность. Пространство истончается, просветляется и исчезает, растворяясь в стихии целокупного света полярного дня. Подобная же трансформация происходит и со временем, которое начинает замедлять свой ход и, достигнув своего предела, навсегда останавливается и становится вечностью.
Исламский метафизик Гейдар Джемаль подчеркивает особенности антагонизма «Севера» и «Центра»:
Идея севера противоположна идее центра… С точки зрения центра, север есть абсолютная периферия. Ее абсолютность дана в совершенной независимости от центра. Бытийные проблемы, возникающие в центре, лишены смысла на севере.
Так, среди этих «бытийных проблем», на Севере уже нет нужды в делении на «левых» и «правых», равно как и в «централистской» идеологии мультикультурализма. Эта идеология только усиливает разделение разных наций и рас. Ее сторонники уверены, что идентичность человека полностью определяется его происхождением, напрочь игнорируя при этом факторы индивидуальности. В качестве альтернативы этой идеологии Север предлагает практику естественной и недогматизированной мультикультурности. Каждый волен быть самим собой, не принуждаясь к выбору тех или иных «предначертанных» идентичностей. Именно такая практика и является для северных цивилизаций изначальной. Гиперборейцы различаются по принципу духа, а не крови.
В условиях, когда «новая ортодоксия» мультикультурализма пытается свести человеческие различия к этническим и расовым, противопоставить их друг другу, а всем не согласным с этой механической структурой наклеить хлесткие ярлыки, «гиперборейским» методом является постмодернистская деконструкция. Сам Бьюкенен демонстрирует неплохое владение этим оружием:
Единственно верная реакция на все действия новой ортодоксии — неповиновение, высмеивание и контратаки. Раз наши противники ввели в обиход такие политические прозвища, как «нацисты», «фашисты», «антисемиты», «националисты», «гомофобы», «фанатики», «ксенофобы» и «экстремисты», мы должны отвечать им тем же.
Он цитирует Сьюзен Зонтаг, которую «называют самым уважаемым интеллектуалом нашего времени»:
«Белая раса есть раковая опухоль на теле человечества. Белая раса, и только она одна, уничтожала автономные цивилизации везде, где она появлялась».
Замените в этих фразах словосочетание «белая раса» на «еврейский народ» — и вы получите замечательный отрывок из «Майн кампф»! Если бы Зонтаг писала так о евреях, ее общественная карьера на том бы и закончилась.
«Критическую теорию общества» также имело бы смысл обратить на ее собственных последователей. Вы критикуете «отчуждение»? Но при этом сами создаете небывало отчужденное, нервозное общество тотальной слежки за «некорректными высказываниями». French theory отвергает «логоцентризм»? ОК, но пусть тогда и сама не претендует на статус некоего непререкаемого «логоса». Вы гуманисты и пацифисты? А кто громче вас аплодировал бомбардировкам гражданских (!) объектов Югославии?
В ходе этой «северной деконструкции» можно задать еще множество «неудобных вопросов» западным «властителям дум». Однако же предпринимающим такой опыт деятелям, вроде Бьюкенена, надо быть последовательными. То есть и самим не уподобляться Гитлеру и Зонтаг, и не провозглашать никакие религии, расы, нации и образы жизни «исчадиями ада».
Впрочем, сама эта зацикленность на плоских «право-левых» разборках является характерной особенностью западной мысли. А все новое рождается из совпадения противоположностей. Запад никогда особо не жаловал и не считал вполне «своей» русскую философию — хотя она часто отличается именно таким, объемным синтезом. Возможно, в ней и находится то ключевое звено, которое символически воссоединит пространство глобального Севера.
* * *
Бьюкенен рекомендует:
Если Запад рассчитывает на долгую жизнь, ему следует как можно скорее возродить «задорный дух юности».
Но на протяжении всей своей книги сам постоянно противоречит этому пожеланию. Там гораздо больше старческого ворчания на «эту развращенную молодежь», требований «запрета абортов» и «возвращения к традиционным ценностям христианства».
Бьюкенену почему-то совсем не приходит в голову, что нежелание западной молодежи обзаводиться детьми может быть связано с самим имиджем нынешнего, позднего христианства. (→ 2–6) Никакие требуемые им «запреты» уже ничему не помогут, а только усугубят эту стремительную депопуляцию. Главная причина того, почему христианство демографически проигрывает другим религиям, состоит в том, что в нем резко разграничены сферы «сакрального» и «мирского», причем последнее зачастую объявляется «греховным».
На это еще век назад обращал внимание крупнейший русский мыслитель Василий Розанов. Он выдвигал авангардные проекты синтеза религии и сексуальности — но, скандальные в свое время, сегодня для христианской цивилизации они становятся жизненно насущными. Например, поселение в храмах новобрачных — от венчания до наступления беременности:
Уединение в месте молитвы, при мерцающих образах, немногих зажженных лампадах, без людей, без посторонних, без чужих глаз, без чужих ушей… какие все это может родить думы, впечатления! И как бы эти переживания протянулись полосой тихого религиозного света в начинающуюся и уже начавшуюся супружескую жизнь, — начавшуюся именно здесь, в Доме молитвы. Здесь невольно приходили бы первые «предзнаменования», — приметы, признаки, как у пророков древности. И кто еще так нуждается во всем этом, как не тревожно вступившие в самую важную и самую ценную, — самую сладкую, но и самую опасную, — связь.
Розанов напоминает слова Христа: «Царствие Божие подобно Чертогу Брачному» — и призывает «внести в нашу церковь Чертог брачный», искренне недоумевая, почему это вызывает такое возмущение клерикалов — при том, что в храмах он видит
комнату с вывеской над дверью: «Контора»; какового имени и какового смысла с утвердительным значением нигде нет в Евангелии. Позвольте, скажите вы, владыка Антоний, — почему же «Контора» выше и священнее «Чертога брачного», о котором, и не раз, Спаситель говорил любяще и уважительно?
Розанов не жалел сарказма в своей войне с «православными фарисеями»:
Семь старцев за 60 лет, у которых не поднимается голова, не поднимаются руки, вообще ничего не «поднимается», и едва шевелятся челюсти, когда они жуют, — видите ли, не «посягают на женщину» уже и предаются безбрачию. Такое удовольствие для отечества и радость Небесам.
Все удивляются на старцев:
— Они в самом деле не посягают, ни явно, ни тайно.
И славословят их. И возвеличили их. И украсили их. «Живые боги на земле».
Старцы жуют кашку и улыбаются:
— Мы действительно не посягаем. В вечный образец дев 17-ти лет и юношей 23-х лет, — которые могут нашим примером вдохновиться, как им удерживаться от похоти и не впасть в блуд.
Так весело, что планета затанцует.
В противовес этому ветхому пуританству Розанов выдвигал идею молодежной сексуальной революции — требуя, чтобы
не только разрешен бы был брак гимназистам и гимназисткам, но он был бы вообще сделан обязательным для 16-ти (юношам) и 14½ (чтобы не испортилось именно воображение) лет девушкам, без чего не дается «свидетельство об окончании курса».[29]
Если бы проект этих «гимназий-инкубаторов» был тогда реализован, вполне возможно, что эта утопия превзошла бы по своей жизненной энергетике коммунистическую и стала бы началом совершенно другой «новой эпохи». Однако не воплощена она и до сих пор, и даже наоборот — властвующие в современной России моралисты, поощряемые официальной церковью, принимают законы о повышении «возраста согласия». А затем сами жалуются на «демографический кризис» и рост психологических проблем и преступности у молодежи. Что ж, революции во многом делают именно их противники…
Абсурдность этой ситуации подчеркивается в аналитических разработках Центра славянских гендерных исследований «Святовит», предлагающего русским политикам радикальную программу «переоценки ценностей»:
С любой точки зрения, нападки на молодежную сексуальность — дело глупое и неблагодарное. Так вы никогда не завоюете молодежь на сторону патриотизма, а только отпугнете ее и выставите себя идиотами. Блядство, которое идет к нам вместе с западным масскультом, надо не вытеснять вообще из культуры (это невозможно), а перехватить инициативу и перекрасить его в патриотические цвета. Решающая победа наступит тогда, когда обескураженные западники начнут обвинять патриотов в бездуховности, антикультурности и блядстве, а на своих тусовках будут находить только стариков и старушек.[30]
Бьюкенен, страстно защищающий Запад, выглядит в этом контексте именно таким «стариком». И большинство нынешних российских «патриотов» со своим изоляционизмом и морализмом действительно уже ничем не отличается от таких «западников». У них множество даже буквальных идеологических совпадений — точно так же, как и Бьюкенен, они ненавидят «секс, наркотики, бунты и рок-н-ролл». Но только если они приписывают эти явления Америке, то Бьюкенен от этого усиленно открещивается и перекладывает всю ответственность на марксистов, в том числе и русских…
Оба эти «геополитических антипода» своим общим фарисейским консерватизмом и убивают христианскую цивилизацию. Они хором призывают «вернуться к религии», видя ее расцвет исключительно в прошлом, и совершенно не желают замечать, что в актуальной ситуации демографическим спасением христианства мог бы быть только «розановский синтез». Но для этого надо мыслить парадоксами, что консерваторам, увы, почти не свойственно.
Бьюкенен утверждает:
Америка остается страной, за которую стоит сражаться, — и последней утопией на этой планете.
Однако Америка ныне уничтожает саму себя — именно такой финалистской, «филофеевской» самоуверенностью, будто бы никаким утопиям после нее «не бывать», предавая ту безграничную волю к открытию, которой славились ее пионеры. Она теперь сражается не за неизведанный Новый Свет, но за сохранение мирового статус-кво. «Смерть Запада», если она последует, будет вызвана не иммиграцией извне, но полным исчерпанием его собственной воли к новому историческому творчеству. Если Запад не породит новой, позитивной утопии — он будет внутренне разорван ортодоксами «общества контроля» — «слева» и «справа». Однако всякая новая цивилизация в глобальном мире уже не будет сугубо «западной» — подобно тому, как ветхозаветные ортодоксы «ждали не того»… Это — контуры уже Сверхнового Света. (→ 2–9)
Часть 2. ТРАНС-ИЗРАИЛЬ
2.1. Пророческий парадокс и жреческая ортодоксия
Величайшими утопиями, величайшими как по глубине мысли, так и по их значению для человечества, являются религии.
Герберт УэллсВсякая утопия имеет религиозные корни. Однако крона утопического древа может и не быть формально религиозной. Тем не менее, в своей основе все воплощенные утопии вдохновлены именно религиозными прозрениями. Американские пионеры продвигались на Запад под влиянием протестантского принципа Manifest Destiny, вольных русских влекли на Восток староверческие предания о Китеже и Беловодье. (→ 3–2)
Существует и обратная взаимосвязь — всякая религия в основе своей утопична. Она строится вокруг знания об иных мирах и состояниях и требует веры — не столько в них как таковые, сколько в возможность для человека их реализовать. Если эта возможность не воплощается — религия с неизбежностью деградирует, превращаясь в простой свод моральных поучений. По существу, всякая религия жива лишь постольку, поскольку она утопична. Если ее утопическому зерну не дают прорасти — от нее самой вскоре остается лишь пустая мертвая оболочка. Христианство без своей стержневой утопии — «Царствие Божие внутри вас есть» — превращается в сугубо внешнюю, антиутопическую корпорацию «великих инквизиторов».
Религиозная антиутопия — это не какая-то особая «инфернальная» религия,[31] но лишь результат обессмысливания традиционных религий, забвения ими своего трансцендентного, утопического истока. Именно это забвение и порождает межрелигиозные конфликты. Хотя их идеологи любят ссылаться на диктуемые ортодоксией «неснимаемые противоречия» между разными религиями, они снимаются самим фактом парадоксальности всех религиозных откровений.
Парадокс выходит за пределы «здравого смысла», он существует или совершается вопреки ожидаемому, обычному, «нормальному». Однако чем было бы христианство без парадоксов Бога-Троицы и сочетания в Исусе Христе божественной и человеческой природ? Чем был бы ислам без чудес чтения Корана неграмотным Мухаммадом и его ночного перенесения архангелом Джибрилом (Гавриилом) из Мекки в Иерусалим?
Религиозная утопия, таким образом, являет собой сплошной парадокс, абсолютно противоречащий всем видимым «законам реальности». Однако для самих утопистов все выглядит совершенно иначе — для них сомнительна как раз эта «обычная», «здешняя», тривиальная действительность, а чудесное «совмещение несовместимого» (→ 3–7) является критерием истины.
Библейские пророки в глазах окружающего их мира выглядели именно такими утопистами ипарадоксалистами. Вот как они являются в Первой Книге Царств:
Встретишь сонм пророков, сходящих с высоты, и пред ними псалтирь и тимпан, и свирель и гусли, и они пророчествуют; и найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними и сделаешься иным человеком.[32]
В отличие от пророков, жрецы в любой религии — это характерные идеологи иортодоксы, видящие свою миссию в сохранении и упрочении существующего порядка. Они могут почитать древних пророков, но по отношению к современным (поскольку пророческая традиция, делающая людей «иными», не прерывается) выступают в роли «инквизиторов» и обвиняют их в «ереси». Хотя сами «ереси» возникают лишь с выхолащиванием пророческих откровений до жреческих догматов. Именно в догматизме проницательный Розанов видел отказ от самого духа христианства. На знаменитых в Петербурге Религиозно-Философских собраниях он говорил профессору Лепорскому:
В догматизировании, в примерении логического начала к нежному и неизъяснимому евангельскому изложению и произошло смертное начало, «неодушевленная глина», к юному телу первозданного христианства. Как было не поразиться тем, что сам Спаситель, за исключением минуты в храме наедине с грешницею, ни разу не взял пера и не написал ни одного слова. Ведь догмат — нечто каменное, твердое. И ни одного такого каменного недвижного догмата Спаситель не оставил людям. «Идите ко мне, человецы, я научу вас догматическому богословию», — такого слова не сказал Спаситель людям, а если бы такое безобразное слово поместить в Евангелие, то страница с этим словом вдруг потухла бы; перестала бы светить нам привычным небесным смыслом. Поэтому, когда проф. Лепорский, заглядывая в коридор академии, говорит: «Студенты, идите, я буду преподавать вам догматическое богословие», то он последует во всяком случае не Спасителю…
Все ереси и самое еретичество произошло из этого догматизирования. Вместо умиления к Писанию стали его исследовать, расчленять, анатомировать, расстригать на строчки (тексты), и изъяли весь аромат… Христианство перестало быть умилительно «с догматом», и на него перестали умиляться. Просто его перестали любить… Жалеют, качают головами, находят опасным это для цивилизации, для устойчивости правительственной, для народа, и вообще по тысяче утилитарных соображений, заметьте, все утилитарных, все именно не небесных. Небесного-то, «Херувимской»-то песни в церкви не чувствуется; души-то в ней нет, а одно тело… Ведь за что-нибудь умирали же мученики, ведь не по «повелению Бога»: это слишком сухо, да и повеления такого никогда не бывало… Мне кажется, Бог есть милое из милого, центр мирового умиления: и вот с потерей церковью «милого», мне брезжится, что как только начали догматики «строить» с мыслью, что Христос не сумеет Сам защитить Свое дело, так Христос невидимо заплакал и отошел от строящих… Мы угасили дух пророчества в себе. Бытие догмата угасило возможность пророчества.
Это творческое, адогматическое мышление неизбежно противопоставляло Розанова и официально-церковному морализму. Однажды он сформулировал парадоксальный афоризм на сей счет: «Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали».
Жречество подменяет пророческие парадоксы догматической ортодоксией. Так возникает, по определению Гейдара Джемаля, «мировая иерократия» — паразитический слой, который узурпирует вещание от имени религии, но обессмысливает великое духовное наследие пророков древности тем, что сводит его к пустым догматам и формальным ритуалам. Живое, пробуждающее пророческое влияние, заставляющее воплощать религиозные откровения, этим слоем гасится, подавляется, а то и предается анафеме.
Пророки гонимы и «маргинальны» во все времена — однако где ныне та «вечная и вселенская» Римская империя, на задворках которой проповедовали Тору, Евангелие и Коран?
В книге «Революция пророков» Джемаль указывает еще на одно их коренное отличие от жрецов:
Напомним, что великие пророки монотеизма были тесно связаны с кочевой моделью существования. Авраам, став избранником Бога, рвет с оседлым обществом и уходит, чтобы стать патриархом кочевья. Моисей, приступив к выполнению своей миссии, уводит своих сторонников в пустыню кочевать сорок лет. Иисус «кочевал» со своими учениками по Иудее, в каком-то смысле явив образец новой будущей диаспоры — «кочующей общины». Мухаммад осуществил хиджру — переезд своих последователей в место, благоприятное для продолжения их деятельности, развив таким образом тему «кочующей общины».
Итак, мы видим, что кочевье тесно связано с оппозиционной миссией пророков Единобожия, которые вступают в конфликт с оседлым жреческим государством, составлявшим становой хребет как древней цивилизации, так и — в определенном смысле — сегодняшней.
Сегодня многие религии и культуры живут в состоянии диаспоры. Оно полностью соответствует сетевому типу общества постмодерна. Джемаль даже приписывает диаспорам ту исторически мессианскую роль, с которой не справился марксистский пролетариат. Однако для исполнения такой роли самого по себе диаспорного состояния недостаточно — в нем должен присутствовать некий утопический, трансгрессивный (→ 1–4) элемент, который преобразует ту или иную диаспору в «новый народ». С точки зрения истории религий, эта роль эффективно удалась иудейской диаспоре, которая за 2000 лет сумела сформировать глобальный и мессиански вдохновленный еврейский менталитет. Во многом удалась эта роль и некоторым восточным гуру, вроде Ошо Раджниша (→ 2–6), существенно повлиявшим в ХХ веке на складывание повсюду в мире особых молодежных субкультур, представители которых считают себя ближе друг другу, чем к «оседлой» культуре своих стран. Что же касается также возникшей в ХХ веке и стремительно растущей в Европе мусульманской диаспоры, которую скорее всего подразумевает Джемаль, то ее существование пока не привело к возникновению какой-то новой духовно-культурной идентичности, а являет собой в основном чисто демографическую экспансию «этнических мусульман» (→ 2–4), вдохновленную далеко не религиозными мотивами.
Ранняя книга Джемаля «Ориентация — Север» повествовала о куда более трансцендентных сущностях. Однако ее пророческий потенциал не мог воплотиться в условиях эпохи модерна, когда вся социальная реальность описывалась лишь в «экономических» или «государственных» категориях, соответствующих в индуизме кастам вайшья и кшатрия. Предельным уровнем этого типа мышления, своего рода «ультра-модерном», стала геополитическая доктрина Александра Дугина об извечной войне «Востока и Запада», «суши и моря», «евразийства и атлантизма». Но с началом эпохи постмодерна и глобализации все эти прежние границы все более стираются — хотя порой и напоминают о себе в «антитеррористических» кампаниях. Однако даже такой их истовый организатор, как президент Буш, все более апеллирует к религиозным и трансцендентным категориям — «высшей оправданности», «возложенной на нас Богом миссии» и т. д. Это весьма наглядно доказывает, что актуальным уровнем глобальной политики постепенно становится брахманический. Но за столкновением «брахманов» разных конфессий просматривается и куда более глубокая картина — вечного противостояния пророков и жрецов.
* * *
Жречество, апеллирующее к ортодоксии, способно лишь отдалять религии друг от друга и в пределе — противопоставлять и стравливать их. Тогда как все религии в действительности сходятся подобно меридианам — в мистической точке Севера.
Идея Севера снимает догматические противоречия между различными религиями и само их деление на «восточные» и «западные». Север выступает как всеобщий архетип Земного Рая, Золотого Века и Земли обетованной. Что, учитывая его очевидный «холод и мрак», выглядит абсолютно парадоксальным.
В академической науке, которая в эпоху позднего модерна считалась единственным источником «серьезного знания», на это первым обратил внимание ректор Бостонского университета Уильям Уоррен, издав в конце XIX века сразу ставшую сенсационной книгу «Найденный рай на Северном полюсе». Позже идеи Уоррена развил индийский брахман Бал Гангадхар Тилак в работе с не менее сенсационным названием «Арктическая родина в Ведах».
Так, в индуизме, который исполнен яркости южных красок, первочеловек Ману приходит от священной горы Меру. Эта гора находится «на самом Севере, под Полярной Звездой». Меру — это местопребывание высших богов, вокруг этой горы вращаются Солнце и звезды. Окружающий Меру континент именуется Швета-двипа («белый континент») или, по другим данным, Джамбу-двипа, «яблоневый континент». (→ 3–5) Здесь можно увидеть символическую связь с островом Аваллон в кельтской традиции, где растут чудесные яблоки, дарующие бессмертие, а также с садом Гесперид, расположенным «на краю света», проникновение в который было одним из подвигов Геракла.
В античной эллинской традиции Север также наделяется безусловно сакральными чертами и предстает в образе Гипербореи — счастливой «страны за Северным ветром». Это родина солнечного бога Аполлона, который ежегодно путешествует туда на лебединой колеснице, причем знаменитый Дельфийский оракул Аполлона был, по преданию, основан именно гипербореями, не раз посещавшими Элладу. (→ 3–7) Именно на Севере располагали «землю богов» древние иранцы (Арьяна-ваэджа) и египтяне (Та-нутер). Ведут свое начало «от северных богов» и такие географически далекие друг от друга традиции, как ацтекская и скандинавская, причем почти совпадая в наименовании их верховной столицы (Тула — Туле).
Это признание «северной прародины» присутствует не только в «языческих», но и в авраамических традициях. Так, библейская Книга пророка Иезекииля буквально начинается с весьма таинственной картины Богоявления:
И я видел: и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из средины его как бы свет пламени из средины огня.
Далее в ней следует призыв:
И сказал мне: сын человеческий! подними глаза твои к северу.
В Книге Иова описывается акт Творения:
Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем… Светлая погода приходит от севера, и окрест Бога страшное великолепие.
Однако в Книге пророка Иеремии образ севера выглядит уже скорее именно «страшным», чем «светлым»:
И сказал мне Господь: от севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли… Выставьте знамя к Сиону, бегите, не останавливайтесь, ибо Я приведу от севера бедствие и великую гибель… Египет — прекрасная телица; но погибель от севера идет, идет.
Этот контраст, возможно, объясняется особой пророческой линией, по каким-то причинам склонной «демонизировать» северный вектор. Однако даже она не противоречит исходным координатам сакральной географии, которые разделяют скорее не пророков между собой, но пророков и жрецов. Последним свойственно опасаться прямого, непосредственного контакта с сакральным, поскольку он нарушает «стабильность» их догматов. Но по отношению к этим «писаным истинам» стрелка компаса трансгрессивна всегда — мистик Дима Лабрадоров видит ее так:
Вертикаль «Север-Юг» означает включенность в Миф, в режим инспирации, в мистерию — в ангелические или же демонические влияния. Север типологически связан с близостью, активным проявлением Божества, Манифестацией. «Запад-Восток» — система совершенно другого плана, она горизонтальна и инвитационно пассивна. Память о Мифе становится отныне центральным понятием исторического опыта. Мы помним, но не знаем. Сами представления о Небе мы получаем не от общения с ангелами, не из мистериальных таинств, но из Священных книг, по линии преемственности…
Как бы то ни было, религиозный историк Ариэль Голан сообщает, что «некоторые храмы в древнем Израиле были ориентированы на Север». В исламской традиции также издавна принят титул для особо почитаемых духовных лидеров — кутб, что в буквальном переводе означает «полюс».
Утопический парадокс Севера состоит в том, что он постоянно ускользает от какой-то четкой географической фиксации. Эллины, считая Гиперборею «благодатной страной», тем не менее, полагали «ужасным» климат всего известного им «Крайнего Севера» — Колхиды и Скифии. Истинный Север всегда «запределен» — но при этом для желающего его открыть он вдруг оказывается самым близким и очевидным. Это превосходно понял Винни-Пух.
Рене Генон сделал любопытное наблюдение: «современная наука» (т. е. наука эпохи модерна), гордящаяся своим «взрослым» рационализмом, возвела какой-то странный «барьер» во времени на рубеже в несколько тысячелетий до н. э., события до которого объявляет «мифическими» и «легендарными». Именно поэтому она неспособна ответить на многие элементарные, «детские» вопросы — например, почему так хорошо совмещаются очертания береговой линии Африки и Америки, если «убрать» разделяющий их океан? Если предположить, что Птолемею и Меркатору берег Нового Света был еще неведом, то позднейшим картографам эпохи модерна эта загадка, кажется, просто не приходила в голову. На «научный язык» ее перевели лишь в ХХ веке, когда возникла геофизическая теория «дрейфа континентов». С ее точки зрения, сотни миллионов лет назад весь массив суши земного шара составлял единый первичный континент, который позже раскололся на части, и они впоследствии заняли свои теперешние места на земном шаре (хотя их движение продолжается и поныне).
Вполне возможно допустить, что этим первичным континентом и была Гиперборея, занимавшая всю северную полярную область планеты, где еще не было «горизонтального» разделения на Восток и Запад, да и климат был совершенно иным. Но с ее расколом и дрейфом этих осколков на юг, где и возникли «восточно-западные» координаты, она полностью прекратила свое существование, и ни один из современных континентов не может считаться ее «единственным преемником». (Поэтому то и дело объявляемое различными археологами «открытие Гипербореи», а также исторические «реконструкции» на основе раскопанных ими черепков вызывают лишь ироническое отношение.[33]) В этом макроисторическом процессе вполне могли возникать и исчезать и какие-то иные континенты, отголоски чего мы наблюдаем в мифологических преданиях о Лемурии, Атлантиде и т. д.
Гиперборея как традиционный символ Севера превратилась в утопический архетип, доступный постижению лишь интуитивным образом. Именно об этом, как представляется, спел Борис Гребенщиков:[34]
Ключ к северу лежит там, где никто не ищет Ключ к северу ждет между биениями сердцаВпрочем, наиболее проницательные академические ученые вполне признают реальность этих «утопических мифов». Известный исследователь Античности Алексей Лосев вообще называет миф «наиболее яркой и самой подлинной действительностью». Но учит при этом, что «миф поддается познанию лишь мифологическим же образом». Именно этот тип познания широко практикуется именно в «восточных» религиях, которые, по причине отсутствия в них жесткой догматической структуры, часто считают именно мифологиями. Для сторонников «западных», авраамических религий обращение к этому опыту может оказаться не просто небесполезным, но даже и необходимым для более глубокого постижения собственных традиций. Даосский или дзенский парадокс способен ярче высветить некоторые фундаментальные основы «западных» религий, чем многотомные догматические толкования. К слову, уникальный пример такого свободного владения «языками» разных религий подал сам Генон, который блестяще продемонстрировал их органичное «гиперборейское родство». Оно не означает некоего внешнего смешения этих «языков», но открывает их внутренний объем и ризоматическую (→ 1–3) взаимосвязь.
Это северное «многоязычие» находит свое живое воплощение в культуре постмодерна. Так, один из героев Виктора Пелевина открывает вселенский религиозный парадокс:
Руки Аллаха есть только в сознании Будды. Но вся фишка в том, что сознание Будды все равно находится в руках Аллаха.
Это озарение весьма напоминает афористичные пассажи об искусстве из «Ориентации — Север».
* * *
В культуре постмодерна, несмотря на ее кажущийся «хаос», есть, тем не менее, довольно четкие «правила игры». Так, по Жаку Дерриде,
всякая интерпретация текста, допускающая идею внеположности исследователя по отношению к тексту, признается несостоятельной.
Поэтому, говоря далее о религиозных утопиях, мы не будем «растекаться мыслию по древу», но представим интерпретацию некоторых из них с точки зрения православной традиции, прослеживая ее собственную логику. Подчеркнем лишь, что нас этот «религиозный текст» интересует в особенности как опыт «прикладного богословия». Здесь весьма показательна мысль известного киевского политического утописта, «провiдника» Дмитро Корчинского:
Сегодня мы говорим о православии и христианстве лишь потому, что понимаем: если мусульмане выиграют, то потому, что главой их партии является Аллах. А это значит, что если у нас все-таки есть что противопоставить, то это совсем не антитеррористические кампании, не СБУ и не КГБ. В ответ мы единственно можем создать такую партию, которую возглавлять будет Исус Христос. В XXI веке идеологию государств будет определять религия, и мы сможем проявить себя только в том случае, если сумеем построить православный фундаментализм. Нравится нам это или нет, мы будем играть в эту игру, независимо от наших желаний.
Мы будем играть в эту игру, но — за исключением «идеологии государств», которая в XXI веке интересовать уже никого не будет. Влияние религии действительно возрастает, только носит уже не «государственный», а общецивилизационный характер. Можно допустить, что для кого-то конец государств и означает «конец истории», однако для нас это начало истории глобальной цивилизации. В которой, однако, никакие локальные особенности не стираются, но вплетаются в нее, создают ее многомерность. (→ 1–8)
Итак, мы намерены развить взгляд на историю религиозных утопий с точки зрения «православного фундаментализма». Хотя ортодоксальным[35] жрецам этого культа такой взгляд наверняка покажется враждебным. Но — «идущий на север не боится ночи».[36]
2.2. Разный вкус соли
Реб Ами и реб Асси однажды пришли в город. Они спросили его обитателей: «Кто стражи города?» Жители указали им на солдат и полицию. На что мудрецы ответили: «Это не нетурей карта (стражи города), это — разрушители города. Настоящие Нетурей Карта — мудрые и благочестивые люди. В их заслугу город защищен.
МидрашРелигии, которые принято называть авраамическими (по причине их общего восхождения к библейскому праотцу Аврааму) — иудаизм, христианство и ислам, — в отличие от политеистических культов основываются на вере в единого трансцендентного Бога. Способы реализации этой трансцендентности, однако, разделяют эти религии между собой едва ли не больше, чем они все вместе отличаются от «языческих».[37]
Иудаизм, исторически первая из авраамических религий, был и первой же великой религиозной утопией. Исход из Египта в поисках неведомой Земли обетованной стал архетипом всех утопических сюжетов. Неслучайно Бенджамин Франклин во время обсуждения символики только что созданных США предлагал сделать их гербом изображение Моисея на корабле и гибнущей в море армии египтян. (→ 1–1)
Фундаментальная особенность иудаизма, сделавшая его действительно мировой религией, состояла в том, что, хотя он и адресовался «избранному народу», но этническим критерием этого особого народа, Израиля, был полученный им Завет от единого Бога. Это и было главным его отличием от других, «племенных» культов. Изначальное еврейство представляло собой уникальный результат того, как религия порождает нацию, а не наоборот.
Именно на это, вероятно, обращал внимание видный еврейский философ Мартин Бубер, когда предлагал
задуматься над тем, какая изначальная частица человеческой души реализовалась в еврействе чище, сильнее и действеннее, чем в любом другом народе, и что означает эта начальная частица, эта исходная форма для человечества: почему человечество нуждается в еврействе и во все времена будет нуждаться в нем как в наиболее явственном воплощении, как в образцовом выражении одной из основных и самых высоких духовных потребностей. Речь идет о большем, чем о судьбе одного народа и ценности его духа: речь идет об общечеловеческих и изначальных для человечества вещах.
Однако все же от лица самого представителя этой нации такое заявление о собственной исключительности звучит не слишком корректно. И к тому же оставляет больше вопросов, чем дает ответов. Пример глубочайшего погружения в эту «изначальную частицу» еврейства извне можно обнаружить у Василия Розанова, одного из самых проницательных русских мыслителей. В очерке о библейской поэзии он словно бы вещал устами иудейского пророка:
Не надо нам вида: форм, государств, учености, искусств, статуй. Соли нужно только, чтобы она была. И действует она только в распущенном, безвидном состоянии. Так мы — везде и нигде… Без средоточия. Но миру необходимо, чтобы мы были, и даже мир не удержится, если бы нас не стало.
Многие исследователи давно обращают внимание на уникальную «двуликость» Розанова, который одновременно был и магнетически заворожен религиозной «тайной Израиля», и резко, до сатиры, критичен в отношении известных социальных черт «жидовства». Оттого и терялись в догадках, к какому лагерю его отнести — к юдофилам или юдофобам — хотя он просто был вне этого модернистского дуализма. Что и позволило ему максимально адекватно, насколько вообще это возможно гою, понять и изложить специфику еврейской традиции. Которую сами евреи обычно не излагают — не столько потому, что «намеренно скрывают», сколько именно оттого, что интуитивная, «сверхсознательная» структура любой традиции, составляющая ее метафизическое ядро, не поддается у ее непосредственных носителей формальной рационализации. И тем более это касается такой древней и сложной традиции, как еврейская.
Главное, что сумел вскрыть Розанов, — фундаментальное, неснимаемое противоречие между этой рассредоточенной структурой еврейской сакральности и тем агрессивным «гевалтом», который сгущается везде, где национальное в еврействе начинает доминировать над религиозным. Именно это противоречие впоследствии и проявилось в истории создания государства Израиль. Однако Розанов заблуждался в том, что считал эту религиозную специфику иудаизма прямым наследием египетской традиции. При некоторых чертах внешнего сходства — сакрализация плодородия, строгая ритуализация множества жизненных сфер и т. д. — Египет все же с очевидностью символизируется образом некой вечной сакральной пирамиды, тогда как «изошедший» из него Израиль впервые явил миру образ «безвидной» сети. (→ 1–6)
Именно этим, на наш взгляд, и объясняется тот факт, почему ортодоксальное иудейство отказалось признать Исуса из Назарета своим Мессией. Мессия (Машиах) должен был подтвердить сакральность этой земной сетевой структуры «избранного народа», а Исус разорвал эту сеть переносом «избранности» на все уверовавшее в Него человечество, без национальных границ.
Это была «недопустимая операция» и «система зависла». Диагностику провел другой гой, Николай Бердяев:
Есть глубокая парадоксальность в том, что явление Христа, т. е. боговоплощение и боговочеловечение, совершилось в недрах еврейского народа… Бог стал человеком — это представлялось евреям кощунством, посягательством на величие и трансцендентность Бога.
Мир, где единый, грозный и даже неназываемый по имени Бог, который лишь однажды ослепительно явил Себя Моисею и лишь для того, чтобы дать «избранному народу» Закон на все времена, а теперь вдруг воплощается в какого-то нищего странствующего проповедника, — такой мир в глазах ортодоксального иудея просто рушится. Его Завет объявляется «Ветхим», храм обращается в руины, а Земля обетованная становится чужой. Для тех, кто отчаянно не хотел в это верить и стремился сохранить тайну «соли» своего Завета, остался лишь единственный выбор — глобальное рассеяние. В провиденциальной надежде на то, что когда-нибудь явится «истинный» Мессия и восстановит исходные пропорции мироздания. Это очень трагическая и героическая позиция, требующая максимального молитвенного подвига, но и заведомо исключающая какие бы то ни было человеческие попытки «исправить» то, что попущено Всевышним. Они означали бы косвенное признание правоты христианства, которое как раз и предоставило человеку такую свободу действия, — но в этом случае сакральный смысл «восстановления Израиля» окончательно исчезал… Кроме того, само христианство объявило себя Новым Израилем — но согласие с этим означало переход уже в совсем другую веру. (→ 2–3)
* * *
Тем не менее, в том рассеянном по всему миру Израиле, который христиане называли «Ветхим», со временем кристаллизовался свой утопический проект. Точнее, это был просто «ремейк» библейского исхода в Землю обетованную, только на этот раз должный быть осуществленным человеческими силами.
Этот проект обязан своим появлением австрийскому журналисту Теодору Герцлю, написавшему в 1896 году книгу «Еврейское государство», в которой он призвал всю мировую еврейскую диаспору к возвращению в Палестину. Впрочем, обсуждались и другие варианты — Уганда, Мадагаскар, Аргентина… Проект получил название сионизм (по названию священной библейской горы), хотя, странным образом, в книге Герцля ссылок на принципы еврейской религии нет вообще, там присутствует лишь общий эвфемизм «религия наших предков». Дело в том, что сам Герцль был вполне ассимилированным, светским европейцем и представлял себе будущее еврейское государство как подобие современных ему европейских, совершенно игнорируя изначальную метафизическую специфику еврейства, где религия создает нацию, а не наоборот. Именно эта инверсия и превратила сионистскую утопию в антиутопию в тот самый момент, когда она возникла.
Трагический парадокс Герцля состоял в том, что этот удивительно активный и творческий деятель благим, как ему казалось, проектом еврейского государства фактически разрушал еврейскую идентичность как таковую. Желание построить такое же («нормальное») государство, как у других народов, означало не что иное, как отказ от идеи Богоизбранности, а значит и от той великой религиозной утопии, с которой библейский Израиль и начался.
Хотя сионистское государство присвоило это сакральное название, на деле оно стало вполне стандартным, светским «национальным государством» эпохи модерна. Иногда его все же называют «утопическим» проектом — и действительно, например, в массовом воскрешении древнееврейского языка, считавшегося «мертвым», можно заметить черты настоящей утопии. Но все же, поскольку это государство возникло именно как реактивный проект (в ответ на европейскую Катастрофу), оно изначально содержало в себе гораздо больше признаков антиутопии — вплоть до преемствования в своей политической практике методов злейших врагов еврейства ХХ века. Это, впрочем, не особо удивительно, поскольку сам нацистский расизм во многом являлся кривозеркальным отражением сионизма. (→ 1–2)
Современные израильские «традиционалисты» любят оправдывать свою территориальную экспансию ссылками на библейские предания о Земле обетованной. При этом они странным образом совершенно упускают из виду фундаментальное положение еврейской традиции о Высшей неслучайности рассеяния и о том, что истинное возвращение может произойти только с непосредственным мессианским участием. В данном же случае имеет место обычный человеческий произвол, формально опирающийся на традицию, но сущностно отрицающий ее. От этого предостерегал Герцля его современник и оппонент Ахад ха-Ам, говоривший о том, что сионизм может быть только «духовным», а не стремящимся «восстановить Израиль произволом», что означало бы глухоту к провиденциальному Замыслу о евреях.
Наиболее принципиальными критиками сионизма с позиций еврейской традиции являются деятели движения «Нетурей Карта» (стражи города). В Израиле их зачастую именуют «ультраортодоксальными экстремистами», хотя типологически они скорее напоминают староверов, которые просто выражают всю полноту православной традиции. (→ 2–3) К слову, ортодоксами в современном Израиле скорее уж являются те, кто обожествил идол «национального государства» и пытается всеми силами удержать статус-кво. Тогда как «Нетурей Карта» — это именно парадоксалисты, вверяющие решение всех политических вопросов реально ожидаемому Мессии. И у кого больше веры — судить Ему…
В своей доктринальной брошюре «Изгнание и Избавление» авторы «Нетурей Карта» расценивают сионизм именно с позиций «всей полноты» еврейской традиции:
Это пугающее отрицание метафизической сущности изгнания и освобождения. Это отрицание Высшего Управления еврейской историей. Это отрицание освобождения с помощью духовных средств. В конечном счёте, это отрицание Б-га.
На своем сайте[38] они высказываются еще более радикально:
Иудаизм и сионизм не просто «разные философии», это — день и ночь. Евреи существовали в течение многих тысячелетий. И за последние две тысячи лет Божественно установленного изгнания никакой правоверный еврей и помыслить не мог самовольно «закончить» это изгнание и где-нибудь установить свой независимый политический суверенитет. Единственная цель еврейского народа состояла в изучении и исполнении заповедей Торы.
Бесславный основатель политического сионизма, да будет проклято его имя, который обнаружил свое еврейство лишь из-за антисемитизма, увиденного им на процессе Дрейфуса во Франции, вдруг начал предлагать разные решения того, что он назвал «еврейской проблемой». Однажды ему взбрела в голову идея переселить всех евреев в Уганду. Затем — принять всем католицизм! Наконец он остановился на идее какого-то исключительного еврейского государства. Таким образом, с самого своего начала сионизм был лишь результатом антисемитизма и действительно полностью совместим с ним, потому что сионисты и антисемиты имели (и имеют) общую цель: согнать всех евреев с мест их постоянного жительства в некое единое сионистское государство, искоренив таким образом повсюду в мире все еврейские общины, которые существовали сотни и даже тысячи лет. Причем наша вера должна быть заменена лояльностью к самому этому государству, которое желают сделать современным «золотым тельцом».
Многие из деятелей «Нетурей Карта» живут в Америке, откуда эта ближневосточная сионистская назойливость выглядит особенно странно. В период еврейского рассеяния США имеют куда больше оснований именоваться «обретенным Израилем», поскольку с самого своего основания создали евреям куда более свободные и спокойные условия для выживания и вероисповедания, чем Старый Свет. Однако сионистская идеологическая машина сумела выстроить и в Америке множество своих тоталитарных медиа-пирамид. (→ 1–6) Перефразируя одно высказывание Розанова, можно заметить:
Только американская свободушка и подышала до сионистов.
Которые ей сказали: «цыц!»
И свободушка завиляла хвостом.
Один из деятелей «Нетурей Карта» Дж. Ньюбергер проводит весьма рискованные параллели:
Как американский гражданин, я сожалею о том, что наше правительство и наши политические деятели ведут себя в полном противоречии с заветами отца-основателя нашей страны Джорджа Вашингтона. Вместо глубокого изучения вопроса и консультаций с представителями других стран, наши официальные учреждения симпатизируют сионизму настолько искренне, что в их глазах любая критика сионистского государства и любые возражения политическому сионизму, изложенные какой-либо нацией ООН, становятся наказуемым нарушением. И американские средства массовой информации не смеют высказываться против такой нелепости. Сегодня в США требуется много смелости, чтобы быть оппозиционно настроенным в отношении сионизма. Точно так же в течение Второй мировой войны требовалось много смелости, чтобы быть антифашистом в Италии или антинацистом в Германии. Но в конечном счете сионизм — это также лишь преходящее отклонение в длинной истории еврейского народа и мира.
Однако справедливости ради следует заметить, что официальная позиция США, хотя их и считают главным покровителем государства Израиль, не столь однозначна. Так, видный теоретик американской политики Збигнев Бжезинский вполне находит в себе смелость заявить:
Страна, возникшая как возрождение небольшого и преследуемого народа, сейчас превращается в государство, которое само преследует людей. И становится все более изолированным.[39]
Еще один вызывающий парадокс движения «Нетурей Карта» — в ближневосточном конфликте эти еврейские «ультра» прочно занимают сторону палестинцев. Мотивируя это порою тем любопытным соображением, что современные палестинцы-мусульмане, жившие на Святой Земле постоянно, имеют гораздо более родственное отношение к древним израильтянам, чем современные «псевдо-израильтяне». И, тем самым, даже с точки зрения сионистской теории о расовом праве на землю, имеют больше прав на Палестину, чем сами авторы расистских теорий.
О поразившем его сионистском расизме много писал философ и историк Исраэль Шахак. Бывший узник нацистских лагерей, ставший и в Израиле диссидентом, он метко назвал это государство «закрытой утопией».
Рабби Бек, один из лидеров «Нетурей Карта», использует в оценке современного Израиля терминологию Рене Генона, именуя его «контр-традицией». Почему дело обстоит именно так, поясняет другой известный «страж города», р. Израэль Вайс:
Все верующие евреи знали, что сионисты выступают против Бога в своем желании основать государство, поскольку это противоречит Божественной воле. Поэтому евреи были против создания Израиля и переселения в Палестину. Раввины предупреждали, что евреи тем самым погубят иудаизм, превратят его из духовной религии в государственную идеологию. И это, как предвещали раввины, отзовется евреям очень большой бедой… Сионисты оставили духовность и принудили многих евреев оставить религию и сделаться атеистами. А это еще хуже, чем убийство евреев, которое совершил Гитлер. В Германии евреи подверглись унижениям и изгнанию, но после того, как они приехали в Палестину, они стали творить то же самое.
На вопрос о будущем Израиля он отвечает так:
Государство Израиль обязательно прекратит свое существование, поскольку оно противостоит Богу. Господу не угоден Израиль и мы просим Его, чтобы Он ликвидировал эту страну без боли и кровопролития… Наша мечта — это не создание безбожного сионистского государства, а сплочение людей в служении Богу. Этого мы ждем от Мессии.
Впечатляюще гротескную картину «безбожности» современного Израиля рисует философ Давид Эйдельман, описывая свое посещение города Герцлия, названного в честь «базельского мечтателя»:
Магазин деликатесов «Мизра», который продает гастрономические изделия из свинины, продукцию одного из киббуцев на севере страны. Его просторный торговый зал представляет собой некое Святилище Ветчины, где вам предлагаются лакомые куски, свезенные со всего света. Толпы израильтян отовариваются здесь; по субботам вы не найдете поблизости ни одной свободной стоянки. Герцль был бы, по всей вероятности, восхищен.
Таким образом, если вспомнить, о каком мистическом символе глобальной роли еврейства говорил Розанов, то современный Израиль напомнит не что иное, как застывший соляной столп, в который превратилась ненароком оглянувшаяся жена Лота. Но сухая соль, предавая свою миссию, каменеет и теряет силу…
Главный раввин Великобритании Шмуэль Якубович подводит своего рода исторический итог попыткам построить «нормальное» еврейское государство:
Основной постулат секулярного сионизма гласит, что с восстановлением национальной независимости в Сионе будет разрешена еврейская проблема. Сионисты игнорировали уроки истории, отворачиваясь от духовных элементов мистики еврейского существования. Они полагали, что если создадут государство, которое будет таким же, как всякое другое, то мгновенно превратят Израиль в нормальный народ; если у евреев будет своя армия, свой дипломатический корпус и другие атрибуты государственности, то нации мира примут нас как равных и антисемитизм упразднится сам собой. Эта философия потерпела банкротство. Что же произошло на самом деле? Сегодняшние евреи не более нормальны, чем во времена Герцля или Пинскера. Государство Израиль не разрешило еврейской проблемы, а наоборот, усугубило ее. Израиль и сионизм не только не привели к исчезновению антисемитизма, но дали новый толчок волне юдофобии — теперь она рядится в другие одежды и достигает неведомых в прошлом масштабов. Мечта о том, что государственность разрешит еврейскую проблему, оказалась тщетной.
* * *
Впрочем, государственность в эпоху постмодерна уже не способна разрешить вообще ничьи национальные проблемы — поскольку стремительно исчезает сама модель «государство-нация».
Лучше всего в Израиле это поняли группы молодых академических ученых-гуманитариев, которых принято именовать «постсионистами». Они также, как и «Нетурей Карта» выступают против сионистского государства — но с диаметрально противоположных позиций. Их можно назвать «чистыми глобалистами» — все термины и определения, которыми сионизм доказывал свою историческую уникальность — Эрец-Исраэль, алия, репатриация и т. д. — легко «переводятся» ими на универсальный международный правовой язык, лишающий сионизм всяких претензий на «сакральность». Они предлагают отменить Закон о возвращении, а также прийти к свободному и добровольному выбору каждым своей национальности (или вообще не выбирать ее) — вместо запутанной и архаичной родовой системы. Разумеется, что у «классических» сионистов это становящееся все более популярным движение вызывает растущую панику — и, в попытке сохранить свою искусственную идентичность, они подчас бросаются в объятия любых «евразийских традиционалистов» (не менее искусственных и архаичных), даже закрывая глаза на их плохо скрываемую юдофобию. И это явный признак агонии сионистской антиутопии.
Постсионизм — это некий другой вкус той же самой еврейской «соли». Вкус, который ненавистен тем, кто за процессом глобализации видит все тот же «еврейский заговор». Хотя у самих постсионистов «родовой дискурс» вовсе не является доминирующим. Тем не менее, уже можно отметить некоторые симптомы «совпадения противоположностей» — традиционалистов из «Нетурей Карта» и «космополитических» постсионистов. Во всяком случае и те, и другие к нынешнему сионистскому государству относятся по меньшей мере скептически. Кстати говоря, «стражей города» можно с не меньшим основанием причислить к постсионистам — хотя бы на чисто этимологическом основании, т. к. их движение появилось уже после создания сионистского государства.
Да и сами сионисты, ведущие с ними войну на два фронта, все более их сближают. Амнон Рубинштейн, автор фундаментального исторического труда «Сто лет сионизма. От Герцля до Рабина и дальше», утверждает:
Эти два движения объединяет радикализм, а также то, что ими руководили и руководят живущие в воображаемой реальности интеллектуалы и мыслители, которые хотят навязать обществу идеи группы, бунтующей против истинной реальности.
Однако в «истинной» ли реальности живет сам Рубинштейн, разделяющий интеллектуалов и мыслителей? И ждет ли сионизм, отрицающий историческое воображение, это самое «и дальше»?
А вот из алхимического слияния «соляных растворов» мудрых «ультраправых» и бойких «ультралевых» может возникнуть нечто новое, третье. Быть может и с участием некоторых творческих течений хасидизма, отдающих приоритет живому пророчеству над мертвой жреческой буквой. И древний Иерусалим, как святыня всех трех авраамических религий, обретет спасительный для него экстерриториальный, глобальный, северный статус. Где «Нетурей Карта» смогут, наконец, буквально соответствовать своему названию…
2.3. Китеж обетованный
Из-под воды из-под земли восстанет вмиг Китеж-град
Обретший душу-любовь спасенный Денница
Засеет цветами разрушенный ад
Когда встанут часы и глянут ликами лица
Когда нам устанет удивляться даже рай
Александр НепомнящийС точки зрения православной традиции, Новый Израиль возник в момент боговоплощения, рождества Сына Божия в человеческом облике. «И Слово стало плотию, и обитало меж нами, полное благодати и истины». Это (вспоминая формулировку Мангейма) абсолютно трансцендентное по отношению к реальности событие «взорвало» всю прежнюю структуру человечества. Отныне не стало «ни эллина, ни иудея» — «избранным народом» были объявлены все верующие в Христа.
Христианство произвело тотальную деконструкцию иудаизма — все его священные писания были объявлены «Ветхим Заветом» и получили новую интерпретацию. Таким образом, можно сказать, что относительно иудаизма христианство стало своего рода «эпохой постмодерна». Хотя с точки зрения самого христианства, это было только начало эпохи модерна — пока это слово еще сохраняло свой исконный смысл (→ 1–3).
Вселенская утопия перехода от Ветхого Израиля к Новому наиболее поэтически, на наш взгляд, изображена в «Слове о Законе и Благодати» киевского митрополита Илариона:
Ибо отошел свет луны, когда солнце воссияло, — так и Закон отошел, когда явилась Благодать; и стужа ночная сгинула, когда солнечное тепло землю согрело. И уже не теснится в Законе человечество, но в Благодати свободно ходит. Ведь иудеи при свече Закона делали свое оправдание, христиане же при благодатном солнце свое спасение созидают.
Так, иудеи тенью и Законом оправдывались, но не спасались, христиане же Истиною и Благодатью не оправдываются, а спасаются. Ибо у иудеев — оправдание, у христиан же — спасение. И поскольку оправдание — в этом мире, а спасение — в Будущем Веке, иудеи земному радуются, христиане же — сущему на Небесах.
Ибо кончилось иудейство, и Закон отошел. Жертвы не приняты, ковчег и скрижали, и очистилище отнято. По всей же земле роса, по всей же земле вера распространилась, дождь благодатный оросил купель пакирождения, чтобы сынов своих в нетление облачить.
Явлением новозаветной Благодати ветхозаветный Закон был «не нарушен, но исполнен». Однако явление Благодати также требует ее собственного исполнения. Иларион сказал это свое «Слово» в XI веке от Рождества Христова. Изначально же миссия благовествования была вверена римскому Престолу апостола Петра.
«Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее», — обещал Спаситель одному из своих учеников. И римские последователи этого ученика настолько уверились в незыблемости своей миссии, что не заметили других, предостерегающих слов: «истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня».
«Эта ночь» тянулась все первое тысячелетие новой эры, и «петух пропел», когда выяснилось, что Римская церковь понимает дарованную ей миссию центра всемирного христианства вполне в традициях Римской империи. Даже Главой Церкви там был провозглашен не Христос, а папа, который принялся управлять христианами посредством своих единоличных рескриптов, а не соборно, как это было в общинах первых христиан. (Впоследствии папу даже объявили «непогрешимым» — разве что без нимба.) Рим погряз в теологической схоластике, постоянно дополняя изначальное христианское учение множеством сомнительных доктрин, апофеозом чего стала «продажа благодати» в виде индульгенций. Но даже такой необъятной церковной власти ему было мало, началось вмешательство и в светскую, организация войн, крестовых походов, жертвами которых зачастую становились свои же единоверцы, не согласные с вырождением великого духовного движения в обычное агрессивное государство.
Однако подлинное христианство, по слову Св. Григория Богослова, хочет в этом мире «не победить, а обрести братьев по вере». То есть строится как сетевая структура, а не иерархическая пирамида. (→ 1–6) И когда римский Престол стал все больше напоминать прежнюю имперскую пирамиду, это означало не то, что «врата ада» одолели Церковь, но то, что она просто переместилась по этой сети в другое, более подходящее пространство. «Новым Римом» стал Константинополь. Процесс translatio imperii («перенос империи»), хорошо известный во многих цивилизациях, в Риме состоялся еще в IV веке, при императоре Константине. Однако нас в данном случае более интересует не государственное разделение Рима на Восточный и Западный, а проделанный семью веками позже мистический «путь церкви» — translatio ecclesii.
На первый взгляд, Византийская (Ромейская) империя в качестве мирового центра христианства была гораздо более подходящим местом. Здесь не было папской единоличной диктатуры, и само вероучение сохранялось в изначальной чистоте, дополняясь только прозрениями и житиями святых подвижников. Однако в официальном, государственном статусе христианства была своя, «расслабляющая» опасность — Закон императора (василевса) вновь доминировал над Благодатью, которая полагалась «автоматической». Византия провозгласила себя «тысячелетним христианским царством» и словно бы почивала на лаврах…
Омский историк Ю.В. Тумилович, задаваясь вопросом «Почему в Византии не было утопии?», отвечает на него так:
Византийское христианство сравнительно мало эсхатологично, а византийская эсхатология почти не знает тайны. История превращена в задачу с приложенным результатом.
И результат не замедлил приложиться. Византия действительно просуществовала тысячу лет (IV–XV века), начав беспокоиться лишь с наступлением османских орд. Но эта ее вынужденная историческая активность оказалась до предела несообразной — попросту духовным предательством самой себя. Купившись на обещания западного, латинского Рима оказать помощь в отражении турецкой агрессии, византийцы легко отреклись от своей православной идентичности, подписав с латинянами Флорентийскую унию, вновь подчинявшую всех христиан римскому папе. Призвать вместо этого на помощь недавно крещенных ими же самими северных славян им показалось «далеко и дорого»…
Латиняне никакой помощи не оказали, и скорее всего даже не без злорадства наблюдали за крушением своего давнего исторического соперника. В 1453 году турки ворвались в Константинополь, превратив главный храм всего православного мира — Софийский собор — в мечеть, а город переименовав в Стамбул. История «Второго Рима» закончилась.
Однако Церковь, по обетованию, исчезнуть не может. Но теперь для ее нового translatio оставались только северные славянские княжества — уже христианские, но независимые ни от латинского влияния, ни от восточных орд. И среди них отчетливо выделялся один, наиболее свободный и развитый православный город — Новгород Великий. Где, кстати, также был Софийский собор, но было и оригинальное отличие: своего церковного владыку (архиепископа) новгородцы сами выбирали на вече, не дожидаясь, пока им «поставят» кого-то извне. Это было решительное отрицание ортодоксального всевластия жреческой касты, приближавшее новгородское православие к принципам раннего христианства. (→ 2–6)
Новгород вообще изначально отличался своим особым менталитетом, умея сочетать глубину православной культуры (своя школа иконописи, словесности, зодчества) с демократическим управлением и мировой открытостью, будучи полноправным членом Ганзы (тогдашнего аналога Евросоюза). И с начала XV века, словно бы в предвидении падения Константинополя, по Руси начинает распространяться апокрифическая «Повесть о белом клобуке». Белый клобук — традиционный головной убор новгородских архиепископов, и в «Повести» говорится о его переходящем статусе — от Константина Великого он попал к римскому папе Сильвестру, от того — к византийскому патриарху, а тому является во сне ангел и повелевает отправить клобук в Великий Новгород, «тамо бо ныне воистину славима есть Христова вера». Казалось бы, путь translatio ecclesii был ясен…
Не этим ли вызван внезапный, по прошествии ровно четверти века с падения Царьграда, поход московского князя Ивана III на Новгород? Москва не скрывала своего собственного желания стать новым центром христианства. Но ей мешал этот северный конкурент — вызывающе самостоятельный в политике, экономике и культуре — а теперь грозящий стать еще и мировым духовным центром.
Московская агрессия на Новгород фактически была полным аналогом османского нашествия на Царьград. Московское войско едва ли не наполовину состояло из ордынцев. Новгородскую Святую Софию, правда, в мечеть не превратили, но город точно так же подвергся варварскому насилию и грабежу, а знаменитый вечевой колокол был сброшен, что означало конец традиции древнерусского самоуправления.
Оправдывая этот набег, московские историки любят говорить о «воссоединении русских земель». Однако само слово вос-соединение предполагает некое прежде существовавшее единство, а его у Новгорода с Москвой никогда не было. Это изначально были совершенно разные цивилизации — по гражданскому сознанию, культуре, хозяйству… Их связывало только общее вероисповедание и язык — и это Москва полагала достаточным основанием для того, чтобы считать новгородцев «сепаратистами». Таковы были уроки, прилежно взятые ею у унитарной Орды.
В Новгороде же долгое время лидировала «партия» мудрой посадницы Марфы Борецкой, поддержанная большинством молодежи. Под угрозой московской агрессии они выступали за политический союз с Литовским княжеством — при безусловном сохранении православия и городского суверенитета. Кстати, Литва на это и не думала покушаться — в ней самой треть населения была православной, и официально признавалось Магдебургское право вольных городов. Но верх все же одержала «старшая партия» — сторонников Москвы. Ее представители больше доверяли московитам как «единоверцам» — за что и поплатились. Эта духовная несовместимость мистически отразилась и в том факте, что первый назначенный в Новгород после захвата московский архиепископ там долго не усидел — его вскоре уволили как «тронувшегося умом»…
Однако translatio ecclesii из Византии на Русь все же произошло — облачившись в хорошо известную формулу XVI века «Москва — Третий Рим». Хотя сам псковский старец Филофей, которому приписывается эта формула, говорит в ней не о Москве, а о «росейском царстве». У Филофея не было особых причин восхвалять Москву — почти сразу вслед за Новгородом московские войска разорили его родную Псковскую (Плесковскую) республику. Сам Филофей еще успел отписать московскому князю Василию III: «Не уповай на злато и богатство» — но ящик Пандоры был уже открыт, и войска оккупантов, вошедшие в мессианский вкус, не желали более слышать своего «пророка»… Злая ирония истории постигла саму обитель, где Филофей скрипел пером над доктриной о «Третьем Риме» и о том, чему после него «не бывать». Как сообщает историк Наталья Масленникова, «после присоединения Пскова к Москве Елеазаров монастырь больше в летописях не упоминается».
* * *
Интересную версию альтернативной истории — «Если бы в конце XV века Новгород одержал победу над Москвой» — развил пражский филолог-славист Александр Исаченко:
После падения Константинополя (1453 г.) и вторжения турок на Балканский полуостров Москва оказалась фактически отрезанной от Византии, т. е. от того источника, из которого она черпала все свои духовные и культурные ценности. Но вместо того, чтобы повернуться лицом к европейской действительности, Московское государство строит свою идеологию на потерпевшей полный крах идеологии рухнувшей империи. Тогда как очень многое говорит в пользу того, что Новгород был в значительной степени вовлечен в процесс духовного брожения, охватившего среднюю, западную и северную Европу на исходе XV века.
Во всех странах католической Европы, в которых Реформация одержала победу, наиболее ярким и наиболее важным последствием антиримского движения была борьба с латынью и введение национального языка в область религии. Без лютерова перевода Библии в Германии не было бы Реформации. Только в связи с Реформацией складываются уже в XVI веке немецкий, литовский, словенский, венгерский и многие другие литературные языки. На фоне этих общеизвестных фактов не слишком смелым будет предположить, что и в Новгороде, и в Пскове — в центрах средневековых «ревизионистов» — существовали весьма осязаемые предпосылки для замены чуждого и маловразумительного церковнославянского языка, языком «естественным», т. е. русским.
Даже не обладая буйной фантазией, нетрудно себе представить, какое направление взяло бы развитие русского языка, если бы в начале XVI века вместо «киприановской реформы» появился полный русский текст Библии. Одна часть духовенства реагировала бы с той же враждебностью, с какой реагировала часть католического духовенства на появление лютерова перевода. «Раскол» русской православной церкви произошел бы лет на сто до никоновского раскола, только победителем вышла бы не ультрареакционная партия патриарха, а демократическая часть духовенства и просвещенного городского населения. И вместо потрясающего «Жития», писаного неистовым протопопом на малограмотном, неотесанном языке, русская литература могла иметь своих Мольеров и Расинов — современников Аввакума.
Но если утопия не сбывается — сбывается антиутопия…
* * *
Новгород, Киев, Ярославль, Рязань, Тверь, Смоленск и другие древнерусские города имели свои собственные иконописные и летописные традиции, языковые диалекты, особое искусство и фольклор — все это быстрыми темпами вело к возникновению России как континента, по многообразию даже превосходящего европейский. (→ 3–1) Москве, пресекшей эту перспективу созданием унитарного централизованного государства, насущно требовалась некая бесспорно унифицирующая и нивелирующая все значимые региональные различия политическая технология. Таковой в ту эпоху могла стать только религия. Однако найденная формула «Москва — Третий Рим» предназначалась, в основном, «на экспорт» — для оправдания своего имперского статуса. Для подчинения своей власти всего русского мира — все еще «слишком разного», даже после опричнины и смуты — необходима была какая-то внутренняя реформа, которая подогнала бы национальный менталитет под некий единый стандарт.
Никаких других рациональных причин для того, чтобы начать вдруг править все русские богослужебные книги по новогреческим образцам, не просматривается. Сами «новогреки» после падения Византии не играли уже никакой роли на мировой арене. Однако, обладая византийским имперским опытом, они могли оказаться полезным инструментом для «приведения к общему знаменателю» и какой-нибудь другой страны. С точки же зрения русского православия эти «ортодоксы» были лишь инерцией былого авторитета. Если при Крещении Русь получила ту самую религию, которая окормляла и всю огромную Византию, то теперь, после ее падения и опыта униатской измены, новогреческое православие вызывало большие сомнения относительно соответствия своим же собственным изначальным принципам. Во всяком случае, все принятые в Х веке Русью доктрины и обряды (вплоть до пресловутого двоеперстия) она сохранила в точности. Когда же сюда приехали греческие миссионеры образца XVII века, оказалось, что у них самих очень многое уже изменилось. Тем не менее, подобно латинянам, они вели себя с невероятным самомнением, все еще продолжая считать себя представителями «истинного Рима». Это было трагикомическое зрелище — как если бы выпускникам консерватории мастер-класс давал ансамбль самодеятельности из богадельни.
Никониянская реформа по своему смыслу была даже большим предательством Церкви, чем уния византийцев с латинянами. Если тогда византийцы (Второй Рим), юридически подчинив Церковь папе (Первому Риму), все же сохранили у себя особый, православный строй вероисповедания и богослужения, то в данном случае московские патриарх и царь словно бы признавали, что никакого translatio ecclesii далее, на Русь, не произошло, и она так и не стала Третьим Римом. Выходило, что подвижники и святые всех русских земель на протяжении семи веков трудились напрасно, а то и вовсе во вред — ведь вся их богословская и обрядовая система на Соборе 1666 года была объявлена «еретической» и предана анафеме!
Для русского сознания той эпохи это было переломным ударом. Рушилась сама Церковь, которая на Руси была не просто «религиозным учреждением», но жизненным центром общества. Под корень рубилась вся православная элита, которая прозревала это translatio ecclesii, мистический переход Вселенской Церкви на Русь, но и осознавала всю небывалую меру ответственности за такое восприятие. Однако для московских жрецов, узурпировавших статус «Третьего Рима» и желавших использовать его как сугубо политический инструмент, эти пророки были опасны «излишней вольностью» своих суждений. (→ 2–1) Показательно, что параллельно с этим уничтожением Церкви началось сворачивание земского самоуправления и окончательное закрепление крепостного права.
В вероучении не бывает никаких «частностей». То, что рациональное сознание может считать «несущественными различиями», на деле часто приводит к грандиозным столкновениям. Все многочисленные европейские религиозные войны между католиками и протестантами начинались именно с таких доктринальных «мелочей». В православном Символе Веры слова о том, что Царствию Христову «несть конца», были переделаны в «не будет конца». «Таким образом, — пишет Михаил Шахов в книге «Философия истории старообрядчества», — вносилась двусмысленность, позволявшая полагать, что вечное Царствие Христово еще не наступило с Его воплощением, искупительной жертвой на кресте и Воскресением, но лишь наступит в будущем. А это перекликалось с иудейским представлением о том, что Христос не был Мессией, а Мессия еще придет в мир и воцарится в нем».
Как видим, в одном этом «ничтожном» для профанов лингвистическом нюансе разверзается грандиозная мировоззренческая пропасть — между теми, для кого реально наступил Новый Завет, и теми, кто по сути остался в ветхозаветном «ожидании», но лишь внешне старательно изображает из себя «христиан».
Иногда «правке» подвергалась не столько буква, сколько сам дух истолкования текстов. Вот, к примеру, знаменитая фраза из послания апостола Павла к Римлянам: «Несть бо власть аще не от Бога: сущия же власти от Бога учинены суть». В дониконовском русском мировосприятии это понималось так: «ибо нет власти, если она не от Бога: настоящие власти от Бога учреждены». С укреплением же тоталитарного московского царства эти слова обрели совершенно иной расхожий смысл: «нет власти не от Бога», т. е. сакральна вообще всякая власть.
Термин «старообрядчество» представляется неадекватным, поскольку акцентирует внимание не на духовном своеобразии этого движения, а на его внешней атрибутике. Кроме того, он не был самоназванием — это никонияне нарекли русских традиционалистов «старообрядцами» и «раскольниками». Какого-то единого «старого обряда» вообще не существует — богослужения поморцев, сторонников Белокриницкой иерархии, не говоря уже о Спасовом согласии (нетовцах), существенно разнятся, а профаны валят все в одну «старообрядческую» кучу. Смысл сопротивления никоновской справе состоял не в защите каких-то формальных признаков обряда, но в понимании их символического значения. Важна была не старина веры, а ее полнота.
«Раскол», в сущности, произошел между полной и урезанной версиями русского православия. Если первая воплощала в себе все мировоззренческое и ритуальное богатство христианства со времен восприятия его Русью, то вторая превращала его в некую внешнюю, формальную структуру, механический набор слов и обрядов, зачастую непонятных самим верующим. Да и вообще, отныне предписывалось просто «верить», но не «знать». Иначе могли возникнуть очень неудобные вопросы — к примеру, что же такого «греховного» в двоеперстном знамении? А ведь Никон, предав его и всех, кто им знаменуется, анафеме, по существу анафематствовал всех святых, начиная от апостолов…
Двоеперстие символизирует сочетание Божественной и человеческой природ во Христе. Равно как и (также анафематствованный) крестный ход посолонь храма означает совпадение путей Божественного и человеческого. Но видимо, завистливым «справщикам» из Второго Рима очень не хотелось, чтобы на Руси они совпадали…
О настоящем значении и смысле обряда, который никонияне довели до простой формальности, писал староверческий философ Михаил Семенов:
Обряд в свое время создан великой мыслью, огромной духовной энергией, подъемом духовного настроения. Но всякая энергия всегда сохраняется по закону, так сказать, «сохранения духовной энергии». Как теплота, духовная сила обряда сохраняется в нем в скрытом состоянии. В обряде застыли «слова». Для человека, которого еще не пригрело солнце Благодати, они мертвы, безжизненны, но и для него они могут проснуться, «ожить». В обряд нужно вглядеться, войти вглубь, чтобы его сила ожила для сердца.
Таким образом, природа раскола состояла не в обряде как таковом — обряд был лишь ее самым наглядным выражением. Когда само слово «православие» оказалось узурпировано никониянами, традиционные православные предпочли называть себя «староверами». Хотя это также было не совсем адекватным названием — выходило, будто они веруют в некую «старину», а не в вечные принципы христианской Церкви. Но изложить свои взгляды более рационально они затруднялись (как и представители всякой живой веры), потому и неудивительно, что лучше всего это сделали вполне светские исследователи. Которые, что интересно, прикасаясь к этой теме и сами вдруг начинали сомневаться в официальной точке зрения. Известный староверческий писатель начала ХХ века Федор Мельников приводил множество таких «прозрений»:
«Раскол старообрядческий, — заявил недавно проф. Е. Барсов, — на мой взгляд, вовсе не был результатом так называемого мертвообрядового направления, о котором написаны едва ли не целые книги. Напротив, старообрядчество возникло из самого живого мистического отношения к обряду».
Кроме того, — говорит другой профессор, А. Лебедев, — самая «причина раскола лежит гораздо глубже, — она касается самого существа Церкви и основ церковного устройства и управления. Различие в обрядах само по себе не привело бы к расколу, если бы дело обрядового исправления велось не так, как повело его иерархическое всевластие. «Ничто же тако раскол творит в церквах, якоже любоначалие во властех», — писал известный вождь старообрядчества, протопоп Аввакум, в своей челобитной к царю Алексею Михайловичу. И вот это-то любоначалие, угнетающее Церковь, попирающее церковную свободу, извращающее самое понятие о Церкви (церковь — это я), и вызвало в русской церкви раскол как протест против иерархического произвола. Любоначалие было виною, что для решения религиозно-обрядового спора, глубоко интересовавшего и волновавшего весь православный люд, собран был собор из одних иерархов без участия народа, и старые, дорогие для народа обряды, которыми, по верованию народа, спасались просиявшие в Русской Церкви чудотворцы, беспощадно были осуждены; и на ревнителей этих обрядов, не покорявшихся велениям собора, изречена страшная клятва, навеки нерушимая».
Обычно принято считать, что религиозные консерваторы выступают гонителями свободы — как и было в ту эпоху в Европе, где сжигали «еретиков». На Руси же все случилось с точностью до наоборот: именно «ревнители древлего благочестия» оказались самой гонимой и свободолюбивой социальной группой. Вместе с «новогреческими», прошедшими в свое время через унию канонами, никонияне познакомили Русь и с опытом настоящей инквизиции. Сжигания в срубе, дикие пытки, распятия на дыбе вошли при Никоне в обыденность. Хотя Церковь в ее мистическом понимании к ним была не только не причастна, но выступала именно жертвой. Показательным примером здесь стало героическое 18-летнее (1658–1676) сопротивление иноков Соловецкого монастыря никониянскому государству. Когда же Соловецкая обитель была все же захвачена, сотни ее воинов-монахов были жестоко замучены и казнены под радостные благодарственные молебны никониянских попов. Интересно, вспоминали ли об этом духовные потомки этих попов, иное поколение никониянских иерархов, когда они сами оказались на Соловках при советской власти?..
Церковь тогда ушла из Москвы, превратившись в незримую, но повсеместную сеть множества толков, согласов и духовидцев-одиночек. Узурпация бывшей столицей (неслучайно, что вскоре она и политически оказалась «бывшей») внешнего статуса «Третьего Рима» — при полном отступничестве от его внутреннего духовного смысла — вызывала наибольшее неприятие у проницательных староверов. И это неприятие превзошло у них даже известную прежде неприязнь к иноверцам — в посланиях согласа странников (бегунов) содержится такая радикальная формулировка:
яко нынешний Зверь Третьяго сего Рима не точию подобен есть Римскому папе, но и несравненно более превосходит его своим нечестием.
Официальная историография зачастую изображает староверов как сплошных фанатиков-самоубийц, уходивших в огонь ради «спасения от Антихриста». Гарей, вызванных острым духовным отчаянием, действительно было много, но такое общее утверждение скрывает, что добровольными они были далеко не всегда. Аввакум не сам себя сжег — это сделали никониянские инквизиторы. Те же, до кого они не добрались, учились жить и оставаться собой в условиях крушения православного царства, от которого осталась одна внешняя оболочка. Кто-то устраивал восстания — как лихие казаки Стеньки Разина (кстати, после его разгрома в 1671 году некоторые отряды разинцев пробрались на Соловки и обороняли их до последнего (→ 3–6)). Донские староверы во главе с игуменом Досифеем ушли в 1688 году на степную реку Медведицу и организовали там «Медведицкое православное государство». В 1694 году в олонецких лесах возникла знаменитая «староверческая республика» Выгореция. Даже в Великом Новгороде, подтвердившем свою миссию древней столицы, собирались тайные соборы различных православных согласов, обсуждая дальнейшие пути Церкви…
Выход из «римской схемы» исчисления церковной истории заставил вспомнить древний русский миф о граде Китеже, который при наступлении татаро-монгольского ига скрылся под водой озера Светлояр, но при освобождении он должен вернуться. Однако иго, как выяснилось, лишь поменяло формы — «иных времен татарами и монголами» оказывались уже внешне русскоязычные попы и чиновники, но напрочь лишенные всякой духовной интуиции. Они фактически продолжали служить той же Орде — только переодетой в православные рясы и русские кафтаны. Церковь же, как и некогда вольная Русь, не исчезла, но ушла в потаенный Китеж. Который так же, как и в древнерусском мифе, должен вернуться — с одолением антихристова никониянского морока. Именно таков был экклесиологический вывод староверов, и неслучайно тематика Китежа чрезвычайно широко распространяется во множестве согласов. В самом китежском мифе произошло «translatio» — он вышел за пределы поволжской, керженской земли и стал универсально-общерусским, приблизившись по значению к другому древнему мифу — о счастливой и свободной земле Беловодье. Однако все же если Беловодье наделялось какими-то пространственными атрибутами, то Китеж имел статус экстерриториального духовного центра.
Все эти утопические образы воспринимались староверческим (т. е. аутентично православным) сознанием более реально, чем пустые иерархии и формальные обряды никониян. Некоторая часть староверов (поповцы) еще пыталась «перекрещивать» никониянских попов, надеясь возродить прерванную церковную иерархию, но они явно путали Церковь — мистическое тело Христово — с чиновничьей «вертикалью власти». Как точно заметил в «Путях русского богословия» Георгий Флоровский,
до конца последовательным был только вывод беспоповцев. С настатием Антихриста священство и вовсе прекращается, благодать уходит из мира, и Церковь на земле вступает в новый образ бытия, в «бессвященнословное» состояние, без тайн и священства. Это не было отрицанием священства. Это был эсхатологический диагноз, признание мистического факта или катастрофы: священство иссякло.
На первый взгляд, такая констатация означала тотальную безысходность. Но фактически это было воссоздание стиля жизни первых христианских общин, где также не было никакой «жреческой» иерархии. Так, сквозь небывалый церковный кризис на Руси словно бы повеял живительный дух новизны из эпохи первых Евангелий… (→ 2–6) Наблюдательный историк Николай Костомаров заметил этот парадокс:
Раскол гонялся за стариною, старался как бы точнее держаться старины; но раскол был явление новой, а не древней жизни.
Флоровский к этому позже добавил:
И «старовер» есть очень новый душевный тип.
Впоследствии староверы, не связанные более верностью «отступившему» царству, оказались самыми свободными людьми в России — аутентично русскими, но без имперской ксенофобии и европейски образованными, что отразилось в их колоссальном участии в развитии экономики и культуры того времени. Так Благодать вновь опрокинула Закон и таинственным образом превратила «самое древнее» в «самое новое». А порой и «самое юное» — самиздат «неформалов» конца ХХ века в действительности берет начало с уникального издания, которое выпускалось странниками двумя веками раньше и называлось «Газета с того света». А все анархические гимны рок-н-ролла восходят к подпольному хиту тех лет:
Паспорт у нас из града вышняго Ерусалима Убежали мы на волю от худого господина!* * *
Официальная московская никониянская организация, контрафактно именующая себя «Русской православной церковью» и не устающая призывать сограждан к смирению и покаянию, сама, тем не менее, ничуть не покаялась за инквизиторский погром и трехвековое преследование исконной русской Церкви. Она ограничилась лишь высокомерным признанием в 1971 году «равночестности» обрядов — тогда как вопрос был поставлен уже давно, но совершенно иначе: а являются ли обряды их самих «равночестными» православной традиции? Поэтому на все эти «признания» староверы давно и справедливо реагируют спокойным дистанцированием. Еще в 1912 году Второй Собор Поморской Церкви отвечал так:
Христиане поморцы, находясь в Церкви Христовой, не имеют нужды ни в снятии недействительных клятв незаконного собора 1666 г., ни в единоверии, чуждом Церкви Христовой.
«Единоверие» — это давняя лукавая политика властей, «разрешающая» православным исполнять их исконные обряды, — в обмен на то, чтобы они вошли в юридическое подчинение официальной церкви. Однако отказ большинства староверов от этого «компромисса» стал самым наглядным доказательством того, что суть размежевания состоит вовсе не в обрядности.
Сергей Корнев подчеркнул это остроумным и точным сравнением:
В решении собора РПЦ примириться со старообрядчеством через признание двоеперстия и т. п. изначально заложено некое циничное приземление полемики: как будто главная тема спора — различие обрядов, а не радикальный разрыв в эсхатологии, теологии, взгляде на мир, в самом ощущении жизни. С этой точки зрения признание никонианством своих «перегибов» и призыв к объединению выглядят примерно так же, как если бы раввинский синедрион посмертно реабилитировал Христа, признал его заслуги (как пророка и чудотворца), конфисковал у Иуды 30 сребреников и призвал христиан вернуться в лоно ветхозаветной религии.
Староверов зачастую сравнивают с протестантами — и действительно, определенную аналогию провести можно. Староверы восстали против синодальной бюрократии точно так же, как и протестанты против папского абсолютизма. Сближает их между собой и сетевой тип строения общин, и особая хозяйственная этика, и вкус к открытиям — когда английские протестанты осваивали Америку, русские староверы заселяли Север и Сибирь (и в сущности они шли навстречу друг другу, к мысу Провидения (→ 3–2)). Существенной разницей, однако, помимо очевидного доктринального различия, являются сами методы утверждения своей правоты. В истории староверия никогда не было эксцессов типа антиутопии протестанта Мюнцера, когда все не согласные с его трактовкой христианства подлежали уничтожению — это было просто зеркальное отражение папизма, против которого он боролся. Староверы, конечно, уверены в своей богословской правоте, но, как правило, всегда выражают ее довольно дипломатично. Пример этому подал первый настоятель Выгореции и автор знаменитых «Поморских ответов» Андрей Денисов, когда на провокационный вопрос засланного синодом на «разглагольствование» иеромонаха Неофита: «Так что же, вы утверждаете, что единственные спасетесь?» ответил: «Наша вера спасительна, об иных же не ведаем».
Выгореция, просуществовавшая более, чем полтора века (1694–1855), была уникальным примером воплощенной утопии в географических границах Российской империи. В лучшие годы ее население доходило до 10 тысяч человек, так что это действительно была своего рода «суверенная республика», а учитывая ее средний возраст, скорее даже «молодежная коммуна», где царила небывалая за ее пределами свобода. (→ 2–6) В то время, как в московской Славяно-греко-латинской академии была система, аналогичная советским «спецхранам», в Выгорецкой библиотеке, наряду со священным преданием, хранились и изучались труды европейских философов, мистиков и просветителей. Выговцы мыслили универсально-церковными категориями, осознавая себя «последними людьми Нового Израиля». Однако это не было каким-то упадочным эскапизмом. Братья Денисовы изобрели изящное риторико-богословское объяснение своего места и времени. Антихрист, который явился на Русь, правит бал исключительно в своей, никониянской церкви. Выгореция же является преемником и продолжателем изначальной церковной традиции.
Интересно и уникально прямое общение выговцев с императором Петром Великим. Официальная историография обычно изображает Петра и староверов как некие полярные противоположности — здесь же эти «полюса» сошлись. Среди выговцев было немало рудознатцев, чей опыт был крайне необходим Петру, строившему в Олонецкой губернии оружейные заводы. Кроме того, были среди них и крепкие купцы, помогавшие хозяйственному росту только что основанного Петербурга. Так что ни о каких государственных репрессиях речи не заходило — хотя выговцам порою досаждали чиновники официальной церкви. И когда они совсем достали, на свет появилась уникальная «охранная грамота», подписанная «полудержавным властелином» Меншиковым в 1711 году:
По Санкт-Петербургской губернии всем вообще, как духовного, так и светского чину людям и кому сей указ надлежит ведать, дабы впредь никто вышеупомянутым общежителям Андрею Денисову со товарищи и посланным от них обид и утеснения и в вере помешательства отнюдь не чинили под опасением жестокого истязания.
Никониянские деятели, напротив, любят упрекать Петра в том, что он «отменил патриаршество». Но заслуживала ли Патриарха эта мутная пародия на исконную Церковь? Даже когда патриаршество у них было восстановлено, пародия превратилась совсем уж в гротеск. Так, советский патриарх Алексий I был четырежды кавалером ордена Трудового Красного Знамени. Трудно найти пример большей взаимной профанации христианства и коммунизма![40]
Сотрудничество же Петра с выговцами, к сожалению, не успело увенчаться великим историческим союзом, который уравновесил бы новую северную столицу, с ее подчеркнуто светско-имперской миссией, соответствующим новым духовным центром. Тогда петровская цивилизация обрела бы гораздо большую устойчивость, и была бы гарантирована от опасности «боярской реставрации», тенденции которой постоянно воплощала Москва. Петербург и сам по себе, в своей «призрачности» и «утопичности», был прямым светским отражением православного исхода из падшего Третьего Рима на Север. Слияние этих двух параллельных потоков могло бы окончательно преодолеть довлевшее над русской историей евразийское татаро-московское иго. Духовно исчерпавший себя «московский период русской истории» был бы естественным образом «закрыт» — как некогда киевский, переставший воплощать в себе общерусские интересы. И нынешний московский гиперцентрализм показался бы просто кошмарным несбыточным сном…
Но Петр, будучи жестким централистом и империалистом, предпочел сосредоточить все столичные функции, в том числе и духовный центр, в одном городе. Возможно, тогда, в ходе непрерывных северных войн, это вызывалось необходимостью момента, но именно такая концентрация как раз и позволила затем перенести весь этот имперский гиперцентр полностью в Москву, уничтожив тем самым дело жизни Петра. Да и сам Петербург, получив возможность распоряжаться духовной жизнью, слабо отдавал себе отчет в ее особой природе, пытаясь применять к ней категории военной дисциплины. Именно поэтому при милитаристе Николае I была уничтожена политически лояльная и экономически эффективная, но не соответствующая «общепринятому» никониянскому стандарту Выгореция. Хотя надо заметить, что изрядная доля вины за такой печальный исход лежит на самих староверах, которые не сумели в свое время развить и предложить никакой более современной духовно-социальной доктрины, иными словами, действительно разработать полноценную и популярную версию «русского протестантизма» на базе православного вероучения. Тогда результат исторического спора с застывшим в своей догматике никониянством на Русском Севере мог быть совершенно иным… Ныне же Поморье, олонецкие и архангельские земли, где Петр строил первые корабли, и где его личность оценивают совсем по другому, чем в Петербурге и Москве, вне «западничества» и «славянофильства», словно бы несут на себе следы этого несостоявшегося события — рождения новой духовной столицы Руси…
Китеж — это не какая-то «реставрация», утопию «возродить» невозможно. Ее можно только воплотить, и Китеж непременно будет построен. На тех самых северных или сибирских землях, куда бежали, унеся с собой Церковь, древлеправославные подвижники. (→ 3–8) Это будет вольный город, столица иной цивилизации, знаменующая собой окончательное освобождение от многовекового ордынского ига и изоляционистской никониянской архаики. В нем воплотится и прерванная традиция Великого Новгорода, и русских первооткрывателей, прошедших «встречь солнцу» всю Сибирь и оставивших храмы на Аляске. Этот духовный центр, необходимый для осмысления и продолжения русского пути на Север, будет вместе с тем и экономической столицей Севера, который вернет себе право распоряжаться собственными грандиозными ресурсами. Это и будет строительством Нового Израиля — на эту «прагматическую» свободу у христиан есть все благодатные основания, в отличие от скованных своим Законом иудеев.
Именно потому, что эта утопия еще не воплощена, и русские ждут возвращения Китежа вместо того, чтобы его вернуть, современная Россия живет в режиме вялотекущей исторической инерции. Которая все более относит ее в какой-то ветхозаветный режим, как будто Спаситель и вовсе не приходил на землю… «Защитников русской самобытности» развелось больше, чем когда-либо за всю русскую историю, — да только все они странным образом толкуют эту «самобытность» как нечто уже навеки существующее и неизменное, в котором остается лишь сохранять и укреплять статус-кво. Парадокс в том, что вопреки популярной в этих кругах юдофобии, они сами фактически воспроизводят архетип древних иудеев, которые были в первую очередь озабочены запрещением и наказанием всевозможных «еретиков». Шовинисты черносотенного толка по своему угрюмому и агрессивному имиджу практически ничем не отличаются от библейских зелотов. Да и сами «официальные» староверы, поповцы и беспоповцы, бесконечно спорящие между собой по поводу чистоты чаш и длины бород, все более напоминают неких экзотичных «фарисеев и саддукеев». И над всем этим постмодернистским карнавалом «канонично горят православные красные звезды»[41] современного Вавилона…
Преодолеть этот исторический пат возможно лишь иным парадоксом — а именно «сионизацией» староверия. Вместо нагромождения внешней исторической атрибутики и занудного «традиционалистского» начетничества необходимо пробуждение и активное воплощение того самого творческого духа, который уже однажды проявился в мировой политике созданием государства Израиль. Как бы к нему ни относиться, оно являет собой тот самый уникальный феномен, когда новая цивилизация создается практически «из ничего». Всего за полвека до возникновения этого государства слово Израиль воспринималось вполне сродни Китежу — как некий древний миф. Однако же он был неожиданно и стремительно воплощен, и потому его необходимо рассматривать как ценный прецедент. Главная разница между этими проектами состоит в том, что сионисты строительством Израиля нарушили иудейский Закон, а китежане, наконец, исполнят христианскую Благодать.
…Видный деятель раннего сионистского движения Зеев Жаботинский жестоко высмеивал образ «типичного жида наших дней» — запуганного, замкнутого, заторможенного, униженного, нерешительного… И противопоставлял ему идеальный образ сабры (еврей, который родится в Израиле) — бодрый, дерзкий, свободный, ироничный, авангардный… Спустя почти 60 лет профессор Тамарин провел практическое исследование и выяснил, что сабра действительно выглядит и оценивает себя в полной противоположности к облику галута (евреев в изгнании). Галутный еврей «тощий, худой, говорит с акцентом, слабый, болезненный, бледный, преждевременно постаревший, носит бороду и традиционную темную одежду, шляпу или кипу». А вот каков коренной израильтянин — «высокий, вихрастый, закаленный и физически крепкий, загорелый, глаза ясные, лицо веснушчатое, волосы соломенного цвета или русые. Одежда — простая и свободная: сандалии, брюки, панамка».
Это не просто стилевая, но — антропологическая революция, и надо признать, что сионистам она действительно удалась. По крайней мере, известный анекдотический образ еврея уже все меньше соответствует действительности. А образ русского православного, наоборот, все больше размывается, теряя всякую идентичность. При этом никакая внешняя «традиционализация» ее не восполняет, но только оставляет впечатление пародии или странным образом напоминает движение к образу галутного еврея. Но дело не только в имидже — хотя он ныне и чрезвычайно значим. Как сказал еще один из ранних сионистов Шмуэль Хаим Ландой, «народ, у которого нет своей собственной земли, и чья жизненная сила иссякла, это уже не народ». В конечном итоге, антропологический тип определяется наличием или отсутствием у народа его мистической родины. У православных сегодня Китежа нет, и потому в покрывших его водах они не видят своего отражения…
2.4. Прямой круг
В 1917 году Россия сказала: «Нет Бога». Теперь осталось добавить: «кроме Аллаха».
Анекдот?Нынешний глобальный всплеск мусульманского активизма выглядит особенно контрастным на фоне того, что еще всего полвека назад такие термины, как джихад, шариат, шахид в мировой политике практически не употреблялись, относясь к разряду некой архаичной региональной экзотики. Сегодня они понятны без перевода повсюду — но вряд ли можно сказать, что имидж ислама стал от этого более притягательным.
Современный «исламизм» имеет такое же отношение к традиционному исламу, как и сионизм к иудаизму. (→ 2–2) Средневековая исламская цивилизация обладала чрезвычайно высоким интеллектуальным и культурным уровнем — именно она обучила «варварскую» Европу алгебре, астрономии, готической архитектуре и т. д. Тем удивительнее эта современная инверсия, когда с «варварством» стал ассоциироваться сам ислам.
Исламская доктрина все более становится лишь внешним прикрытием для стремительного процесса демографической экспансии «этнических мусульман». По расчетам профессора Геттингенского университета Бассама Тиби, к 2050 году число «исламских иммигрантов» в Европе достигнет 40 миллионов. Арабский профессор называет их «исламскими», даже не задумываясь о реальном исповедании этими людьми ислама — его интересует только их количество. Это весьма напоминает сионистский принцип сугубо этнического истолкования еврейства, когда религиозный фактор представляется несущественным или «сам собой разумеющимся».
Однако Старый Свет может стать исламским и «изнутри». Французский журнал «Аctuel», основываясь на материалах европейской прессы и социологических прогнозах, опубликовал в конце 1999 года заключение, что через 50 лет именно Европа станет главным глобальным центром распространения ислама. Это явление, получившее имя евроислам, связано не только с демографическим нашествием жителей бывших колоний. (Хотя относительно этого нашествия есть особая историософская версия — что оно является неизбежной расплатой Европы за свое колониальное прошлое.) Ислам вдруг оказался весьма привлекательным религиозным выбором для собственно европейской элиты — интеллектуалов и людей искусства, желающих тем самым подчеркнуть свой «нонконформизм». Хрестоматийным стал пример Роже Гароди, который из «левого» коммунистического лидера вдруг превратился в истового исламского проповедника. Некоторые «традиционалисты» ссылаются на иной пример — Рене Генона, забывая подумать, почему он, лично приняв ислам, все же не рекомендовал ему следовать. Но даже повторив этот шаг, они однако не спешат вслед за Геноном сделать и второй — покинуть Европу, а предпочитают громко критиковать «антитрадиционный Запад», охотно пользуясь всеми его «сатанинскими прелестями»…
Франция, несмотря на то, что именно там родилась философия постмодерна, в социальной жизни, как ни странно, прочно застыла на стадии модернистских дуализмов, до сих пор заставляющих «выбирать одно из двух». Там до сих пор всерьез обсуждают — должно ли быть общество «религиозным» или «светским». Это наглядно проявилось в недавней нашумевшей проблеме — разрешить или запретить мусульманским девочкам носить в школах традиционные платки (хиджаб). То же касается иудейских кип, буддистских амулетов и т. д. Примечательно, что здесь напрочь перепутались привычные позиции «правых» и «левых» — первые, несмотря на свое реноме «традиционалистов», выступают за абсолютную «светскость», а вторые, забыв о своем былом атеизме, напротив, защищают «право на религию».
Сама эта проблема «выбора» коренится в неизжитом модернистском конфликте между католицизмом и прогрессизмом, который постоянно раскалывает Францию со времен ее Великой революции. Французские прогрессисты, воспитанные в католической традиции, впитали ее склонность к тотальной унификации, но — противопоставили ей самой. Отсюда их принципиальное неприятие любой религиозности, доходящее до исступленной «веры в то, что Бога нет». Мрачный парадокс — если Вольтер утверждал, что «религия сеет нетерпимость», то его «просвещенные» последователи превзошли по своей нетерпимости к религии любую из них!
В протестантских же странах все было иначе — там произошел синтез религии и прогресса, который и вывел эти страны в «состояние постмодерна». Там не «боролись» с религией, но и не делали из нее тоталитарную идеологию — а воспринимали как естественную духовную платформу для социальной прагматики. Такое «приземление» религии, конечно, можно расценивать как снижение ее трансцендентного статуса — однако именно это позволило северным странам продолжить и даже поднять на новый уровень свою традицию мультикультурности. В Англии, Швеции или Канаде государственным чиновникам не приходит в голову «запрещать» какие-то внешние атрибуты любой религии — единственным ограничителем остается лишь агрессивность ее представителей. Но эта проблема относится уже не к религиям как таковым, а к формированию нового социального кодекса, адекватного эпохе постмодерна.
Тем не менее, логика тех европейцев, кто взыскует живого религиозного опыта и потому, в условиях духовной опустошенности западных версий христианства, принимает ислам, довольно ясна. Сложнее понять аналогичное движение в России, где православие, в силу своей традиционно большей, чем в католицизме, мистичности и созерцательности, по логике вещей, должно бы обладать куда более сильным духовным притяжением. Но видимо, официальная никониянская церковь ныне уже слишком явно демонстрирует свой разрыв с Церковью с большой буквы, ибо ислам начинают принимать не только тысячи ее рядовых прихожан, но и представители клира.
Проект «мусульманской России» обязан своим появлением тому духовному вакууму в русском обществе, который никониянская церковь, вновь превратившаяся в 90-е годы ХХ века в официальный институт, так и не сумела заполнить. Кроме того, развитию этого проекта существенно помогает и демографическая динамика — по расчетам социологов, уже к 2030 году «этнически-мусульманское» население России в ее нынешних границах будет доминировать над «этнически-православным». Однако нас в данном случае интересует не эмоциональная оценка этой исторической перспективы, но вопрос — с утопией или антиутопией мы имеем дело?
Напомним, что если утопия стремится воплотить некий трансцендентный идеал и предполагает свободное, активное, «позитивное» сознание, то антиутопия всегда жестко идеологична, и, хотя также апеллирует к трансцендентному идеалу, но вместо его осуществления являет собой сплошную «негативную реакцию» — борьбу с «врагами», «ересями» и т. д. Рассмотрим с этой точки зрения одну из наиболее заметных работ, пропагандирующих проект «мусульманской России» и даже отказывающих России в «будущем вне Ислама» — брошюру «Прямой путь к Богу» Али Вячеслава Полосина.
Прежде всего отметим, что автор, может быть помимо своей воли, блестяще подтвердил «свободную конвертируемость» жреческой касты, сменив статус священника при синоде на должность чиновника при муфтияте. И с тем же пафосом выступает теперь от лица не православной, а исламской ортодоксии. Это, конечно, потребовало некоторых мировоззренческих и лингвистических корректив — но «арабизация» русского мышления и языка приводит к фатальной глухоте ко многозначности русских слов. А русский язык не терпит такого насилия и сам обличает рассказчика. Полосин порою не слышит, что он говорит: «Интересно, что слово «предаю» по-арабски буквально и означает «ислам».
В брошюре много и других интересных открытий. Так, оказывается, «Ислам является фундаментом государственного строительства России по меньшей мере с 922 года». Однако новгородские и киевские летописи этот факт почему-то умалчивают. Возможно, Али Полосин применяет мусульманское летоисчисление? Тогда, надо полагать, русским вариантом исламской революции было взятие Казани Иваном Грозным.
Утопический характер али-полосинского проекта заключался бы в том, если бы автор указывал на какую-то особую новизну, оригинальность и интеллектуальное богатство исламского мировоззрения, которое русские почему-то не заметили. Вместо этого мы наблюдаем неприятные из уст бывшего священника, хотя и никониянского, огрызания в адрес христианского вероучения, упреки его в «отсутствии Откровения» и «многобожии». Последнее он обнаруживает в принципе Бога-Троицы, хотя трудно поверить, что еще в семинарии Полосину не разъяснили Ее единосущность. (Впрочем, за уровень обучения в никониянских семинариях мы поручиться не можем.) В доказательство же «языческой» природы христианства он перечисляет аналогии евангельского сюжета смерти и воскресения Сына Божия в зороастрийских и орфических мистериях, не догадываясь, что тем самым не «принижает» христианство, а наоборот — только подтверждает онтологическую фундаментальность этого религиозного архетипа. Какое же Откровение предлагается в качестве альтернативы? А как раз безо всяких «качеств» — Единобожие как всеотрицающее метафизическое одиночество. Однако русскому религиозному сознанию, воспитанному на своих волшебных сказках и чуде воплотившегося Спасителя, такой безликий и принципиально потусторонний Бог просто чужд.
Даже «язычество», на которое ополчается Полосин, вовсе не было на Руси поклонением каким-то бездушным истуканам — древние славянские боги были живой персонификацией космических стихий. Они не угнетали человеческую свободу, но наоборот — возвышали ее до мистериального отождествления человека с природными ритмами мироздания. Затем христианство открыло, что главным законом мироздания является любовь — и сам трансцендентный Бог, снизошедший на Землю, был воплощенной любовью. Каким же резким контрастом с этой вселенной свободы и любви выглядит исламская проповедь абсолютного поклонения и покорности! Может быть, для других народов она и подходит, но для вольного русского духа такая, к примеру, кораническая фраза: «Я создал джиннов и людей только ради того, чтобы они поклонялись Мне» — выглядит какой-то самодовлеющей бессмыслицей. Неочевидный, парадоксальный замысел мироздания, вдохновлявший мистиков всех времен, здесь исчезает — такой мир напоминает фабрику заводных кукол, бесконечно движущихся по конвейеру вокруг своего грозного демиурга…
Характеристика ислама как «прямого пути» неверна уже хотя бы потому, что он фактически повторяет иудаизм, утверждая «немыслимость» Боговоплощения в человеческом облике. Тогда как все христианство на этом принципе и основано. Таким образом, ислам, как последняя из авраамических религий, является в некотором смысле лишь «возвращением на новом витке» к первой, иудаизму. Здесь множество прямых аналогий — в иудаизме и в исламе проповедуется единоличный Бог (Иегова и Аллах), используется единственный сакральный язык (иврит и арабский), применяется жесткий социальный регламент (галаха и шариат). «Троическое» христианство, возникшее между этими двумя взаимными отражениями, выглядит на их фоне «незаконным» парадоксом — кстати, изначально в нем и не было никакого «Закона» и даже единого сакрального языка. Все его литургические языки и социальные каноны — это позднейшие адаптации к различным культурам. Христианство своим «глобалистским» принципом «несть ни эллина, ни иудея» не уничтожило региональные этно-культурные идентичности, но напротив — само обрело их форму и тем самым сохранило мировое многообразие. А иудаизм и ислам, где бы ни появлялись, непременно влекли за собой определенную унификацию мировоззрения, психологии и облика своих последователей. Но если в иудаизме эту унификацию можно объяснить тем, что он в принципе рассчитан на единственный народ, то ислам, несмотря на декларации о своем международном статусе, тем не менее повсюду утверждает специфически арабскую модель — от единого сакрального языка до нормативов поведения, одежды и т. д. Таким образом, отвергая урок своего исторического предшественника, второй авраамической религии, христианства — «быть разным у разных народов», и делая вместо этого ставку на некую арабскую «избранность», ислам превращается в своего рода «ремейк» иудаизма.
С некоторыми идеями Полосина трудно не согласиться — например, с критикой оккультного «геополитического дуализма», идола «священного государства» и т. д. Но как только дело доходит до «позитивных» утверждений, мы наблюдаем призывы все к тому же бесцветному, апофатическому Единобожию, настойчиво требующему веры в себя, причем на каком-то чужом языке, с совершенно иным мелодическим строем. Хотя даже сама природа ислама восстает против его собственной унификации. Американский суфий и одновременно радикальный либертарианец Хаким-Бей утверждает:
Гиперортодоксы и улемократы не могут с легкостью сократить его (Ислам) до доминирующей/универсалистской идеологии, поскольку в нем присутствуют самые разнонаправленные формы «сакральной политики» — суфизм (например, Накшбанди), радикальный шиизм (например, Али Шариати), исмаилизм, исламский гуманизм, «зеленый путь» полковника Каддафи (отчасти нео-суфизм, отчасти анархо-синдикализм), и даже космополитический боснийский ислам. [Примечание: мы упоминаем эти течения не для того, чтобы со всеми из них согласиться, но для того, чтобы показать, что Ислам не есть монолит «фундаментализма».]
Современный «исламский фундаментализм» производит странное впечатление уже своим названием, поскольку «фундаментально» в нем все что угодно, кроме интеллектуальных принципов своей же традиции. И эта антиутопия зашла уже настолько далеко, что деление мира на «верных» и «неверных» само по себе стало в ней религиозным «фундаментом». Хотя великий суфийский шейх Мохиддин ибн Араби учил о «Божественном всеприсутствии»:
Тот, кто привязывает Бога к какой-либо вере, отрицает Его в любой вере, отличной от той, с которой он Его связал… Но тот, кто освобождает Его от связанности, тот вовсе не отрицает Его, но утверждает Его в каждом обличье, в которое Он превращает себя.
В современном исламском мире этому принципу остался верен, пожалуй, только Иран, проводящий политику веротерпимости и «диалога цивилизаций». (Глава написана до избрания «исламистского ястреба» Ахмадинеджада президентом Ирана. — прим 2005 г.) Для подавляющей же массы «этнических мусульман», в основной арабской и тюркской, ислам становится лишь ширмой для своей глобальной демографической экспансии. В итоге «исламское» начинает как бы по умолчанию отождествляться с «арабским» — языком, менталитетом и даже фенотипом. И «арабизация» сама по себе становится «критерием истины». Однако именно эта тенденция в традиционном исламском вероучении совершенно отвергается. Это тагут — идолизация и обожествление любой реальности, помимо Аллаха. И те, кто мечтает «сделать мусульманским весь мир», чаще всего подразумевают под этим именно тагут — в той формулировке, которую ему некогда дал Гейдар Джемаль: «собственный архетип, спроецированный во множественность, претендующий на то, чтобы быть мерой вещей».
Нынешняя Россия, пытаясь бороться с этой антиутопией военно-полицейскими мерами, фатально проигрывает потому, что это явление совершенно другой природы. Оно проходит сквозь светскую государственность подобно радиации сквозь бетон. Адекватно ему противостоять может лишь иной утопический проект. Но для нынешней московской государственности, озабоченной сохранением и укреплением статус-кво, русская «китежская» утопия выглядит не менее враждебной. «Китежане» отвергают колониальную политику имперского евразийства, которая неизбежно приводит Россию к ситуации, аналогичной европейским странам, ставшим объектом массовой миграции жителей бывших колоний. Кроме того, чеченская война, развязанная во имя «территориальной целостности», после отделения славянских стран — Украины и Белоруссии, влечет за собой лишь демографическую доминацию на территории РФ «этнических мусульман». Им зачастую вопреки их собственной воле навязывают российское гражданство, в то время как добровольно желающим его получить славянам из бывших союзных республик в нем отказывают. В этих условиях северный, «китежский» проект остается единственным адекватным русским ответом на этническую деградацию «России-Евразии», потому что предлагает позитивную самореализацию русского духовного и культурного потенциала, и вместе с тем, вполне совместим с постгосударственной политикой эпохи глобализации. (→ 3–8)
Совместим китежский проект и с весьма интересным и перспективным движением северных русских мусульман, специфика которых состоит в беспрецедентном освобождении духовных принципов ислама от исторических и имиджевых наслоений «этнического мусульманства». Такой парадоксальный и назревший шаг вполне гармонирует с вольным севернорусским менталитетом, который не способен удовлетвориться инерцией «обычной» религиозности, но активно ищет и утверждает ее новые формы и творческие толкования. Северные русские мусульмане воплощают свой оригинальный утопический проект, во многом вдохновленный суфийскими традициями, свободный от «жрецов» из всевозможных муфтиятов и прочих «этнически-мусульманских» клише. Лидер Карельской общины русских мусульман Мустафа Абу-Ахмад (Олег Стародубцев) показывает эту грань:
Наша первоочередная задача, программа-минимум состоит в том, чтобы русских мусульман наконец перестали воспринимать как чудаков-маргиналов, для которых Ислам стал лишь очередным способом привлечь к себе всеобщее внимание. Мы — не хиппи, начитавшиеся неосуфийских брошюр, не «жертвы ваххабитской пропаганды» и не толкиенисты с деревянными мечами. Нас — молодых интеллигентных людей, ставших мусульманами, но при этом не переставших осознавать себя русскими, — становится всё больше и больше, и в самое ближайшее время взгляд на Ислам в России как на религию национальных меньшинств предстоит пересмотреть. Русским мусульманам предстоит стать значимым явлением общественной и религиозной жизни России, и мы должны быть к этому готовы. Первоначальный этап, когда представители так называемых «мусульманских народов» глядели на нас с умилением — «Надо же, русский принял нашу татарскую веру! Ай, молодец!», когда нас показывали богатым арабам из всевозможных «благотворительных фондов» и «агентств помощи и спасения», чтобы вытрясти из них побольше зелёненьких бумажек, уже прошел. Ислам для нас — не забава. Ислам — это наш Путь, и нам предстоит доказать всему миру, что русские мусульмане не нуждаются в покровительстве толстых арабов с их нефтедолларами и татарских муфтиев, назначенных на должности в своих «духовных управлениях» ещё даже не ФСБ, а КГБ. Нами «духовно управляет» лишь Аллах! Если Али Полосина устраивает должность «свадебного генерала» при гайнутдиновском ДУМЕР (Духовно УМЕР?) и «профессионального критика РПЦ» при татарских муллах — Аллах ему судья! Мы пойдём — уж извините за цитату — другим Путём, который считаем единственно верным.
Таким образом, проект «русского ислама» с очевидностью дистанцируется от экспансивного «этнического мусульманства», которое сегодня, усилиями Али Полосина и его начальства, само дает русским поводы сопоставлять его с татаро-монгольским игом. Однако в качестве независимой сетевой структуры русские мусульмане органично вписываются в традиционную для Севера мультикультурность. (→ 1–9)
Они даже вполне могут стать неотъемлемой частью, особой «исламской дружиной» китежского проекта, который, воплощая церковную традицию Нового Израиля, имеет универсальный, открытый характер. Доктринально между исламом и беспоповским староверием довольно много общих черт, важнейшими из которых являются почитание пророков, отвержение жреческой касты и воля к историческому творчеству. Их прямое взаимодействие способно оказать существенное позитивное влияние друг на друга, побуждая каждую традицию глубже изучать и воплощать собственную духовную специфику, формировать «практическое богословие» глобальной эпохи.
«Русский ислам» в этом контексте может стать прямым продолжением той богатейшей средневековой исламской традиции, которая когда-то оказала колоссальное интеллектуальное и культурное влияние на Европу, а затем была предана полному забвению в тюрко-арабском «этническом мусульманстве». И вполне возможно, что для того, чтобы подчеркнуть свою дистанцию от него, северные русские мусульмане однажды совершат решительный шаг, подобный тому, который в свое время сделали староверы, порвавшие с духовно омертвелой никониянской догматикой. А именно — переведут все свое вероучение и ритуальные практики на русский язык — начиная с самого именования Бога, которое в огласовке «Аллах» отсылает к арабскому, а не к трансцендентному миру…
При этом «русификация» ислама не должна зашкаливать и в обратную крайность, которая подменяла бы универсальный характер его миссии созданием русской версии «этнического мусульманства». Чрезмерное увлечение адатом, этническими обычаями, может повлечь за собой опасность перерождения утопии «русского ислама» в еще одну тривиальную национально-консервативную идеологию, замешанную на фарисейском морализме. Таких ортодоксов среди русских хватает и без «своих» мусульман. Но, как замечено в песне одной уральской рок-группы, «кольцевые дороги никуда не ведут».
2.5. Трансценdance
Музыка для меня — это то, что дает возможность к вере. Музыка — это когда появляется волшебство. То волшебство, которое нельзя объяснить. В это можно только поверить, почувствовать. Музыка — это разворачивание души человека, когда она может принять в себя веру.
Борис ГребенщиковВ отличие от навязчивой «пропаганды ислама» его поверхностными неофитами, исламские мистики видят прямой путь иным — гораздо более глубоким и открытым для представителей всех традиций. Суфий Хазрат Инайят Хан пишет в своей книге «Мистицизм звука»:
Музыка является кратчайшим, самым прямым путем к Богу… Хорошо известная легенда из жизни Моисея рассказывает о том, что он услышал Божественное повеление на горе Синай в словах Muse ke — «Моисей, внемли»; а Откровение, снизошедшее на него, состояло из тона и ритма, и он назвал его тем же самым именем: Музыка. И в Судный День будут звучать звуки труб перед тем, как придет Конец Света. Это показывает, что музыка связана с началом творения, с его продолжением и с его концом. Мистики всех веков больше всего любили музыку. Почти во всех кругах внутреннего культа в любой части света музыка была центром культа или церемонии. Музыка проникает дальше, чем может проникнуть любое другое впечатление внешнего мира. Она — наилучшее средство пробуждения души; нет ничего вдохновеннее.
Однако в жреческой практике авраамических религий роль музыки оказалась существенно ограниченной, сведенной лишь к обрядовому «фону». Самостоятельную значимость она сохранила только в мистических движениях, наделенных обостренным, эзотерическим слухом к своей традиции. В восточных же религиях, к примеру в буддизме, музыка всегда оставалась не просто «фоном», но неотъемлемой частью самой доктрины. Поэтому неудивительно, что в глобальную эпоху многие западные музыканты, ищущие живого религиозного опыта, стали охотно петь мантры и организовывать утопические коммуны на основе «восточной экзотики».
На наш взгляд, чем более религия соответствует своему собственному утопическому проекту, тем более она музыкальна. И наоборот — чем больше в ней жесткой догматики и внешнего формализма — тем тише ее музыка… Это обстоятельство отметил Рихард Вагнер, указав при этом и на единственный путь спасения религии:
Там, где религия становится формальной, искусство вправе прийти ей на помощь, спасти ее суть, истолковывая мистические символы, чтобы идеальным их изображением раскрыть заключенную в них глубинную истину.
По большому счету, вообще все утопии музыкальны. Именно с этим связан неизбывный внутренний «американизм» давно уже интернациональной рок-культуры. Он сквозит даже в тех проектах, которые идеологически позиционируют себя как «антиамериканские». Просто потому, что весь рок-н-ролл как стиль музыки и жизни является прямым наследником великой американской утопии… (→ 1–1)
* * *
Музыка не принадлежит времени. Время — это обиталище оседлых народов, с их статическими искусствами — домами, скульптурами, картинами, телевизорами и прочим в буквальном смысле отстоем. Музыка же — искусство динамическое, нематериальное, она разносится по вольным пространствам и озвучивает, оживляет их. И потому в неформалах-автостопщиках с гитарами за плечом порой угадываются энергии гиперборейцев (→ 2–1) — первых кочевников на этой Земле.
Потому же и кабинетные философы-«традиционалисты», пытающиеся откуда-то «вычитать» Традицию, донельзя смешны. Генон, практиковавший зикр (непрерывное пребывание в молитвенной музыке), издевался над европейцами уже тем, что писал для них книги о том, что Традиция начинается с устной передачи.
А устность исключает любой буквализм — атрибут именно письменной речи. То Слово, которое было «В начале…», распалось затем на живой звук и мертвую букву. И контраст между ними нарастал в течение всей человеческой истории. Религиозные догматики-буквалисты, пытаясь узурпировать это небесное Слово, на деле только опустошили его, превратили в сплошную формальность, за которой нет ничего, кроме прозаического обслуживания земной власти. Обостренный слух к небу сохранялся только у таких «неправильных» (потому что «неотмирных») староверческих толков, как поющая нетовщина. А позднее рок-музыканты довели этот контраст между буквальной «правильностью» и экстатической импровизацией до предела — достаточно сравнить мощнейшую энергетику концертов культовых групп с иногда выходящими сборниками текстов их песен, поражающими глухих профанов своей «нелитературностью», «абсурдностью», «бездарностью» и т. п.
Тем не менее, именно музыка незримо звучит за всеми важнейшими историческими метаморфозами. Чуткий Ницше именно в операх Вагнера услышал раскаты грядущего столкновения аполлонического и дионисийского мифов. (→ 3–7) В ХХ веке аудио-философию наиболее глубоко продолжил Теодор Адорно, распознав в «атональных гармониях» Шенберга и Шостаковича собственный голос того глобального кризиса, что был порожден небывалым военно-революционным разрушением всей прежней картины мира. А после Вудстока кончилась и вся «классика» — симфонические формы музыки со своими филармониями и дирижерскими фраками превратились в разновидность музейного экспоната, уступив место новому глобальному фольклору — рок-н-роллу. Хотя с тех пор сами рокеры порою охотно используют симфонические оркестры в качестве «фона», создавая любопытные постмодернистские миксы.
Еще со времен странствующих трубадуров и менестрелей, а на Руси — скоморохов, личность музыканта была окружена особой утопической аурой. То, о чем он пел, как бы «не существовало» в реальности, но, тем не менее, магнетически и порою совершенно «религиозно» притягивало слушателей, «взрывало» их внутренний мир. И в эпоху модерна, когда религия стала «неочевидной», ему приходилось полагаться лишь на собственную визионерскую интуицию. Это духовное напряжение порождало особый экзистенциальный контраст, который выводил музыканта за рамки общества «нормальных», «средних» людей. Именно с тех пор платой за все более высокие прозрения становился все более глубокий «андеграунд». Хаким-Бей объясняет это так:
Музыка сама по себе, будучи явлением «бестелесным», является наивысшим выражением чистого воображения, посредством которого говорит дух. «Низменность» же музыканта связана с тем, что музыка проявляет себя и как низкое — как удовольствие. Музыка духовна — музыкант телесен. Музыкант не просто низок, он еще и жуток, таинствен — находится не просто внизу, но еще и «снаружи». Власть музыканта в обществе подобна власти мага — отверженного шамана.
Здесь можно добавить — и власти пророка, тогда как все официальные религии уже безраздельно управляются кастой жрецов. (→ 2–1)
Описывая музыкальное удовольствие, Хаким-Бей приходит к довольно неожиданному определению:
Музыка есть абсолютный символ праздничного, а потому и столь высоко ценившегося Бахтиным «материально-телесного низа». В опьянении веселой компании на карнавале музыка предстает перед нами как что-то вроде утопической структуры или формирующей силы — музыка сама становится «порядком близости»… Амбивалентность музыки позволяет ей дрейфовать между высоким и низким и все же оставаться цельной. Это и называют «традицией».
Многие святые отцы раннего христианства приходили к такому же парадоксальному пониманию традиции — где пренебрегают низким, там не бывает и высокого. Ныне эту истину иллюстрирует великолепное название одной из самых мистических русских рок-групп — «Оргия Праведников». Ее лидер Сергей Калугин напрочь отрицает консервативную жреческую идеологию внешнего «благообразия»:
Традиция не живет имитацией прошлого. Традиция вечна и потому всегда умеет говорить языком своего времени. А рок — это и есть один из языков современности. Играя его, мы вовсе не игнорируем происходившего в музыке до нас. Наша музыкальная ткань ничуть не менее благородна, чем у композиторов минувших эпох. И внимательный слушатель разглядит в нашей музыке многие аллюзии и цитаты, обращения к различным культурным кодам. Интересно, что претензии ко мне со стороны сушеных интеллектуалов в основном упираются в мой внешний вид, а не в суть того, что я делаю. Люди поверхностные видят лишь поверхность. Определенная категория слушателей привыкла уважать себя за мой счет. Типа мы такие крутые, сидим и слушаем чрезвычайно элитарную музыку и отслеживаем цитаты из Дионисия Ареопагита. И пока мой внешний вид не препятствовал им ощущать себя занятыми серьезным делом, все было в порядке. Но когда я выхожу с синим ирокезом и в полосатых штанах, для них все рушится. Они начинают чувствовать себя идиотами, каковыми, если честно, и являются.
* * *
Иоахим Флорский, средневековый христианский[42] мистик, разработал идею трех эпох мировой истории, которые последовательно соответствуют лицам Бога-Троицы. Первой была эпоха Отца, Ветхого Завета. Это эпоха прямого подчинения вертикальной иерархии, уходящей в неведомую трансцендентность. Вторая эпоха — от рождества Христова — принадлежит Сыну, Новому Завету. Это эпоха, когда Церкви вверено организовать добровольное, сыновнее исполнение людьми Божественных заповедей — однако мирские власти и гражданские законы все еще необходимы. Но затем должна начаться третья эпоха — Святого Духа. Люди будут обладать духовными телами, и евангельские истины воплотятся естественным образом. На земле победят мир, свобода и любовь, а всякая власть отомрет за ненадобностью. Ибо «Дух веет, где хочет».
В этой третьей эпохе никакой нужды в жреческой касте уже нет — и потому неудивительно, что учение Иоахима было осуждено папскими жрецами как «еретическое». Как и бывает со всеми пророками…
Это учение практически в точности совпадает с культурологической моделью истории: премодерн — модерн — постмодерн. Постмодерн в этом контексте выступает не «отрицанием» Традиции, но напротив — ее финальным «аккордом» и максимальным воплощением.
Отсюда становится легко объяснимым «основной вид культуры» в каждой из этих эпох. Античность, премодерн, эпоха Отца была «царством мысли» — поэтому тогда доминировала теология и философия. Сын — это Бог-Слово, поэтому неслучаен очевидный «литературоцентризм» эпохи модерна. Какой же вид культуры будет наиболее соответствовать постмодернистской эпохе Святого Духа? Согласно христианской традиции, именно Святой Дух изводит Слово от Отца. А это напоминает не что иное, как ту сакральную миссию музыки, которую выполняют поющие и трубящие ангелы.
Эпоха Святого Духа — это «мир музыки». Однако если бы Слово — в его сакральном аспекте, как Слово, которое было «В начале…» — в ней исчезло, историческое пророчество Иоахима тем самым бы полностью обессмысливалось. Выходило бы, что Бог-Троица внутренне разделяется — что действительно являло бы собой ересь, и оставалось бы только признать правоту папских жрецов.
Однако Иоахим Флорский нисколько не отрекался от аксиом христианского богословия. Эпоха Святого Духа, по его учению, не порывает с эпохой Сына (как и та — с эпохой Отца), но содержит в себе ту же трансцендентную ориентацию, только воплощая ее в новых формах. Так что и в «музыкальную эпоху» Слово не исчезает, но лишь выражается иными средствами, и не обязательно человеческими словами…
* * *
«Языческие» традиции (а это, с точки зрения авраамизма, и индуизм, и буддизм, и культы античной Эллады, и вообще «все остальное») предлагают иную, циклическую модель смены эпох. Однако ее также интересно рассмотреть применительно к исторической роли музыки. Более того, именно ее категории, на наш взгляд, и способны прояснить логику смены культурных эпох в русской истории.
История, согласно Гесиоду, движется по нисходящей — от Золотого века к Железному. Притом длительность этих «веков» последовательно уменьшается. «Золотым веком» русской культуры, согласно этой модели, можно назвать все тысячелетнее литературное наследие, от древнеславянских летописей до «классиков» XIX века. Русская культура изначально славилась своим «словоцентризмом». Он продолжился и в поэтическом «Серебряном веке» — это самоназвание представляется весьма неслучайным. «Серебряный век» отличался от «классики» именно расцветом модернистских стилей искусства.
Следующий, «Бронзовый век» русской культуры воплощал собой переход от модернизма к постмодернизму. Однако осуществлялся он уже не столько в литературном эксперименте, сколько как выход за рамки «словоцентризма» — в направлении музыки. Приоткрыли его барды, которые просто исполняли свои стихи под гитару — и, по признанию некоторых, неожиданно обнаружили, что в таком виде их творчество вызывает больший интерес, чем без аккомпанемента. (Хотя многие из них даже не обладали музыкальным слухом…) Но настежь распахнула эту дверь и навсегда выпустила музыкального джинна из бутылки только рок-культура.
Рок-н-ролл во второй половине ХХ века стремительно вышел из своих узкожанровых определений и превратился в наиболее популярный вид культуры. Новые ритмические гармонии стали не просто «фоном» для словесного творчества, но, вместе с особым театральным имиджем исполнителей, превратились в неразделимый тройственный сплав, который сдетонировал глобально. Именно с этого социокультурного взрыва и началось такое явление, как «молодежный стиль жизни» — хотя еще в начале ХХ века молодежь разных стран существенно отличалась друг от друга. Именно в рок-среде спонтанно и массово возникали новые культы, многие из которых по своему символизму, энергетике и пророческому пафосу ничуть не уступали «традиционным религиям». Эта внезапная глобальная меломания напоминала свершавшуюся во вселенских масштабах мистерию «стяжания Святого Духа», которая у ранних христиан часто происходила именно под музыку. (→ 2–6)
Русский рок-н-ролл поначалу существенно отличался от англоязычного — именно по причине мощного наследия «словоцентризма» в русской культуре. Словесный текст в нем доминировал над музыкальным экспериментом и сценическим имиджем. Если у западных групп они были представлены примерно в равных пропорциях — и это обусловило их глобальную популярность, даже если слушатели не понимали смысла песен, — то русские рокеры уделяли большее внимание тому, что петь, а не как. В результате русский рок сложился в особое культурное явление — это был не просто «рок-н-ролл на русском языке», он претендовал на свое собственное место и в контексте русской культурной традиции. Гимном этого открытия стала песня Александра Башлачева «Время колокольчиков». Именно оно пришло на смену молчаливой эпохе, в которую был «разбит батюшка царь-колокол». Такая символика как нельзя лучше соответствовала имени «Бронзового века». Нелишне заметить, что гитарные струны делаются из того же сплава.
Бронзовый век в традиционной истории — это эпоха войн и героев. Русский рок породил целую плеяду героических культов, вообще вся воинская и героическая тематика в нем как бы обрела новое дыхание — после десятилетий ее архаизации и рутинизации в официальной советской культуре. Многие рок-команды и их поклонники по своему идеализму и даже по имиджу напоминали легендарные княжеские дружины. Причем противостояние их окружающему «реальному» миру было гораздо глубже, чем виделось внешнему, поверхностному наблюдателю. Это обстоятельство четко зафиксировал один из «отцов русского рока» Илья Кормильцев:
Главное это понимание (и обозначение) — того факта, что в русском роке «социальный (или политический) протест» всегда был маргинален, а «протест» против «мiра сего» — централен. В конце 80-х этот факт старательно замазывался рядом либерально ориентированных московских журналистов (в их интересах было представить рок как «протестное» движение в духе мировоззрения диссидентов-шестидесятников) и, увы, эта интерпретация проникла даже в школьные учебники и детские энциклопедии.
Самым известным и наглядным подтверждением этой «неотмирности» служит творчество Виктора Цоя. Его группа «Кино» и поныне, не существуя в «реальном мире», остается непревзойденным героическим культом. Возможно, во многом именно потому, что Цой никогда не опускался до окружавшей его «борьбы за перестройку», но — противопоставлял всему этому миру свой трансцендентный, утопический идеал Неба, Звезды, Солнца… И именно этот «эскапизм» открыл в нем совершенно пророческое зрение. На нашем толковании его загадочных картин мы не настаиваем, однако, к примеру, такое «простое» осеннее наблюдение —
После красно-желтых дней Начнется и кончится зимакак представляется, символически описывает нынешний, не завершенный еще период русской истории…
В эту «зиму» оказались разбиты и «колокольчики» русского рока. Его словесное послание все более уступало место самодовлеющей «игре слов». Разумеется, эта «игра» была неотъемлемым свойством рока изначально — но в рокапопсе[43] начиная с 90-х годов все слова обрели многозначность и «невесомость». Это и привело к постепенному исчезновению русского рока как особого культурного явления, транслировавшего свои смыслы преимущественно через слово.
Слово, утрачивая свою семантику, все более превращалось лишь в элемент звукоряда. В условиях, когда главным в музыке становился «чистый звук», рок-н-ролл как форма музыкального творчества стремительно устаревал. Ему на смену приходили другие формы, более приспособленные к звуковому многообразию и свободе музыкального эксперимента, чем «классические» для рока электрогитары и барабаны. Главным «музыкальным инструментом» все более становился компьютер. А учитывая его сленговое название — «железо» — эту новую культурную эпоху вполне уместно обозначить как «Железный век», последний в традиционном историческом цикле.
Этот «век» наступил глобально. И в его цифровой «музыкальной тотальности» многие проницательные философы увидели признаки тотального кризиса самой музыки:
Мы привыкли к высокой точности в качестве музыкальной передачи. Экспериментируя с нашей аудиоаппаратурой, оборудованной тюнерами и усилителями, мы микшируем, регулируем и умножаем саундтреки, добиваясь предельно «чистой» музыки. Но является ли еще это музыкой? Где тот порог высокой точности, за которым музыка как таковая уже исчезает? Причем это исчезновение не является следствием недостатка музыки, напротив, она исчезает именно потому, что переходит некую границу совершенства своей материальности, сворачивается в свой собственный спецэффект. За этой точкой ни впечатлений, ни эстетического удовольствия более не требуется. Экстаз музыкальности становится самодостаточным и исчезает сам в себе.[44]
Музыка ныне, кажется, превращается просто в сплошной и бессмысленный «фон». Современного человека она сопровождает повсюду — дома, в офисе, в транспорте… — но не несет в себе ничего «постороннего», культового, трансцендирующего. «Формат» подавляющего большинства музыкальных медиа жестко отсекает все, сколько-нибудь выходящее за рамки забавного развлечения или сентиментальной релаксации. Однако все же есть некоторые основания утверждать, что за этим внешним кризисом «переполненности пустотой» внутри самой музыки с неизбежностью последует, а может и уже начинается, незаметный извне переход от постмодернизма к некоей неведомой еще культуре прото- (→1–3). Основания эти напрямую следуют из традиционной доктрины исторических циклов — новый Золотой век в ней появляется не откуда-то «из ничего», а именно как трансформация предшествовавшего ему Железного. Причем трансформация эта носит характер незримой смены «внутренних координат», а внешние культурные формы могут оставаться теми же самыми.
* * *
Культурные формы эпохи постмодерна имеют принципиально сетевую, ризоматическую, интертекстуальную природу. Извне это зачастую выглядит как «всесмешение». Однако у критиков постмодернизма основное неприятие вызывает даже не оно, а словно бы заложенная в нем внутренняя программа (или «вирус») тотальной деградации всей культуры до уровня общеупотребительного фаст-фуда. Небывалое прежде «опопсовление» ориентирует всю культуру (и музыку — в особенности) на удовлетворение запросов совершенно виртуального «обычного человека», который, по представлениям шоу-бизнесменов, нуждается только в примитивном развлечении и «не поймет» чего-то требующего минимальных интеллектуальных усилий. Такие условия буквально напоминают Железный век (без кавычек!), который у Гесиода описывается именно в подобных характеристиках — «когда не просто будут выдавать ложь за истину, но похваляться самой ложью».
Культура и шоу-бизнес в этой ситуации существуют в принципиально разных измерениях. Культы возникают вне всякой зависимости от шоу-бизнеса — это спонтанный процесс появления в творческой среде новых талантов, наделенных особым, персональным «посланием», «message’м». Шоу-бизнес способен лишь эксплуатировать культы постфактум, «раскручивая» их или наоборот, придерживая в «андеграунде» (а вместо них «раскручивая» каких-то ничтожеств). По существу, это новая форма цензуры — только в отличие от тоталитарных режимов ХХ века не идеологическая, а финансовая (хотя встречаются и идеологические претензии, связанные с требованием от творческих людей «политкорректности»). Таким образом, если само шоу — это непременный, и едва ли не самый важный атрибут постмодернистской культуры, то возвышающаяся над ним пирамида шоу-бизнеса — это рудимент эпохи модерна. И он неизбежно связан с жестким централизмом — еще одним очевидным пережитком тех времен. Эти навязчивые тени прошлого заставляют даже такого безусловного постмодерниста, как Борис Гребенщиков, делать довольно радикальные заявления:
Шоу-бизнес — это худший враг музыки. У нас в стране возникла нездоровая ситуация. Когда все, что происходит в музыке, идет в основном из Москвы. В Москве собралось достаточное количество людей, которые музыку как таковую не любят. Мне приходится встречаться с такими людьми, и когда я вижу дядю, которому абсолютно все равно, что он делает, ему важно сделать на этом деньги, у меня это вызывает неприятное ощущение. В каждом городе есть люди, которым мы нравимся, которым хочется делать музыку, хочется, чтобы музыка существовала. А нам хочется ее играть. Но когда появляется московская большая тусовка, которая занята продажей и покупкой, и ей все равно, что покупать и продавать, — это называется шоу-бизнесом. И это вызывает у меня очень негативные чувства, поэтому нам приходится слушать так много картона.
Любопытно, что Егор Летов, другой бесспорно культовый музыкант, которого иногда называют «антиподом» Гребенщикова, смотрит на эту проблему более либерально, несмотря на весь свой некогда гремевший «антипопсовый» панк-радикализм. И — прозревает дальнейшее развитие музыки:
— Может ли существовать чистое искусство в рамках шоу-бизнеса?
— Так искусство же не зависит ни от рамок, ни от шоу-бизнеса. «Битлз» — это искусство или нет? Любая хорошая команда так или иначе через какое-то время будет известна, а следовательно — на ней будут зарабатывать деньги.
— Лидеры российского рок-н-рольного движения 80-х в последнее время сетуют, цитируя упомянутого Гребенщикова, что нет той молодой шпаны, которая сотрет их с лица земли.
— Честно говоря, меня тоже это печалит. Налицо кризис жанра как такового. То есть, должно появиться нечто, может оно будет связано с компьютерными делами, электронными, — я себя чувствую очень большим стариком в этом деле — но должно появиться нечто, чего не было раньше, как на фоне поэзии XIX века появился футуризм.
* * *
Родиной электронной музыки в действительности является не Англия или США, а революционная Советская Россия. Именно здесь в 1919 году ученый-акустик Лев Термен изобрел прообраз синтезатора — электромагнитный музыкальный инструмент «терменвокс». Этим открытием заинтересовался даже Ленин, который успел «поиграть» на нем.
Но к сожалению, карьера диджея вождя не увлекла. Музыка тогда еще не обрела того колоссального социокультурного значения, как всего через несколько десятилетий. Хотя если бы в «Серебряном веке» уже существовали электрогитары и синтезаторы, вполне возможно, мы знали бы Есенина, Маяковского, Цветаеву не как поэтов, но как лидеров культовых групп той эпохи…
Сегодняшние писатели остро чувствуют «отступление» литературы (и шире — слова) именно под энергетическим напором музыки. Виктор Ерофеев мрачно пророчит:
Та литература, которую создают сейчас молодые ребята здесь и на Западе, будет уничтожена техникой. У нее не хватает энергии. Она смешна. Если бы литература набрала уровень музыкальной энергетики, ее было бы трудно уничтожить. Литература сейчас находится в словесном болоте. Она погибнет не из-за того, что кто-то чем-то не занимается, а из-за того, что она не нашла своего языка в мировом масштабе. И мы, племя литераторов, подохнем, потому что энергия рока или энергия компьютерной графики перетянет… Слова о том, что роман умер, не банальны, но сейчас умирает слово, потому что этому слову не хватает энергии. Если это слово умрет, то или литература найдет форму и родит свой язык, или она растворится во всем этом процессе. Тогда слово будет работать на музыку, на видео, на кино. Такого периода не было еще до сих пор, но сейчас он может прийти.
Хотя и «энергия рока» ныне уже не та. Яснее всего это видит тот же Илья Кормильцев, хотя он скептичен и в отношении новых музыкальных форм:
Вся энергия, которая будет прогрессивна в историческом плане, то есть соответствовать моменту, нести его энергию, она будет воплощаться в других формах. Пока неясно, что это будет. На эту роль претендуют хип-хоперы. Могу сказать, что у них больше энергии, чем у псевдорусского рока. Но чтобы они захватили общество своим вкусом и своей энергией, пока не видно. Они все равно живут в каком-то своем гетто. Электронная музыка у нас умерла, не родившись. Не нашла в себе никакой социальной опоры. В той же Англии электроника вовсе не была музыкой богатых бездельников — это была массовая музыка.
Однако сегодня именно рок имеет больше оснований называться «музыкой богатых бездельников», чем электроника. Для сочинения вполне оригинальной электронной музыки достаточно одного синтезатора и домашнего компьютера с парой программ, а для качественной записи рок-композиций необходима студия с солидным набором весьма дорогостоящих инструментов — плюс те же самые компьютеры и синтезаторы. Именно поэтому электронная музыка становится все более доступной и массовой. При этом она оказывается гораздо менее «коммерческой», чем рок — неформальные «трекерщики» охотно и бесплатно обмениваются своими композициями в интернете, тогда как осолидневшие рокеры, позабыв антибуржуазные идеалы своей юности, жалуются на «пиратское» распространение в сети своих «шедевров». Хотя само развитие сети коммуникаций с неизбежностью ведет к крушению этих пирамид шоу-бизнеса (→ 1–6). И граждане сетевого общества естественным образом выбирают тех, для кого музыка — это в первую очередь творчество, а не товар.
В своей постмодерн-фундаменталистской доктрине Сергей Корнев анализирует психологические различия между роком и рейвом (самой массовой, танцевальной разновидностью электронной музыки):
То, что в роке зависит от одной личности, которая находится в центре, в рейве переносится на уровень структуры события. В рейве нет зрителей, рейв — это коллективное действо. Диджей, который стоит за вертушками, лишь создает среду, задает ритм этому действу. Все остальное делают сами участники. И от самих участников зависит — состоится рейв, или развалится. В этом смысле рейв — менее противоречивый и более цельный феномен, чем рок. Мы поймем, что такое настоящий рок-концерт, и чем он отличается от концерта поп-звезды, только когда поймем, что такое рейв.
«Коллективность» в рейве не сопряжена с отречением от себя, отказом от собственной воли и подчинением воле другого. Из опыта истории мы знаем отрицательные черты коллективизма — потеря индивидуальности, зомбированность, фанатичное следование чужой воле. Какими бы высокими целями не оправдывалось растворение личности в коллективе, все заканчивается тем, что кто-то, из корыстных побуждений, начинает бессовестно манипулировать волей многих людей. В рейве это не происходит. В рейве личность свободна и автономна, вплоть до полного аутизма. Рейв — это не толпа, это сумма индивидов. Единство в рейве приходит изнутри, а не снаружи. Коллективность рейва — это коллективность События. Это не растворение в массе, коллективе, а растворение в Событии, когда человек ощущает себя органичной частью События. В Событии чувство общности не означает смерть индивида. Общее дело и общее чувство здесь не превращаются в духовное рабство. На другом уровне и в другом масштабе рейв возрождает атмосферу древних церковных соборов, атмосферу коллективной молитвы.
Корнев аргументированно опровергает расхожую идею о том, будто электронная музыка — это порождение западной поп-культуры:
Рейв-культуру, строго говоря, нельзя назвать западной. Это принципиально синкретическая культура, продукт разложения и перерождения европейской культуры и смешения ее с культурными практиками стран Востока. От Запада в ней — только электронная техника, используемая для создания и воспроизведения звука и иллюминации танцпола. В самой же музыке, и философии, которая выстраивается вокруг этой музыки, ничего западного нет. Как раз наоборот — эта музыка по-настоящему «срывает башню», взламывает и сметает западную рациональность, — особенно, если речь идет о психоделических разновидностях электронной музыки. А некоторые направления этой культуры (скажем, гоа-транс) прямо ориентированы на экзотические восточные культы и слегка преображенную электронными ритмами этническую музыку. Словом, здесь мы видим прямую экспансию Востока на Запад.
Однако было бы преувеличением утверждать, что электронная музыка это некий новый «голос Востока». В эпоху постмодерна и глобализации восточно-западное противостояние или теряет, или решительно меняет (→ 1–9) свой смысл. А место электронной музыки в культуре сродни расположению мистической Руси на географической карте мира (→ 3–1):
Западный человек знает либо эгоизм и крайний индивидуализм, либо единство команды, стаи, порождаемое страхом, муштрой и дрессировкой. Людям восточных культур знакома еще одна крайность — полное, безвозвратное отрицание собственной индивидуальности, слияние с неким безличным мировым духом, превращение в зомби, раба непонятных сверхчеловеческих сил. Рейв не приводит ни к тому, ни к другому — он близок к особому, русскому, православному по своей природе переживанию соборности, единства во множестве, которое лежит в основании символа Троицы. Когда разные, непохожие друг на друга личности, — суверенные, самостоятельные и свободные, — способны тем не менее переживать, ощущать, видеть внутренним взором некую общую духовную сущность, источник света, который в равной мере принадлежит им всем.
* * *
Электронная музыка, как часть культуры постмодерна, зачастую не изобретает собственные мелодии, а производит техно-обработки — ремейки и ремиксы — симфонических, фольклорных или рок-композиций. И за это от деятелей и идеологов «традиционной культуры» (хотя это всего лишь культура эпохи модерна) обычно получает упреки во «вторичности», а то и «паразитизме». Парадокс, однако, состоит в том, что эти ремейки иногда оказываются «более оригинальными, чем оригиналы», яснее и глубже передают их исходный message. Классическим примером здесь является творчество словенской группы «Laibach», чьи обработки композиций таких культовых групп, как «Pink Floyd» и «Europe», вызвали у самих участников этих групп удивленную реакцию: «Вы сказали больше, чем мы». Хотя все тексты оставались без изменений…
Такая игра, более похожая на реальность, чем сама реальность, многих пугает. Поэтому музыканты «Laibach» вынуждены постоянно пояснять свою позицию журналистам, остающимся в плену модернистских стереотипов:
— На обложках ваших компактов и на ваших плакатах присутствуют элементы, характерные для пропагандистского нацистского искусства и соцреализма. Во время концертов вы используете черные военные мундиры и другие тоталитаристские символы, демонстрируете слайды с ужасами войны. Ваша музыка обнаруживает увлечение немецкими и русскими популярными песнями, в текстах присутствуют русский и немецкий языки…
— Вынужден остановить тебя, чтобы пояснить некоторые вещи. Я ничего не знаю про черные мундиры. Мы выступаем в сшитых специально для нас костюмах, это не мундиры. В своих произведениях мы используем немецкий, русский, словенский, сербский, хорватский, французский, итальянский, английский, болгарский, японский и другие языки народов мира. Да, мы используем пластические решения, характерные для соцреализма, а также некоторые элементы немецкого искусства времен националистического социализма. Здесь необходимо заметить, что нас вдохновляет в не меньшей степени английское, французское и американское искусство. Мы никогда не были одномерной группой. LAIBACH / NSK — это транснациональный, транскультурный проект. Мы не можем себе позволить работать на такую территорию, как Словения, где живет лишь 2 млн. человек. Кроме того, нас нельзя обвинить в том, что мы интересуемся только одним периодом в истории человечества. Нас интересует история мира от его начала, в особенности история утопической мысли.
— Не опасаетесь ли вы, что ваше творчество может быть не так понято публикой, что кто-то может увидеть в нем увлечение фашизмом, а не рефлексию на тему угрозы тоталитарных систем?[45]
— Не хотелось бы, чтобы кто-нибудь подумал, что я сравниваю нас с такими людьми, как Джордано Бруно, Галилей, Коперник, но у этой тройки возникали те же проблемы, что и у нас, разница лишь во времени. Все творческие люди, которые вкладывают в свое занятие все свое сердце, посвящают ему всю свою жизнь, не должны задавать себе подобных вопросов. По-видимому, мы никогда не сделаем ничего одномерного, легкого для интерпретации.[46]
Группе «Laibach» и по стилю, и географически близко такое популярное музыкальное движение, как сербский турбофолк, представляющий собой танцевально-электронную обработку национального фольклора. Вообще, в плане тенденций развития электронной музыки довольно большой интерес представляет именно это парадоксальное сближение новейших технологий и этнофольклорного наследия.
При этом, как справедливо уточняет близкий группе «Laibach» словенский философ Славой Жижек,
этнизация не имеет ничего общего с возвратом к старым традициям. Это феномен постмодерна.
Это довольно тонкая грань. В отличие от всевозможных консервативных движений, стремящихся сохранить изоляцию культур друг от друга, этноэлектронные эксперименты формируют новое глобальное сознание. Но глобальное не в смысле некой унификации, а именно глокализации (→ 1–8), пробуждающей специфику всех мировых культур. Именно это направление называется World Music (хотя за «world music» и пытается выдать себя глобально стандартная попса). Оно берет начало с французских проектов «Enigma» и «Deep Forest», которые впервые соединили техноэлектронный «мейнстрим» с этническими мотивами экзотических для современной Европы народов и эпох — и к их собственному удивлению именно этот синтез оказался сверхпопулярным. Хотя никакого изначального расчета на «чарты и рейтинги» у них не было.
Однако с тех пор никакие искусственные поделки шоу-бизнеса в этом направлении успеха не имеют. Для того, чтобы делать такую музыку, надо обладать особым слухом и чуткостью, понимать ее специфическую философию. Вот как ее выражает лидер питерской этно-трансовой группы «Оле Луккойе» Борис Бардаш:
Этническая музыка — это возвращение к корням. И корни эти, если земля круглая, находятся в центре. Они из одного источника. Есть очень похожие вещи в самых разных культурах. Это то биологическое и духовное начало, которое в принципе объединяет человечество. Удачное было выражение про нашу музыку — фольклор из ниоткуда. Он не имеет конкретного адреса.
Этно-психоделическая музыка «Оле Луккойе» — это поток причудливо переплетающихся звуков, соединяющих в подсознании настоящую реальность с далеким прошлым и одновременно с неведомым будущим. Этот поток сметает и географические границы. Если присмотреться к посетителям их концертов, можно наблюдать удивительный процесс перевоплощения людей в «иных себя», открывающих неизведанную сторону своего «я». В такт музыке они поначалу совершают робкие ломаные движения. Затем робость постепенно исчезает, и появляется углубленное следование ритмическому рисунку. И удивительнее всего наблюдать, как люди, выросшие в современных космополитических мегаполисах, вдруг начинают в точности воспроизводить ритуальные танцы древних и далеких от них народов. Утопия воплощается «здесь и сейчас»!
Бардаш раскрывает природу такого инициатического воздействия своей музыки:
Наш путь интуитивный. Не бывает случайностей. Все, с чем ты сталкиваешься по ходу своего путешествия, либо появляется в музыке, либо нет. В один момент я понял, что жизнь — это сказка, вернее путешествие по сказке. В буквальном смысле: пойди туда, не знаю куда. И все мы — герои этой сказки. Встречаем и чудовищ, и добрых волшебников, и разные силы нам помогают или мешают.
Но эта сказка возникает, увы, пока только на концертах — и не в силах магически преобразить всю окружающую «реальность». Как и другие культовые музыканты, «Оле Луккойе» четко осознает свою инаковость и угнетающую внешнюю зависимость от власти медиа-пирамид:
— Вы востребованы на Западе и не очень — в России. Почему?
— Там мы гастролируем в рамках альтернативной музыки. Есть определенные студии, фестивали, клубы, публика. А у нас… После всех этих кризисов какое-то странное впечатление. Осталось несколько монстров, которых никто не свалит, типа «Аквариума». Остальным заправляет шоу-бизнес. Вводятся дурацкие понятия «формат-неформат» трехминутных песен. А у нас песни по семь минут. Так что ж теперь? Нет ни одной альтернативной радиостанции. Существует единственный на всю страну питерский музыкальный фестиваль «Скиф». Хорошо хоть клубы есть, и то только в Питере и Москве. Жизнь в огромной стране диктуется через радио и телевидение. Я не хочу никого сравнивать. То, что вчера было альтернативой, сегодня становится попсой. Но должно быть разнообразие. А у нас очень неинтересная музыкальная картина.
Этой печальной картине, видимо, суждено сохраняться до тех пор, пока Россия остается централизованным государством с его повсеместным насаждением единого стандарта культурной деградации — дебильная попса, гопнический «русский шансон», портупейный «патриотизм»…[47] До тех пор «птичий язык», на котором поет «Оле Луккойе», и многие другие оригинальные проекты будут считаться «неформатом». А в поисках новизны молодые таланты вместо прямого общения с себе подобными во всем мире будут, как слепые щенки, упираться во все те же московские «чарты» — и разменивать потенциал своей возможной культовости на пластмассовые погремушки из «фабрики звезд»…
Эта тотальная централизация порождает у творческих людей со всей России иллюзию того, что они могут полноценно реализоваться «только в Москве» — хотя там они, наоборот, лишь растворяются и безвозвратно утрачивают собственную уникальность, подгоняя ее под усредненный «формат» шоу-бизнеса. А сохранить эту уникальность и более того — развернуть в глобальном масштабе, удается лишь тем проектам, которые ценят культурную специфику своего региона. Такова, к примеру, карельская группа «Müllarit», более известная за пределами России и проводящая в Петрозаводске ежегодный фестиваль «Фолк-марафон», на который съезжаются десятки команд из самых разных стран. Такова и тувинская «Ят-Ха», синтезировавшая горловое пение аборигенов Сибири и староверческий фольклор, традиционные местные инструменты и техно-аранжировки. Неслучайно ею интересуются самые «продвинутые» английские и американские лейблы World Music, и очень символично название ее нового альбома — «Слияние океанов». Так — под музыку шаманского транса — границы действительно стираются, и «провинцией» в наступающем мире оказываются «столицы» прошлой эпохи…
* * *
Электронная музыка эффективно воздействует на образное мышление и потому пробуждает волю к открытию альтернативных, утопических пространств. Они могут быть как виртуальными (созданное группой «Laibach» государство NSK (→ 1–5)), так и вполне реальными географическими точками (хотя и с сюрреальной репутацией).
В середине ХХ века, пока деление мира на «Восток» и «Запад» еще казалось актуальным, а западная творческая молодежь искала восточную «нирвану», таким открытием стал индийский штат Гоа. В 60-х годах там образовалась стихийная колония хиппи, нашедших себе убежище от бдительного ока своих «либеральных» государств — а гандистский режим Индии отнесся к этому «нашествию» вполне комплиментарно. И хотя с тех пор сменилось уже не одно поколение, изменилась и политика самой Индии, попытавшейся превратить Гоа в «стандартный» курорт, эта коммуна существует и поныне. Ее психоделическая природа оказалась настолько устойчивой, что стилевая трансформация рок-н-ролла 60-х в транс-музыку 90-х там произошла практически незаметно и как бы сама собой. Тогда как повсюду эта перемена сопровождалась известным соперничеством, а имидж рокера и рейвера существенно отличался…
Но все же главным примером «воплощенной утопии» музыки является на сегодняшний день остров Ибица, «отвоеванный» у консервативной католической Испании его собственным божеством, по имени которого он и назван. Зовут его довольно рискованно по меркам русского языка — Бес. Это древнеегипетский бог эротизма и развлечений, но также — от природы не уйдешь — покровитель младенцев и рожениц.
Этому острову присущ особый магнетизм: постоянное, концентрированное присутствие на нем людей творчества — музыкантов, писателей, художников, философов, артистов, архитекторов, дизайнеров — создало ему совершенно уникальную энергетическую ауру. Кажется, что там даже не остается места для фантазии — потому что все творческие образы имеют шанс воплотиться. Созданию такой волшебной среды остров обязан именно музыке, льющейся там в сотнях разнообразнейших клубов. Ибица — это родина клубного движения и фактический лидер мировых музыкальных мод и тенденций.
Начиналось это все в те же «блаженные» 60-е и не обошлось без определенной сакральной инспирации. Эту роль сыграл знаменитый индийский гуру Ошо Раджниш, который заложил основы мировоззрения «dance generation». Вот как описывают эту историю его сетевые последователи:
Движение «Osho Sannuasins» явилось тем жизненно важным звеном, которое связало контркультуру острова Ибица 60-х годов и электронную танцевальную субкультуру 90-х. Если вкратце, то сам Ошо был выдающимся поклонником Ницше, который сочетал идеалы Буддизма и Зобры, празднуя и утверждая Жизнь («я верю в Бога, который танцует!» — говорил он); что и привлекало множество молодых, творческих и состоятельных новообращенных. И когда в 1984 году консервативные про-рейганские власти запретили и закрыли американскую коммуну Ошо в Орегоне, многие его последователи устремились на Ибицу, в исключительное место для взращивания любви и свободы. Последователи движения поощряли всевозможные тусовки, принимали самое активное участие в жизни ночных клубов и продвигали различные «современные» средства для самопознания, привезенные из Штатов (в том числе использовали MDMA для медитаций и терапии тела). Несмотря на то, что экстази уже некоторое время находилось в обращении в близких к клубным кругах Англии, именно слияние последователей Ошо и европейских клабберов конца 80-х на Ибице дало мощный толчок тому, что широкие европейские массы (переживавшие тогда тяжелые времена неолиберального капитализма) открыли для себя MDMA. Легендарное «озарение», которое посетило в 1987 году DJ-ев Paul Oakenfold и Danny Rampling, только начинавших тогда свою звездную карьеру, стало поворотным моментом в истории клубной культуры. Последовавшая за этим кислотная «рейволюция» 90-х стремительно преобразовала всё то, что ещё недавно считалось стилем «от underground» в привычный для обывателя mainstream. Конечно же, и здесь преуспели англичане, выступающие в роли законодателей клубной моды.
Ибица сегодня это… все те, кто разделяет чувство неудовлетворенности от жизни где-либо еще в этом мире. Это те, кто ищет новые пути существования человека в гармонии с природой, вдали от потребительской одержимости остального мира. Современная трансформация Утопии в предмет коммерческого потребления свидетельствует о противоречивых чувствах вожделения и отторжения так называемого «андеграунда» остальным, привычным миром обывателей. Каждый год миллионы людей приезжают сюда, чтобы ощутить «свою Ибицу» и понять, является ли она лишь временным «спасением» или заманчивым приглашением-прелюдией к индивидуальному переосмыслению и духовной революции личности.[48]
Для второго ответа на этот вопрос сама утопия должна быть осмыслена не как благостная мечта, но как вполне реализуемый позитивный проект, многомерный, но в то же время индивидуальный. А «элитарность» этого проекта, его дистанцию от «привычного мира обывателей» надо трактовать не коммерчески, а именно творчески — в противном случае получится то же самое «потребительство», от которого пытаются «убежать». Воплощение утопии предполагает не самоцельную «борьбу андеграунда с мейнстримом», но — создание и развитие собственной, автономной сети прямых коммуникаций и взаимодействий, при минимализации влияния внешнего шоу-бизнеса, политики и прочих отчужденных структур эпохи модерна.
Пример такой «духовной революции» подали в 2002 году сами власти Ибицы, когда, невзирая на коммерческие убытки, отказались от услуг MTV и вообще объявили этой компании статус «нон грата» на острове. Причиной такого решения послужило то, что MTV сочло себя настолько всемогущим распорядителем мировых музыкальных стандартов и стилей жизни, что стало напоминать папскую курию худших времен. Там прошла целая серия жестких антирекламных материалов об Ибице как о «гнезде наркомании и разврата» — причем фарисейский морализм этого «молодежного» канала сочетался со вполне инквизиторскими призывами к европейской полиции «навести там порядок». Даже фашистский режим Франко никогда не диктовал островитянам «правильный образ жизни»! Ибица и на этот раз отстояла свою свободу — хотя отбить наезд этой глобальной медиа-монополии оказалось сложнее, чем театральные окрики каудильо. И число желающих открыть «свою Ибицу» не слишком уменьшилось, но, наверное, это и к лучшему — отсеялись те, кто думает телевизором, а остались настоящие, свободные от «форматов» утописты.
Медиа-паранойя по поводу наркотиков и наркомании глобальна и общеизвестна — однако, в подавляющем большинстве случаев она сводится к призывам ужесточить полицейский контроль или, в случае «либеральных» медиа, создавать «гуманные» клиники для наркоманов, — но крайне редко задается вопрос о социально-психологических причинах этого явления. Потому что вслед за ним пришлось бы поставить вопрос более фундаментальный — насколько здорово само это «здоровое общество», многие дети которого предпочитают любыми путями — вплоть до потери здоровья и жизни — вырваться из рамок навязанной им «реальности»? Ясно, что никакие запреты и душеспасительные проповеди здесь не помогут. Наиболее лаконично и фундаментально, с меткостью афоризма, проблему происхождения наркомании описал хорошо знакомый с молодежной неформальной культурой иеромонах Григорий (В.М. Лурье):
Мiр — это наркотик, который заставляет забыть о настоящей реальности, и притом, наркотик, уже принятый в смертельной дозе.
* * *
«Смешение» всех искусств и стилей, которое иногда выдают за характерную черту эпохи постмодерна, в действительности имеет очень древнюю природу. Так, к примеру, традиционный японский театр «Но» помимо собственно «театральных» жанров — драмы, оперы, балета, пантомимы — включает в себя также воинское и садово-парковое искусство. Но все это называлось одним словом — «Но». Как и у русских скоморохов музыка, литература, театр, цирк вовсе не разделялись, но выступали как разные стороны их творческого мира. Разделение видов культуры и их обособление в отдельные искусства, жанры и стили — это примета эпохи модерна. Однако после нее все искусства начинают воссоединяться вновь. Но уже в иных формах и пропорциях.
На это «воссоединение» обратил внимание еще Вагнер, который ввел термин Gesamtkunstwerk для обозначения будущего «интегрированного искусства», должного воздействовать одновременно на все чувства зрителя и слушателя. Но если с его времен вплоть до рок-эпохи такой эффект мог быть достигнут лишь за счет сложения отдельных искусств (музыка, текст, сценография), то в электронной музыке этот синтез извлекается из нее самой. Эта музыка, из которой успешно «выжато» все словесное, текстовое содержание (оставшееся в предыдущей, рок-эпохе), начинает затем словно бы «разархивироваться», воспроизводя из себя все остальные искусства.
Неслучайно многие стили электроники — транс, эмбиент, хаус — выходят за рамки сугубо слухового восприятия. Музыка создается уже не для того, чтобы только «слушать», но для переживания более объемных и масштабных ощущений. Это особенно характерно для транс-композиций — их замысловатое, причудливое, непредсказуемое течение магнетически увлекает слушателя за собой, вызывая у него живое, почти физическое чувство полета в иной реальности. Эта традиционная медитативная технология довольно успешно освоена многими композиторами и диджеями. Виджеи и демо-группы дополняют музыку соответствующим видеорядом — но не просто в качестве «фона», а словно бы «переливая» звуки в визуальные образы с их собственным сюжетным развитием.
«Фоном», а точнее «сырьем» для этой новой реальности служат все прежние, отдельные друг от друга искусства эпохи модерна. Даже самые «авангардные» фильмы, сохраняющие стандартный игровой «формат», неизбежно проигрывают этому непосредственному созданию образов из цифровой «матрицы». Равно как вся литература, живопись, театр как отдельные искусства становятся либо архаичной экзотикой, либо поцитатно втягиваются в эту виртуальную стихию. Там они синтезируются и преобразуются в мультимедийные клипы, наиболее оригинальные из которых вполне могут нести свой message и даже становиться культовыми. Но их быстрое забвение и смена себе подобными уже никого не смущают — так шаман в процессе камлания не сосредотачивается на отдельных движениях. И психоделический транс, который играет кибершаман поверх рухнувших границ пространства и времени, производит впечатление открывшейся трансцендентности…
Русская метафизическая школа давно исследовала возможности такого открытия. Однако в его оценке мэтры существенно расходятся. Для Юрия Мамлеева эта человеческая способность «реализовать трансцендентность» остается довольно сомнительной, некой майей, иллюзией — поскольку главным субъектом «истинной трансцендентности», на его взгляд, является сама эта принципиально запредельная «Бездна». «По эту сторону» же возможно только какое-то ее «теневое» подобие:
Невыразимая мощь Транс-Тьмы, Транс-Бездны бросает свою «тень» на воплощенный мир, «превращая» его в свой антианалог, антисимвол, вступая с ним в абсурдистски-парадоксальные отношения.[49]
Гейдар Джемаль видит эту проблему иначе, допуская этот «прорыв в трансцендентность» за счет пробуждения субъективного начала в любом «воплощенном существе»:
Только субъективная воля может чудесным образом трансформировать принципиальную дисгармонию реальности в фантастическое трансобъективное бытие.[50]
Но именно такая «трансформация дисгармонии в фантастику» и является сакральной целью музыки. И особенно — танцевальной музыки. На это обратил внимание один из крупнейших поэтов «Серебряного века» Максимилиан Волошин в своей статье «О смысле танца». Учитывая, что эта статья написана еще в 1911 году, в эпоху коммунизма была забыта, но удивительно точно отражает культурную ситуацию сегодняшнего дня, мы несомненно имеем дело с пророческим (→ 2–1) феноменом:
Музыка и танец — это старое и испытанное религиозно-культурное средство для выявления душевного хаоса в новый строй. Но дело здесь не в танце, а в ритме: душевный хаос, наступающий от нарушенного равновесия сил и их проявлений в человеке, может быть оформлен и осознан, когда человек вновь овладеет всеми ритмами и числовыми соотношениями, которыми образовано это тело. Для этого все свое сознание надо безвольно отдать духу музыки. Но осознание органических ритмов внутри себя и есть танец. Поэтому я и называю танец громадным фактором социальной культуры.
Пока мы лишь зрители танца — танец еще не приобрел своего культурного, очистительного значения. Это не то искусство, которым можно любоваться со стороны: надо быть им захваченным, надо самим творить его. Римляне лишь смотрели на танцы; эллины танцевали сами — вот разница двух культур: солдатской и художественной. Первая создает балет, вторая — очистительное таинство. Когда я говорю о танце, я говорю только о последнем.
Очистительными таинствами были дионисические танцы в архаической Греции. Стихийные порывы и страсти, мутившие дух первобытного человека и неволившие его к насилиям и убийствам, находили себе выход в ритме, преображались, очищались огнем танца.
Ницше сказал: «Когда обезьяна сошла с ума, — она стала человеком». Но счастье было в том, что эта обезьяна начала танцевать, охваченная духом музыки. И тогда человеческие жертвоприношения и неистовство дионисических оргий превратились в трагедию, а греки — этот «народ неврастеников», каким они были на заре своей истории, — создали век Перикла и Фидия.
Неврастения вовсе не болезнь, вовсе не признак вырождения — это мучительное состояние духа, беременного новыми силами. Как только эти силы находят себе исход — неврастения прекращается и мнимая болезнь превращается в новое здоровье.
Наш век болен неврастенией. Новые условия жизни, в которых оказался человек в теперешних городах, страшная интенсивность переживаний, постоянное напряжение ума и воли, острота современной чувственности создали то ненормальное состояние духа, которое выражается эпидемией самоубийств, подавленностью, бессильными революционными порывами и смутностью моральных критериев. Ясно, что «обезьяна» еще раз готовится сойти с ума…
Раденья и пляски хлыстов, конечно, являются очень важным культурным явлением в России. Но Россия в своем развитии как-то безмерно растянулась в разных эпохах, и мы присутствуем одновременно при явлениях, характерных для тысячелетий человеческой истории, бесконечно друг от друга отдаленных. В то время как хлыстовские пляски аналогичны по своему культурному смыслу дионисическим оргиям архаической Греции и выявляют хаос звериного безумия, затаенный в древнем человеке, в условиях наших больших городов мы уже имеем те реторты и горнила, в которых перерабатывается по-новому душа современного человека.
Эти особенности русской души, совмещающей неизжитое до конца доисторическое прошлое человека с европейской культурой завтрашнего дня, обещают нам бесконечные сложности ее душевных переживаний и особенную остроту безумия.
Нынешняя танцевальная культура, таким образом, имеет куда больший смысл, чем простое «развлечение» — хотя внешне может выглядеть именно так. Однако электронные «шаманы» и «хлысты», авторы наиболее культовых композиций, вводящих публику из «мiра сего» в метафизический транс, превращающих попсовую дискотеку в сакральное радение, настроены весьма серьезно. Они осознают полную исчерпанность слов прошлой эпохи и внутренне погружены в чуткую интуицию какого-то еще небывалого ритма. Это ритм того самого трансцендентного «взрыва», с которого начинаются все утопии. (→ 1–1) Или, в другом измерении, это ритм шагов мастера, стадии инициации которого посвященный Волошин описывал так:
Чтоб научиться чувствовать, Ты должен отказаться От радости переживаний жизни. От чувства отрешиться ради Сосредоточья воли, И от воли — для отрешенности сознания. Когда же и сознание внутри себя ты сможешь погасить — Тогда Из глубины молчания родится Слово, В себе несущее Всю полноту сознанья, воли, чувства, Все трепеты и все сиянья жизни.2.6. Младоверие
Кто-нибудь дотянет, кто-нибудь посмеет
Кто-нибудь поймает, кто-нибудь посеет
Огонь!
Ветхие седины, ветхие заплаты
Ветхие заветы, пыльные вселенные
В огонь!
Гордое слово в остывшей золе
Вольное слово в остывшей золе
Жаркое слово в остывшей золе
Новое слово в остывшей золе
Юное пламя!
Егор ЛетовОдной из главных загадок раннего христианства является отсутствие в нем единого сакрального языка — такого, как иврит в иудаизме, арабский в исламе, санскрит в индуизме и т. д. При этом сам Христос отождествлялся с Божественным Словом (Логосом). Это Слово постигалось не из какого-то «священного писания», но путем прямой интуиции и устной передачи. Как потом вспоминал евангелист Марк, «без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все». Изначальная христианская Церковь, возникшая после земного пути Спасителя, представляла собой не какую-то централизованную структуру, но сеть экклесий, свободно и по-своему толковавших Его Слово. Причем это многообразие вполне поощрялось апостолами: «Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, чтобы открылись между вами искусные».
Однако все эти «разномыслия» находились в общем, резком контрасте с нормативами ветхозаветной религии. Протестантский теолог Адольф Гарнак в книге «Сущность христианства» ярко описывал этот контраст между поклонниками Ветхого Завета и самой личностью Того, Кто принес Новый:
Они себе представляли Бога деспотом, строго следящим за церемониалом домашнего устава. Он дышал Его близостью. Они видели Бога только в законе, из которого соорудили целый лабиринт с теснинами, извилинами и тайными выходами. Он видел и ощущал Его всюду. Они из религии сделали простое ремесло, — трудно найти что-то более отвратительное; Он возвещал живого Бога и благородство души.
Высшим трансцендентным принципом христианство провозгласило любовь — что было «невместимо» для иудаизма и поздней римской религии:
Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.
Это открытие вызвало небывалый мировоззренческий взрыв, мгновенно осыпавший все прежние «буквы». Не только римская самоуверенность и расчеты иудеев, но даже учение Иоанна Крестителя поблекло перед этим резким вторжением трансцендентного идеала в самую что ни на есть «обыкновенную» жизнь. Выяснилось, что внешне они почти не отличаются. (→ 2–8) Гарнак это подчеркивает:
Его поведение и образ жизни произвели совершенно иное впечатление, нежели жизнь великого проповедника покаяния на Иордане. Он, вероятно, с полным простодушием относился к тем областям, в которых обычай предписывал воздержание. Мы Его встречаем и в домах богатых, и у бедняков, за трапезой, среди женщин и детей, даже на свадьбе… Он повсюду находит Божьих детей, и для Него высшая радость разыскивать их в их скромном уединении, дабы сказать им Слово истины и любви. Но и учеников Своих Он не организовал как монашеский орден; Он им не дал указаний насчет того, что им делать и чего не делать в обыденной жизни. Кто читает Евангелие с простодушием, без буквоедства, должен признать, что этот живой и свободный дух не угнетен ярмом аскетизма.
В статье «Христианство и инициация» Рене Генон утверждает, что с точки зрения ислама раннее христианство рассматривалось как чистый тарикат, т. е. как исключительно посвятительная традиция, не имеющая никакой «внешней оболочки» — шариата, социальных норм. Только впоследствии, когда церковные деятели стали смешивать «Божие и кесарево», эти нормы были заимствованы из римского права. Сам же Христос крайне резко выступал против формальной обрядности и регламентации жизни, провидя за этой внешней «правильностью» и попсовой «красивостью» довольно мрачную сущность:
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты.
Раннее христианство — это вселенская «неформальная тусовка», доминировавшим настроением в которой были вовсе не скорбь и страх (как у иудеев и «поздних» христиан), а радость и веселье («возрадуйтесь и возвеселитесь»). Но радость эта была особого рода, она весьма отличалась от «форматов» римского шоу-бизнеса и происходила от чувства начавшегося воплощения своей утопии. Поэтому на римлян она производила странное впечатление, и они считали христианских «неформалов» сумасшедшими, бездельниками и т. д.
Тем не менее, сам принцип шоу был ранними христианами усвоен и развит великолепно. Это традиция публичных проповедей, зачастую перераставших в оргии. Но, в отличие от римских, эти оргии не были тривиальным «развлечением», а всегда сопровождались живой, искренней верой в совершение чуда. Заложил эту традицию сам Христос, который, благословляя брачную церемонию, превратил воду в вино. Раннее христианство своими парадоксами отменило ветхозаветные моральные «табу» — все блудницы мира были оправданы одним лишь знаменитым предложением: «Пусть первым бросит камень тот, кто сам без греха».[51] В гностическом Евангелии от Иоанна танцующий Христос говорит своим ученикам: «Тот, кто не танцует, не понимает, что происходит». Возможно, именно отсюда Данте позаимствовал образ «священных хороводов» в своем «Раю». Примечателен и еще один пророческий раннехристианский документ — «Пастырь» Гермы. Там рассказывается о видениях, во время которых Герме является облик самой Церкви, «сотворенной прежде всего и для нее сотворен мир». Сначала Церковь выглядит как старая женщина, но затем она чудесным образом молодеет…
Вся эта картина кажется слишком парадоксальной лишь с позиций нынешней «официальной церкви», лишившейся своего мистического облика и вновь скатившейся к ветхозаветному морализму. Ранние же христианские общины относились к той изначальной Церкви, Глава которой «любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». Они называли себя братьями и сестрами, и не знали никакой «должностной иерархии». С точки зрения окружавшей их империи они выглядели безусловными анархистами. (→ 3–9) Еще задолго до «классиков анархизма» Христос провозгласил такой социальный принцип, который даже самым радикальным из этих «классиков» наверняка показался бы «чрезмерным»:
Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою.
Раннее христианство сознательно выбрало роль «меньшего» — и поэтому победило. Иудейство было повержено им как Левиафан юным Давидом, а поздняя Римская империя оказалась колоссом на глиняных ногах. Христианство же явилось как проповедь вечного детства: «Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное».
В Евангелии детства (отвергнутом поздними жрецами) маленький Исус — это живой, бойкий и весьма своевольный ребенок, а не какая-то ходячая икона. Он исцеляет страждущих и наказывает обидчиков, совершая чудеса играючи. Символически очень многозначна такая, к примеру, история:
Когда мальчику Исусу было пять лет, Он играл у брода через ручей, и собрал в лужицы протекавшую воду, и сделал ее чистой и управлял ею одним своим словом. И размягчил глину, и вылепил двенадцать воробьев. И была суббота, когда Он сделал это. И было много детей, которые играли с Ним. Но когда некий иудей увидел, что Исус делает, играя в субботу, он пошел тотчас к Его отцу Иосифу и сказал: смотри, твой ребенок у брода, и он взял глину и сделал птиц, и осквернил день субботний. И когда Иосиф пришел на то место и увидел, то он вскричал: для чего делаешь в субботу то, что не должно?! Но Исус ударил в ладоши и закричал воробьям: Летите! и воробьи взлетели, щебеча.
Позже, когда некий старец Закхей берется обучить Исуса «буквам», понимая их сугубо формально, он заслуживает гораздо более поучительный ответ от своего «ученика»:
Как ты, который не знаешь, что такое альфа, можешь учить других, что такое бета. Лицемер!
Однако христианское символическое «детство» не исчерпывается физическим возрастом. Взрослый Исус творит не меньшие чудеса и говорит не менее смелые речи, но Его поведение остается совершенно «детским» — в смысле духовной юности, отрицающей «взрослую» догматику. «Новое вино» христианства невместимо ни в какие «ветхие мехи», хотя этой «ветхости» свойственно выдавать себя за реальность как таковую.
Точный образ для этого разделения подобрал лидер группы «Оле Луккойе» Борис Бардаш:
— Ваша музыка — это уход от реальности?
— Нет, это ни в коем случае не уход от реальности. Это расширение понятий реальности. Каждый человек живет как бы в ящике, навязанном ему описанием мира. Он удаляется от состояния ребенка, которое почти открытое и незамутненное, а дальше общество, родители и система навязывают ему этот ящик, в котором он, в конце концов, оказывается захлопнут.
Вопреки позднему обилию всевозможных «отцов» и «старцев», в раннем христианстве физическое старшинство вовсе не являлось «критерием истины». Скорее даже наоборот. Это на библейском примере подтвердил и митрополит Иларион в своем «Слове о Законе и Благодати» — пожалуй, первом русском раннехристианском произведении:
Когда Иосиф сказал Иакову: «На этого, отец, возложи десницу свою, ибо он старше», — Иаков отвечал: «Знаю, чадо, знаю; и он вознесется меж людьми, но брат его меньший больше его станет, и племя его будет во многих народах». Так и произошло. Закон раньше был, и вознесся в малом, и отошел; вера же христианская, явившись после, больше первого стала и распространилась среди многих народов.
Это превращение «меньшего в большее» удивительно гармонирует с традицией русских сказок, где старшие, «законопослушные» сыновья в итоге оказываются в дураках, а победителем выходит тот, кого они сами привыкли считать «дураком», — младший брат.
Для раннего христианства и вправду никакой «закон» был «не писан» — да было и не до него. Мрачным анекдотом выглядел шумный спор лидеров двух экклесий II века — Ипполита и Каллиста — о том, что более «благочестиво»: брак или аскетизм. Доспорить они так и не успели — оба погибли во время очередных римских гонений…
«Законничество» в христианстве появляется лишь с утверждением в нем института жрецов — епископов. (→ 2–1) Именно с этого момента догматический Закон начинает вытеснять вольную Благодать, что в итоге приводит к перерождению христианства в сугубо земной, официальный, репрессивный институт, гениально описанный Достоевским в «Легенде о Великом Инквизиторе». Ницше из этой исторической метаморфозы сделал еще более лаконичный и радикальный вывод:
В понятии «церковь» человечество освятило все то, что преодолел и превозмог «радостный вестник».
«Антихристианство» Ницше было обусловлено именно таким положением дел, а не принципиальным отрицанием этой религии, как многие полагают. Хайдеггер, комментируя подобные ницшеанские пассажи, утверждал:
Под христианством Ницше понимал не ту жизнь христиан, какая существовала лишь единожды в течение совсем недолгого времени, пока не были составлены Евангелия и не началась миссионерская деятельность Павла. Для Ницше христианство — это феномен церкви с ее притязаниями на власть, феномен исторический, феномен светской политики в рамках складывания западного человечества и культуры Нового времени.
Однако именно апостола Павла можно назвать «первым ницшеанцем». Он сам является живым примером абсолютной «переоценки ценностей» — внезапное озарение превратило его из ревностного иудея и жестокого гонителя христиан в их великого духовного лидера.[52] Именно Павел придал христианству универсальный характер, сделав его из «иудейской секты» (как оно воспринималось в Риме) поистине мировой религией, обращенной ко всем народам. При этом он еще принципиально отвергал всякое «законничество», которое возобладало в христианстве лишь впоследствии. В его посланиях эта идея звучит постоянно: «Христос искупил нас от клятвы закона», «Конец закона — Христос», «Любовь есть исполнение закона»… Отвергал он и (также возобладавший позже) запретительный морализм: «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною».
Неформальными лидерами ранних христианских экклесий были именно такие, как Павел, харизматические, вдохновенные личности. Никакой «церковной иерархии» они не знали — но исповедовали неотчужденное духовное братство. И никого не обвиняли в «ереси» — потому что сами, с точки зрения господствовавших тогда иудеев и римлян, считались «еретиками».
Именно этот изначальный архетип — а не позднейшие жреческие наслоения — и вправе называться «христианской традицией». Раннее христианство в высшей степени утопично — но другого христианства попросту нет. Официальная жреческая религия, которая ныне выдает себя за него, являет собой лишь жалкую историческую инерцию этого трансцендентного взрыва. Причем чем более она «ортодоксальна» (отрицая тем самым исконную «парадоксальность» христианства!) — тем более она воспроизводит ветхозаветный застой, для которого живой Христос неудобен и опасен…
Раннее христианство было плодом эллинского эзотеризма и израильских пророчеств. В «позднем» же христианстве воссоединилась дегенеративная наследственность этих же традиций — имперский снобизм Рима и жреческая власть Синедриона.
Превращение христианства из раннего в «позднее»[53] началось как раз с момента его «официализации» и вытеснения «неформальных» харизматических пророков жреческой иерархией. Историк Ирина Свенцицкая описывает эту мрачную картину антиутопического перерождения христианства, которую вряд ли рисовал его Основатель:
В конце IV в. император Феодосий издал указы, запрещающие всякое — публичное и частное — отправление языческих культов. Храмы были разрушены, их имущество конфисковано; земельные владения храмов были переданы христианским церквам. Теперь христианская толпа начала устраивать погромы; в Александрии был сожжен храм Сераписа. А через несколько лет, в 415 г., в той же Александрии толпа христиан-фанатиков зверски убила женщину-математика Ипатию. Как некогда язычники вымещали свое стихийное недовольство на чужаках-христианах, так теперь христиане винили во всех бедах — вторжениях варваров, стихийных бедствиях и эпидемиях — язычников. Но церковь преследовала не только язычников; ортодоксальные епископы продолжали преследовать всех, кто не разделял принятый на Никейском соборе символ веры. Первый список «отрешенных» книг был составлен в V в. в Восточной Римской Империи (Византии). Вошедшие в него книги просто уничтожались. Они действительно стали тайными, секретными книгами.
Интересно, что на этот контраст обращали особое внимание «основоположники» марксизма — уж не в предчувствии ли подобного же перерождения собственных идей? Так, Энгельс, несмотря на весь свой «материализм», явно симпатизировал раннему христианству:
Мы видим, что христианство того времени отличалось от позднейшей, зафиксированной в догматах мировой религии Никейского собора; оно до неузнаваемости не похоже на последнее. В нем нет ни догматик, ни этики позднейшего христианства; но зато есть ощущение того, что ведется борьба против всего мира и что эта борьба увенчается победой.
Но всего удивительнее оценка «воинствующего атеиста» Ленина:
Христиане, получив положение государственной религии, «забыли» о «наивностях» первоначального христианства с его демократически-революционным духом.
После этого «забвения» христианами стали легко называть себя те, кого апостол Павел изображал как «имеющих вид благочестия, силы же его отрекшихся». Эту свою внутреннюю «силу» христианство сохраняло до IV века, когда св. Григорий Нисский утверждал: «Господь называет блаженством не знание чего-нибудь о Нем, но имение Его в себе». Впоследствии же Бога стали представлять как сурового и именно внешнего Владыку, которого пытались умилостивить «правильными» молитвами. Хотя тот же св. Григорий учил о молитве так: «Молитва должна быть всегда проста и немногословна. Скорее молитва должна походить на безыскусный лепет ребенка, чем на хитросплетенную речь». А жрецы и догматики, напротив, насаждали эти «хитросплетения», оскорбляя Бога уже тем, будто бы Он нуждается не в искренности чувств верующих, а в каких-то стандартных заученных фразах…
* * *
Глобальным воскрешением архетипа раннего христианства выглядела молодежная революция 60-х годов ХХ века. Это была не только «рок-революция» — хотя именно тогда музыка вновь обрела свое позабытое смыслообразующее и ритуальное значение. (→ 2–5) 60-е годы стали новым открытием самого раннехристианского образа жизни. Причем это открытие находилось в осознанной оппозиции к официальному, «позднему» христианству. Оно было обращено к непосредственному восприятию заповедей Христа и самой атмосферы Его эпохи — противопоставляя все это замкнутому и тусклому миру «взрослой» современности, «христианской» лишь по инерции. Этот факт был особенно очевиден «со стороны», о нем много говорили представители (или создатели) иных религий. Так, популярный в музыкальной среде гуру Ошо Раджниш замечал:
Папа Римский совершенно противоположен Исусу: это окончательный раскол между экзотериками и эзотериками. Папа больше похож на священников, которые распяли Исуса, чем на самого Исуса. Если Исус вернется снова, он будет распят в Риме уже в наше время — Ватиканом.
Православный историк Семен Зайденберг, описывая эпоху хиппи, перечисляет черты, которые удивительно сближали ее с атмосферой раннехристианских экклесий:
1. Внешний облик: волосы до плеч, борода, одежда, все более обретающая черты хитона. (Это, кстати говоря, послужило в то время для митрополита Сурожского Антония основанием для проповеди в лондонских университетских кварталах: он вполне вписывался в среду и потому вызывал интерес: длинные волосы, борода, длинная свободная одежда и наличие некоего предмета на груди служили основанием для диалога).
2. Демонстративный отказ от внешней силы, настрой на внешнюю кротость и смирение, вера в возможность и попытки преодолеть зло — любовью. Вспомним хотя бы знаменитую «демонстрацию в постели» против войны во Вьетнаме Джона Леннона и Йоко Оно.
3. Общинный и братский дух. Хиппи — это жизнь в коммуне, то есть, собственно говоря, в общинах и братствах. Это странничество и твердая надежда на то, что везде ты найдешь подобную общину и везде будешь принят своими. Стоит ли говорить, что именно так жила ранняя церковь, в измерении своей кафоличности, вселенскости.
4. В основе мифологии хиппи лежат два слова, которые св. Николай Кавасила называл двумя главными и единственными тайнами христианства — любовь и свобода.
5. В центре жизни культуры — переживание тайны и таинства, поиск медитации и мистического созерцания.
6. Ярко выраженный эсхатологизм, стремление обрести новую жизнь, буквальный отказ от заботы о завтрашнем дне и выход из мира, из общества, погрязшего во лжи, внешне похожий на монашеское движение. Герои движения — люди, умершие молодыми.
7. Хиппи — «дети цветов»: стремление обрести сад, т. е. рай, и т. п.
Историк делает важный комментарий, опровергая расхожие предвзятости официальных клерикалов:
Мы сильно ошибемся, если скажем, что все это — лишь внешнее подражание или, хуже того, кощунственная пародия. Нет, все было более чем всерьез, иногда до смерти. Более того, какие-то вещи просто поразительны. Например, уникальный, в сущности никогда более не повторившийся феномен рок-группы (то, что есть и появляется сейчас, за редкими исключениями — лишь повторение культурной формы). И дело вовсе не только в мифологии рок-группы как маленькой, братской и дружеской общины. Лучшие из них, такие как, например, The Beatles или Led Zeppelin, были общинами в христианском смысле этого слова именно на музыкальном уровне: дары каждого раскрывались именно в группе и только в группе. Вне группы каждый оказался (как и христианин вне Церкви), в лучшем случае, хорошим профессионалом, в худшем — посредственным (как Ринго Старр, например), но никто из них ни разу не приблизился к той тайне, которая была посреди них, пока они играли вместе.
К сожалению, этот спонтанный прорыв к истокам раннего христианства продолжался недолго. Конец этой утопии был вызван
общим кризисом церкви, не смогшей поднять из своих глубин и выявить важнейшие и необходимейшие на тот момент реальности — Любовь и Свободу, Общину и Братство, Тайну и Таинство, силу уничижения, смирения и кротости Христовых. Во-вторых — специфические конфессиональные проблемы: нельзя не отметить, что культурные лидеры движения, Америка и Англия, — страны по преимуществу протестантские, т. е. с большой лакуной в области таинственной и литургической жизни, и наоборот, с акцентом на этике, доходящим до жесткого мертвящего ригоризма. Это привело к двум вещам, толкнувшим движение к кризису и закату. Во-первых, это бунт против голой законнической этики, в конце концов агрессивно отвергающий ее. Во-вторых, поиск других таинств, мистерий… В 1978 г. появился панк, и начался он, как известно, со знакового вопля Джонни Роттена, солиста группы Sex Pistols: «I'm — Antichrist». Конечно, это нельзя понимать в том смысле, что Джонни Роттен и представляемая им культура таковыми и были: настоящий антихрист не может признаваться в том, что он — антихрист, он-то как раз выдает себя за Христа.
Панк-движение, в отличие от утверждающих «позитивы» хиппи, основано на «негативном» эпатаже формального, моралистического христианства. Хотя, по существу, хиппи и панки — это две стороны одного и того же поиска неотчужденного духовного опыта.
Популярность панк-рока в 90-е годы ХХ века в России не случайна. Именно тогда официально начавшееся «православное возрождение» стало отчетливо напоминать утверждение тех же фарисейских стереотипов, которые давно господствовали в западной церкви. Это состояние превосходно отразил Егор Летов в своей песне «Евангелие», с ее «провокационным» призывом к догматикам: «Задуши послушными руками своего непослушного Христа!»
К сожалению, тот факт, что сама русская история содержит в себе мощный потенциал раннехристианской альтернативы, проявившейся когда-то в староверии, рокерам был практически неизвестен. Да и не только им — «второе пришествие» православия после десятилетий официального атеизма оказалось просто «перелицовкой» позднесоветских стандартов. Как в них не было уже никакой веры в коммунистическую утопию, так и это новое официальное православие являло собой не более, чем идеологическую структуру, занятую яростным «разоблачением» всевозможных «сектантов». Примечательно, что свое столь зловещее звучание термины «сектанты» и «сектантство» обрели именно в советский период, хотя атеисты, казалось бы, должны отрицать любой религиозный «опиум». Эти «секты», состоящие из тех, кто смеет иметь свои собственные, независимые от официоза религиозные взгляды, стало принято называть «тоталитарными». Хотя более тоталитарной организации, чем московская патриархия, более всего озабоченная — как и поздние советские деятели — «правильной идеологией», соблюдением догматов и дисциплинарной моралью, трудно представить. Официальная «православная» церковь в современной России все более напоминает иудейскую синагогу времен пришествия Спасителя, которая также считала своей главной задачей наказание всевозможных «еретиков».
Творцы и поклонники русского рока понимали христианство иначе — скорее сродни западной молодежной революции 60-х. Такое понимание четко выразил Юрий Шевчук:
Рок-н-ролл я воспринимаю как раннее христианство, без епископов, хоругвей, икон, папы римского. Рок-н-ролл — революционная суть христианства, а оно само есть переворот в сознании людей, основа продолжающегося нашего бытия со всеми его нравственными законами… Бог — внутри тебя самого. В этом суть и революционность христианства. Все очень просто. Рок-н-ролл — та же простота, то же революционное отношение к жизни, но революционное без всякого насилия, террора, без крестовых походов и борьбы с гугенотами…
Однако эта «революционность» у русских рокеров постепенно все более уступала место сотрудничеству с официальной церковью — вплоть до полного идеологического повиновения и утраты собственного раннехристианского духа. Этот процесс весьма наглядно отразился в творчестве такого культового музыканта, как Константин Кинчев, который, парадоксальным образом, был гораздо ближе раннему христианству пока пел «языческие» песни. Но раннее христианство как архетип никуда не исчезает — а лишь меняет исторические формы своего проявления…
* * *
Наиболее ярким воплощением духа раннего христианства в России была сеть староверческих толков и согласий. Они во многом потому и вызвали на себя гнев «третьеримских» властей, что создали невероятный по тем временам (XVIII–XIX вв.) собственный, общероссийский, но негосударственный духовный мир с тайными сообщениями, конспиративными квартирами, «сквотами», подземными ходами и т. д. Порою они переписывались шифрограммами, а в обычных письмах намеренно путали реальные названия с мифологическими. По сути, это был самый наглядный прообраз нынешних сетевых сообществ.
В 2000 году для характеристики этого движения нами был предложен термин «Младоверие»[54] — призванный подчеркнуть, что и по своему возрасту, и по романтическому мировоззрению первые староверы меньше всего соответствовали своему «общепринятому» названию. «Утопическую республику» Выгорецию (→ 2–3) основали, говоря актуальным языком, «тинейджеры» — братьям Денисовым было 17 и 15 лет. И впоследствии это была уникальная многотысячная «коммуна», сочетавшая в себе неискаженную православную церковность, иконопись, книгоиздание, ремесла, предпринимательство, хозяйственную автаркию и неслыханную за ее пределами свободу. Само православие, в отличие от никониянского изоляционизма, понималось здесь максимально широко и универсально. Уход выговцев из окружающего их конформистского, обывательского мира вполне компенсировался их удивительной открытостью к духовному и культурному богатству самых разных народов и эпох. Так, к примеру, они изучали ислам и «королевскую науку» Европы — алхимию. Но особенно в Выгореции любили — может по созвучию, но скорее по чувству героико-эстетического родства — античную Грецию. (→ 3–7) В «Житии Андрея Денисова» о нем, среди прочего, сказано так:
Но мнози многия описаша жития прекрасных царей и славных военачальников, яко прехраброго царя Александра Македонскаго или храбрствовавших по плоти древле Ахиллеса и Ектора, и прочих в силе, богатстве и могуществе преславных мужей, славную их память не погребли в безпамятнем забвенном гробе.
А Семен Денисов, второй настоятель Выгореции, использовал позже совсем уж «реинкарнационную» метафору:
Ибо в сей Выговской пустыни ораторствовавша проповедники, просияша премудрыи Платоны, показашася преславнии Демосфены, обретошася пресладкии Сократы, взыскашася прехрабрыи Ахиллесы.
Некоторые считающие себя «просвещенными» никонияне и поныне воюют с собственным образом «старообрядцев» как престарелых неграмотных бородачей, не имеющим с действительностью ничего общего. На самой почитаемой в Выгореции иконе «Спас Благое Молчание» Христос изображен без бороды, в почти «юношеском» облике — и такие иконы у поморских беспоповцев довольно распространены, в отличие от штамповок господствующей церкви. У непредвзятого исследователя истории и духовного климата северных согласов в какой-то момент начинает возникать странная аналогия с современными неформальными молодежными движениями. Те же острые духовные искания, тот же максимализм, те же «фенечки» — особые талисманы — по которым безошибочно узнают «своих»…
Каков же был стиль жизни в самой Выгореции? Изначально это был монастырь, со всей причитающейся в таких случаях строгостью. Но затем, с принятием брачного устава, пары стали селиться в специально построенных скитах. А потом, когда этих пар стало слишком много, то и в самой обители. Конечно, находились и собственные суровые моралисты, но их самих, как некогда пары, стали постепенно отселять в скиты. Но то, что они писали, дает нам довольно наглядное представление об этой младоверческой утопии начала XIX века. Вот выдержка из писаний одного такого «обличителя», ценная тем, что ее автор — не злобный никониянин (тех вообще лучше не читать), а один из жителей самой Выгореции, просто однажды взглянувший на обитель глазами заезжих гостей:
В скиты же прийдут? Зрят не вдовствующия чистотою мужи и жены, но женящиися и посягающия видят, — иных же, и своих жен от себя изгнавших, с чужими живущих созерцают. В келии ли внидут? Видят не книги прочитаемы, но колыбели с отрочатами зыблемы. На одеяние ли воззрят? Не плачевные вретища, но драгих поставов одежды, — к тому же иностранных покроев шитые, — видят, подобно же и власов долгих ращение, у иных же калмыцкое тех стрижение созерцают. По путем ли пойдут? Но всюду юноши и девы друг с другом гуляющия видят. Уши ли ко звуку пустынному протянут? Но всюду бесовския песни глашаеми слышат. В домы ли внидут? Но чайники и рюмки с бутылками усмотрят и полки не церковными, но басненными книгами обтиснены увидят…
Младоверы часто организовывали дальние экспедиции — в Беловодье и Опоньское царство (по некоторым данным, ходили туда и выговцы). И где-то на Волге произошла странная «встреча цивилизаций», когда некоторые согласы обнаружили удивительное сходство своих исканий и интуиций с буддистскими ламами.[55] И откуда-то из Тибета, а то и из самой Аггартхи, получили они секретное учение о грядущей эсхатологической битве, и по Руси, по тайным младоверческим каналам, иногда расходились дощечки с иероглифами. Конечно, с точки зрения никониян все это выглядело ужасающей «ересью», но тот, кто идет по духовному пути, знает, что ересь — не в поиске Китежа, а у тех, кто смирился с его отсутствием…
Современные же «староверы» в большинстве своем уже не имеют к этой младоверческой утопии никакого отношения. Они превратились в позднюю и сугубо формальную пародию на нее. Горький сарказм — затем ли надо было отказываться от причастия в официальной церкви, чтобы потом как зеницу ока блюсти «чистоту» своих тарелок и кружек? Притча о фарисейских чашах воплощается здесь совершенно буквально! Вместо открытия своего Китежа у них вовсю идет гротескная война между внутренними микрогруппировками, каждая из которых претендует на «самую правильную веру». И — обвиняет всех окружающих в «ереси» даже пуще, чем официальная церковь. Кроме того, в отличие от выговских интеллектуалов, читавших европейские книги в подлинниках, у нынешних «староверов» знание иностранных языков зачастую считается чем-то подозрительным и чуть ли не «грехом». Видимо, вернуть их теперь к своему исконному архетипу возможно только жестким парадоксом — новой петровской рубкой бород…
* * *
Есть основания полагать, что новая русская утопия «кристаллизуется» из нового поколения молодежи подобно тому, как все искусства ныне «разархивируются» из электронной музыки. (→ 2–5) Для этого ее субъектам совершенно необязательно «специально изучать» какие-то исторические и философские прообразы — они возникают спонтанно и самостоятельно, надо лишь дать волю интуиции. Растущая популярность жанра фэнтези сама становится прообразом будущего.
Петрозаводский социолог София Лойтер с удивлением отмечает в своей книге «Русский детский фольклор и детская мифология», что нынешние дети особенно любят играть в «страну-мечту», причем совершенно неожиданно
в детских утопиях просматривается влияние древнегреческих преданий, сохранившихся у Платона, об Атлантиде и Городе Золотых Ворот. Но еще более явственны отголоски «артуровских легенд», соединивших в себе нравственные идеалы рыцарства и представление об «острове блаженных» Аваллоне с его символикой. История Артура, его родословная, подвиги «Рыцарей Круглого Стола», битвы, закат королевства, описания башен, дворцов по-своему трансформировались в мотивах и сюжетах некоторых игр.
Этот гигантский «архив детской души» Максимилиан Волошин (которого самого называли «большим ребенком») описывал в статье «Откровения детских игр»:
Когда, вспомнив и связав свое темное детское «Я» со своим взрослым скупым «Я», мы поймем значение всего переживаемого ребенком: мистический смысл его игр, откровения его фантазий, метафизическое значение его смутных воспоминаний, доисторические причины его непонятных поступков, то изменится вся система нашего воспитания и вместо насильственного заполнения его девственной памяти бесполезными и безразличными сведениями, мешающими его работе, мы сами будем учиться у него, следить за его путями и только изредка помогать ему переносить непомерное напряжение его духа.
Вообще, в традиционных обществах детей не «воспитывали» в современном понимании этого слова. За ними лишь присматривали, иногда давая тот или иной совет. Лишь в эпоху модерна «воспитанием» занялись все кому не лень, и процесс этот бы поставлен на псевдонаучную и коммерческую основу. Результаты не замедлили сказаться — огромное множество духовно опустошенных подобий своих родителей…
С тезисом о необходимости «религиозного воспитания» можно согласиться, однако его надо истолковать совсем не в том «подавляющем» смысле, который предлагается официальной церковью, а совсем наоборот — как пробуждение собственного духовного потенциала личности. И здесь вновь именно староверие, точнее — младоверие, открывает путь активного познания веры. Сергей Корнев замечает:
Староверие тем и отличается от официального православия, что оно свободно, незавершено, в развитии. В силу этой свободы и перманентного развития мы при желании можем считать себя не в меньшей степени законными представителями староверия, чем официальные иерархи какого-нибудь из согласий (скажем, Белокриницкой иерархии). Мы даже можем сами создать свой собственный толк или согласие в староверии, с самой крышелетной доктриной, а будет ли это игрой или всерьез — зависит только от нас, а не от какого-то уполномачивающего органа с печатью. Точно так же какому-нибудь гностику II века было наплевать на всякие мандаты и дипломы. Здесь ситуация «непосредственного веротворчества», «без посредников и оценщиков», — учитывая существование таких толков, как нетовщина, никаких формальных признаков староверия (типа «это — оно, а это — уже нет») выдвинуть невозможно. Богатство староверческих доктрин нужно ввести в максимально широкий контекст, сделать его модным и даже престижным — то есть на этом поле амбициозный художник или музыкант может ощущать себя не просто транслятором, но и творцом нового мифологического содержания. Здесь и только здесь какое-нибудь «техно-православие» или «рок-православие» может быть не просто приколом, но вполне законной и полноправной конфессией, не менее влиятельной, чем Московская патриархия со всеми ее регалиями и медалями на ошейнике.
«Завершенность» официального православия выражена в том, что оно уже нашло свое окончательное место — в качестве государственной религии «третьеримской» империи. Нынешней Москве, как и «первому» Риму, так же кажется, будто история уже кончилась. Как тогда «язычество», так и сейчас «коммунизм» повержены, и, казалось бы, в империи навеки наступили «стабильность и процветание». Но «северные варвары», которых папы считали «еретиками», вскоре успешно это опровергли… (→ 2–9)
Самой актуальной формой христианства в мире всеобщего шоу может стать ролевая игра. Ее герои воспримут свои роли не просто как временные «маски», но осознавая спектакулярный характер самой «реальности». Именно такое, непосредственное вживание в роли, в том числе и сакральные, способно дать куда более глубокое постижение религиозной реальности, чем ее изучение по отвлеченным догматам. Здесь для младоверов открывается невероятно широкое поле для игровых интерпретаций. И — для их воплощения в «реальном мире». Поскольку, как точно замечает питерский ролевик Дарт Вальтамский,
игра перестает быть игрой. Она становится источником духовного, мистического опыта, мистерией инициации новейшего времени, точкой соприкосновения с Традицией. Она берет на себя функции уходящей в прошлое церкви, да и религии как таковой. Собственно говоря, следуя тем же традиционалистам-классикам, ведь религиозная форма является далеко не единственной и не обязательной формой выражения Традиции.
Удивительны прямые соответствия между религиозной и ролевой средой — те, кто в первой именуются «профанами», не желающими или не способными понять сакральное, во второй имеют столь же отчужденный статус «цивилов». Однако духовная и творческая элита в обоих случаях все же оказывает влияние на этот «профанно-цивильный» мир и в конечном итоге преображает его. Дарт Вальтамский это понимает и отдает должное Церкви. Казалось бы, он сам себе противоречит — но это то противоречие, из которого рождается истина:
Как это знакомо — новые формы, катарсис за один сеанс, духовность в ногу со временем… Только вот «устаревшая» Церковь имеет стойкое свойство из века в век переживать бесследно уходящих в ничто провозвестников новых духовностей. Ушли Цельс и гностики, Диоклетиан и Юлиан, ушли вальденсы, стригольники, Робеспьер с его культом общественной добродетели, великий Ницше, германо-австрийские ариософы, Третий Рейх, коммунисты… Числа им нет — мудрым и глупым, великим и жалким. И ведь каждому казалось, что Церковь — это уже прошлое, ну почти прошлое, едва дотянувшее по недоразумению до настоящего. И вот — они сами только в прошлом. А Церковь, которая древнее их — и в прошлом, и в настоящем, и — смею думать — в будущем.
Однако Церковь — это не жреческая структура и не здание. Ее нельзя отрицать — но надо по-новому осмыслить. Впрочем, здесь новизна вновь совпадает с исконностью — Церковь как сеть экклесий. Именно потому младоверы находят бессмысленными споры различных церковных структур о том, какая из них «самая истинная» — но вольны посещать любой храм и участвовать в любой мистерии, где они находят Благодать.
Благодать не знает эйджизма — дискриминации по возрасту, которая с неизбежностью доминирует в «позднем» христианстве. Видимо, «ветхозаветная» эволюция официальной церкви привела ее уже в то состояние, когда ей необходим свой «путь Моисея». Он, как известно, сорок лет водил свой народ по пустыне, пока не вымерли все исшедшие из Египта и не подросло новое поколение, воспитанное в принципиально ином духе. И это новое поколение стало новым народом.
2.7. Легенда о Великом Покровителе
…мощной рукой остановят они человечество в его безумном, бешеном беге вперед, уничтожат его безболезненным путем, а из остатков, тщательно подобранных, воссоздадут они на основании законов наследственности и путем искусственного подбора новую, детскую расу людей, покорных их воле и способных быть счастливыми.
Константин Мережковский. Рай Земной.Классические утопии — от «Государства» Платона до собственно «Утопии» Мора, «Города Солнца» Кампанеллы, «Новой Атлантиды» Бэкона и т. д. — противопоставляли истории некий вневременной идеал. Зачастую — подчеркнуто метафизический, и поэтому они не особо надеялись на его воплощение, рассчитывая в лучшем случае лишь на некоторые «полезные исправления» в жизни окружающих их обществ. Многое изменила эпоха позднего модерна, с господствовавшими в ней настроениями всеобщей рационализации, утилитаризации и «тотальной мобилизации». Она восприняла эти утопии как «руководство к действию», исключив, однако, из них метафизические, трансцендентные ориентиры, а точнее — подменив их теми или иными идеологическими догматами. (→ 1–2)
В итоге эти утопии, помимо воли своих авторов, оказались «ответственными за тоталитарные режимы», что и определило позднее негативное отношение к ним как таковым. Евгений Замятин выразил это отношение так:
Замороженное благополучие, окаменело-райское социальное равновесие — логически связаны с содержанием утопии.
Однако эта статичная характеристика скорее приложима к его собственной антиутопии «Мы». Утопия же тем и отличается от застывшей идеологии, что с необходимостью содержит в себе внутреннюю динамику, связанную с воплощением ее трансцендентных ориентиров.
Хотя смысл этой «трансцендентности» исторически может кардинально меняться. Если для авторов классических утопий он был безусловно религиозным (метафизическим), то утопист начала ХХ века Константин Мережковский[56] настаивает на своем принципиальном скептицизме в этом отношении («ни принимаю, ни отрицаю»). Тем не менее, созданный им мир оказался, парадоксальным образом, вполне соответствующим идеалам Земного Рая, которые описаны во множестве религий.
Еще одним парадоксом утопии Мережковского является то, что, написанная на основе вполне рациональных научных взглядов эпохи модерна (сам Мережковский был биологом, одним из «пионеров» генетики), она довела этот рационализм до апогея и перерастания в весьма иррациональное, как категория «счастья», состояние постмодерна. В отличие от классических утопистов Мережковский рисовал не какой-то заведомо отвлеченный, вневременной идеал, но открыто надеялся на реальное воплощение своей утопии в будущем:
Я думаю, что если человечество будет продолжать идти по тому же пути, по которому оно идет, то скоро, скорее, может быть, чем я предположил в своей сказке, оно дойдет до абсурда, то есть доведет усложнение и трудность жизни до такой степени, что люди, наконец, придут в состояние полного отчаяния. Тогда-то они, быть может, вспомнят мою сказку-утопию, прочтут ее и, возможно, найдут в ней некоторые указания, как выйти из этого состояния отчаяния. Тогда-то, но не раньше, книга эта может принести свой плод, может оказаться действительно полезной, и для этой-то более или менее отдаленной эпохи я ее и предназначаю; теперь же — это не более как курьез.
Однако воплощение его сказки началось скорее, чем предполагал автор, относивший ее действие к XXVII веку. Причем воплощается она буквально на глазах!
Сюжет этой утопии внешне довольно несложен. Alter ego автора, человек XIX века, совершает дальнее пространственно-временное перемещение и оказывается на удивительном тропическом острове будущего, который населяют три касты людей. Основная — это друзья, веселое и игривое племя молодежи. Это и есть собственно «человечество» наступившей эпохи. Они вволю пользуются всеми благами жизни — и хотя они смертны, но не чувствуют горестей этого, так как смерть для них — это продолжение той же игры, а сам момент «перезагрузки» незаметен благодаря вовремя примененной наркотической эвтаназии.
Обеспечивает все это счастье крайне немногочисленная каста покровителей. Это взрослые люди, живущие своей обособленной жизнью, хотя и в окружении друзей. Сами друзья, оказывается, ими некогда искусственно выведены — из наиболее достойных остатков прошлого человечества. Это прошлое человечество, как выясняется, пришло в тотальный исторический тупик и отчаяние под давлением ложно понятого «прогресса», и горстка элиты (будущих покровителей) избавила его от мучений, лишив возможности спонтанно размножаться, лишь продлевая тем самым страдания на новые и новые поколения. Иными словами, гегелевская «дурная бесконечность» вырождающегося человеческого архетипа была волевым образом прекращена.
Однако при этом покровители сделали важное открытие — единственной категорией людей, способных в каждом поколении ощущать счастье, остаются дети. Поэтому они решили сделать все новое человечество «детским», буквально исполнив тем самым одну из главных Христовых заповедей, и технически применив для этого биологический искусственный отбор. Вот как об этом рассказывает герой утопии, покровитель по имени Эзрар:
С большою тщательностью выбрали мы такие элементы, которые могли дать желаемые результаты, то есть людей, наиболее приближавшихся к детскому типу и по физической организации и, главное, по душевным качествам, и строгим подбором из поколения в поколение усиливали и развивали требуемые качества. Результаты превзошли даже все наши ожидания!
Третьей кастой нового человечества являются рабы. Впрочем, их даже и не относят к собственно человечеству. На «гуманное» возмущение главного героя Эзрар ответствует:
Вас сбивает с толку слово «раб», которому вы придаете древнее значение и которым действительно прежде обозначали несчастных, угнетенных людей. Но мы воспользовались только прежним словом, на самом же деле под ним мы разумеем совершенно иное. Наши рабы не мучаются, ибо они не сознают своего положения, и потому-то они не люди. Они разумны, что делает их гораздо ценнее всякого домашнего животного, но их разум очень мало развит, крайне специализирован и вращается только в известной сфере, для каждого очень ограниченной. Отнимите у них свойственную каждому работу — и они будут чувствовать себя несчастнейшими существами.
Пожалуй, в логике и проницательности Эзрару отказать трудно! Тех, кто видит весь смысл жизни в «работе», к тому же «узко специализированной», доволен этим, не нуждается ни в какой свободе и даже не сознает ее потребности — действительно трудно назвать людьми. По крайней мере, в том исконном значении человека, которое дают все мифологии и религии…
Философию этой тройственной социальной модели покровитель суммирует так:
Труд, ум и счастье — вот три элемента, без которых человечество не может существовать. Но труд всегда мешал людскому счастью на земле, да и непригоден он детям — и мы выделили этот элемент из человечества и поставили его вовне. Ум — слишком едкий элемент, соприкасаясь со счастьем, он разлагает его — и мы его тоже выделили, сконцентрировав в нас самих. И вот осталось человечество с одним только счастьем — простым, но прочным.
Главный герой поначалу шокирован некоторыми особенностями этого счастья — к примеру, принципиальной неграмотностью друзей, или отсутствием у них вкуса к самостоятельному творчеству — но под логичными доводами Эзрара все более восхищается гениальностью этого замысла. И в финале… внезапно просыпается
под серым небом, опять среди противных людей — алчных, грубых, глупых, бессердечных людей. Опять войска, фабрики, проценты, кабаки, школы, грубый рабочий, бьющий спьяна своих детей, тонкий вельможа, продающий свою совесть, честный труд до седьмого пота, бедный ученый в затхлой атмосфере лаборатории… Опять ужас смерти неизбежной, неотвратимой.
И разочарованно восклицает:
О, люди, люди! О безумные, о несчастные люди, неужели вы никогда не осуществите мой сон?!
Автор, наверное, пришел бы в еще больший ужас, увидев современное издание своей книги,[57] в аннотации к которой — несмотря на его ясную позицию — его сказка названа «антиутопией»…
* * *
Сказка Мережковского может показаться «антиутопией» только невнимательному взгляду, возникающему обычно не от собственной интуиции, а на основе исторических стереотипов. И действительно, в этом проекте тотальной антропологической революции есть нечто внешне схожее с нацистскими опытами по выведению «чистой арийской расы». (→ 1–2) Однако нацистам вряд ли пришлись бы по вкусу личные предпочтения автора, создавшего своих друзей на основе самых разных народов, и в особенности славянских и средиземноморских.
Так же далеко отстоит эта неоантропологическая утопия и от коммунистической идеологии «воспитания нового человека». Любопытно, что эта книга была впервые издана в 1903 году — том самом, когда Ленин создал большевистскую партию. Однако в ней уже содержалось пророчество о судьбах «мирового социализма». Столь точно описать весь будущий век в прошедшем времени действительно может только пророк:
Были ли счастливы социалисты? На очень короткое время в период всеобщего энтузиазма воцарилось подобие счастья, его мираж, но энтузиазм скоро остыл, и пошли опять прежние распри и раздоры…
В начале XXI века становится все яснее, что эта трехчастная социальная модель выглядит куда более устойчивой и эффективной, чем антиутопические эксперименты века минувшего. Коммунисты, образно говоря, пытались искусственно превратить рабов в друзей, нацисты — насильно сделать всех иноплеменных друзей — рабами. Но и те, и другие потерпели крах — именно потому, что такие массовые трансформации противоречат самой человеческой природе. А «мизантропическая» по отношению к «прежнему человечеству» утопия Мережковского, напротив, как ни странно, оказалась этой природе вполне созвучной!
Сегодня можно наблюдать воплощение этой утопии, происходящее даже без применения евгенических технологий. Общество словно бы само по себе складывается в эту трехчастную модель. Доминирующей кастой становятся друзья, именуемые на общепринятом языке «средним классом». В этой среде подчеркнуто культивируются молодость, подвижность, коммуникабельность. Игра становится характерным стилем жизни — даже работа у них носит игровой оттенок и порою выглядит просто как смена развлечений. Физический возраст здесь постепенно обессмысливается — биологическое время все более проигрывает необходимости поддерживать «молодежный стиль».
Полной стилевой противоположностью этой касте выступают рабы — или, политкорректно выражаясь, «население». Весь смысл своей жизни они видят в «работе» — не столько из-за того, что мечтают нечто «заработать», сколько потому, что просто не представляют иных сфер осмысленного приложения времени. Само время у них жестко привязано к биологическому ритму и оседлому «месту жительства». Рабы традиционно нуждаются в господах — что выражается в их инстинктивном преклонении перед любыми деятелями власти и шоу-бизнеса.
Высшая же каста — покровители, или элита — всегда пребывает в тени от этого яркого контраста между «средним классом» и «населением». Но с другой стороны, обойтись без нее совершенно невозможно. Если друзей и рабов оставить без ее балансирующего присмотра, они либо перебили бы друг друга, либо сами воспроизвели бы куда более жесткую, деспотичную, антиутопическую иерархию — вроде «Повелителя мух» или «Пляжа»…
* * *
Главное, что заставляет усомниться в таком уж безоблачном счастье друзей — это полное отсутствие у них вкуса к самостоятельному творчеству. К примеру, они очень любят музыку (→ 2–5) — но только как потребители. Вопрос о собственных проектах и сочинениях вызывает у них искреннее недоумение — зачем тратить на это силы и время? К тому же всякое творчество требует определенного самоуглубления, а оно только отвлекает от всеобщей радости. И когда у одного из друзей вдруг внезапно пробуждается какая-то странная созерцательность, и он ищет уединения — это сразу же делает его «белой вороной».
Впрочем, как оговаривается Эзрар, «они необразованны, но не глупы». Так, после его рассказа о том, что все люди когда-то умели летать, один друг спрашивает его, почему это запрещено ныне. А по твердому мнению покровителя, это привело бы лишь к усложнению жизни и нарушению привычного порядка. Здесь вскрывается противоречивая роль самих покровителей — естественное духовное лидерство в них иногда уступает место сугубо контролирующей функции. А это и есть переход от роли парадоксальных пророков к статусу ортодоксальных жрецов. (→ 2–1) Однако обособленное жречество всегда с неизбежностью вырождается — сам статус начинает подменять собой личность, которая уже ни на что не способна. Чему можно найти массу примеров и в иерархии официальной церкви, и в светских институтах, где «заслуженные профессора» иногда существенно уступают в интеллектуальном развитии своим «глупым студентам».
Утопия превращается в антиутопию, когда утрачивает свою внутреннюю динамику и начинает проповедовать некий статичный порядок как самоцель. В таком случае трансцендентный смысл (т. е. собственно утопическое «счастье») этого порядка попросту исчезает.
Тем не менее, главный герой, за которым здесь прямо слышится собственный голос автора, настаивает:
Мысль, счастье и труд — это три такие элемента, которые несоединимы в одном лице, несовместимы друг с другом, как несоединимы огонь, вода и воздух, и только тогда, когда каждый из них выделился в нечто обособленное и олицетворился: один — в покровителях, другой — в друзьях, третий — в рабах, стало возможным появление на земле счастья в чистом его виде. Насильственно вместе соединенные, они, как огонь, вода и воздух, могли произвести только хаос.
Странно, что Мережковский не чувствует очевидной взаимосвязи этих элементов — огонь, который нагревает воду, не горит без воздуха. В предисловии к книге он признается, что «мало склонен к мистицизму» — а жаль, ибо тогда, возможно, понял бы, что эти космические стихии легко воссоединяются (причем именно «ненасильственно»!) в особом и «неуловимом» элементе — эфире. Что вполне понимал Платон, проведя эту эзотерическую идею в своем «Государстве».
Оно также основано на трехчастной социальной модели — однако в нем люди, наделенные высшими качествами, могут родиться и в низшем общественном классе, и, наоборот, рожденные в высших классах могут оказаться с низкими душами. Поэтому в обязанности философов (аналога покровителей в его утопии) входит различение этих качеств и адекватное, динамическое формирование общественных классов:
Если в душе вновь родившегося окажется «медь» или «железо», его надлежит без всякого сожаления или снисхождения прогнать к земледельцам и ремесленникам. Но если у ремесленника родится младенец с примесью «золота» или «серебра», то он должен быть причислен либо к классу правителей, либо к классу воинов.
Это, несомненно, более демократическая модель — причем именно в исконном, эллинском (→ 3–7) значении этого слова.
Отсюда ясно, что настоящие покровители — это вовсе не какая-то замкнутая каста с вечным имиджем «мудрых старцев». «Старческий» возраст вообще не является преимуществом сам по себе — но может лишь суммировать (или доводить до маразма) те качества, которые проявлялись еще в детстве и молодости. Тот же Платон не «стал» гением на склоне лет, когда написал свои основные работы, — но был им на протяжении всей жизни.
Творческие интеллектуалы вообще живут «вне возраста», потому что умеют синтезировать в себе качества любых лет. Они сами себе покровители, поэтому для них не существует никаких социальных барьеров. Они свободно движутся внутри трехчастной модели, воспринимая остановки на разных ее «этажах» лишь как роли в своем собственном сценарии. Этот, становящийся ныне все более актуальным, социальный тип «революционного проходимца» исследуется в недавнем художественно-публицистическом сборнике «Образ жизни».[58] Его издатель Олег Киреев рисует облик «героя нашего времени» так:
Представитель этого типа не связан никакими общественными ограничениями, не принадлежит никакому устойчивому классу, а непринужденно и с юмором скользит мимо всех социальных ограничений и стратификаций. Один день такой «проходимец» может автостопить на дороге, другой — жить в роскошном заграничном отеле, будучи приглашенным, например, на конференцию; один день он работает на телевидении, другой — живет в анархическом или артистическом сквоте.
«Революционные проходимцы» сознательно дистанцируются от популярного в нынешней политике спора либеральных друзей и патриотичных рабов:
Мы не делаем громких деклараций — но просто показываем свое отношение к этому обществу своим образом жизни.
Это естественное поведение участников креативных корпораций (→ 1–6), живущих в своей собственной утопии. Или, если угодно, действие по примеру апостола Павла, который «для всех сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых».
2.8. Душа в клетке
Тело было клеткой, а внутри нее находилось нечто, что смотрело, слушало, боялось, думало и удивлялось; этим нечто, оставшимся за вычетом тела, была душа.
Милан Кундера. Невыносимая легкость бытияАпостол Павел, входя как «свой» в каждый народ и сословие, воспроизводил тем самым эзотерический метод, известный во множестве традиций. Генон его описывал так:
Посвященные, и особенно наиболее высоких степеней, охотно смешиваются с обычными людьми, вплоть до того, что ничем не отличаются от них внешне. Здесь надо вспомнить весьма строгую и последовательную практику розенкрейцеров, предписывавшую им всегда говорить на том языке и носить одежду тех народов и социальных групп, среди которых они жили, и более того — подчинять свой образ действий «общепринятому» в них. Это можно конечно счесть лишь средством остаться незамеченным среди профанов, которые не придают значения иным вещам, но здесь есть и некоторые более глубокие причины.
Это предписание — ничем не выделяясь из обычных людей во всем, что касается внешней видимости, отличаться от них глубочайшим образом внутренне, — довольно часто встречается в даосизме, и сам Лао-Цзы его формулировал неоднократно. Такое поведение отражает некоторые аспекты символизма воды… Мудрец, имитируя природу воды, легко смешивается с народом. Это позволяет ему не только лучше, чем из любого другого положения, влиять на народ своим «деянием присутствия», но и сохранять в безопасной невидимости то, чем он действительно отличается от других, и что составляет его единственное подлинное превосходство.
Подобный же метод издавна практикуют и суфийские ордена, чья глобальная деятельность меньше всего напоминает экспансию «этнического мусульманства». Такова же функция дзэнского коана, который с помощью, казалось бы, самых простых слов и жестов способен резко вывести сознание за пределы обыденных стереотипов.
Эта «технология» в эпоху постмодерна становится едва ли не единственно эффективной. Виртуализация общества (→ 1–4) привела к тому, что никакой внешний образ сам по себе более не является «доказательством» его сакральности — таких «сакральных образов» шоу-реальность может произвести бесчисленное количество.
В этом мире симулякров трансгрессивная миссия посвященных выражается не в конструировании «собственных» сцен и героев (они способны разве что дополнить общий спектакль «оригинальными» декорациями), но — в особом, инспиративном, деконструирующем влиянии на уже разворачивающиеся процессы. Это не воздействие извне, но проявление изнутри. Именно эту ситуацию предвидел Максимилиан Волошин, говоря о кризисе «внешней» духовности и о том, почему она «не цепляет» душу современного человека:
Проповедь дает созревший плод — чужой. А душе надобно только зерно, из которого она может вырастить свой.
Измениться — а точнее, вернуться к своему исходному качеству — должен сам язык Церкви. Чем меньше будет его формальных отличий от «мирского» языка, тем ближе он станет не только «миру», но и самому Христу. Размышляя о сакральности церковного языка, Семен Зайденберг проводит очень глубокие параллели:
Инаковость — его внутреннее качество, не нуждающееся и, более того, часто даже не выносящее внешней формализации, неизбежно возвращающей Церковь к реальности Ветхого Завета. Здесь та же разница, что между Христом и Иоанном Крестителем. Иоанн, внешне живущий самым радикальным и чрезвычайным образом не как все, — высшая точка Ветхого Завета, т. е. «тени будущих благ», в то время как Иисус, Сын Человеческий, в Котором часто нет «ни вида, ни величия», и про Которого говорят: «Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам», — это и есть «самый образ вещей», ведь Свою инаковость миру Он носит в Себе как внутреннее и всегда актуальное качество.
Духовная элита, продолжающая эту миссию инаковости, также никак формально не отличается от окружающего ее общества. Более того, она подчеркнуто дистанцируется от внешних признаков «элитарности», которые в актуальной ситуации носят сугубо карнавальный характер. Элита лишь подбирает себе адекватную среду обитания, проявляясь в которой, она незримо придает текущим событиям иной смысл. Даже в мире «одномерных людей», которые не видят в своей жизни никакого внеэкономического смысла, она умудряется сохранять не запрограммированные «обществом потребления» цели и желания. И — достигать их, создавая неформальные и самые парадоксальные сетевые альянсы, возникающие по закономерности, выведенной Гёте: «гения заметит только гений».
Хотя к формальной эволюции нынешнего человечества уже все более применимы биологические аналогии. Постепенно меняется сам антропологический тип — и элита, подобно Волошину, чутко это улавливает:
В современном городе современный культурный человек находит те условия жизни, которых человечество до сих пор не знало: с одной стороны, чрезмерный комфорт и чрезмерное питание, с другой стороны, полное отсутствие соприкосновения с землей, со свежим воздухом, с физической работой. С одной стороны, полицейскую безопасность и опеку, с другой стороны — нервный и напряженный труд, при этом всегда односторонний. Все это вместе взятое создает картину искусственной теплицы, в которой растение усиленным питанием, с одной стороны, и невозможностью развития в нормальном направлении — с другой, неволится к созданию нового вида, приспособленного к этим новым условиям существования.
Каков будет этот «новый человеческий вид»? Сохранятся ли в этом «антропарке» внешне неотличимые от его обычных обитателей, но трансцендентно ориентированные «розенкрейцеры»? Этот же вопрос решают ныне и биотехнологии — только на другом уровне: в какой стволовой клетке человеческого организма находится его уникальная душа?
* * *
Эксперименты с клонированием человека объявляются официальной церковью однозначно «греховными» — она видит в них шокирующее отступление от «естественного» порядка размножения. Это выглядит весьма забавно, ибо клерикалы в данном случае напрочь забывают о том, что сама их религия основана на совершенно сверх-естественных способах появления людей: Адама — из глины, Евы — из ребра Адама, Исуса — от Святого Духа и Девы Марии…
На какой-то сверхъестественный парадокс намекает и символика раэлитов — наиболее известного, и в то же время весьма загадочного движения в поддержку клонирования — свастика, вписанная в звезду Давида.
Здесь явно все начинается с некоего мистического «совпадения противоположностей», это — не тривиальный механицизм, который исповедуют современные идеологи «этнической чистоты», увидевшие в клонировании прямое развитие нацистских евгенических опытов. Так, Владимир Авдеев предвкушает в своей работе «Генетический социализм»:
Отдельные наиболее приглянувшиеся экземпляры человеческой породы отныне можно будет воспроизводить в огромных количествах, будто на ксероксе.
Словно бы продолжая эти «офисно-технические» аналогии, международный журнал «Business 2.0» также предсказывает скорое появление «принтера человеческих органов». На нем из клеточной массы можно будет воспроизводить любые необходимые конкретному индивиду здоровые органы. Однако этот журнал все же более осторожен, чем «породистые» пропагандисты:
Никто пока не может сказать, существует ли теоретическая возможность того, что подобный принтер будет распечатывать человеческие мозги.
Причина этого сомнения, очевидно, не в мозгах, которые, с точки зрения последовательного материализма, также состоят лишь из клеток, а — в нечаянной интуиции о том, что на этом «принтере» не удастся воспроизвести некую иную, более тонкую и неуловимую субстанцию, ответственную за уникальность индивида. Которая, с точки зрения «религиозных предрассудков», называется душой.
У гипотетического (пока) человеческого клона будет своя собственная душа. Это наглядно демонстрируется на протяжении всей человеческой истории — у рождающихся иногда однояйцевых близнецов все гены одинаковы, но они являются отдельными независимыми личностями, и порой даже весьма разными по характеру. Так что желающие путем клонирования «повторить» свою любимую индивидуальность, будут, скорее всего, разочарованы.
Примечательно, что религиозные ортодоксы, «отрицающие» личность клона, фактически сближаются с самыми отчаянными экспериментаторами в области генетики. Так, если сегодня в большинстве стран запрещены эксперименты с «нормальными» человеческими эмбрионами, то опыты над эмбрионами клонов «по умолчанию» разрешены везде — поскольку нет таких законов, которые защищают право клона на жизнь. Так что любые экспериментаторы могут свободно продолжать свои опыты в этой сфере, прикрываясь к тому же и авторитетом официальной церкви, утверждающей, что «клон — это не человек»…
Антиутопическая сторона клонирования состоит в консервации физического облика нынешних людей — ведь клоны их просто воспроизводят. Это означает торможение естественного этногенеза и возможного возникновения новых народов.
Вооруженное технологией клонирования нынешнее человечество рискует просто остановиться в своем развитии — в блаженном созерцании искусственно выведенной породы «моделей».[59] Это будет величайшим триумфом шоу-реальности. Однако не исключено, что в какой-то момент «моделям» надоест развлекать своих творцов и они решат… нет, не обязательно их уничтожить, а просто организовать иную, параллельную реальность, провозгласив «Декларацию независимости» клонов. И не исключено также, что эта утопия будет успешнее человеческих. Хотя скорее, здесь уместнее будет уже говорить о «новом» и «старом» человечестве, поскольку физически клон от человека ничем не отличается. Но менталитет может различаться существенно — причем не только между клоном и человеком, но и между самими клонами. Один может быть пустым манекеном, созданным лишь на потеху шоу-бизнеса, другой — развиться в существо, гораздо более гениальное, чем свой «прототип». Внешнее различение в таком случае останется лишь одно — которому учил св. Иоанн Златоуст:
Когда ты видишь привлекательный внешний вид, постарайся узнать и внутренний; и если сей некрасив, презри и внешний.
Внутреннюю же сторону — чем элита отличается от «обычных людей» — показал однажды Николай Гумилев:
Только змеи сбрасывают кожи, Мы меняем души, не тела.* * *
Однако на «клеточном» уровне эволюция не останавливается. Гораздо более фундаментальные (в прямом смысле) последствия для человеческого архетипа несет прогнозируемый на ближайшие десятилетия взрыв нано-технологий, позволяющих с легкостью манипулировать материей на уровне отдельных молекул и атомов.
Нано-технологии сделают производство любых материальных предметов таким же элементарным, как сетевое создание виртуальных образов. Достаточно лишь изменить структуру некоторых атомов — и из них можно «лепить» любые молекулы, в том числе и сложных органических веществ, откуда уже рукой подать до генетических кодов и клеточных соединений. Мановением этой руки можно будет создать человеческое существо «из ничего» — из воздуха, воды, глины… Как, впрочем, совершить и обратный процесс.
Разумеется, «фарисеи и саддукеи» иных времен будут этому яростно противиться, настаивая на том, что люди — это только они. Преодолеть это сопротивление вновь сможет лишь пророческий нонконформизм. Так Иоанн Креститель однажды их уже предупредил:
и не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму.
2.9. Точка росы
Шизофрения является на сегодня, пожалуй, крайней формой расщепления мертвого мира, которую пока еще можно совмещать с государственно-региональной и социально-культурной формами шизма. Но обозримые препятствия заставляют готовиться ко все большему освоению этого вида поведения. Кислота расщепления одолеет окостенелые коридоры вселенского учреждения до основания, а затем из нового хаоса будет кристаллизоваться вначале иная, новая социальность, а после воссоединятся (но уже на иной основе) территории земли (это и будет новая, вновь воссоединенная земля — re-geon). Без упразднения самой глубинной ткани человеческого бытия, неисправимо пропитанного трупным ядом предшествующих структур, смертоносная репрессивная система будет возрождаться как феникс из пепла, что мы и видим на примере всех возможных революций. Новый поток вечной традиции, смыв переполненную уже пустыми символами и мертвыми словами текстуру мира, заблистает в живых формах иных существований.
Костя Нетов. ШизархияНедавний российский академический сборник под названием «Метафизика глобализации. От утопии к антиутопии» демонстрирует интересную эволюцию нынешней «гуманитарной науки» к религиозной аргументации своих взглядов:
Утопии вообще имеют свойство превращаться в антиутопии в процессе своего воплощения… В процессе реализации даже самого идеального замысла в материальную предметную форму неизбежны искажения, ибо косная материя не может тонко повторить движения идеальной субстанции. Между ними возникает как бы «зазор», в который и устремляется, условно говоря, дьявол, т. е. возможное зло. Постепенно через подобные зазоры идеальный замысел и трансформируется в его антиутопическую реальность.
Тексты этого сборника наглядно свидетельствуют о какой-то нарастающей психологической панике в рядах «ученых», некогда столь гордившихся своим «рациональным здравомыслием»:
В целом, можно сказать, что осуществление проекта глобализации, если он вполне удастся, станет угрозой краха метафизического мегапроекта человека. Современный контекст провоцирует шизофреническое состояние сознания.
Видимо, это состояние уже успешно «спровоцировано» — у самих исследователей. Проповедуемый ими разрыв между идеалом и реальностью с неизбежностью погружает их в шизофрению. Не обязательно в клиническом смысле, но в методологическом — который описан Делезом и Гваттари[60] — хотя грань между картинами грядущего «земного ада», которые изображают некоторые аналитики, и рисунками пациентов психиатрических клиник также порою стирается.
Этот «ад», по их мнению, неизбежно возникает вследствие попыток практического «построения рая на земле». Однако, наперекор нынешней «подавшейся в религию» науке, русская северная церковная традиция всегда считала иначе. Рай в ней представляется вполне реальным и как раз практически достижимым! Об этом достаточно свидетельствует переписка XIV века между новгородским архиепископом Василием и тверским епископом Федором. Если Федор, подобно этим ученым, отстаивал идею отвлеченного, лишь «мысленного» рая, то Василий утверждал, что рай — «сущий», то есть доступный эмпирическому опыту, ссылаясь при этом на новгородских путешественников, которые открыли его во время одного из своих странствий. Впрочем, и сам Новгород Великий для иных русских земель порою казался «раем» — потому завидовавшие ему постарались превратить его в «ад». (→ 3–1)
Если утопия предполагает практическое построение «рая на земле», то антиутопия — идеологическое подчинение «раю» недостижимому, лишь «мысленному». По существу, этим и отличалось мировоззрение американских пионеров от оседлых европейцев. (→ 1–1) Мангейм также это подчеркивал, отличая европейский тип мышления с его «тревожным вопросом о дальнейшей судьбе» от американского, озабоченного вопросом принципиально иным: «как решить эту задачу?»
Это американское мышление ярко проявилось в философии неопрагматизма. Один из лидеров этой школы Ричард Рорти даже самих философов видит иначе, чем они кажутся самим себе в Старом Свете, изображая их главную миссию так:
Подобно инженеру и юристу, философ полезен в решении определенных проблем, возникающих в определенных ситуациях — когда язык прошлого приходит в конфликт с потребностями будущего.
Философы же Старого Света обычно сосредотачиваются на критике «нынешнего положения вещей» с позиций как раз «языка прошлого», полагая при этом, будто их «критика» нужна кому-то сама по себе. Тем самым они лишь углубляют этот пугающий их «зазор» между трансцендентным идеалом и реальностью. Они, может быть, и желали бы воплощения этого идеала — но это желание сразу же блокируется у них опасениями его «антиутопического перерождения». В итоге вместо активного воплощения утопий они способны предложить лишь бесконечные скептические сомнения и сугубо реактивные проекты — «как противостоять антиутопиям?». Это с неизбежностью создает болезненно раздвоенное сознание — условно, на религиозном языке, его можно описать как подмену веры в Христа самодовлеющей «борьбой с Антихристом».
Излечить это раздвоение могло бы ясное осознание того факта, что любая антиутопия — это лишь принципиально недостроенная утопия, отказавшаяся от своего трансцендентного ориентира в угоду стабильности существующего порядка. Утопия же всегда стремится к волевому воплощению трансцендентного, к «конденсации» духа в формах земной материи. При этом сама эта материя с неизбежностью «растворяется», или, говоря технологическим языком, виртуализируется…
* * *
Ныне все утопии, даже религиозные, существуют в виде виртуального «пара». Какой же может быть в этих условиях их реальная «конденсация»?
Пермский мистик и медиа-художник Сергей Тетерин в своей книге «Электро-утопия. Мистики и художники в киберпространстве» формулирует концепцию третьей реальности, которая
конструируется на пересечении двух других, которые нам хорошо известны: реальной и виртуальной. Это мир, в котором одинаково достоверны события «традиционной реальности» и виртуального мира. Здесь меняется сам способ расшифровки жизненного кода: «человек-online» быстро научается оценивать и понимать события реального мира с учетом знаний, приобретенных в виртуальности. Приходится чувствовать и понимать значительно больше, чем раньше, «до подключения».
Дуализм виртуального и реального переносится, таким образом, на уровень личности, но приводит не к ее раздвоению, а напротив — к переходу в новое качество. Эта технология блестяще отражена в культовом[61] фильме «Матрица» — для того, чтобы победить бездушную цифровую систему, герой сам должен войти в нее, стать ее частью. Самое главное в «Матрице» — это способность человека обрести вид «компьютерной программы», не забыв при этом собственную миссию. И претворить затем эту виртуальность в новую реальность.
В последние годы развивается наука сеттлеретика (от «settler» — переселенец), исследующая возможности переноса любой информации — в том числе уникального генокода личности — на любые носители. По утверждению академика Виктора Глушкова, любая информация, в том числе и такого рода, вообще независима от материальных носителей. Ключевыми в этой науке являются термины upload и download, хорошо известные всем пользователям интернета. Однако эти же термины вполне применимы и к описанию религиозной реальности — соответственно, молитвы и откровения. Тот, кто воспринимает сакральное не как отвлеченный догмат, но как прямой опыт, уже при земной жизни находит свой небесный «сервер» и создает на нем собственный «сайт». А если бывают случаи «взлома» — значит, выбранный «сервер» оказался не самым надежным…
Даже клонирование (→ 2–8) оказывается «вчерашним днем» на фоне свободного перемещения личности между реальным и виртуальным мирами. Американские лаборатории ныне близятся к созданию компьютерных моделей, внешне нисколько не отличимых от человеческого существа. Если добавить к этому расшифровку — и последующую «оцифровку» — человеческого генома, то речь вполне можно вести о скором появлении некоей принципиального новой формы жизни. Это буквальное воплощение мечты Ницше о «сверхчеловеке». Антиутопическая сторона этого процесса отражена в знаменитой серии фильмов о «терминаторе» — но даже в этом сюжете человекообразный робот играет не только негативную роль. Это стирание граней между реальностью и виртуальностью затрагивает и сами критерии реальности — как чего-то чувственно ощутимого. Для бурно развивающихся компьютерных технологий уже сейчас не представляет проблемы «оцифровка» любого звука и изображения, а в перспективе — вкуса, обоняния и осязания. А лазерные технологии уже вплотную подошли к созданию голограмм, практически не отличимых от «оригиналов» и не зависящих даже от вибрации Земли.
* * *
Глобальный Север, где разрабатываются подобные технологии, сам все более виртуализируется. Однако это не значит, что он становится «менее реальным». Подобно космической туманности, он словно бы конденсирует в себе все то, что обещает воплотиться, и потому его утопическая «виртуальность» начинает выглядеть даже более реальной, чем обыденная «реальность» остального, стремительно самоуничтожающегося мира.
Самоуничтожение этого мира производится ныне официальными политическими представителями трех авраамических религий — христианства, иудаизма и ислама — которые словно бы намеренно задались целью воплотить самые мрачные прогнозы из книги Самюэля Хантингтона «Столкновение цивилизаций». Развязав и продолжая войну с представителями другой цивилизации, нынешние власти США, РФ, Израиля и исламского мира фактически превращают весь мир в «Глобальный Юг» с бесконечной (точнее до Конца Света) войной между традициями.
Но Север — это символ Начала Света. (→ 2–1) Здесь внутри каждой из этих традиций постепенно происходит «отделение зерен от плевел». Если южные христиане вновь воспроизводят агрессивный менталитет Римской империи, то северные отказываются участвовать в этой войне — «потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Если южные мусульмане столь же агрессивно демографически заполоняют Европу и Россию, то северные суфии продолжают интеллектуальную традицию раннего ислама. (→ 2–4) Если южные израильские милитаристы вновь строят великую резервацию «от Нила до Евфрата», то северные иудейские мистики, знающие, что глобализация отменяет все государства, задумались уже об иной «ограде» — не между традициями, но между творческим контактом духовных элит Севера и консервативной массовой инерцией Юга.
Главный фронт ныне пролегает внутри самих традиций — между теми, кто желает сохранить и укрепить существующий порядок, и теми, кто способен открыть Сверхновый Свет. Религиозные различия существуют и на Севере, и на Юге, но «северяне» от «южан» отличаются не религиозно, но антропологически и психологически.
Северянин носит свою традицию в себе. Он действует как «обособленный человек»[62] и свободно строит свой мир, руководствуясь лишь собственной интуицией. Он хотел бы быть один, но не может быть один. И потому в своих, зачастую весьма парадоксальных друзьях он больше всего ценит их собственную уникальность. Ему наплевать, что думают «все», — духовная суверенность позволяет ему связаться со своим Богом напрямую, минуя посредника в лице всевозможных жрецов и идеологов.
Напротив, люди Юга внушаемы, опутаны внешними условностями, инструкциями, правилами политкорректности — что является необходимым противоядием их взаимной ненависти друг к другу. Стресс перенаселенности постоянно приводит к массовым столкновениям, где порядок поддерживается только страхом полиции и законов. Как только этот страх ослабевает, начинается тотальный погром, Конец Света. Эта подавленная ненависть находит отражение в популярности фильмов-катастроф: этим людям нравится видеть, как их переполненный муравейник сметают с лица Земли. Эти люди способны сохранять человеческий облик только из-под палки, повинуясь насилию государства. Пользуясь этим, оно в лице своих чиновников, судей и адвокатов вторгается во все сферы их жизни, включая семью, личные отношения, даже мысли.
Иное дело — просторный Север. Здесь законы и полиция воспринимаются как помеха нормальной социальности, как своекорыстное вмешательство чуждой силы, — и потому люди здесь всегда стараются обходиться без них, решая все проблемы сообща и по внутренне присущей им справедливости.
* * *
Как отражается это северно-южное размежевание в контексте русской религиозной истории? Если согласиться с тезисом о Руси как «Третьем Риме» (→ 2–3), то узурпировавшая этот статус Москва сегодня стоит перед выбором — судьбу какого из предыдущих «Римов» она повторит в условиях массовой этнической экспансии с Юга?
Возникает все больше свидетельств того, что Третий Рим разделит судьбу Второго. Византийский двуглавый орел также пытался усидеть на двух стульях между Западом и Востоком. Эта евразийская политика кончилась историческим ремейком Константинополя в Стамбул. Судя по растущей популярности идеологии евразийства в нынешней России, Москву ожидает подобный же ремейк. (→ 3–4) Возможно, этот город также будет переименован в нечто более близкое слуху южных народов. Вроде библейского Мосоха (точнее, его арабской огласовки, подобно тому, как в Коране «переименованы» все библейские персонажи).
Но есть и вариант Первого Рима. Он был спасен парадоксальным образом — тем, что его успели взять «северные варвары», которые уничтожили его гиперцентрализм и создали многополярную европейскую цивилизацию. Именно они и их последователи спасли европейский облик самой Европы, остановив нашествие мавров и отбросив их обратно в Африку. Если бы не тогдашние северяне — сейчас Париж и Лондон назывались бы как-нибудь типа Парижабад и Аль-Лонд. Сейчас они вновь к этому близки — не выдержали новой волны южной экспансии. (→ 1–9)
Нынешняя Россия вполне преемствует римскую имперскую модель и поэтому вновь способна противопоставить южной экспансии лишь военно-полицейскую силу. Но адекватно противостоять «партии Аллаха» может лишь «партия Христа». (→ 2–1) Кстати, европейские «северные варвары» были христианами — но не подчинялись римскому папе. Аналогии, думается, прозрачны.
При этом противостояние «северных варваров» исламу не является самоцелью — но лишь защитой автономного пространства собственной утопии. В этом отношении «северяне» скорее выступают против московского «Рима», чем против исламского «Юга» — если последний представляет собой конкурирующую утопию, то первый антиутопичен в принципе. Если «первые римляне» были озабочены сохранением имперского порядка, то «северные варвары» несли с собой проект цивилизации будущего. То же самое отличие уже сегодня начинает проявляться и существенно разделять сторонников «российского», «московского» государства и пока еще в основном виртуальных китежан. Они воплощают собой Русь новой эпохи и в отличие от «третьих римлян» не сводят это слово к сугубо этническому значению, но наполняют его смыслом глобального северного цивилизационного проекта. (→ 3–1)
Это различие в менталитете все более прогрессирует — так, китежане либо вообще не участвуют в политических выборах этого «третьеримского» государства, либо голосуют «против всех». Такое отношение вполне напоминает воинов Алариха, которые однажды взяли Рим, не обращая никакого внимания на кипевшие в его Сенате «серьезные» дискуссии. Новые цивилизации начинаются именно так …
* * *
В альбоме «Сейчас позднее, чем ты думаешь» Константин Кинчев спел:
Испокон веков граничит с Богом Моя Светлая РусьВ этом прозрении есть что-то есенинское. Эти образы сакрального пространства интересно резонируют с идеями Гейдара Джемаля о «метафизическом эксклюзивизме» ислама. Ислам безусловно воспринимает себя как прямого проводника воли единого Бога. С этой точки зрения «Светлая Русь» действительно «граничит» с Его пространством, убежденным в своей уникальной и единственно верной сакральности. И Третий Рим ныне находится на пороге своего поглощения этой южной «партией Бога», морем «этнического мусульманства». Однако, как предсказано в одном из древнерусских апокрифов, «роса выпадет с Севера».
Часть 3. ЗЕМЛЯ БЕЛОВОДЬЕ
3.1. Отсутствие Руси
Русь исчезла с лица земли с первыми зарницами татаромосковского ига, с утратой Святой Софии в качестве центрального элемента ее космического социума. С той поры это пространство иногда по инерции так называли, но это была Московия. Святой Руси не может наследовать ни современная Россия, ни современная Украина. Она ушла… И мотив ухода, сказочного исчезновения, отразился в мистических легендах о граде Китеже и дальнем Беловодье…
Дима Лабрадоров. Новая ОдиссеяКрайне символичным, хотя мало кем замеченным атрибутом российской «реставрации» первых годов XXI века стало исчезновение слова «Русь» из нового текста советского гимна. Здесь поневоле признаешь правоту некоторых визионеров, утверждающих, что в СССР, парадоксальным образом, было больше Руси, чем в последовавшей затем «возрожденной России»…
Ибо в действительности Русь — это не какая-то ограниченная историческая реальность, а скорее трансисторический код. Он сочетает в себе языческую пространственную широту, христианскую высоту духовных поисков (отсюда образ «Святой Руси»), а также привнесенный революционной эпохой прорыв в будущее. Проявившись в истории последовательно, сегодня, в эпоху постмодерна, этот триединый код раскрывается во всем синтезе. Но до сих пор пока истолковывается реактивно — либо отрицается полностью, либо его элементы противопоставляются друг другу. Хотя осознать его можно не за счет формальной реставрации того или иного отдельного элемента, но путем актуального проявления самой его целостности.
Русь сегодня нуждается в истолковании как новая утопия, особый, сверхсовременный, глобальный цивилизационный проект. (→ 3–8)
* * *
Исторически Русь и начиналась как глобальная и мультикультурная утопия. Ее рождение носило безусловно трансцендентный характер, уходя в тайну варяжского происхождения. Как сообщает «Повесть временных лет», «от варяг бо прозвашася русью». Варяги — это русский архетип гиперборейцев. (→ 2–1) По данным многих исследователей, первой русской столицей был город Старая Ладога (в шведской транскрипции Альдейгьюборг, в тевтонской — Альтбург). Причина такого многоязычия в том, что в те времена (первые века от Р.Х.) слово «Русь» еще не имело какого-то четкого этнического значения. Слово «варяг» с большой долей вероятности происходит от санскритского (→ 3–5) корня svar — «небо», «солнечный свет». Скорее всего, также и русское слово «север» происходит от svar.
Географически варяги обычно соотносятся со Скандинавией. Любопытный парадокс состоит в том, что эту загадку русского генезиса глубже всего понимают те, кого приземленное «патриотическое» сознание именует «русофобами». Как, к примеру, известная правозащитница Валерия Новодворская:
Скандинавская традиция, традиция свободы, традиция упорства, традиция человеческого достоинства уходит вглубь, как Китеж под воду, надолго. Потом уже начинают бить ручьи, появятся капли, появятся струйки. Она никогда не иссякнет, но она будет уходить в песок. Она перестает быть равноправной по отношению к другим традициям. Она становится подпольной традицией. Лучшая национальная традиция становится традицией подполья. Ее загоняют в подвал, потому что обнаружить ее в себе означает немедленную гибель.
На самом деле «русофобами» следовало бы именовать тех, кто принимает за Русь нынешний статус-кво, тогда как она изначально является именно утопическим проектом. Российский же «патриотизм», с такими его важнейшими атрибутами, как тотальная централизация, изоляционизм, самодовлеющая «сильная власть» и т. п., являет собой скорее все признаки антиутопии. Кстати, у этих «патриотов» совершенно неслучайна неприязнь ко «всяким утопиям».
Несколько веков слово «Русь» обозначало просто вольную дружину северных воинов. Произошедшая позже «славянизация» Руси напоминает ту трансформацию, которую христианство проделало с язычеством, когда многие имена и праздники были не стерты, но переосмыслены, введены в новый контекст. Аналогично трансформировались и сами варяги, породнившись со славянами. Радзивиловская летопись подчеркивает: «от тех варягов прозвася Новгород». Здесь интересна смысловая последовательность — Новгород, «новый город» — после Альтбурга (Старой Ладоги, Альдейгьюборга), «старого города». Примерно как с Ветхим и Новым Заветами. (→ 2–3) Это весьма таинственная история, здесь множество спорных, хотя и очень символически значимых концепций… Как бы то ни было, именно Новгородская республика становится первым Русским государством. Благодаря ей и складывается знаменитый «путь из варяг в греки» — из Балтийского (Варяжского) моря до Черного — вектор развития русско-славянской цивилизации. Только после того, как новгородским князем Олегом был взят Киев, название «Русь» распространилось на Поднепровье и южных славян.
Однако есть и альтернативная, «более славянская» точка зрения, зафиксированная в самих Новгородских летописях: «Пришедше словене з Дуная и седоша около озера Ладоги и Илмера (Ильменя) и назвашеся своим именем. И сделаша град и нарекоша Новгород». Большинство новгородского населения действительно именовало себя «словенами», а арабские географы той эпохи именовали Новгородские земли «Ас-Славия». (→ 3–4) Мы не намерены выносить здесь каких-то «окончательных суждений», отметим лишь тот бесспорный на наш взгляд факт, что генезис русской цивилизации связан именно с варяжско-славянским синтезом. Это был сетевой синтез варяжского Севера и славянского Юга — без некоего всеподчиняющего пирамидального «Центра». (→ 1–6)
* * *
Употребив по отношению к Новгородской республике термин «государство», следует уточнить, что он имел принципиально иное значение, чем то, что стало пониматься под государством позднее, и скорее соответствовал глокальному (→ 1–8) мировоззрению эпохи постмодерна.
Это обстоятельство подчеркнул Николай Костомаров, описывая визит в тогда еще вольный Новгород послов от московского князя:
Ставши на вече, послы сказали: «Великий князь велел спросить Новгород: какого государства он хочет?» Вече заволновалось: «Мы не хотим никакого государства! Господин Великий Новгород сам себе государь!»
Князь в Новгороде обладал совершенно иным статусом, нежели в Москве. Прежде всего, пост новгородского князя был выборным. Во-вторых, он имел весьма ограниченную власть. Каждый князь после избрания должен был дать особую клятву и подписать договор, в котором он обязывался сохранять новгородские институты и ограничивать свои действия строго определенной сферой полномочий, в основном оборонных. Если же князь пытается их превысить, новгородцы имели право объявить ему «импичмент», или, как они выражались по-русски, «указать ему путь». Этот «путь», кстати, трижды указывали и Александру Невскому — за его постоянное стремление к вассальному союзу с Ордой.
Новгород, в отличие от Киева, не говоря уже о Москве, обладал развитой гражданской демократией. И этим, в сущности, повторял устройство эллинских полисов и скандинавских тингов. Суверенная Новгородская республика являлась не каким то «отклонением» от магистрального развития Русского государства, как это пытаются представить московские евразийцы, но хранителем наиболее чистых русских — и шире — североевропейских и античных традиций. Историк Роман Багдасаров сообщает, что новгородцы, утверждавшие реальное существование земного рая, отличались неудержимой волей к географическим открытиям:
Новгородские мореходы были не менее активны, чем прочие европейцы. Подобно ирландцам (с коими их объединяла общая эмблема — кельтский крест), они осуществляли активную миссионерскую деятельность как на побережье северных морей, так и в глуби материка. В XIV веке новгородские купцы достигали на своих юмах берегов Дании и Фландрии, Англии и Франции. С помощью волжского пути Новгород был связан с мусульманским Востоком и Закавказьем, а через водную магистраль «из варяг в греки» — с Византией. Поистине немереные просторы открывались перед новгородцами на Северо-Востоке, в Заволочье или Двинской земле. Для обозначения этих территорий они использовали символ Китовраса, царя потустороннего пространства.
Интересно, что вплоть до начала XVI (!) века на европейских картах столицей Руси обозначалась не Москва, а Новгород. Альмаро Кампензе, представлявший итальянское посольство на Руси, называл Новгород «знаменитейшим из всех северных городов, даже более обширным, чем Рим». Однако новгородцы не были, как это сформулировал Николай Костомаров, «особой северной народностью». Это и была собственно русская народность. Скорее уж уместно называть москвичей некоей «особой центральной народностью», отрекшейся и от варяжских, и от славянских корней.
Хотя и сама Москва изначально была освободительным «прорывом на Север» из оккупированной татарами Киевской Руси, впоследствии она стала главным союзником ордынцев и сама преемствовала ордынский централизм и унитаризм. В отличие от древнерусских «городов-государств», в ней никогда не было веча и гражданского самосознания. Это четко подметил средневековый немецкий путешественник Сигизмунд Герберштейн в своих заметках о Московии: «Все они называют себя холопами (Chlopi), то есть рабами государя… Этот народ находит больше удовольствия в рабстве, чем в свободе».
Однако подобные ордынские порядки и нравы, привившиеся в Москве и определившие во многом облик средневекового москвитянина, совершенно не приживались в других, вольных русских городах. Тогда Москва, опираясь на ордынскую мощь, фактически объявила войну всей Руси. Лидером альтернативной, свободной русской цивилизации оставался Великий Новгород — неудивительно, что основной удар был направлен именно на него. Даже через сто лет после снятия вечевого колокола Иваном III, москвичи все еще не могли успокоиться и совершили новый набег, перед которым меркнут даже ужасы войн ХХ века. Иван Грозный со своим полутатарским войском окружил Новгород и шесть недель методично грабил и убивал всех подряд. Костомаров так описывает картины этого садизма (хотя де Саду такое и не снилось):
пытали, мучили, жгли и убивали, жен и детей бросали с моста в Волхов. Приближенные царя ездили в лодках и копьями или рогатинами подхватывали выплывавших людей и снова бросали их в воду. Обагрились волны Волхова кровью мучеников, и протекшие с тех пор столетия не очистили их. Народное предание до сих пор считает красноватый оттенок воды в Волхове у Новгорода следствием лютых казней Ивана Грозного.
Это был настоящий акт геноцида, направленный против своих же соплеменников и единоверцев. Тогда погибло не менее 60 тысяч человек, многие новгородцы были насильственно переселены в Московию и лишены всяких гражданских прав, а их дома заняли холопы московского царя. Москва, таким образом, на века закрепила за собой статус «мирового жандарма» над Русью, жестоко преследуя повсюду любое проявление традиционной русской вольности — и даже не столько из карательных соображений, как это делали татары, а просто из соображений устрашения.
Никакого покаяния за это преступление московская власть позже не принесла. Хотя, как было установлено в Нюрнберге, преступления против человечности срока давности не имеют. Более того, этого «грозного» выродка в современной Москве некоторые «православные» хотят причислить к лику святых. А советская и ныне российская историография по-прежнему изображает этот погром «прогрессивным», называет его «объединением русских земель» и т. п.
Петербургский историк Руслан Скрынников в книге «Трагедия Новгорода» утверждает:
Экспроприация всех новгородских землевладений доказывала, что речь идет не об объединении с Москвой, а о жестоком завоевании, сопровождавшемся разрушением всего традиционного строя общества. Насилие над Новгородом заложило фундамент будущей империи России, стало поворотным пунктом в развитии ее политической культуры. Демократические тенденции потерпели крушение, уступив место самодержавным.
Вместо сетевой, многополярной структуры княжеств Москва установила на Руси небывалое прежде жесткое деление на «центр» и «провинцию». Это было торжество порядков модерна. (→ 1–3) Ранее на Руси вообще не было такого римско-имперского понятия, как «провинция». Каждый город — Новгород, Киев, Тверь, Рязань и т. д. — был культурно уникальным и политически самостоятельным. Но на их «провинциализации» московская политика не остановилась — логика позднего модерна превратила их вообще в колонии. Если метрополии западных империй жили за счет заморских, чужеземных, инородных колоний, то Москва и здесь пошла «самобытным» путем, превратив в свои (и татарские) колонии все славянские города и земли.
Поэт и публицист Алексей Широпаев описывает множество примеров этого чудовищного национального предательства в книге «Тюрьма народа: Русский взгляд на Россию»:
В 1327 году в Твери вспыхнуло яростное антитатарское восстание, вызванное наглым поведением азиатов. Почти все татары были перебиты, в Орду прибежали лишь единицы. Но, похоже, их опередил «тихий» и «смиренный» Иван Калита, поспешивший доложить хану о тверском восстании. На Русь двинулась карательная экспедиция, к которой присоединилось московское войско. Огнем и мечом прошла татаро-московская армада по тверской земле, предваряя известный поход Ивана Грозного.
У «праворадикального» Широпаева с «радикальными либералами» точки зрения во многом глубоко противоположны, даже полярны, но показательно, что в данном вопросе они абсолютно совпадают. А истина, как известно, проявляется именно в совпадении противоположностей. Вот как оценивает эту историческую ситуацию Валерия Новодворская:
Москва — столица Владимирско-Суздальской Руси, сообщницы Орды, наложницы ханов, трусливой и подлой, жестокой и корыстной, поправшей все княжества, поработившей всю Русь, засекшей, запоровшей татарской плетью и Тверь, и Новгород. Москва была местом скверны и окаянства, отрицания былого братства русичей и их варяжских князей, местом казней и разврата, где, как хищные волки, безумствовали Юрий Данилович «Долгорукий», Иван III, Иван Грозный…
В Рязани издают книгу «О разорении Рязани Батыем». Самиздат. Первый Самиздат появляется в XIV веке в Рязани. Ее переписывают много раз. Читают, как-то утешаются. Про этот Самиздат узнает московский князь. Немедленно Юрий Данилович и Иван Данилович посылают донос в Орду. Вот смотрите, как оскорбляют замечательных ордынцев, что о них пишут! Пишут, что они оккупанты, что они церкви ободрали и жителей в рабство угнали. Естественно, в Орде все в ярости. Спрашивают у московских князей: «А что же нам теперь делать?» И московский князь учит их, что им делать. И во второй раз уже Москва берет Рязань. Берет русскую Рязань, которая почти сопротивляться не может! И рязанский князь будет отвезен в наручниках и кандалах в Орду и будет казнен из-за московских князей. То есть они занимаются конфискацией Самиздата, совсем как кагэбэшники.
Ярославский политолог Андрей Новиков делает логичный вывод:
Совершенно точно можно сказать, что не будь Орды, вряд ли Москва вообще появилась бы как столица. Орда сделала Москву. Княжеская власть стала производной от ордынского вассалитета. Великокняжеский стол был соединен с ордынским ярлыком, шапка Мономаха стала похожей на татарскую тюбетейку. Князь стал ханом.
Однако с позиций наследников Орды эта возникшая на месте Руси антиутопия выглядит, напротив, совершенно позитивно. Казахский историк Александр Кадырбаев в работе «Золотая Орда как предтеча Российской Империи» с восторгом описывает это организованное вокруг Москвы
Русское государство, где по ордынским образцам функционировала военная организация, фискальная система, посольский обычай, протокольная традиция государственных канцелярий, ценилось ханское звание и принадлежность к роду Чингизидов. Русская знать легко находила соответствия своей титулатуре в золотоордынской системе и устойчиво вписывалась в ордынские порядки. Знатность тюркских мигрантов позволяла им претендовать на высокие посты в структуре Русского государства, считаться честию бояр выше. При Иване III татары имели свой двор в Московском Кремле. Когда же к Москве приближались татарские послы, то Иван III выходил за город и выслушивал их стоя, тогда как они сидели. Полки служилых татар сыграли решающую роль в победе Ивана III над Новгородом, последним соперником Москвы в борьбе за главенство над Русью.
Картина действительно точная и впечатляющая — хотя вряд ли этот татаро-московский гибрид можно было назвать уже «Русским» государством… Из московских евразийцев на такую откровенность решаются все же немногие, но Кадырбаев охотно ссылается на своих славянских коллаборационистов:
По мнению российских историков, сторонников теории евразийства (П.Н. Савицкого, Г.В. Вернадского, Л.Н. Гумилева), русские были спасены от физического истребления и культурной ассимиляции Западом лишь благодаря включению в Монгольский улус. По мнению Савицкого, ордынцы — нейтральная культурная среда, принимавшая всяческих богов в отличие от католической Европы. Именно золотоордынская система сделалась прообразом российской имперской государственности. Это проявилось в установлении авторитарной традиции правления, в жестко централизованной общественной системе, дисциплины в военном деле и веротерпимости.
Ничуть не подвергая сомнению любовь евразийцев к авторитаризму и централизму, уместно все же задаться вопросом: каким же образом спасли ордынцы Новгород, Тверь и Рязань от «физического истребления и культурной ассимиляции Западом»? Вероятно, тем, что физически истребили их сами? Что же до «веротерпимости», то дотла разоренный ордынцами в XIII веке Киев,[63] попав затем в состав Великого княжества Литовского, именно в это время восстановил большинство разрушенных православных храмов, поскольку население самой Литвы на треть было православным и уважало Магдебургское право вольных городов…
Однако раннее евразийство было все же не сплошным «ордынофильством». Хотя все альтернативные идеи нынешними «нео-евразийцами» старательно замалчиваются. Так, тот же Георгий Вернадский, на которого ссылается Кадырбаев, утверждал нечто совершенно «диссидентское» для слуха своих коллег (и потому, видимо, вскоре покинул это движение):
В противовес республиканской идее свободной русской федерации (поддержанной новгородцами), Москва выдвинула монархическую идею централизованного русского государства.
К началу XVI века с политической карты Руси исчезли последние самостоятельные княжества — островки исконной варяжско-славянской вольности. Именно с этого времени в официальных документах встречается новая форма наименования Русского государства — «Россия». Унитарная ордынская антиутопия победила…
Слово «Россия» могло бы стать вполне адекватным названием для континентальной федерации множества русских княжеств, которая по культурному разнообразию ничуть не уступала бы Европе. Именно этот, естественный и органичный путь до последнего отстаивался Новгородом, но был прерван совместным татаро-московским превращением Руси в централизованный «Улус Джучиев». Произошла, по определению Освальда Шпенглера, историческая псевдоморфоза:
Историческими псевдоморфозами я называю случаи, когда чуждая древняя культура довлеет над краем с такой силой, что культура юная, для которой край этот — ее родной, не в состоянии задышать полной грудью и не только что не доходит до складывания чистых, собственных форм, но не достигает даже полного развития своего самосознания. Все, что поднимается из глубин этой ранней душевности, изливается в пустотную форму чуждой жизни; отдавшись старческим трудам, юные чувства костенеют, так что где им распрямиться во весь рост собственной созидательной мощи? Колоссальных размеров достигает лишь ненависть к явившейся издалека силе…
Алексей Широпаев в уже упомянутой книге развенчивает укоренившуюся с тех пор «старческую» пропаганду:
Православно-монархические и советско-державные историки пытаются представить Новгородскую республику как шаткое, склочное и эгоистичное образование, короче, как сплошной бардак. Однако этот «бардак», породивший жемчужины русской и вообще европейской культуры, просуществовал как минимум шесть веков. Для сравнения укажем, что вся история московского самодержавия, если считать от Ивана III до Петра Великого, составляет чуть более двух столетий, полных и смут, и мятежей. Даже если добавить к ним два петербургских столетия (хотя это совершенно особый период), получается, в общем, четыре века. По мнению современных исследователей, новгородское вече представляло собой не горланящую толпу, а сословно-представительный орган, состоящий из лучших людей количеством 400–500 человек. Важно отметить, что на вече сидели, а не стояли, размахивая руками и подпрыгивая, как это изображено на некоторых «исторических» картинках. Новгород был республикой, но аристократической республикой.
Собственно русское (т. е. европейское) государство погибло вместе с новгородской свободой. После падения Новгорода начинается эра безраздельного господства Московии-России-Совдепии, имеющей не русскую, но евразийскую природу. Так называемое Государство Российское («московское», «советское»), существующее поныне, есть (в большей или меньшей степени) Система отчуждения и геноцида русских, белых людей.
Практически аналогичная ситуация сложилась и с порабощением Москвой Южной и Западной Руси. Красноярский историк Андрей Буровский в книге «Русская Атлантида» обратил внимание на странный и любопытный факт, «по умолчанию» принятый в московской (советской, российской) историографии, касающийся
«матери городов русских», стольного града Киева. Во всех учебниках, во всех исторических трактатах упоминалось, что в декабре 1240 года его штурмом брали монголо-татары. Но вот наступает 1362 год, и Киев входит в состав Великого княжества Литовского. И все. Три века из жизни Киева выпадают… Территория нескольких русских княжеств, самое ядро формирования Древней Руси, исчезает со страниц учебников на несколько веков! Исчезает, а потом вдруг всплывает под новым названием — Украина, и только в связи с «борьбой украинского и белорусского народов за присоединение к России»…
Именно с этого момента в среде «российских патриотов» начинается громкая «борьба с украинским сепаратизмом» — хотя изначально именно Москва «отделилась» от Киева, а не наоборот. Поэтому с «обратным» присоединением Киевской Руси («Украины») к Московии («России») вышли большие проблемы. Подписывая Переяславскую Раду в 1654 году, гетман Богдан Хмельницкий оговаривал в ней право местного самоуправления городов и сословий, выборность гетмана, самостоятельную внешнюю политику, словом, стремился возродить нормы, свойственные для вольных княжеств Руси. Однако Московскому княжеству, уже назвавшему себя «царством», это казалось вопиющим «самоуправством», и все эти «вольности» были вскоре отменены, а на Украину введены московские войска, приступившие там к своим традиционным «зачисткам». Сам Хмельницкий затем горько пожалел о заключенном союзе и в конце жизни вел переговоры со Швецией, которые затем продолжил его преемник, оклеветанный московской пропагандой гетман Иван Мазепа.
Петр I по менталитету был «европейским империалистом», никогда не понимавшим специфики славянского Юга. Романовская династия была вообще неадекватна традиционному многообразию российского континента. Вскоре Екатерина II провела закрепощение украинских крестьян, где до этого крепостного права не знали точно так же, как и на русском Севере. И — нанесла предательский удар в спину Запорожской Сечи, разгромив эту казачью вольницу, всегда охранявшую Русь от польских и турецких набегов. (→ 3–6) Это было своего рода зеркальное отражение давней агрессии на Новгород, повторение того же самого архетипа — унитарный жандармский «Центр» против свободного русского Севера и Юга…
На разгром и порабощение Новгорода и Киева великий мистический поэт Микола Клюев откликнулся пронзительным реквиемом по Руси изначальной:
Нам вести душу обожгли, Что больше нет родной земли, Что зыбь Арала в мертвой тине, Замолк Грицько на Украине, И Север — лебедь ледяной — Истек бездомною волной, Оповещая корабли, Что больше нет родной земли… И песню позабыл народ, Как молодость, как цвет калины. Под скрип иудиной осины Сидит на гноище Москва…* * *
Говоря о «Государстве Российском», возникшем с помощью Орды на костях исторической Руси, Алексей Широпаев назвал его «Системой отчуждения и геноцида русских, белых людей». Соглашаясь в целом с такой формулировкой, заметим однако, что было бы слишком плоско сводить ее к сугубо этническому или расовому значению. Более глубокую трактовку этой «цветовой гаммы» дает историк Геннадий Лисичкин:
Россия, можно сказать, распалась на два духовно противоположных государства. Как в Америке был рабовладельческий Юг и свободный Север, так и у нас рабовладельческому московскому Центру противостояли некрепостнический российский Север, свободная Сибирь, окраинное казачество, которые продолжали по мере возможностей традиции великих свободных русских городов: Киева, Новгорода, Пскова, Твери… И вот часть россиян стала «черными», то есть рабами и рабовладельцами, а другая — осталась «белыми», то есть свободными от крепостнических, рабских отношений.
Даже в сфере литературного творчества Москва с тех пор не породила ни одного утопического проекта. Точнее, даже если их и называли «утопиями», то выглядели они все равно мрачно-антиутопически. Как, к примеру, называемое иногда «первым русским утопическим произведением» сочинение князя Михаила Щербатова «Путешествие в землю Офирскую г-на С… швецкаго дворянина» (1773–1774). В этом романе критикуются как раз те черты Петровской эпохи, которые можно было бы назвать «утопическими» — уход на Север и основание новой столицы. А воспеваются, напротив, статичные патриархальные нравы, повсеместные военные поселения и диктаторская «вертикаль власти» — словом, некий тоталитарный синтез допетровской эпохи и петровских реформ.
Ранний большевизм, как и петровскую волю к Северу, также вполне можно было бы назвать утопическим проектом. Тогда во множестве выходили литературные произведения, в которых идея «мировой революции» трансцендентно распахивалась даже за пределы Земли (самый известный роман — «Красная Звезда» Александра Богданова (1908)). Однако вскоре после прихода большевиков к власти романтическая «мировая революция» стремительно сворачивается до «борьбы с врагами и шпионами в отдельно взятой стране». (→ 1–2) Иными словами, торжествует все тот же, ордынско-имперский принцип. Мрачная ирония истории состоит в том, что европейский интеллектуал Ленин, много путешествовавший по миру и презиравший «бесконечные формы татарщины в русской жизни», сам в итоге построил самую крепкую разновидность Орды…
По-видимому, есть некая историческая закономерность в том, что победитель преемствует идеологию побежденного. Так, сбросив навязанную всем тяжкую «крышу» монголо-татарского ига, многие русские князья предпочли остаться «скованными одной цепью», чем, по сути, и воспроизвели Орду. Только стали ездить за ярлыком на княжение не в Сарай, а в Москву, пока вместо них просто не стали назначать оттуда наместников. Именно с тех пор российские чиновники так похожи на баев и ханов. В XIX веке многие русские офицеры, прогнав Наполеона в Париж, вернулись оттуда «братьями» — не только по оружию. Так появился «декабризм»… А век спустя, разгромив Гитлера, сами вскоре принялись за «лиц космополитической национальности»… И большинство нынешних «победителей» чеченской войны неслучайно возвращаются оттуда далеко не мирными гражданами…
Эта закономерность будет с неизбежностью воспроизводиться, пока доминирует дуально-идеологическое сознание эпохи модерна. (→ 1–3). Разорвать этот порочный круг способно лишь мышление категориями сетевой цивилизации постмодерна. Уникальным и, вероятно, провиденциальным образом именно в этом мышлении воссоздается исконная, многополярная и мультикультурная структура Руси. Русь сегодня может «прорасти» именно как постмодернистский утопический проект. Причем этот проект «равноудален» от обоих нынешних идеологических антиподов — левого «патриотизма» и правого «либерализма».
Русь не имеет ничего общего с модным ныне лозунгом «сильного государства». Его сторонники никак не могут взять в толк, что в транснациональную эпоху «сильное государство» уже никому не нужно (разве что носителям устаревших изоляционистских идеологий). Государства вообще сохраняются лишь постольку, поскольку они играют роль социального противовеса транснациональному капиталу. То есть их единственная миссия — защищать интересы всех своих граждан, а не какая-то самодовлеющая «сила». Если эта защита оказывается неэффективной — граждане утрачивают доверие к такому государству. (Неслучайно любимое слово нынешнего российского президента, почти мантра — «эффективность».) Однако нынешняя Россия как государство неэффективна по определению. Именно из-за заложенного в ее основание ордынско-имперского централизма, который превратил Москву в ненасытного вампира на сырьевой «трубе», которого никакие другие «регионы» не интересуют.
Многим же носителям постмодернистского сознания мешает опознать проект «Русь» своим опасение некоей «архаичности» и «локальности» — хотя это слово, в силу своей трансисторической природы, означает не какую-то «реставрацию», но напротив — опережающую и глобальную деконструкцию нынешнего государства. Сталкиваясь с таким непониманием, вспоминается точное замечание американского философа-прагматиста Ричарда Рорти: «Постмодернисты правы с философской точки зрения, хоть и политически глупы, а ортодоксы и философски неправы, и политически опасны».
Деконструкция нынешней России означает избавление ее от многовекового искусственного централизма и воскрешение сетевой природы исконной, Новгородско-Киевской Руси. Речь идет именно о воскрешении самой этой природы, а не о каком-то формальном «возрождении». Эта природа может вернуться именно как Китеж (→ 2–3) — в новых формах того же вольного духа.
Методом этой деконструкции станет трансформация популярного ныне антиамериканизма «вовнутрь», поскольку Москва в современной России играет ту же самую «однополярную» роль, что и США на мировой арене. Фактически нынешняя РФ уже превратилась в составную, филиальную часть «Империи» Негри и Хардта (→ 1–7), и потому те, кто не принимает эту антиутопию, могли бы гораздо более эффективно бороться с ней не глобальными абстракциями, но выдвижением реальной позитивной альтернативы, к тому же глубоко укорененной в русской истории.
Одна из ключевых проблем современной России состоит в том, что после распада СССР здесь не состоялось никакой национальной самоидентификации. В целом население РФ осталось лишь самой крупной частью погибшей общности — «советского народа». А в такой ситуации никакое национальное развитие невозможно, ибо отсутствует сам субъект этого развития.
Андрей Новиков поставил нынешнему российскому статус-кво весьма экспрессивный, но абсолютно точный «диагноз»:
Исторически Россия являет собой сегодня печальное зрелище «остаточной советской империи». Героическую, пассионарную фазу она прошла. Геополитический кризис конца XX века снес ей башку, обнажив артерии и нервы, превратив в какую-то монструозную зомби-цивилизацию, не способную быть чем-то иным, «по ту сторону своей истории», и лишь бесконечно воспроизводящую себя в постимперских войнах. Эта цивилизация-упырь нуждается в «малой крови» для того, чтобы помнить себя, помнить о своем «великом прошлом». В ней нет более страсти и духа для завоевания и сожжения мира, но в малых своих войнах (вроде чеченской) она ещё может выражать себя, пьянеть от их кровяного дурмана, погружать себя в состояние «империалистического оргазма».
В нынешней России практически забыты такие слова, как «историческое творчество». Это связано с общим кризисом всей московской государственности. Ей, как и древнему Риму, действительно исторически развиваться НЕКУДА. Она может только всеми силами удерживать статус-кво (или безнадежно мечтать о возвращении прошлых — Российской империи или СССР). Однако в истории побеждает именно проектное мышление, ориентированное на создание новой цивилизации.
Патрик Бьюкенен указывает на кардинальное отличие РФ от СССР:
Советский Союз, с его населением в 290 миллионов человек, вполне мог управлять мировой империей. Сегодняшняя стареющая Россия хорошо если сумеет сохранить то, что имеет.
Не сумеет. Именно по причине отсутствия своего утопического, трансцендентного проекта.
Одним из главных событий последних лет в России стало появление семи федеральных округов, в которых уже сегодня заметны растущие субэтнические различия. С нашей точки зрения, наибольший интерес вызывают процессы, происходящие на Севере (→ 3–4) и в Сибири (→ 3–3), где сохранились или воссоздаются вольные традиции домосковской Руси. По существу, русские утопии эпохи постмодерна рождаются именно там и прорастают даже сквозь надзирательскую функцию «полпредств». «Россияне» же, ассоциирующие себя с нынешним государством, обречены на вечную битву с призраками прошлого. Война «олигархов» и «силовиков» вызывает в памяти лишь библейскую фразу: «мертвые хоронят своих мертвецов».
* * *
Мышление плоскими модернистскими схемами порождает лишь банальную идею «догоняющего развития», вместо раскрытия уникального потенциала собственной цивилизации. Кроме того, популярный ныне во властных и околовластных кругах проект догнать по темпам роста Португалию просто оскорбителен для России. Не большего стоит и идея-фикс «удвоения ВВП» — это сугубо «бухгалтерское», количественное средство превратилось в некую самоцель. Однако сколько ни умножать 0 на 2, в результате все равно получится 0. Ибо никакого качественного, содержательного исторического проекта у этого государства просто нет.
Миссию нынешней российской столицы точно указал геополитик Вадим Цымбурский:
Москва периода «реформ» стала символом самоопределения русских как маргинального народа Восточной Европы. Обретающаяся вблизи западного приграничья, столица играет роль пародийно вывернутую по сравнению с ролью императорского Петербурга: вместо напора на Евро-Атлантику — паразитарное за нее цепляние.
Москве с ее старыми деспотическо-холопскими комплексами принципиально не нужны русские люди иного, вольного типа — «новгородцы», «поморы», «казаки»… Однако для реализации нового утопического проекта именно этот антропологический тип явится определяющим. В условиях тенденции к некоему «новому крепостничеству», изрядно проявленной в разрастании всевозможных контролирующих бюрократических структур, по-новому же начинают выглядеть и альтернативные народные проекты. Вот как их описывает группа сибирских историков в работе «Томское Лукоморье»:
После введения в Московии Крепостного Права, у народа резко возросла востребованность идеала Правды как духовной основы борьбы с рабством и социальной несправедливостью. И поскольку Китеж и Беловодье воспринимались людьми как совершенная реальность, существующая где-то в потайных местах, крестьяне поодиночке, семьями и партиями по несколько сотен человек отправлялись в Сибирь, чтобы укрыться в Китеже и Беловодье от несправедливости воевод и помещиков. Никакие трудности, лишения, испытания и опасности не могли преградить путь мечте о стране свободы социальной и духовной.
Особенно сильно стремление в Китеж и Беловодье проявилось в среде людей старой веры, потому что борьба с несправедливостью новых крепостнических порядков не могла не трансформироваться в религиозную форму. Возможно, если бы не вводилось Крепостное Право, то и раскола бы не было. И поэтому наиболее четкие и последовательные указания пути в Беловодье и Китеж можно найти именно у староверов.
Самым значительным произведением того времени о Беловодье считается «Путешественник» Марка Топозерского — принадлежащий загадочному странническому автору из севернокарельского Топозера, но расходившийся в многочисленных списках по всей России. Образ Беловодья изображается там как прежде всего духовное убежище:
А тамо не может быть антихрист и не будет. От гонения римских еретиков и Никона патриярха московского много народу отправлялось кораблями Ледовитым морем и сухопутным путем. Бог наполняет сие место… Светского суда не имеют, управляют народы и всех людей духовныя власти… Неизлишним щитаем и то упомянуть, что землю эту Беловодие только те могут достигнуть, которые всеревностное и огнепальное желание положат вспять не возвратитеся.
Однако Беловодье — это вполне реальная земля, точнее множество островов в океане, вызывающее странную ассоциацию с открытием и освоением русскими Аляски и прилегающего к ней архипелага. (→ 3–2) Как подчеркивает видный исследователь русских утопических традиций Кирилл Чистов,
Беловодье — не монастырь, не скит, а вольная и плодородная земля; в нем скрываются от «начальства», а не от мира, бегут не от людей вообще, а к другим людям, которые живут там так, как хотелось бы создателям легенды… Если и Мор, и Кампанелла писали о том, какое государство они хотели бы видеть, то в «Путешественнике» утверждается, что Беловодье — не государство, а некоторая совокупность общин, артелей и отдельных людей, ушедших из России и расселившихся на вольной земле, чтобы не попасть под власть антихриста и его слуг.
Именно эта «совокупность общин, артелей и отдельных людей», связанных земскими отношениями, традиционно на Руси именовалась «миром» и со становлением централизованного бюрократического государства все более уходила к нему в оппозицию. Что весьма показательно, некоторые радикальные страннические согласия, отказываясь принимать официальные документы, еще в XVIII веке выпускали свои собственные «паспорта граждан Беловодья»! А это уже напрямую отсылает к современной атрибутике виртуальных государств. (→ 1–5)
Условием массового ухода в «иную реальность» в истории обычно является не столько трагический ужас действительности, сколько именно периоды серой и застойной предрешенности. Первые староверы, напомним, были весьма молодыми людьми, активно создававшими собственный мир, воплощавшими свою утопию. (→ 2–6) Сегодня им скорее соответствуют ролевые движения, которые нынешнее государство также не интересует принципиально.
* * *
Новая реальность вполне может начинаться как игра, в которой постепенно кристаллизуется «виртуальный проект» нового народа. Многие ролевики на последней переписи населения РФ, нервируя чиновников, обозначали свою национальность как «эльфы», «хоббиты», «гномы»… Их восприятие нынешней российской столицы все более напоминает отношение к Мордору. Питерский ролевик Дарт Вальтамский анализирует толкинистское сообщество в этнологических терминах:
Толкинистско-ролевое сообщество уже сейчас обладает всеми структурными особенностями, характерными для этнической сущности — общим стереотипом поведения, ощущением своей «особости», отличия от других людских коллективов и выраженной внутренней комплиментарностью. Как уже было сказано, данное сообщество выработало свой специфический язык, свою систему социального кодирования. Наличие этих особенностей дает основания рассматривать изучаемое сообщество как консорцию. Если допустить, что в этносоциальных группах наиболее низкого структурного уровня в современных условиях процессы развития интенсифицируются, то пятнадцатилетняя история развития толкинистско-ролевого сообщества представляется ускоренной рекапитуляцией процесса этногенеза. Интенсивно идущие процессы создания «толкинистских» семей, появление «толкинистов во втором поколении», с самого рождения воспитывающихся в системе образов и стереотипов данного сообщества, и, как следствие, расширение притока новых членов за счет естественного прироста может рассматриваться как признак перерождения существующей толкинистской консорции в конвиксию, то есть этническую общность более высокого уровня, существование которой может продлиться до 150 лет.
Относясь к этому «протоэтносу», рожденному бурной фантазией английского профессора, со всей комплиментарностью, отметим все же некоторую опасность его превращения в очередную шпенглеровскую «псевдоморфозу». Ибо если говорить о воскрешении Руси в новых исторических условиях, то этому процессу будет куда более соответствовать именно русская глубинная мифология Китежа и Беловодья, осмысленная современно и творчески. Более того, именно такое ее прочтение и воплощение сможет преодолеть «патриотическое» застывание нынешнего государства.
Вопреки расхожему ныне шовинистическому истолкованию патриотизма, китежане знают о мультикультурном характере изначальной Руси. И о том, что она может быть воссоздана именно с новым «призванием варягов». Если нынешняя демографическая ситуация делает иммиграцию неизбежной (→ 1–9), то этот процесс надо ввести в русло строительства новой цивилизации. Так, прежде всего приглашать талантливых энергичных людей, а не «массу». Во-вторых, ориентироваться именно на те народы, с которыми у русских существует взаимная комплиментарность и близость культурных архетипов. Речь идет не об ассимиляции (провалившейся в современной Европе), но именно о новом этническом синтезе. Как и всякий новый этнос, народ Китежа и Беловодья начинается с осознания «общности судьбы» у тех, кто уходит от нынешнего государства. Но все же главное в этом процессе — не сам по себе уход, но основание иной цивилизации.
У «старого» же народа никакой внутренней комплиментарности уже практически не осталось. Это связано с возрастом этноса и тяжелейшими этническими катаклизмами в его истории. В тексте «Размышления в час заката», апокрифически приписываемом Льву Гумилеву, об этом говорится весьма пессимистично:
По всей вероятности уже ничего не может быть предпринято, так как сложившееся положение вещей есть следствие той фазы, в которой находится ныне коренной этнос, это — фаза обскурации, с ее характерными симптомами: эгоизмом, неблагодарностью, жадностью, своеволием и политической близорукостью.
Патрик Бьюкенен сравнивает этническую ситуацию в России и среднеазиатских странах и также приходит к печальному выводу:
Сегодня население этих стран составляет половину населения России, а через 25 лет соотношение будет примерно равным, причем русские будут более старым народом, а исламские нации — более молодыми и живыми.
Однако здесь не учитывается главный вопрос — какие русские? Если речь идет о нынешних «россиянах» — то с таким выводом трудно не согласиться. Но если русский этноним по праву преемствуют китежане и беловодцы, тогда ситуация может кардинальным образом перемениться. Само слово «русский» тогда будет означать то, что значило изначально — вольный воин, первооткрыватель неизведанных пространств и строитель своей утопии. И такие, сверхновые русские окажутся моложе и живее любого оседлого «населения».
В проекте Транслаборатории «Китежане. Новый народ Ру» описан этот контраст между старым и новым этносом, а также возможный путь исторического преемства:
Великорусский этнос слишком долго приучали быть бессловесным инструментом в руках государственной власти, и от этого важнейшие жизненные ткани народного организма атрофировались и заместились административно-государственными протезами. Народ попал в безвыходное положение: надо бы вырвать эти протезы, торчащие из его тела — но без них он тут же погибнет, не приспособленный к полноценному существованию.
Тот, кто пытается сохранить русское на уровне национальной идентичности прежнего типа, похож на прирожденного обитателя зоопарка, которому его клетка и кажется свободой. Русское сегодня придется создавать практически с нуля и на принципиально ином уровне. Новым субъектом исторического действия в России может стать только новый этнос, относящийся к прежнему, великорусскому, объединявшемуся вокруг Москвы, на тех же правах преемственности, на каких тот относился к восточнославянскому, собиравшемуся вокруг Новгорода и Киева.
Отношение нового этноса к прежнему — это сочетание тайны и прагматики. Оно очень глубоко укоренено в русской истории. Один пример такого рода приводит Кирилл Чистов в книге «Русская народная утопия», цитируя полицейскую сводку почти двухвековой давности:
В 1807 году приехал из Томской губернии поселянин Бобылев и донес министерству (внутренних дел), что он проведал о живущих на море в Беловодьи старообрядцах… числом до 500 000 или более, дани никому не платящих. Бобылев изъявил готовность сходить в Беловодье и исполнить то, что будет приказано. Министерство выдало ему 150 рублей и велело явиться к сибирскому генерал-губернатору, которому писано об этом, но Бобылев не явился и исчез совершенно неизвестно куда и нигде потом не отыскан.
3.2. Мыс Провидения
На Север, в будущее!
Официальный девиз АляскиДолой тлетворное влияние Запада!
Идеальный слоган для ЧукоткиУ мэтра европейской постмодернистской философии Жака Дерриды есть небольшая, но довольно показательная работа под названием «Другой мыс. Отложенная демократия», в начале которой он высказывает предположение:
Старая Европа, кажется, исчерпала все свои возможности, произвела все возможные дискурсы о собственной идентификации.
Это исчерпание выглядит весьма убедительно, поскольку далее сам Деррида, вместо сколь-нибудь внятного описания этого «другого мыса», привычно углубляется в столь характерную для french theory вербальную схоластику. Где, по точному замечанию одного из героев Виктора Пелевина, «невозможно изменить смысл предложения никакими операциями».
Это закономерный исторический тупик европоцентристского мышления, тягостно погруженного само в себя — сколь бы оно ни создавало себе имидж «глобально открытого». Хотя открытие того, что Земля круглая, его, похоже, так и не коснулось. Это мышление и поныне пребывает в плоской, двухмерной системе координат, до сих пор «Восток» и «Запад» представляются ему некими противоположными векторами, расходящимися из самой Европы и отмеряемыми по расстоянию от нее — «ближний» или «дальний» — хотя сами их жители так себя не обозначают и имеют совершенно иную картину мира. А для «просвещенных» европейцев затруднительно помыслить естественное совпадение «Востока» и «Запада» где-то на обратной стороне земного шара. Неслучайно именно в европейской мифологии возникло характерное определение «край света», перекочевавшее в постмодернистскую философию в образе некоего экзотического «Другого».
В нынешней России это европоцентристское мышление также весьма распространено — порождая смиренное признание своей вторичности и провинциальности. Хотя именно Россия вплотную прилегает к этому самому загадочному региону «края света», и даже включает в свою собственную территорию этот «другой мыс», с которого все это «восточно-западное» противостояние эпохи модерна выглядит нелепой фантазией.
Политолог Владимир Видеман демонстрирует, насколь легко осознать эту очевидность:
Убеждение, что Россия «всем телом» примыкает к Европе, во многом обусловлено чисто оптической иллюзией, порождаемой привычным ракурсом европоцентристской карты мира, где американский континент расположен слева. Если же мы переместим его вправо (как это сделано, к примеру, на японских географических картах), то тут же убедимся в том, что Россия «целуется» на востоке с Америкой, а протяженность российско-американской морской границы ничуть не меньше сухопутной границы между Россией и европейским блоком. Более того, взглянув на земной шар «сверху», мы обнаружим, что Северный ледовитый океан является, по сути, большим внутренним российско-американским морем.
Чукотский мыс, с которого можно разглядеть Аляску, носит весьма символическое название — Провидения. Деятели эпохи модерна старались не замечать этого «шокирующего» сближения Дальнего Востока и Дальнего Запада — оно напрочь рушило их дуалистическую модель мира. В том числе даже границу между днем и ночью — в этом регионе день и ночь полярные и не подчиняются «нормальному» суточному ритму. Потому и просто вынесли этот регион за скобки истории, объявив его «мировым резервом» для самого отдаленного будущего и ссылаясь на совершенную непригодность этих замороженных земель для жизни.
Однако, по версии многих не признавших это негласное «табу» историков, именно этот регион был глобально лидирующим примерно 30–40 тысяч лет назад, до «великого обледенения». Тогда на месте нынешнего Берингова пролива существовал сухопутный перешеек, по которому «первые американцы» и пришли на свою «землю обетованную». Уникальные археологические совпадения древнесибирских и древнеамериканских культур вполне подтверждают эту версию. Бросаются в глаза близкие мотивы в мифологии, одеждах, формах жилищ и т. д. народов Сибири и Северной Америки.
Вероятно, имели место и обратные переселения народов. Например, Лев Гумилев высказывал мнение, что в III–II тысячелетиях до нашей эры индейцы пересекали Берингов пролив и, попадая в Сибирь, добирались до Урала. Даже этимологию столь «евразийского» титула, как «хакан» («каган», «хан», «ван»), которым именовали себя в том числе и князья Древней Руси, он возводит к дакотскому слову waqan, имевшему то же значение — военный вождь и первосвященник.
Палеонтологи же «копают» еще глубже — так, А.В. Шер в своей монографии «Млекопитающие и стратиграфия плейстоцена Крайнего Северо-Востока СССР и Северной Америки» (1971 год) показывает, что на протяжении последних трех с половиной миллионов лет жизни нашей планеты сухопутный «мост» между Евразийским и Американским континентами возникал пять, шесть, а может быть, и большее число раз! Некоторые современные исследователи предлагают даже название для этой «виртуальной» земли — Берингия. Однако если уж развивать мифологическую версию во всем объеме, то отчего бы не предположить, что этот загадочный перешеек мог быть частью изначального северного континента — Гипербореи? (→ 2–1)
Географ Алексей Постников утверждает:
В Берингии контакт между старым и новым миром был постоянным, хотя, конечно, подавляющее большинство племен и народов, населявших западное и восточное полушария, ничего об этом не подозревало.
Однако сами эти «подозрения» — в существовании «старого» и «нового» мира, «западного и восточного полушария» — с северной точки зрения выглядят абсолютными условностями. Это целостное мышление ярчайшим образом проявилось именно у аборигенов этой земли, которые на вопрос «цивилизованных» пришельцев, какого они народа, называли себя просто людьми. Им, наоборот, странными казались европейские картографы, мыслящие отдельными полушариями…
Всякая история исходит из мифа. Рациональный научный инструментарий оказывается совершенно неприменим к анализу, например, взаимоотношений героев и богов, которыми полны все древние манускрипты. Кроме того, современная (модернистская) историография, как правило, придерживается плоской, линейной концепции истории, напрочь игнорируя традиционную, циклическую. А именно по циклической логике самые смелые проекты будущего оказываются прямым отражением самой глубокой древности.
* * *
Для нас наибольший интерес представляет регион, где «Дальний Восток» и «Дальний Запад» сливаются воедино, стирая эту условную границу. Александр Герцен, безмерно удивляя своих европоцентричных современников, еще в XIX веке предсказывал неизбежное сближение русской и американской цивилизаций именно в этом регионе, откуда, как он полагал, и начнется строительство «будущего мира». И сегодня оно действительно становится вполне реальным — когда на смену последнему «великому обледенению» приходит не менее великое «глобальное потепление», которое, по прогнозам климатологов, приблизит погоду этих широт к среднеевропейской. Причем произойдет это раньше, чем многие думают, — уже в наступившем веке.
В последнее время много говорится о «потеплении» другого рода — установлении между Россией и Америкой дружественных отношений после десятилетий «железного занавеса». Однако с точки зрения широкой исторической перспективы эту дружбу вряд ли уместно называть «оттепелью» — само это слово производит впечатление некой случайности посреди «зимы», которая считается нормой. Тогда как досадным историческим недоразумением («летним заморозком») в российско-американских отношениях был, напротив, сам этот «занавес» второй половины ХХ века. На протяжении всей предыдущей истории своих отношений Россия и США не только никогда не воевали между собой, но были постоянными союзниками — даже несмотря на глубочайшую разницу своих режимов. И в этом нельзя не увидеть, если угодно, «руки Провидения».
Так, во время американской войны за независимость Екатерина II открыто поддержала американских «сепаратистов» в их борьбе с английской метрополией — чем вызвала неслыханное удивление у европейских монархов. Когда же эти европейские монархии вели с Россией Крымскую войну 1853-56 гг., множество американцев, в свою очередь, просили русское посольство в Вашингтоне отправить их туда добровольцами. И возможно, исход этой не слишком удачной для России войны был бы другим… Но уже буквально через несколько лет, в ходе гражданской войны в Америке, сама Россия послала к американским берегам две крупные эскадры — в знак поддержки правительства Авраама Линкольна. Эти эскадры, бросившие якорь у западного и восточного берегов Америки, сыграли весомую роль в предотвращении возможной интервенции европейских держав, сочувствовавших рабовладельческому Югу. А Россия, только что сама отменившая крепостное право, встала на сторону свободных северян.
Исследуя отличия Европы и Америки, Георгий Флоровский удивлялся:
Загадочен лик Дальнего Запада — Америки. По быту это повторение и утрировка «Европы», гипертрофия общеевропейского демократизма буржуазности. И тем неожиданнее встретить под этою коркой определенно гетерогенную традицию культуры, ведущую от первых иммигрантов через Бенжамена Франклина и Эмерсона к self-made-man Джека Лондона, традицию радикального отрицания мещанства и путь жизни и утверждения индивидуальной свободы.
Эту мысль он высказал в своей работе «О народах не-исторических». Публикуя ее в первом евразийском сборнике 1921 года «Исход к Востоку» он, как видим, мыслил «Восток» гораздо дальше многих своих коллег… Но современные «нео-евразийцы» эту даль не преемствуют. По своему европоцентристскому, модернистски-дуалистическому мышлению они практически ничем не отличаются от своих излюбленных врагов — «атлантистов». Разве что у тех с «индивидуальной свободой» несколько получше…
Прямое сближение Востока и Запада «по ту сторону Европы» издавна порождало чрезвычайно интересное взаимодействие русских и американских утопических проектов. В Америку уезжали многие русские революционеры, в том числе герой романа Чернышевского «Что делать?», «особенный человек» Рахметов. «Новая Россия», которую видит в своих знаменитых снах Вера Павловна, судя по подробному географическому описанию, находилась где-то в районе Канзаса — который упоминается в романе и «наяву».
Как сообщает историк Майя Новинская,
в первой половине XX в. (в основном в 1900–1930 гг.) на американской почве проигрывались российские утопические общинные идеи, в частности Толстого и Кропоткина; причем речь идет не только о маргинальных общинах эмигрантов из России, но и о чисто американской утопической практике.
Примечательно, что после 1917 года это «взаимодействие утопий» не только не прекратилось, но обрело новый масштаб:
С очень большим уважением относились к Америке первые большевики: она служила для них настоящим маяком передового промышленного и даже отчасти социального опыта. Они мечтали о введении в России системы Тейлора, внедряли американские образовательные концепции, восхищались американской деловитостью и посылали множество народу на учебу в Америку. В Советской России 20-х — начала 30-х годов насаждался почти что американский культ техники и промышленности, а когда дело дошло до индустриализации, советская тяжелая промышленность была просто скопирована с американской, и строили ее тысячи американских инженеров. В те годы съездить в Америку и опубликовать потом свои впечатления о ней было делом чести для всякого крупного советского писателя: Есенин, Маяковский, Борис Пильняк, Ильф и Петров создавали в своих книгах относительно симпатичный образ Америки. Критикуя, как было положено, американский капитализм, они не скрывали восхищения техническим гением американского народа, мощью американской индустрии, широтой американского делового размаха. Ничего подобного не писалось тогда о близкой Европе: напротив, Европа воспринималась как явный враг и будущий агрессор — именно для подготовки войны с ней строили американские инженеры советские тракторные, автомобильные и химические заводы.[64]
И даже когда после Второй мировой войны между Россией и Америкой возник «железный занавес», он опустился именно над Европой. А аборигены Чукотки и Аляски продолжали ездить на нартах в гости друг к другу по льду Берингова пролива, окруженные шаманской «невидимостью» для пограничников двух противостоящих империй…
* * *
В тумане узкого пролива между мысами Провидения на Чукотке и Воскресения на Аляске меняется пространство и время. Именно там исчезает иллюзорная граница между «Востоком» и «Западом». Именно там проходит «линия перемены дат». Это не просто последовательная смена часовых поясов по широте — время по обе стороны этой воображаемой линии остается одинаковым, но меняются сразу целые сутки. При возникновении прямой связи между этими точками фактически воплощается утопия машины времени.
На европейских картах еще с XVI века, т. е. задолго до Беринга, этот пролив носил загадочное название «Аниан». Советский географ А. Алейнер выдвинул любопытную, но довольно логичную гипотезу того, откуда происходит это слово:
Русская подпись «море-акиан», восходящая к латинскому «mare-oceanus», могла быть прочитана кем-то из иностранцев как «море аниан», поскольку стилизованную русскую букву «к» в этом названии легко принять за «н».
В таком заимствовании нет ничего удивительного, поскольку русские «чертежи» тех неведомых европейцам мест (к примеру, Дмитрия Герасимова), датируются еще 1525 годом! Еще одним подтверждением того, что русский географический кругозор тогда неизмеримо превосходил европейский, служит и тот факт, что легендарный Джеймс Кук, вышедший в 1778 году к Алеутским островам и полагавший, что он их «открыл», неожиданно обнаружил там русскую факторию и был вынужден скорректировать свои карты у ее жителей. В знак благодарности он подарил командору фактории Измайлову свою шпагу. Хотя наверняка она больше пригодилась бы ему самому — в следующем году он погиб на Гавайях, попытавшись «цивилизовать» тамошних аборигенов. Хотя и там уже давно была русская фактория, но никого из ее жителей не съедали…
В этом таинственном, магнетическом регионе вскрывается вся условность европоцентристской картины мира. Именно сюда с разных сторон в поисках собственной утопии стремились наиболее пассионарные, активные и свободные личности. В Америке, которая сама по себе была изначально утопической страной (→ 1–1), самыми продвинутыми, во всех смыслах этого слова, утопистами были пионеры-освоители «Дикого Запада», которым уже не хватало свободы в слишком регламентированных атлантических штатах. И примерно в это же время начинается массовое движение русских землепроходцев и мореплавателей на Восток, «встречь Солнцу». Составляли это движение в основном также те силы, которые стремились уйти из-под чрезмерной государственной опеки — вольные казаки и поморы, никогда не знавшие ни ига, ни крепостничества. Такие легендарные личности, как Хабаров, Дежнев, Поярков — представители именно этой волны. Первый правитель Аляски Александр Баранов был родом из поморского Каргополя. Позже в эту волну естественным образом влились и староверы, уходившие из «падшего Третьего Рима» искать волшебное Беловодье и спасительный град Китеж.
Но самыми первыми пересекли «край света» новгородцы — носители великой севернорусской традиции, жестоко подавленной татаро-московским игом. Историк русской эмиграции в Америке Иван Окунцов пишет об этом так:
Имеются кое-какие намеки на то, что первыми русскими эмигрантами были какие-то предприимчивые жители Великого Новгорода, прибывшие в Америку на 70 лет позднее Колумба. Жители Великого Новгорода бывали в Западной Европе, на Скандинавском полуострове и на Урале. Их переселение в Америку произошло после того, как в 1570 г. царь Иван Грозный разгромил Новгород. Энергичная и предприимчивая часть новгородцев вместо того, чтобы подставлять свои головы под топоры Москвы, двинулась в далекий и неведомый путь — на Восток. Они попали в Сибирь, остановились около какой-то большой реки (Иртыш?), соорудили там несколько кораблей и по этой реке спустились к океану. Затем новгородцы в течение четырех лет двигались на восток вдоль северного берега Сибири и доплыли до какой-то «безбрежной реки» (Берингов пролив). Они решили, что эта река течет в Восточной Сибири, и, переплывши ее, очутились в Аляске… Новгородцы быстро смешались с туземными индейскими племенами, и их следы затерялись в веках истории. В последнее время эти следы были найдены в русско-церковных архивах Аляски, попавших в библиотеку Конгресса в Вашингтоне. Из этих архивов видно, что какой-то русский церковный приход доносил своему епископу из Америки о постройке часовни и называл свое место не Америкой, а «Восточной Русью». Очевидно, русские переселенцы думали, что они утвердились на восточном берегу Сибири… В те давние годы русским стало тесно жить под царской пятой, и они ринулись искать счастье в другом полушарии. Колумб открыл Америку с востока, а новгородцы подошли к ней с северо-запада.
Эта сенсационная версия подтверждается не только церковными архивами, но и академическими исследованиями. Так, американский историк Теодор Фаррелли[65] в 1944 году опубликовал работу об обнаруженных им специфически новгородских постройках более чем 300-летней давности на берегу Юкона!
Известная на протяжении многих столетий землепроходческая активность новгородских ушкуйников (которых в Орде и Москве считали «разбойниками»[66] (→ 3–6)) заставляет считать этот трансконтинентальный переход вполне вероятным. Так, еще за несколько веков до знаменитого похода Ермака, «поклонившегося» затем Сибирью московскому царю, Новгородская летопись 1114 года упоминает о хождении ушкуйников «за Камень,[67] в землю Югорскую». То есть они уже тогда прошли в Северную Сибирь! При этом новгородцы, хотя и отделяли себя от московитов, всегда использовали русскую топонимику (и само слово «русский») в своих открытиях. Отсюда понятно неслыханное удивление позднейших «открывателей» из Москвы и Петербурга, когда местные жители дальних земель сообщали, что их поселение называется Русское Устье (на Индигирке) или Russian Mission (на Аляске)…
Петербургский писатель Дмитрий Андреев, работающий в жанре «альтернативной истории», реконструирует хронологию этого великого новгородского похода:
В конце XV века новгородские кочи Северным Морским Путем доходят до Аляски и основывают там несколько торговых факторий. В 70-е годы XVI века, после разгрома Новгорода Иваном Грозным, несколько тысяч новгородцев отплывают на Восток и оседают на юге Аляски. Связь с внешним миром прерывается на полтора столетия. Повторное открытие Аляски происходит в начале XVIII века Берингом.
И рисует не менее великое будущее Независимой Аляски. Так, в начале XIX века там должно было быть:
Население — 500–600 тыс. чел, религия — православие (до-никоновское), индейцы и алеуты взаимоассимилируются с потомками русских. Политическое устройство — развитая парламентская демократия с периодами военной диктатуры (в годы войны). Аляска участвовала в Крымской войне на стороне России, начиная с 70-х годов XIX столетия — золотодобыча, промышленный рост, бурная иммиграция. К началу XX века 5–6 млн. населения. Границы: р. Макензи, затем побережье до 50 градуса сев. широты, Гавайи (приняты в состав республики на федеральной основе в 1892 году), Мидуэй, анклав в Калифорнии… Аляска на стороне Антанты приняла участие в Первой Мировой Войне (патрулирование Тихого Океана, посылка экспедиционного корпуса на Восточный Фронт), затем помогала белым армиям в ходе Гражданской Войны. В 1921–1931 гг. приняла более 500 тыс. русских эмигрантов, выкупила Русский Флот, интернированный в Бизерте… Авиагруппу составили частью закупленные в Японии истребители, частью торпедоносцы компании «Сикорский-Ситха». Дружба с Японией предотвратила участие Аляски во Второй Мировой Войне на Тихом Океане, но с июня 1940 года Аляска воюет с Германией, Италией и Португалией (вследствие гибели множества ее граждан во Франции и на потопленных судах)… Ядерная держава с 1982 года, запускает спутники с космодрома на Гавайях с 1987 года. Население на 2000 год — 25 млн. чел. ВНП — $300 млрд.
«Новгородскую версию» освоения Аляски, не говоря уж о проектах ее возможного будущего, почему-то особенно любят «опровергать» московские историки. В этом сказывается как недостаток исторического воображения, так и застарелая централистская неприязнь к «слишком вольным» открывателям новых земель. Хотя даже если предположить, что первыми на Аляске высадились не новгородцы, а, как гласит официальная версия, лишь два века спустя участники экспедиции Беринга-Чирикова — то все равно и к ним Москва никакого отношения не имеет, поскольку эта экспедиция была сформирована в Петербурге по личному указу Петра I. Москва же всегда оставалась (и остается) типичным городом Старого Света, который интересуется географическими открытиями не самими по себе, и уж тем более не в перспективе нового исторического творчества, а лишь сугубо утилитарно — в плане присоединения «под царскую руку» очередных бесправных колоний. К сожалению, и Петербургская империя по отношению к Русской Америке во многом продолжила эту ордынско-московскую традицию.
Сама же Русская Америка тех лет являлась своего рода аналогом «Дикого Запада», или — избегая этой географической условности — можно назвать ее «Дикой Утопией». Русские первопроходцы и поселенцы конечно не были ангелами, однако, в отличие от англичан и испанцев, никогда не ставили своей целью вытеснение и истребление аборигенов. Алеуты, эскимосы, тлинкиты и другие жители этого «края света» ценили это, хотя совершенно не представляли себе понятия «подданство». Несколько забегая вперед, уместно вспомнить претензию одного индейского вождя, высказанную им во время продажи Аляски в 1867 году: «Мы дали возможность русским жить на нашей земле, но не право кому-то ее продавать». Это действительно иной мир, выходящий за рамки европейских стандартов «колониальной собственности».
Русская Америка все более напоминала изначальную, мультикультурную Русь. Поморы и казаки охотно женились на индеанках, алеутках, гавайках, и в результате возникал некий совершенно новый народ, с особым менталитетом. В отличие от Южной Америки, где колонизация сопровождалась жестким насаждением испанских и португальских канонов религии, языка и поведения, здесь, на Севере, происходила настоящая транскультурация. Также и в отличие от ордынского нашествия на Русь, превратившего ее в тоталитарную Московию, на Аляске утверждался уникальный синтез новгородского и индейского свободолюбия. Местные жители учились у русских основам православия и перенимали многие слова, но в свою очередь научили русских управляться с нартами и байдарками, а иногда и посвящали их в свои собственные мистерии. И неслучайно многие русские поселенцы даже после продажи Аляски отказались ее покинуть. Это не было каким-то «национальным предательством» — просто они настолько глубоко включились в ритм этого нового мира, что уже чувствовали свою разнородность с метрополией. Во многом это было похоже на поведение тех выходцев из Англии, которые осознали себя гражданами Нового Света и объявили о своей независимости. Разница состояла лишь в том, что для масштабного складывания нового этноса на основе русско-индейского синтеза тогда просто не хватило исторического времени…
Не хватало и людей. Из-за жесткости законов Российской империи, ограничивавших для многих сословий право передвижения, русскому было гораздо сложнее попасть в аляскинский Ново-Архангельск, чем англичанину в Нью-Йорк. Правители Русской Америки неоднократно обращались к столичным чиновникам, в Сенат и даже царский двор с просьбой разрешить переселение на Аляску и в калифорнийский Форт-Росс хотя бы нескольких крестьянских общин, жизненно необходимых для экономической независимости русских поселений. Но — неизменно встречали категорический отказ. Чиновники опасались (и не напрасно — судя по имевшимся все же прецедентам), что эти несколько сот крестьян, освоив характерный для Америки фермерский тип хозяйства, окажут революционное влияние на тогдашний экономический строй Российской империи. Возможно, потому Аляску побыстрее и продали практически сразу после отмены крепостного права — чтобы не допустить массового переселения туда освободившихся крестьян.
Другая версия такой поспешной продажи Аляски состоит в том, что российское правительство заботилось о защите «национальной самобытности» от пугавшего его заокеанского «всесмешения». Однако парадокс здесь в том, что подлинную русскую самобытность в данном случае воплощали как раз те, кто смешивался с индейцами и белыми американцами и тем самым давал начало новому народу. Сами русские в свое время возникли именно как этнический синтез варягов и славян. (→ 3–1) «Патриоты» же ордынско-имперского толка демонстрируют этим лишь свое провинциальное невежество в русской традиции, которая изначально имеет глобальный характер. Петербургский философ Алексей Иваненко четко объяснил это в работе «Русский хаос»:
Наша старина не является исконной. Удивительно, но по данным этимологического анализа такие древние слова, как хлеб, изба, колодец и князь имеют германское происхождение. На смену древним заимствованиям приходят новые. Где же настоящий лик России? Тайна состоит в том, что его нет. Византийские иконы, золоченые минаретные луковицы, татарские балалайки, китайские пельмени — все это импорт.
* * *
Русские первопроходцы вообще не знали слова «Аляска» и называли ее просто «Большая Земля». Аляска действительно могла стать «воплощенной утопией» — подобно Америке, освоенной европейцами со стороны Атлантики. В 1799 году была основана Российско-Американская Компания и у тихоокеанского освоения Америки были свои знаменитые «отцы-основатели» — Григорий Шелихов, Александр Баранов, Николай Резанов… Но к сожалению, они не успели провозгласить свою Декларацию Независимости, и потому проект Русской Америки был в конечном итоге подавлен европоцентристской метрополией.
Калифорнийская база Русской Америки — Форт-Росс — была основана в 1812 году. Если воспринимать историю творчески, с точки зрения новых возможностей, а не бесконечных переделов Старого Света, то это событие выглядит гораздо важнее войны с Наполеоном. Даже если бы Наполеон остался в Москве, это вряд ли что-то существенно изменило бы в России, где дворянство владело французским языком лучше, чем русским. Тогда как перенос общественного внимания на освоение Нового Света мог бы задать совершенно иной масштаб российскому самосознанию, заодно и избавив Россию от позорного ярлыка «жандарма Европы».
Даже выполняя эти «жандармские» функции по спасению европейских монархий от революции, русские напрасно рассчитывали на какую-то признательность со стороны этих престолов. Более того, к примеру, испанцы, составлявшие тогда в Калифорнии большинство, неоднократно пытались ликвидировать Форт-Росс — то демонстрацией силы, то засыпая официальный Петербург гневными дипломатическими нотами за «вторжение на их территорию», хотя юридические права их самих на нее были весьма условными и довольно зыбкими. Напротив, местные индейцы поддерживали Форт-Росс, надеясь, что русские своим авторитетом и экстерриториальным статусом «третьей силы» спасут их от полного цивилизационного уничтожения в жерновах между янки и испанцами. И неоднократно с оружием в руках обороняли русскую крепость от тех и других!
Российское правительство тем временем вело себя более чем странно. В ответ на испанские ноты оно не вставало на защиту русского поселения, но… отводило роль ответчика самой Российско-Американской Компании. Однако реальных международных прав у Компании почти не было — и по давней российской традиции она была обязана согласовывать все свои решения со столичными чиновниками. Представители Компании просто уставали объяснять им очевидности — какие колоссальные исторические преимущества сулит существование и развитие русского поселения в Калифорнии. Но наталкивались на глухую стену, а то и вовсе удары в спину — наподобие заявления министра иностранных дел Нессельроде о том, что он сам выступает за закрытие Форт-Росса, так как это поселение вызывает «боязнь и зависть гишпанцев». Этот апофеоз «старосветской» ограниченности и настоящего национального предательства, пожалуй, не с чем даже сравнить! Обратную, «зеркальную» ситуацию — чтобы испанские конкистадоры убеждали Мадрид в продуктивности своих американских освоений, а их за это бы порицали и требовали свернуть свою деятельность под предлогом «боязни и зависти» других наций — просто невозможно себе представить…
Впрочем, и это еще не предел глупости российского централизма — в 20-е годы XIX века правительство попыталось запретить поселенцам Русской Америки (к которым причисляли и индейцев) вести прямую торговлю с американцами. Это фактически означало экономическую блокаду и действительно, настоящее «тлетворное влияние Запада» — учитывая, что по отношению к Старому Свету Аляска является «Сверхдальним Востоком».
Правление Российско-Американской Компании на Аляске по мере сил и дипломатического умения, как могло, снижало эти противоречия между свободным развитием Русской Америки и бредовыми требованиями далекой метрополии. Виднейшая роль в этом примирительном процессе, несомненно, принадлежала первому «правителю Аляски» (официальный титул) Александру Баранову. За годы своего правления этот великий, но увы, почти неизвестный в России деятель фактически превратил всю северную часть Тихого океана в «русское озеро», построив на американском берегу новую цивилизацию, равную половине Европейской России и развитую гораздо выше тогдашней Сибири. Аляскинский Ново-Архангельск (город явно назван поморами) как центр самой важной в то время меховой торговли, при нем был первым портом (!) на севере Тихого океана, оставив далеко позади себя испанский Сан-Франциско. Причем это был не только экономический и военный, но и культурный центр: в его библиотеке хранилось несколько тысяч книг — количество, весьма внушительное по тем временам и по сравнению с более южными колониями «Дикого Запада».
Однако чиновничья зависть и ее верное оружие — клевета свалили этого гиганта. Приносивший ежегодно в российскую казну миллионы, но сам довольствовавшийся грошовым жалованьем, Баранов был смещен без объяснения причин и отозван в Россию. Куда он так и не доплыл — тяжело заболел и умер в дороге. Странным повторением этого маршрута оказалась судьба другого командора Русской Америки — Николая Резанова, который также закончил свои дни на обратном пути в Россию, так больше никогда и не увидев свой Новый Свет вместе со влюбленной в него дочерью калифорнийского губернатора. Это не просто печальная романтика — утопический Мыс Провидения действительно не отпускает своих открывателей на «обычную землю».
Действительно, над всеми русскими первопроходцами этого «края света», с точки зрения его «середины», довлеет какой-то злой рок. Начиная с исчезнувших новгородцев и умершего в своей экспедиции Беринга вплоть до волны необъяснимых смертей в самой России практически всех потомков и последователей Баранова… Впрочем, если воспринимать эту ситуацию менее мистически, за ней можно разглядеть и вполне «земные» мотивы — жесткий антиутопизм российской власти, которая чрезвычайно ревниво и негативно относится к «фантазерам», мечтающим создать новую цивилизацию. Ведь это создание с неизбежностью означает крушение старой.
Форт-Росс был самым наглядным свидетельством того, что русская жизнь может быть иной. Однажды его правителем оказался энергичный 22-летний «русский швед» Карл Шмидт. И в масштабе маленького гарнизона началась настоящая «молодежная революция» в петровском стиле — с новым дизайном самой крепости, строительством своего флота, открытием новых школ и даже театра! «Смутьяна» вскоре сместили…
Декабристы, многие из которых сотрудничали с Российско-Американской Компанией, пострадали куда серьезнее. Константин Рылеев, разрабатывавший проект независимости Русской Америки, был повешен. Другой декабрист, Дмитрий Завалишин, сепаратистом не был. Наоборот, он развивал идеи массового и интенсивного русского проникновения в Калифорнию и подбивал местных испанцев принимать российское гражданство. Свою миссию он именовал «Орденом Восстановления» и пытался убедить царя в грандиозных перспективах «обрусения Америки». Однако российская власть справедливо посчитала, что это будут уже «не те русские», которыми можно легко управлять. А Завалишин со своими челобитными оставался еще «тем», и был отправлен на сибирскую каторгу.
Таким образом, проект Русской Америки фактически оказался уничтоженным не какими-то внешними врагами или обстоятельствами, но изнутри — властями самой Российской империи, посчитавшей его «чрезмерно дорогим». Но Провидение иронично — вскоре после того, как Форт-Росс в 1841 году был продан буквально за копейки, именно с мельницы его нового владельца, Джона Суттера, и началась знаменитая американская «золотая лихорадка». Так российская власть, не дождавшись золотого яичка, зарезала свою курочку-рябу. А в этой реке, которая изначально называлась Славянка, а потом — Russian river, терпеливые американцы моют золото до сих пор…
* * *
После продажи Форт-Росса вся Русская Америка сжалась до границ Аляски — хотя все еще грандиозных, но уже отодвинутых далеко к Северу — и уже без регулярного и практически бесплатного продовольственного снабжения из Калифорнии. Фактически это был последний бастион перед окончательным отступлением в Старый Свет.
Однако в истории сохранились и знаменательные примеры куда более южного, чем даже Калифорния, освоения русскими этой загадочной линии перемены дат, «края света». Сохранились в разных значениях — как память о «потерянном рае» и о бездарности «старосветского» правительства. А также, быть может, и как намек на будущее — утопия исторических границ не знает…
Иван Окунцов приводит факты, не менее поразительные, чем высадка новгородцев на Аляске. Жюль Верн и Стивенсон отдыхают:
При дальних плаваниях в Тихом океане течением и ветрами русских мореплавателей заносило даже на экватор. Однажды они попали в Новую Зеландию, на востоке от Австралии. В то время на русском судне находился один монах, потерявший надежду на благополучный исход плавания. Монах ночью сбежал с судна на остров, где взял в свои руки власть и объявил себя королем Новой Зеландии. На острове был поднят русский флаг. Затем монах-король обратился к Петру Великому с просьбой о помощи и о принятии всех маорийцев — жителей Новой Зеландии — в русское подданство. Но помощь из Петербурга почему-то не была оказана, а монах умер и «по-королевски» был сожжен на «священном костре».
А вот обширное свидетельство из камчатского журнала «Северная Пацифика»,[68] мало кому известное в плоском мире «евразийско-атлантистских» разборок:
Однажды промысловый корабль «Беринг» штормом отнесло далеко на юг. Потеряв счисление, моряки и не заметили, как сквозь клокочущую пену выросли шипы островных кораллов. Судно разнесло в щепки, а людей вынесло к благодатным берегам. Обсушившись и перекусив бананами, они вскоре обнаружили, что попали на необитаемый остров. Около месяца русские моряки скитались по тропическим лесам, питаясь экзотическими фруктами. Изрядно обносились, но духом не пали и молились о спасении. Один из мореходов с Аляски, проходя на судне мимо острова, заметил шестерых загорелых мужчин, которые носились по берегу и выражались «крепко по-русски». Конечно, робинзонов подобрали. Вскоре их доставили в столицу Русской Америки — Ново-Архангельск, где они подробно поведали Баранову об острове с «молочными реками и кисельными берегами».
Так началась великая эпопея открытия русскими Гавайских островов. В 1806 году с легкой руки Баранова мореход Сысой Слободчиков достиг-таки Гавайев. Он привез дорогие меха, из которых местные вожди, несмотря на дикую жару, не вылезали. О щедрости «новых белых» прослышал король Гавайских островов Тамеамеа Великий. Он сам оделся в меха и выразил огромное желание торговать с людьми Баранова. Постепенно стал разгораться огонек искренней дружбы.
Всю зиму Слободчиков «со товарищи» провели под сенью пальм. Они увидели, что островитяне живут в белых полукруглых хижинах, любят петь и носить яркие одежды. Они ценят дружбу и готовы отдать даже своих подруг, чтобы ублажить белого гостя. Под слова гавайских песен и неистощимые запасы русской водки три месяца зимы пролетели как один день. Страна вечного лета так понравилась нашим морякам, что они заключили с канаками первый торговый договор о поставке с Гавайев на Аляску плодов хлебного дерева, сандала и жемчуга. Тамеамеа послал в подарок Баранову королевские одежды — плащ из перьев павлинов и редкой породы попугаев. Кроме этого, король сам хотел приехать на Аляску для переговоров, но опасался оставить острова в условиях растущей морской активности «других белых».
Такой поворот дела весьма обрадовал Баранова. Он отправил на острова своего друга Тимофея Тараканова, который пробыл там целых три года, изучая жизнь островитян. Вместе с русскими жил и ближайший слуга короля Тамеамеа, который обучал белых путешественников охоте на акул и рассказывал местные легенды. Одна из них гласит: когда океан покрывал землю, огромная птица опустилась на волны и отложила яйцо. Был сильный шторм, яйцо разбилось и превратилось в острова. Вскоре к одному из них причалила лодка с Таити. На лодке были муж, жена, свинья, собака, курицы и петух. Они поселились на Гавайях — так началась жизнь на островах.
Русские настолько понравились королю Гавайских островов, что он через год их пребывания подарил царю один из островов. Местный вождь Тамари принял посланцев Баранова благосклонно. Под шум прибоя на острове Канаи строилась русская крепость-форт Святой Елизаветы. Отечественные корабли, прибывающие в крепость, встречали уже не полуголые дикари, а люди, одетые кто в шляпу и набедренную повязку, кто в матросский бушлат, кто в башмаки. Сам Тамари, как и король Тамеамеа, стал щеголять в соболиных мехах.
Жизнь на острове шла своим чередом. Вскоре был составлен первый русско-гавайский словарь. На Аляску шли корабли, груженные гавайской солью, сандаловым деревом, тропическими плодами, кофе, сахаром. Соль русские добывали близ Гонолулу, из высохшего озера в кратере старого вулкана. Дети местных вождей учились в Санкт-Петербурге, изучали не только русский язык, но и обучались точным наукам. Богател и король Тамеамеа. Баранов подарил ему шубу из отборного меха сибирских лисиц, зеркало, пищаль, сработанную тульскими мастерами-оружейниками. Под зелеными пальмами коралловых островов не один год развевался русский флаг. И гавайские гитары вполне ладили с русскими гармошками.
* * *
Увы, российские цари слишком отличались от гавайских королей… Они, как обычно, были озабочены укреплением своей «вертикали власти», в которую никак не вписывалась эта утопия на тихоокеанских просторах. В правлении Российско-Американской Компании вольных землепроходцев, мореплавателей и купцов постепенно полностью сменили серые чиновники, мало что понимавшие, да и не желавшие ничего особенно понимать в специфике Аляски и Тихого океана. Для их централистского мышления это пространство было не более, чем «самой дальней провинцией» Российской империи, к тому же опасно «оторванной» от метрополии. Поэтому с середины XIX века в российских околовластных кругах начинают бродить идеи о продаже Аляски.
Заметим — речь о предоставлении Аляске независимости не заходила никогда. Хотя еще свеж был пример того, как Англия все же уступила своим американским поселенцам право самостоятельно владеть освоенной ими территорией Нового Света. Что мешало России точно так же поступить с освоенной русскими частью Америки? Установив при этом с ними стратегическое транспацифистское партнерство, подобное трансатлантическим отношениям Англии и США.
Реализации этой возможности воспрепятствовало то, что Россия в гораздо большей степени принадлежала цивилизации Старого Света, чем Англия. А в континентальной Европе тех лет еще совсем не было принято отказываться от своих заморских колоний. Это считалось «признаком слабости», хотя исторический опыт свидетельствует как раз об обратном — Англия с тех пор не проиграла ни одной европейской войны, а созданное ею Содружество оказалось куда более прочным, чем многие европоцентристские проекты. Но в России победил именно европоцентризм.
Разумеется, в продаже Аляски есть своя доля вины и у непосредственных ее жителей того времени. Они, к сожалению, мало научились у другой, восточной, части Америки опыту гражданской самоорганизации, и, в большинстве своем, молча повиновались продаже своей земли, для многих уже родной. Тяжкое тоталитарное наследие централизованного российского государства проявилось даже у потомков тех, кто в свое время бежал от него…
Однако и после «русской капитуляции» на Аляске в 1867 году, эта земля не утратила свой особый, вольный характер. Только теперь он сопротивлялся уже американскому централизму. И поныне самый выигрышный предвыборный слоган на Аляске: «Мы сначала аляскинцы, а потом американцы». У современной Аляски есть свой уникальный флаг, придуманный ее детьми и ставший официальным — золотое созвездие Большой Медведицы на темно-синем фоне зимнего северного неба. И официальный девиз: «На Север, в будущее!» Наконец, там вполне легально действует и выдвигает своих политических лидеров Партия Независимости Аляски.
Что же до продажи Россией своего Нового Света, то здесь также не обошлось без символичного знака Провидения. Деньги за Аляску так и не попали к вельможным «продавцам». Оговоренная сумма в 7,2 млн. долларов была выплачена золотом, которое везли из Нью-Йорка в Санкт-Петербург. Однако в Балтийском море судно затонуло…
Русскую Америку отпели в мюзикле «Юнона и Авось»:
Принесите карты открытий В дымке золота, как пыльца. И, облив самогоном, сожгите У надменных дверей дворца!* * *
Зеркальным отблеском освоения Аляски стала высадка американцев на Русском Севере в годы российской Гражданской войны. Формально они прибыли туда для поддержки своих русских союзников по Первой мировой войне в условиях возможного немецкого наступления. Но неожиданно возник и более близкий союз. Генерал Уайлдс Ричардсон в своих воспоминаниях «Война Америки на Севере России» писал:
1 августа 1918 года жители Архангельска, услышав о нашей экспедиции, сами восстали против местной большевистской власти, свергли ее и учредили Верховное управление Северной области.
Возглавлял это управление Николай Чайковский — очень интересный исторический деятель, известный реализацией своих утопических проектов в самой Америке. На краткий исторический миг в Архангельске словно бы воплотился аляскинский Ново-Архангельск — в то время, когда в Москве и Питере свирепствовал чекистский террор, Русский Север был экстеррриториальным островком мира, где сохранялась свободная экономика, культура, пресса. Но увы, у американцев странным образом вскоре обнаружилась та же логика, что и у русских периода освоения Аляски, — «далеко и дорого». Хотя если бы они остались — впоследствии не было бы никакой «холодной войны», да и вообще Советского Союза!
Причем для этого им вовсе не нужно было предпринимать никакой агрессии — большевики в то время сами готовы были отдать все неконтролируемые ими территории, лишь бы сохранить свою власть над российскими столицами. В 1919 году Ленин предложил Уильяму Буллиту, который приехал в Москву с полуофициальной миссией от президента Вильсона, признать большевистскую Россию, и в обмен на дипломатическое признание соглашался зафиксировать результаты Гражданской войны такими, какими они были на тот момент. То есть власть большевиков ограничилась бы несколькими центральными губерниями. Но Вудро Вильсон, полагавший, что большевики и без того вскоре падут, и потому отказавшийся от этой сделки, оказался плохим провидцем…
* * *
XXI век вновь дает шанс воплотить историческую субъектность Мыса Провидения. В соответствии с прогнозами Кеничи Омаэ, Чукотка и Аляска действительно могут превратиться в особый суверенный регион, гораздо сильнее связанный внутренне, нежели со своими метрополиями. Для этого есть все экономические и культурные предпосылки. Причем такое формирование, по крайней мере на первых порах, не будет никак противоречить политическому централизму РФ и США. Чукотка и Аляска вполне могут оставаться ассоциированными субъектами этих государств, однако сама логика процесса глокализации (→ 1–8) будет вести к цивилизационному сближению этих регионов и ослаблению централизованного контроля за ними. Именно эта утопическая земля и станет самым реальным критерием того, что заявленное «стратегическое партнерство» России и Америки не является лишь декларативным.
Владимир Видеман в своей программной статье «Ориентация — Север или окно в Америку»[69] рисует грандиозные перспективы будущего российско-американского сближения. Он предсказывает создание «стратегического трансполярного альянса», который неизбежно будет доминировать в мировой политике и экономике. Однако это взгляд с позиций некоего глобального монополизма, странный для этого автора, публикующего на своем сайте множество «антиглобалистских» манифестов.
Вообще, в самом названии этой статьи очевидна аллюзия на метафизическую поэму Гейдара Джемаля «Ориентация — Север». (→ 2–1) Но если у Джемаля речь идет о «трансформации принципиальной дисгармонии реальности в фантастическое трансобъективное бытие», то «трансполярный альянс» Видемана выглядит на этом фоне слишком приземленным. Все его цели сводятся, в сущности, к некоему механическому соединению реальных государств РФ и США — без возникновения какой-то новой, особой цивилизации. (→ 3–7)
Проблема здесь в том, что этот автор мыслит еще модернистскими категориями централизованных национальных государств и, видимо, не замечает, что мир перешел уже в совсем другую эпоху, когда основными субъектами политики становятся сами регионы, в особенности — расположенные на границах этих государств. Их прямое сотрудничество оказывается все более значимым и эффективным, чем дипломатические протоколы центральных властей. И чем более «далекими» друг от друга полагают себя политические центры этих национальных государств, тем более интересным и перспективным — в плане создания новой цивилизации — оказывается взаимодействие их пограничных регионов. Это вообще онтологический закон «сочетания противоположностей» — чем более они радикальны, тем более уникальным оказывается результат их синтеза.
После европоцентристской эпохи модерна сама Европа сегодня словно бы переживает «вторую молодость» — расцвет регионализма в Старом Свете уже таков, что заставляет усомниться, существуют ли там еще национальные государства, напоминая о временах, когда их вообще не было. Однако нынешняя Россия со своим гиперцентрализмом и европоцентризмом остается еще в состоянии модерна. Преодолеть его способен лишь выход северных регионов на уровень прямого транснационального и трансконтинентального сотрудничества с северянами других стран. Но пока оно тормозится центральными властями, резонно опасающимися того, что самостоятельный Север просто перестанет их содержать.
Север и Сибирь, занимающие 2/3 территории Российской Федерации, дают этому государству более 70 % экспортной прибыли, однако по причине его тотального экономического централизма имеют репутацию «дотационных». А «донором» изображается Москва, контролирующая нефтегазовые трубы. Менее контрастная, но схожая ситуация наблюдается и на Севере Америки. В этих условиях никакой «стратегический трансполярный альянс» между чиновниками двух стран для северян ничего не изменит.
Эта «принципиальная дисгармония реальности» может быть исправлена только с переходом в «фантастическое трансобъективное бытие» — когда власть на Севере от изолированных и централизованных государственных машин перейдет к сетевому, транснациональному гражданскому самоуправлению. Именно тогда «однополярная» Америка и гиперцентрализованная Россия уйдут в историю и уступят место глобальному Северу.
Русский, Сибирский Север по своему менталитету ближе Аляске, чем Московии. Аналогично и Аляска гораздо более похожа на Русский Север, чем на «down states», как аляскинцы называют основную территорию США. Интересными наблюдениями на этот счет делится в интернете Олег Моисеенко, русский американец, приехавший на Аляску туристом:
Аляска — это страна настоящих мужчин и настоящей мужской работы: строителей, лесорубов, нефтяников, охотников, водителей, рыбаков, капитанов и пилотов (удивительно, но факт — такую работу здесь делают и женщины!). Аляска — это мир вне СМИ, светских новостей и прочих порождений цивилизации. Это возможность принадлежать самому себе. Быть свободным от надзора полиции (вне Анкориджа). И наконец (пожалуйста, смотрите на это просто как на факт) — это все еще уголок белого человека.
Понятно, почему белого человека из «нижних штатов» последнее особенно впечатляет. В отличие от них на Аляске действительно нет той болезненной политкорректности, которая все более превращается в расизм наизнанку. Там есть просто здоровая, естественная, северная мультикультурность (→ 1–9), где никто никому не мешает быть самим собой и не заставляет стыдиться от непринадлежности к тому или иному агрессивному меньшинству. Именно эта «возможность принадлежать самому себе» и является самой удивительной чертой аляскинцев в глазах носителей навязчивых медиа-стандартов.
Однако было бы неточно изображать Аляску как некий архаичный индустриальный придаток постиндустриального мира. Там пропорционально ничуть не меньше представителей творческих, «постэкономических» (→ 1–4) профессий, чем в «нижних штатах», — но их мировоззрение существенно отличается. Величественная, прекрасная, и поныне бережно сохраняемая природа Аляски, а также репутация «края земли» воспитывает менталитет первооткрывателей, а не пассивных потребителей глобальной попсы. И это будет становиться все заметнее на фоне идеологических, демографических и региональных коллизий в «нижних штатах», борющихся за место под догорающим солнцем уходящего мира…
Примечательно, что одна из сибирских староверческих общин, которую судьба в ХХ веке заносила и в Китай, и затем в Южную Америку, в конце концов нашла свое место именно на Аляске. Их городок Николаевск вполне органично вписался и в аляскинскую природу, и в топонимику, где сохранилось множество русских названий. Хотя психология у них, конечно, существенно изменилась — нет больше пугливой подозрительности к чужакам и технике. Но нет, однако, и чрезмерно расчетливого «американизма»… Исследуя в целом феномен этой особой культуры, возникающей на русско-американском пограничье, Михаил Эпштейн предвидит их грядущий уникальный синтез:
В своей потенции это великая культура, которая не вмещается целиком ни в американскую, ни в российскую традицию, а принадлежит каким-то фантастическим культурам будущего, вроде той Амероссии, которая изображается в романе Вл. Набокова «Ада». Русско-американская культура не сводима к своим раздельным составляющим, но перерастает их, как крона, в которой далеко разошедшиеся ветви когда-то единого индо-европейского древа будут заново сплетаться, узнавать свое родство, подобно тому, как смутно узнается родство индо-европейских корней в русском «сам» и английском «same». Единые по своим глубочайшим корням, эти культуры могут оказаться едиными и по своим дальним побегам и ответвлениям, и русско-американская культура может быть одним из предвестий, прообразов такого будущего единства.
Когда я думаю о русском американце, мне представляется образ интеллектуальной и эмоциональной широты, которая могла бы сочетать в себе аналитическую тонкость и практичность американского ума и синтетические наклонности, мистическую одаренность русской души. Сочетать российскую культуру задумчивой меланхолии, сердечной тоски, светлой печали, — и американскую культуру мужественного оптимизма, деятельного участия и сострадания, веры в себя и в других…
Именно на этом «Беринговом мосту» произойдет символическое рукопожатие Семена Дежнева и Джека Лондона. Те, кто часто вспоминает киплинговские строки «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись», почему-то забывают пророческий финал этого стихотворения:
Но нет Востока, и Запада нет, Что значит племя, родина, род, Когда сильный с сильным плечом к плечу У края земли встает?3.3. Сибирская Европа
Европа — не географическое, а воображаемое пространство.
Ульрих Бек. Что такое глобализация?Сибирь потенциально могла бы стать русским Новым Светом. Хотя миссию «русского Колумба» зачастую приписывают Ермаку, зауральские земли были известны на Руси задолго до 1581 года. Это было поистине грандиозное событие мировой истории, когда вольные русские люди, прежде всего новгородцы, поморы, казаки совершили великий географический подвиг, пройдя на кочах и лодках, пешком и на лыжах, оленях и собаках свыше семи тысяч километров по арктическим морям, тайге и тундре, открыв такие крупнейшие сибирские реки, как Обь, Енисей, Лену и Амур. Мир узнал о гигантской и богатейшей стране, в полтора раза превосходящей по размерам всю Европу (вместе с доуральской Россией).
Лидер движения сибирских областников Григорий Потанин считал Сибирь по преимуществу продуктом вольнонародной колонизации, которую российское государство впоследствии утилизировало и регламентировало. Есть некий мрачный символизм в том, что легендарный Ермак, «поклонившийся царю Сибирью», утонул в Иртыше именно под тяжестью дареных царских доспехов.
Со времени освоения Сибири идеи ее превращения в суверенный Новый Свет бродили там неоднократно. Но воплотить эту утопию, увы, не удалось. Политически это неформальное движение было запрещено в 1865 году, после того как полиция при обыске в Омском кадетском корпусе изъяла у одного из его воспитанников прокламацию «Патриотам Сибири». Там, в частности говорилось:
Сибирь более чем прочие части империи прочувствовала всю тяжесть монархического гнета, всю силу притеснений и оскорблений, наносимых народу от ее самовластных правителей. С самого начала наша страна, будучи завоевана нашим народом для создания в ней независимой и свободной жизни, была беззаконно захвачена в руки жадных к обладаниям московских царей и самовольно присвоена ими вместе с народом. В продолжение почти трех столетий в неё посылались воеводы и губернаторы, которые, по своему произволу управляя ей, обирали и грабили, пытали и мучили, вешали и убивали несчастный народ наш.
Вся история Сибири ознаменована страшными насилиями и злодействами царского чиновничества, да рядом политических и экономических стеснений. Присвоение себе народных земель, захват целых гор, изобилующих драгоценностями, в казну, как Алтайских и Нерчинских, грабеж народа, разорение инородцев, сборы податей, идущих не на народные нужды, а на содержание воров и убийц народных — чиновников, на обогащение царских любовниц и толпы шпионов. Кабала целых сословий как-то: казаков и подзаводских крестьян; наводнение страны ссыльными преступниками, развращающими коренное население, стеснение торговли, создание частных и казенных монополий, в последнее время раздача земель чиновникам и покушение тем чтобы создать поземельную аристократию на угнетение народа; и еще тысячи подобных преступлений. Вот чем ознаменовало свое управление в Сибири российское правительство!
В настоящее время правительство, доведя свой народ до разорения, пытается для удержания своей власти проводить реформы. Но можно ли верить тому правительству, которое, твердя о реформах, не дает народу самому, через выборных, заботиться о своих нуждах? Такому правительству нельзя верить: оно не друг, а злодей и палач народа! Его реформы — есть низкая ложь и подлый обман!
Но как бы ни относилось правительство к Сибири, оно не сможет, по отдаленности, знать её нужды; его чиновники всегда будут людьми чуждыми народу; особая территория, производство, население, интересы — всё это требует самостоятельности Сибири, и она должна отделиться от России во имя блага своего народа, создавши свое государство на началах народного самоуправления. Демократический состав общества особенно благоприятствует Сибири создать республику, состоящую из штатов, подобно Америке.
Образовавшееся общество «Независимость Сибири» обращается ко всем сибирякам с требованием начать воспитывать молодое поколение в любви к своей родине, сорганизоваться и подготовиться к решительному дню борьбы и освобождения. Для достижения этого великого дня общество «Независимость Сибири» призывает всех любящих народ наш братски соединиться от Урала до Восточного океана в одну семью и идти искать свободы народной.
Царское правительство обрушило жесточайшие репрессии на движение областников, хотя те даже и не помышляли о каком-то политическом восстании, ограничиваясь идейно-просветительской работой. Все его лидеры были высланы из Сибири (!) и заключены в тюрьмы других российских регионов, их издания закрыты. Таким образом, само это движение продемонстрировало скорее свой европейский, а не американский характер, предпочитая разработку «правильной идеологии» прагматическому воплощению утопии.
Хотя Декларация Независимости Сибири была все же принята — Сибирской областной думой в Омске, и причем точно в годовщину соответствующей американской Декларации — 4 июля 1918 года. Однако действовала она всего лишь несколько месяцев — до узурпации власти адмиралом Колчаком, провозгласившим себя «верховным правителем России». А затем, после победы над ним большевиков, и вовсе предана забвению. Так две противостоящие друг другу, но равно имперские силы модерна уничтожили альтернативный им обеим, постмодернистский проект сибирского Нового Света. Видимо, тогда он просто опередил свое время…
Ныне, когда понятие Нового Света прочно закрепилось за Америкой, все более утрачивающей его позитивное, утопическое значение (→ 1–1), имеет смысл говорить о Сверхновом Свете. Эта, пока еще не открытая цивилизация воплотит собой северный, китежский, беловодский путь самой Сибири, возведет фантастические города (→ 3–8) и Берингов мост, который навсегда сотрет иллюзорную границу между Востоком и Западом. И открытие этого Сверхнового Света вновь начнется из Европы — только уже Сибирской.
* * *
Самые проницательные европейцы всегда смотрели на Сибирь как на перспективу своего собственного будущего. Провидец Нострадамус возвещал о грядущей «золотой стране Камшат» — Камчатке. Освальд Шпенглер, созерцая «Закат Европы», одновременно видел и скорый Восход «сибирской цивилизации». Вальтер Шубарт в книге «Европа и душа Востока» призывал: «Если европеец хочет вернуться к вечным целям человека, он должен исповедовать русско-сибирскую оценку мира».
Интересно, что прозрения многих авторов русской утопической литературы также указывали на эту перспективу. Так, в книге Фаддея Булгарина «Правдоподобные небылицы, или Странствия по свету в XXIX веке» (1824) предсказывается, что в результате климатических изменений (похолодание в Африке и потепление на Северном полюсе) большинство европейцев и русских переселится в районы Сибири. Но Булгарин предвидел не только «глобальное потепление» — в этих «Небылицах» (задолго до Жюля Верна!) описаны подводные лодки и даже то, что мы сейчас называем ксероксом…
Отношения Сибири с Европой не географические («Сибирь как часть нынешней Европы»), а хронологические («Сибирь как Европа будущего, как Новая Европа»). Три европейские цивилизации прошлого уже закончили свое развитие: или исторически исчезли (как античная и византийская), или самодеконструировались (как западная). Вообще, Европу, видимо, следует представлять как ризоматическую (→ 1–3) цивилизацию — каждая из ее ветвей, поиграв какое-то время роль «основного ствола», в конце концов отмирает и передает эстафету другой культуре.
Географическая отдаленность здесь не играет роли — напротив, границы Европы в ходе истории постоянно отодвигаются на Восток. Для античных эллинов Европа заканчивалась уже Македонией и северными районами их полуострова. Для римлян ее границы простирались не дальше восточных земель Рейна. Для Византии европейская ойкумена включала уже скифские и славянские территории. С появлением же Киевской Руси европейская граница была отодвинута к Волге и затем — к Уралу. Новгородцы отнесли ее еще дальше — на Югру, т. е. собственно в Сибирь.
Именно поэтому выглядит совершенно логичным и справедливым высказывание нынешнего сибирского полпреда Леонида Драчевского:
Сегодня где-нибудь в сибирской глубинке люди говорят на более чистом и правильном русском языке, чем в столице. В этом смысле можно сказать, что Европа заканчивается на берегу Тихого океана.[70]
Однако у этой европейской экспансии существует два зеркально противоположных понимания — рассматривать ли ее как политическое и экономическое расширение нынешнего Евросоюза (о чем мечтал бельгийский геополитик Жан Тириар в своей работе «Европа от Дублина до Владивостока»), или напротив — как обращенное к Европе глобальное развитие собственно сибирской культуры («Сибирь от Владивостока до Дублина»).
Кризис нынешней (западной) Европы во многом состоит в том странном обстоятельстве, что она, десятилетиями запугивавшая мир «сибирскими лагерями», сегодня сама ускоренными темпами приступает к строительству своего собственного «ГУЛАГа», превращаясь в унитарное централизованное государство под пятой брюссельской бюрократии. Как некогда до Руси, в начале XXI века Орда словно бы дошла до Европы, насадив там тоталитарную идеологию политкорректности… Об этом в беседе с автором этих строк[71] рассуждал известный правозащитник Владимир Буковский:
Мы еще слишком много думаем об издохшем драконе, и потому не замечаем новых, растущих опасностей. Вот, к примеру, недавний договор в Ницце о создании Европола — некоей общеевропейской полиции. По этому договору любого подозреваемого можно запросто депортировать в любую из стран Евросоюза, наплевав на национальные законодательства. И жаловаться на них вы не имеете права, потому что эти европолисмены обладают дипломатической неприкосновенностью. Но два пункта там особенно умилительны. Впервые в ранг уголовных преступлений общеевропейского масштаба введены «расизм» и «ксенофобия». Вы можете дать мне их юридически точное определение? Это чистая идеология, причем очень злобная идеология. Любое ваше высказывание можно объявить «высказыванием ненависти» («hate speech») — и оно тут же становится подсудным! Вы отныне уже не можете ни за что покритиковать черного или араба — ибо вам пришьют «расизм». Не нравится, что вашей страной управляет дядя из Брюсселя — вот вам и «ксенофобия». Да это же в точности списано с приснопамятной 70-й статьи УК РСФСР — «антисоветская агитация», под которую подогнать можно было что угодно. Была «антисоветская», будет «антиевропейская» — вот и вся разница. Любая критика порядков Евросоюза — и за решетку. Вот к чему пришли эти «гуманисты»!
Преодолеть эту «евросоветскую» тенденцию возможно, видимо, только «евросибирским» парадоксом — приглашением ко всем не желающим терять (а точнее — желающим радикально расширить) свою свободу европейцам обосноваться в Сибири. К тем, кто подобно Шпенглеру и Шубарту, комплиментарно настроен по отношению к сибирякам. И также, как и они, устал от своих «центральных» правительств, которые, находясь в плену политкорректности, только поощряют массовое демографическое нашествие с Юга. Ранняя русская миграция в Сибирь строилась именно по таким законам — дабы предотвратить заселение этих огромных земель недобитыми ордынцами, желающие туда перебраться купцы и казаки бесплатно получали отрез земли и право беспошлинной торговли.
В проекте Транслаборатории «Европа от Китежа до Аляски» на этот счет говорилось:
Абсурдной является нынешняя ситуация, когда огромную территорию за Уралом населяет всего 30 миллионов человек, когда жители Дальнего Востока и Крайнего Севера оставлены на произвол судьбы и принуждены к эвакуации. Тогда как необходимо, напротив, начать ее настоящее освоение, которое полностью изменит лицо мира. В Сибири и на Дальнем Востоке должно жить не 30, а как минимум 300 миллионов человек. Это великое, полностью самодостаточное пространство и станет базой для создания и развития новой цивилизации XXI века.
Природные ресурсы Сибири вполне позволяют добиться такого уровня развития, который бы смог обеспечить жизнь этих 300 миллионов. Сибирь — вовсе не такая сплошная вечная мерзлота, как обычно думают. Сибирская территория, расположенная южнее 60 широты (широта Петербурга), в три раза превосходит аналогичную территорию европейской части России, включая Урал. Почвы южной Сибири (в некоторых местах — больше двух метров плодородного слоя) в среднем гораздо лучше, чем почвы Европы, особенно каменистой Центральной Европы, где на крошечной территории скучилось свыше 200 миллионов человек. При том, что территории Южной Сибири, Приамурья и Приморья климатически столь же удобны для жизни, как средний пояс европейской России, Сибирь — не просто недонаселенный, а можно даже сказать — почти необитаемый континент. Может быть, в этом есть своя мистика истории, что после трагической эпохи поисков счастья в других странах и по чужим рецептам, Россия вдруг получает (вернее — открывает в самой себе) такой бесценный подарок.
В авторитетных газетах Америки уже публиковались проекты «выкупить» у России Сибирь и Дальний Восток за несколько триллионов долларов, как когда-то была «выкуплена» наша Аляска. Нынешняя московская «элита», судя по ее политике в отношении этих регионов, наверняка мечтает получить комиссионные от этой сделки. Но если уж возникнет такая необходимость, то логичнее продать Америке американизированную Москву, на вывоз, со всеми ее потрохами и нечистотами, со всеми столичными политиками, бизнесменами, артистами, журналистами, — а на месте этой раковой опухоли снова будет расти прекрасный сосновый бор, снова выйдут на божий свет сосланные в подземное заточение московские реки.
* * *
Ректор Института прикладной теологии и социодинамики Алексей Романовский символически ярко обрисовал мировоззренческие различия Европы и Сибири в контексте российского пространства:
Северо-Запад: Город и Горы. Петербург и Урал, урбанизм и технократия, «сделайте мне понятно», Медный Всадник и Жук в Муравейнике, военно-морской флот, прогрессоры и командоры, Саша Черный и Анна Ахматова, сосны на морском берегу, солнечные стены, мокрый асфальт, трамвайные рельсы…
Москва, наблюдаемая с Северо-Запада — безумна.
Северо-Восток: Тайга, Степь, Тундра… Сибирь и Рязань, экология, гумилевика и таежное право, казачество и старообрядчество, Шукшин, Пришвин и японская проза, шаманы и олени, снег и красный камень в ручье, сказки о зайцах и музыкантах, хайку и созерцание…
Москва, наблюдаемая с Северо-Востока — безжизненна.
Интересно, что оба набора ценностей — техно- и экосфера — лежат целиком вне человека, помимо человека. Они конкретны, а не мифологичны — и потому не могут быть присвоены и перетолкованы политиками с той же легкостью, как, например, «справедливость» или «патриотизм».
Тем не менее, обе эти сферы не противоречат друг другу, но взаимно дополняют. Это превосходно видно на примере того же Петербурга — города «более европейского, чем сама Европа», но при этом гораздо более близкого к Сибири, чем Москва. Движение сибирских областников XIX века неслучайно зародилось именно в Петербургском университете. Да и в советское время в основном именно ленинградские институты обеспечивали освоение и развитие северных и сибирских пространств, тогда как Москва учила марксизму «прогрессивные силы Азии, Африки и Латинской Америки».
Вклад Петербурга в развитие Сибири не исчерпывался только разведкой и разработкой природных богатств — это и сегодня с успехом делает Москва, конвертируя 80 % всех российских ресурсов, сосредоточенных в Сибири, в 80 % всех финансов страны, сосредоточенных в столичных банках. Петербург оказал колоссальное влияние на складывание современного интеллектуального и культурного потенциала Сибири. Но, раскрываясь, этот потенциал вдруг оказывается очень самобытным, самостоятельным и даже более «изначально европейским».
Сибиряки вообще ныне имеют все исторические «права на Европу», поскольку это именно они осуществили первую победу, приведшую к перелому во Второй мировой войне. Именно легендарные «сибирские дивизии» отстояли в 1941 году Москву, когда оттуда в панике разбегались «комиссары в пыльных шлемах», а вся Европа, за исключением Англии, никакого другого будущего уже не видела…
Красноярский политик и общественный деятель Павел Клачков объясняет эту сибирскую специфику так:
Все больше подозрений в том, что на территории Сибири случился пассионарный толчок. Здесь появляется все больше талантливых и энергичных людей. В федеральном центре, наоборот, налицо деградация и разложение. Это очень бросается в глаза при перелетах Красноярск-Москва и обратно. Словно сообщение между двумя вселенными. По идее, в центре власти люди должны быть качественнее, сильнее, на окраине — слабее и бестолковее. На самом деле, все наоборот. То есть, не как в Британской империи времен расцвета — невозмутимые джентльмены, бесстрашные пираты, верные правительственные войска и чахлые аборигены, смуглые прокаженные, раздробленные индейцы. А как в Римской империи времен заката — развращенные, изнеженные патриции, обожравшиеся устрицами граждане и сильные, вольные и волевые варвары.
В отношении сибиряков к москвичам господствует не антигосударственнический пафос, а подозрение в том, что жители метрополии предали нас. Им нельзя доверять. Они лукавы и корыстны. Власти неадекватны. Сибиряки не хотят терять великую страну и замыкаться в ограниченном пространстве, пусть с нефтью и газом. Просто центр власти может изменить свое место. Причем сам собой. Постепенно. На абсолютно новых основаниях, свойственных именно двадцать первому веку.
Это самостоятельное, могучее, матёрое сибирское самосознание совершенно не укладывается в рамки банальной рациональности. Независимые социологи, проводившие в 2000 году в Сибири свои исследования, были несказанно поражены парадоксом, когда на такие «полярно противоположные» вопросы, как: «Хотите ли вы жить в великой и мощной стране?» и «Хотите ли вы отделиться от Москвы?» они получили одинаково твердое «Да!», близкое к 90 %…
* * *
Это уникальное самосознание первыми сформулировали лидеры сибирского областничества — Григорий Потанин, Николай Ядринцев, Афанасий Щапов и др. Они прекрасно знали европейскую интеллектуальную жизнь своего времени — но уже тогда были свободны от довлевшего в ней «лево-правого» дуализма. Есть сведения, что на ранней стадии на это движение существенно повлиял «отец русского анархизма» Михаил Бакунин — но в отличие от него они были куда большими почвенниками и традиционалистами.
Областники впервые повели речь о том, что богатейшие ресурсы Сибири должны служить в первую очередь самим сибирякам, и что интересы всей России заключаются именно в процветании самостоятельных областей (отсюда и их самоназвание). Это было своего рода воскрешение на новом историческом этапе древнерусского, новгородского проекта — России не как централистской империи, но континента самоуправляемых княжеств. (→ 3–1) Сибирь, по мнению областников, оставалась бы «нераздельною частью» такой России, но при этом представляя собой достаточно обособленную область как по своим историческим, географическим и общественным условиям, так и по экономическим интересам.
По существу, это был проект, близкий тому, в который постепенно превратился англоязычный мир, — Британия, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия дорожат своим культурным и языковым родством, но при этом не приветствуют чей-то колониальный централизм в своем сообществе. Эта сетевая, трансрегиональная стратегия напоминает и современный европейский регионализм, стремящийся к прямому общению регионов без посредничества какой бы то ни было метрополии.
В своей книге «Сибирь как колония» Николай Ядринцев подробно исследовал, как российская метрополия в действительности лишь тормозила открытие и развитие Сибири. Сначала в Сибири развивался исключительно пушной промысел — и Москва первым делом постаралась установить за ним тотальный контроль. Разумеется, не из экологических, а из сугубо денежных соображений. Поморы, имевшие хороший ледовый флот и навыки плавания в полярных морях, знали самый короткий путь в Сибирь — от Архангельска до Енисейской губы при сопутствующих погодных условиях можно было дойти за 3–4 недели. Но ходить этим путем им было запрещено, поскольку у сухопутных московских чиновников не было возможности его контролировать. Велено было идти в Сибирь исключительно через Великий Устюг — Верхотурье, где была установлена таможня. А архангелогородцам приказали на Восток «по морю не ходити». Евразийство всегда опасалось морей…
От наблюдения такого абсурда у областников рождались довольно пророческие призывы, вроде четверостишия Афанасия Щапова:
Пора провинциям вставать, Оковы, цепи вековые Централизации свергать, Сзывать Советы областныеЭто написано в 60-х годах XIX века. Увы, автор не мог догадываться, что сами эти «Советы» вновь воспроизведут ненавистные цепи централизации, и еще более крепкие…
Тем не менее, по убеждению областников, Сибирь все же оказалась заселенной «самой энергичной и предприимчивой частью русских людей». И там постепенно сложился особый антропологический тип сибиряка — закаленного природой, не отравленного унижениями крепостного права, тип, которому близок дух открытия. Ядринцев даже делает радикальный вывод:
Сибиряк считает себя русским, а на русского поселенца смотрит как на совершенно чужого ему человека, сомневаясь в его русской национальности.
Видимо, так и рождается новый народ! Но все же областников ни в коей мере нельзя было назвать узкими националистами. При всей своей симпатии к Америке они всегда жестко критиковали политику ее пионеров по отношению к коренным народам. Ядринцев уделяет этому особое внимание:
Мы не можем относиться безучастно к судьбе инородцев и к инородческому вопросу в России и Сибири. Нельзя допустить, чтобы рядом с благополучием одной расы ухудшалось положение таких же людей, живущих рядом; невыгодно иметь среди развивающейся культуры, в стране, тронутой этой культурой, пустыни дикарей, обреченных на бедственное состояние; несправедливо, давая просвещение одной части населения, исключать другую. Наконец, невозможно допускать в крае, где усваивается цивилизация и просвещение, какое-либо унижение, рабство и эксплуатацию человеческой личности.
Однако проблему равноправия коренных жителей Сибири не следует «политкорректно» путать с проблемой массовой миграции других, южных народов. Со времен областников она радикально обострилась и для всех сибиряков ныне превратилась в одну из главных. Сибирь сейчас фактически стоит перед угрозой «харбинизации» — когда основанный русскими железнодорожниками город, с русскими названиями улиц (среди которых была даже «Новгородская»!), многочисленными русскими школами и православными храмами буквально за несколько лет стал абсолютно китайским. Сегодня, пользуясь «геополитическими» расчетами московского правительства, не желающего портить отношения с Китаем и потому закрывающего глаза на эту демографическую экспансию, китайцы уже проникают в Сибирь миллионами. Причем эта экспансия того же порядка, что и арабская в нынешней Европе — ее составляют вовсе не носители древней высокой культуры, а в основном этнические торгово-криминальные группировки, меняющие свои «стеклянные бусы» на богатства «глупых белых туземцев».
Никакая культура не может быть сохранена лишь за счет консервативной изоляции. Ей требуется свой — новый, альтернативный, позитивный проект. Европейский облик Сибири могут сформировать лишь сами сибиряки, которые осознают себя Новой Европой.
* * *
Новосибирский академик Влаиль Казначеев предсказывает:
Сибирь должна стать новым центром мировой цивилизации, источником величайших научных открытий в 21 веке, новой философии устройства Мира и места Человека в нём, новейших образцов культуры.
По его мнению, для этого у Сибири есть всё — необъятное жизненное пространство, природные ресурсы, колоссальный интеллектуальный и творческий потенциал. Не хватает лишь одного — политической воли. Роль выразителя этой воли, на взгляд академика, может выполнить новое поколение интеллектуалов и творческих людей, не собирающееся уезжать из Сибири. Казначеев даже выдвигает «лозунг эпохи»: Талантливые дети спасут Сибирь, а Сибирь — Россию!
Пока же очевиден слишком резкий контраст между этим утопическим проектом и антиутопической реальностью. Причины его Казначеев видит в первую очередь в «качестве нации»:
Я не могу назвать другие нации и страны, которые бы за одно столетие пережили три глобальных исторических стресса — Первую мировую войну и революцию, вал репрессий и Великую Отечественную войну, теперь рыночные реформы. Мы не просто потеряли в них почти сто миллионов жизней. Произошел сдвиг в качестве нации, сместился социально-психологический геном.
Главная проблема нынешних русских, таким образом, даже не региональная, а антропологическая, хотя они и нераздельно связаны:
Сегодняшнее реформирование здравоохранения, образования, армии не просто бессистемно, оно непонятно по сути. Человек в этих реформах рассматривается как саморазумеющееся явление. Достаточно накормить, народятся, как клопы. В нынешних условиях нацию надо делать. Надо выделять талантливых детей, особо обучать их — перспективу цивилизации в будущем будут определять ее интеллектуальные возможности. На Западе рождается новый пласт превентивного социально-медицинско-экологического направления. Есть целые институты, которые занимаются генетикой, эпигенетикой, географической экологией рода. Нам приходится успокаивать себя тем, что Россия талантами не оскудела. У нас проблема их реализации. Коэффициент использования духовных, интеллектуальных качеств личности в России не больше 5 процентов. Человек с его талантами и способностями сегодня не больше чем товар. Расходуемый без мысли о завтрашнем дне. Если ситуацию не изменить, нация неминуемо уйдет в «дефолт».
«Сделать» новую нацию способен именно сибирско-европейский этнический синтез, который будет сочетать в себе европейское развитие личности и широту сибирского характера. В глобальной экономике Сибирь будет тяготеть к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Но — играя там роль Европы! В этом процессе неизбежно произойдет и новая транскультурация. Ортодоксальные деятели Московской патриархии неслучайно с таким беспокойством говорят об успехах в Сибири и на Дальнем Востоке так называемых «нетрадиционных для России», а на самом деле абсолютно традиционных и органичных для этих мест синкретических культов и религиозных движений. Нео-шаманизм, живая мифология, визионерские практики все более становятся «матрицей» специфически сибирского мышления, на основе которой затем возникают уже вполне рациональные интеллектуальные модели. Но точно таков же был и исток Европы — кельтской и эллинской.
Музыковеды, к примеру, давно уже бьются над загадкой сибирского рока, весьма отличающегося и от «питерского героического», и от «московского шутовского».[72] Сибирский рок скорее подобен шаманскому трансу. Он углубляется в древнейшие мифологические архетипы, легко делая их естественным атрибутом сегодняшнего дня («Калинов мост»). Даже сибирский панк — это не самоцельный эпатаж, как у английских родоначальников этого стиля и их русскоязычных подражателей, но несет в себе трансцендентные измерения («Гражданская оборона», Янка Дягилева, «Инструкция по выживанию», «Теплая трасса» и др.). При этом он вполне сочетается с новейшими электронными технологиями («Ят-Ха», сборник «Транссибирский экспресс»…) Так что, вполне возможно, в Сибири вскоре возникнет своя Ибица. (→ 2–5) Постколониальное развитие Сибири означает радикальное изменение ее имиджа — из «сырьевой провинции» в «место паломничества».
* * *
Все великие сибирские реки текут на Север — как бы ни пытались их «развернуть» московские антиутописты. Именно по этим рекам ныне плывет Зевс, совершая очередное «похищение Европы»…
3.4. Северославия
В крушеньях царств, в самосожженьях зла
Душа народов плавилась и крепла:
России нет — она себя сожгла,
Но Славия воссветится из пепла!
Максимилиан ВолошинИмя, данное при посвящении, человеку не принадлежит. Это категория метафизическая — знак открываемой сущности, нить из времени в вечность, из мира в миф. Это знают все носители новых имен — христиане и язычники, революционеры и разведчики, поэты и неформалы. Есть у них конечно и обычные имена, «как у людей» — но пользуются они ими лишь вынужденно, на общепринятом языке случайных видимостей…
«Реальность» того или иного посвящения обсуждать смысла нет — это вопрос веры, неразрешимый извне. Но главное, с чем, наверное, согласятся представители любой традиции — обретение нового имени оказывает колоссальное трансформирующее влияние на личность неофита. У него меняется психология, образ мысли, стиль жизни… И напротив — утрата или забвение нового имени обрывает эту сакральную нить, возвращает человека в профанический мир «паспортных данных».
Аналогично — и с именем той или иной страны. Его перемена влечет за собой глубокую трансформацию национального менталитета. Имя, возникающее в результате такого «посвящения», сменяет этническое самоназвание и становится символом глобальной исторической миссии. Владычица Морей, Новый Свет, Третий Рейх — именно такие символы. Таким же именем-символом был и Советский Союз — название страны, взявшей на себя миссию глобального построения коммунизма. Оценивать этот опыт можно как угодно, но любой непредвзятый исследователь непременно отметит резкий контраст между менталитетом «советского народа», ощущавшего себя субъектом мировой истории, и уровнем мышления сменивших его «дорогих россиян».
Хотя с 1917 года Россия существовала чисто «метафорически» — как и Византия после 1453-го. Извне конечно можно было по-прежнему именовать Стамбул Константинополем или Царьградом, но это была уже совершенно другая цивилизация. В ХХ веке Россия аналогичным образом превратилась в СССР. А поскольку история не знает буквальных реставраций, то попытка в 90-е годы «превратить ее обратно» не могла быть ничем иным, кроме пародии. Бывшие коммунисты, занявшиеся «возрождением России», лишь заставили воспринимать ее прежний герб как жертву биологической мутации.
Но почему же Россия не может называться просто Россией, безо всяких «новых имен»? По инерции, конечно, может, но это инерция мавзолея, непрерывная «борьба с распадом». Сегодня мы имеем дело не с кризисом «российской государственности» — ее нет с 1917 года, есть лишь сместившийся в архаику осколок советской. Но — с кризисом самой «российской идеи» как таковой, которая исторически складывалась на основе Орды и Московского царства. Она фактически уже исчерпала саму себя, отказавшись от всякого исторического творчествав пользу самоцельного удержания и укрепления существующего порядка. Но в сущности, в ней этого творчества никогда и не было — за исключением Петровской эпохи. Все остальное время она лишь сочиняла всевозможные изоляционистские и охранительные идеологии. А для творения истории необходима утопия.
Русь как трансисторический код (→ 3–1) может проявиться лишь в новой утопической цивилизации с новым именем. Относительно недавний и близкий опыт создания такой цивилизации есть — у европейских славян. Знакомство с этим опытом и его уроками представляется нам не просто поучительным, но и провиденциальным.
* * *
Югославский проект был абсолютно трансцендентен истории, которая разметала южных славян по разным конфессиям и противопоставила родственные народы друг другу. Сербы и черногорцы веками пребывали под духовным влиянием Византии, тогда как хорваты и словенцы — Ватикана. О необходимости преодоления этого раскола славянской культуры говорили многие выдающиеся люди с обеих сторон. Ярче всех, пожалуй, высказался известный хорватский писатель и путешественник XVII века Юрий Крижанич:
Мы должны хранить то, что приняли, но до ссор греческих и римских нам дела нет; пусть патриарх и папа хоть в бороды вцепятся за свое первенство, а мы не должны из-за них вести между собой раздоры.
Практическое преодоление раскола началось в конце Первой мировой войны с возникновением Югославянского комитета, созданного сербскими, хорватскими и словенскими общественными деятелями. Химерическая Австро-Венгерская империя, тиранившая южных славян, рухнула, но мир не стал более безопасным. И в переломном для российской истории 1917 году на греческом острове Корфу произошло не менее знаковое событие: сербский премьер Никола Пашич, хорват Анте Трумбич и словенец Антон Корошец подписали Декларацию о создании единого Королевства славянских наций Южной Европы. В 1918-м оно было провозглашено официально, а в 1929-м получило новое имя — Югославия.
Уникальность этого объединительного проекта состояла в том, что он впервые не предусматривал никакой конфессиональной унификации (к чему стремился православный прозелитизм Москвы и католический Рима и Польши), но был нацелен на создание новой общеславянской цивилизации. Обращение к единству культурных и языковых истоков, к общей южнославянской мифологии и совместной европейской политике существенно смягчало конфессиональные противоречия.
Южное славянство, сумев породить свой собственный цивилизационный проект, из постоянного объекта влияния извне стало самостоятельным субъектом истории, фактически — аналогом «романо-германской цивилизации», столь же конфессионально двойственной (католически-протестантской), но при этом считающейся общей культурной матрицей народов Западной Европы. В синтезе этой новой славянской цивилизации, преодолевшей конфессиональные барьеры, состоял колоссальный исторический вклад балканских народов в мировое развитие славянской культуры, которая как раз тогда в стране, считавшейся ее «главным защитником», изводилась под корень. Центр мирового славянства в 20-е годы ХХ века фактически переместился в Югославию — и неслучайно, что множество русских эмигрантов нашли себе самый добрый и надежный приют именно там.
Если выйти за рамки привычных клише, можно воспринять югославскую цивилизацию как «зеркальное отражение» западноевропейской. Если Сербия — это «Франция» славянского мира, то Хорватия — «Германия», а Словения — «Англия». (Это странное «отражение» можно прослеживать сколь угодно глубоко — например, аналогом ирландских католиков, отрезанных от Рима протестантской Англией, здесь будут обитающие на крайнем западе славянского мира, в итало-австрийских Альпах, православные словенцы — белокраинцы.) Такое сопоставление, при всей его условности, дает однако весьма наглядную картину культурного многообразия славянского мира, ничуть не уступающего западноевропейскому.
Возникновение Югославии означало появление Славянской Европы — исторически родственной, но мультикультурной и полицентричной цивилизации. Это было первое воплощение доктрины «славянской взаимности», которая творчески и теоретически разрабатывалась с XIX века в основном чешскими и словацкими мыслителями (Ян Коллар, Людевит Штур, Павел-Йозеф Шафарик и др.), пытавшимися найти формулу исторического примирения раздиравшего славянский мир православно-католического конфликта, избавить братские народы от роли заложников этой межконфессиональной войны.
И когда Югославия была создана, разумеется, что у такого масштабного проекта нашлись жесткие критики — в основном это были узкие националисты того или иного народа, что, однако, странным образом совмещалось с их откровенным обслуживанием интересов какой-нибудь крупной зарубежной державы в ущерб общеславянским. (Такое поведение на литературном языке иногда и называется «геополитикой»). В основном речь шла о Германии, обретавшей в 30-е годы доминирующее значение в Европе. Хотя у славян, которые помнили историю, вроде бы не было поводов для особых симпатий к германцам — с тех пор, как те еще в XII веке уничтожили прообраз такой общеславянской цивилизации — Полабские княжества, и насильственно онемечили их население — лужицких сербов, бодричей и лютичей. Их столицы назывались Липск и Драждяна, но мы теперь знаем их по «ремейкам» — а-ля Любляна/Лайбах.
Однако если германофилия хорватов — явление достаточно традиционное, имеющее массу историко-культурных обоснований, то удивительно, что в 30-е годы она порой захлестывала и сербских национал-радикалов, и даже докатилась до 90-х, эпохи полного распада Югославского проекта. Так, по версии современного идеолога сербского национализма Драгоша Калаича, Югославия была создана масонами и атлантистами в противовес Германии, и поэтому ее развал «можно рассматривать как своего рода следствие торжества правды над этим неправедным и искусственным образованием».
Высшей степенью «торжества правды» по этой логике, видимо, стала бомбардировка упрямых белградских масонов в 1999 году истинными арийцами Клинтоном и Олбрайт!
Именно в силу нарастания таких узкоэтнических настроений, подхлестнутых германской оккупацией в 1941-м, становление некоммунистического Югославского проекта было прервано. И во время войны югославянская цивилизация вновь распалась на отдельные этносы — произошло возвращение «профанических имен»… Возникли этнически чистые (по терминологии Калаича, надо полагать, «праведные и естественные»), одинаково прогерманские государства — Хорватия и Сербия, а их боевые отряды (усташи и четники) развязали невиданный взаимный геноцид, которому поражались даже нацисты — документально зафиксированы случаи, когда им приходилось выступать между ними в качестве аналога «голубых касок ООН». Общее славянское происхождение и один язык перестали быть препятствием для этой, сугубо конфессиональной вражды. Националисты обеих сторон проклинали Югославский проект как «утопию» — но взамен его добились лишь самой кровавой антиутопии, которая когда-либо была на Балканах. Позднее христианство (→ 2–6), в облике обеих враждующих конфессий, продемонстрировало на Балканах свое настоящее лицо, став единственным оправданием их небывалой взаимной ненависти…
В условиях тотальной межнациональной войны утопический Югославский проект был преемствован партизанами Антифашистского веча народного освобождения Югославии, руководил которым лидер коммунистов Иосип Броз. (Это личное лидерство, кстати, поначалу вызывало сомнения, и его партийное новое имя порою расшифровывали как аббревиатуру — Третья Интернациональная Террористическая Организация.) Тито был единственным из главнокомандующих Второй мировой войны, кто вступил в нее без регулярной армии (государственная разбежалась по национальным уделам) — но за 2–3 года его армией стал почти миллион партизан всех южнославянских наций, вроде бы навсегда стравленных националистической пропагандой (загадка южнославянского менталитета!). Это была самая мощная армия сопротивления в европейских странах, превосходящая и по количеству, и по «науке побеждать» даже англо-американские десанты, и потому вызывавшая наибольшую панику и беспокойство у оккупантов. Партизаны Тито освободили свою страну практически самостоятельно, и изо всех стран Восточной Европы Югославия была единственной, в которой коммунисты победили в результате народной поддержки, а не потому, что пришла советская армия. Именно в этом кроются истоки вспыхнувшей позже «битвы двух Иосифов». А также то, что в титовской Югославии слово «партизан» всегда было более популярным, чем «коммунист».
Таким образом, возникла «вторая Югославия» — только уже в новой, социалистической форме, предусматривавшей жесткие репрессии против любых «проявлений национализма». Но, видимо, только таким образом можно было укротить разбушевавшиеся во время войны этнические стихии, грозившие южным славянам тотальным взаимоистреблением. Позже, в 60-70-е годы этот проект существенно смягчился и обрел довольно гармоничную форму федерации шести равноправных республик, премьеры которой назначались по принципу ротации. В «Союзе республик свободных» такого не было никогда. А в Югославии этот закон соблюдался еще 10 лет после смерти Тито…
Конфликт Тито со Сталиным — это было столкновение утопии и идеологии. Тито еще в 1944 году заявил советскому вождю: «Прежде всего мы хотим сильной и независимой Югославии, построенной на демократических принципах». У Сталина же были на этот счет другие планы — и от «братьев-славян» постепенно, но все более настойчиво стали требовать буквального следования советским стандартам в политике и экономике. И даже создания «Балканской федерации» — южноевропейского аналога СССР. Поначалу югославы даже сами продвигали эту идею, пока вдруг не осознали, что шаг за шагом утрачивают свою с таким трудом и кровью завоеванную свободу, а требования и приказы Кремля становятся все жестче и ультимативнее. Наконец, когда Югославия оказалась перед угрозой полной потери своего национального суверенитета, Тито с соратниками нашли в себе смелость отвергнуть крепкие объятия «старшего брата». Для мировых наблюдателей это было невообразимым нонсенсом — самый ближайший европейский союзник СССР посмел не просто ослушаться всесильного Сталина, но и заявить, что тот, в угоду своим великодержавным амбициям, предал идеалы коммунистического интернационализма. И постепенно эти, поначалу сугубо идейные, разногласия внутри коммунистического движения переросли в острейшее политическое противостояние, оказавшееся даже сильнее, чем между коммунистами и антикоммунистами!
И хотя разрыв с СССР, своим главным «братом по оружию», не был выбором Тито, ему для сохранения независимости Югославии пришлось останавливать «евразийскую» экспансию Сталина. Иначе бы его не поняли свои же партизаны. А служившие и работавшие после войны в СССР югославы уже ставились перед выбором — либо присягать Сталину, либо отправляться в сибирские лагеря. И ответ мог быть только зеркальным — в 1949-53 годах на адриатическом острове Голи Оток существовал лагерь для сталинистов. Югославские коммунисты называли их «москвичами». За что и получили в советской прессе стабильное клеймо «фашистов».
Вообще же, личность Тито полна таких парадоксов, что неудивительно его неприятие и западными, и восточными догматиками. Западные либералы привычно упрекали его в «авторитаризме» — но почему-то напрочь забывали оглянуться и увидеть, что в те же 50-60-е годы западными странами также управляли далеко не «голуби», продолжались колониальные войны, молодежи навязывались архаичные принципы жизни, что в конце концов и вылилось в «бунт» 1968 года.[73] Советские идеологи, напротив, обвиняли Тито в «отступлении от социализма» — хотя именно он единственным в «соцлагере» воплотил именно социалистические, по Марксу, принципы коллективного самоуправления предприятий, экономической децентрализации и даже частного землевладения для крестьян. До такого в СССР не дошла не только горбачевская «перестройка», но и позднейшие российские «реформаторы»…
Политика Тито, несмотря на его разрыв со Сталиным и налаживание отношений с Западом, тем не менее не привела ко вступлению Югославии в НАТО. Вождь югославских партизан упорно отказывался от этого не раз предлагавшегося ему выбора, заявляя, что «в случае новой европейской войны мы поддержим обороняющихся». Казалось бы, Югославии грозила полная политическая изоляция в условиях начавшегося в Европе складывания двух противостоящих блоков. Однако дипломатический талант Тито обнаружил совершенно неожиданное «третье решение», ставшее, наверное, важнейшим вкладом этой личности в политическую историю ХХ века, и поднявшее мировое значение Югославии на небывалую высоту. Вместе с лидерами Индии и Египта, Неру и Насером, Тито стал соучредителем Движения Неприсоединения. Это было важнейшее событие — в мировую политику вошли недавние колонии, которые до этого никто не рассматривал в качестве «серьезных игроков», но заставили считаться с собой лидеров обоих блоков. Именно это альтернативное международное Движение, защищавшее интересы народов, а не идеологий, можно считать предтечей современного альтерглобализма. (→ 1–7)
Воплощенная утопия Тито состояла в том, что ему, в условиях жесткого двуполярного мира, удалось создать уникальную, реально независимую и экономически развитую европейскую страну, которая могла себе позволить свободу одновременно выступать против советского вторжения в Чехословакию и американской агрессии во Вьетнаме. При этом там кипела бурная интеллектуальная и культурная жизнь, формировались новые поколения, гордо именовавшие себя «югославами» — не забывая о своих этнических корнях, но и не замыкаясь в них, а мысля совершенно глобально. Критериев для понимания такой политики тогда просто не находилось. А международному авторитету Югославии в 60-70-е годы завидовали другие европейские страны по обе стороны «железного занавеса».
Главная причина трагического крушения Югославского проекта в 80-90-е годы — утрата той самой интегральной субъектности, которая когда-то и вызвала его к жизни. Эта субъектность не сводилась к личности Тито — в последние десятилетия ее выражали миллионы южных славян, определявшие свою национальную принадлежность как «югославы». Особенно глубоко ее чувствовали люди стратегического и творческого мышления, экономисты и дипломаты, деятели науки и культуры, все те, кто и обеспечивал высокий международный статус Югославии. Вся эта элита оказалась просто «лишней» в условиях нового внутреннего раскола на «Великую Сербию», «Великую Хорватию» и т. д., где это «величие» сводилось к сугубо этническим категориям. Вновь началось массовое и зачастую насильственное переселение людей по «своим» национальным республикам. Это регрессивное упрощение означало утрату южными славянами своего нового имени, их историческую самопрофанацию.
Корни этого события состоят в том, что официальная идеология «Братства и Единства» стала противоречить самому этому братству и единству в реальности. Братские чувства возникают только между самими братьями, их нельзя навязать со стороны. Единство без уникальности его элементов вырождается в единообразие. Официальная же идеология, механически затвердившая это «братство и единство», тем самым начисто выхолостила его, перестав различать самих «братьев». Вышло в точности по Мангейму (→ 1–2): живая утопия, некогда объединившая южных славян искренней волей к созданию общей цивилизации, превратилась в абстрактную идеологию, «не достигающую реализации своего содержания». Содержанием здесь явилась бы «цветущая сложность»[74] всех национальных культур, а ее подменили упрощенной схемой, «общим знаменателем», который все более стремился к нулю…
Наиболее подавленными такой политикой себя чувствовали сербы, самая крупная нация в Югославии, которая, однако, не имела достойных возможностей культурного самовыражения, поскольку ее представители, при углублении в свою национальную традицию, неизменно обвинялись официальными идеологами в «шовинизме». Такое целенаправленное подавление сербской культуры официальным «интернационализмом» после его исчезновения породило сверхмощный национальный ответ. Однако трагический парадокс состоял в том, что именно это «национальное возрождение» явилось основным фактором разрушения всей Югославской цивилизации.
Это «возрождение» действительно вскоре обрело шовинистические черты — отвергая югославский коммунистический интернационализм, радикальные сербские деятели желали, тем не менее, удержать за собой всю территорию Югославии, объявив в 1991 году хорватов и словенцев «сепаратистами». Но фактически это было уже не «подавление сепаратизма», поскольку официальная белградская пропаганда уже вещала не о «многонациональной Югославии», а о «Великой Сербии», в которой эти республики никогда не состояли. Некогда многонациональная Югославская народная армия стала чисто сербской, и, предав свои освободительные антифашистские традиции, обрушилась с карательной агрессией на Словению и особенно Хорватию, невзирая на жертвы и культурные памятники — так, длительной осаде и артиллерийским обстрелам подвергся знаменитый средневековый Дубровник, «славянские Афины». Позже, по такому же, этно-конфессиональному принципу началась и боснийская война, в ходе которой боевики Караджича (вызывающие чрезмерный восторг у русских националистов) практически стерли с лица земли все олимпийские объекты 1984 года в Сараево — последнее напоминание о мировом значении южнославянского единства. Однако перед ответным кровавым варварством по отношению к сербам со стороны также «возродившихся» хорватских усташей и боснийских мусульман (которые этнически те же самые сербы!) померкли даже иные картины Второй мировой… Такова оказалась цена отказа южных славян от своей единой цивилизации.
Можно сколько угодно обвинять любые внешние силы в нагнетании этой войны и поддержке той или другой стороны — но это лишь следствие, главная причина катастрофы состояла в том, что в самой Югославии уже не нашлось лидеров, способных подняться над узкоэтническими интересами и выступить миротворцами от лица нового «Югославянского комитета». «Третья Югославия», созданная в 1992 году из Сербии и Черногории, уже не преемствовала эту цивилизацию, а являлась ее чисто номинальным осколком. Сербский юрист Воислав Коштуница, позже ставший ее президентом, еще тогда справедливо заметил, что «после выхода из состава Федерации хорватов и словенцев название «Югославия», то есть «государство южных славян», потеряло тот смысл, который вкладывали в это понятие его основатели».
Ныне слова «Югославия» на карте мира уже не существует. Утопический проект единого государства южных славян, с его интересной и неоднозначной историей, окончен. Хотя виртуальные государства КиберЮгославия и NSK (→ 1–5) обретают все больше «граждан». Это значит, что вкус к утопии здесь безусловно остался — но требует новых, актуальных форм и измерений…
* * *
Корень славия в названии страны исторически возник не в решениях Югославянского комитета. Еще в Х веке арабские географы называли Новгородские земли «Ас-Славия» (→ 3–1), и по всей вероятности, новгородцы действительно именовали свою страну «Славия».[75] При внимательном исследовании культурных и языковых параллелей между северными и южными славянскими землями приходит парадоксальное понимание, что в Новгородской цивилизации словно бы отражается и фокусируется вся Южнославянская.
Прежде всего, аналогом самого Новгорода в южнославянском мире, хоть и меньшим по масштабу, но большим по историческому времени, была Дубровницкая республика — независимый «город-государство» на Адриатике, просуществовавший с IX по XIX век. Дубровник создал столь же уникальную славянскую культуру, как новгородская, со всем литературным и архитектурным великолепием. Имея мощный флот, он также свободно общался и торговал со всем окружающим миром, но его знаменитые крепостные стены, в отличие от Новгорода, оставались неприступными для врагов до наполеоновских времен. И на этих стенах было гордо, «по-новгородски» написано: «Свобода не продается за все золото мира».
Управлялся Дубровник, как и Новгород, выборным князем и вечем. Словом «вече», кстати говоря, именуются и властные органы современной Хорватии. Более того, хорватская валюта называется «куна» — как и в Новгороде, где одной из главных мер цены также были шкурки куницы. В таком культурном контексте выглядит неудивительным, что в Хорватии есть и свой город Novigrad.
Не меньше, а по названию — просто-таки напрямую напоминает Новгород и другая югославская нация — словенцы. Новгородцы определяли свою национальную принадлежность практически идентично — «словене». Вряд ли это просто созвучие…
Наконец, еще одним историческим «зазеркальем» Новгородской республики выглядит Черногория. Когда равнинная Сербия была еще под властью турецких султанов, Черногория являла собой суверенное православное княжество, управлявшееся выборной династией Петровичей-Негушей.[76] Причем эта династия имела давние и прочные связи с другими европейскими престолами. Это в точности напоминает суверенитет Новгородской республики в те времена, когда остальные русские земли были под татарским игом.
Но Черногория выглядит «зазеркальем» не только Новгорода, но и всего Русского Севера. Черногорцы, считающие себя «большими сербами», чем жители Сербии, по своему менталитету весьма напоминают поморов, у которых похожее отношение к жителям российской «средней полосы». Более того, у них, живущих на самом Юге славянского мира, «окающий» говор, как ни странно, практически тот же, что и у поморов Севера!
Черногория — это скорее некое мистическое отражение Беловодья, уникальное символическое взаимодополнение. Неслучайно в этой стране есть город с названием Bijela Voda. Черногорцы на протяжении своей истории и «матицу-Русию» воспринимали всегда не столько как общественно-политическую реальность России, сколько как некое сакральное «северное царство», именно как Беловодье…
Россия, кстати, в лучшие времена весьма ценила любовь своих южных славянских братьев. И безо всякого позднейшего высокомерия сама училась у них. Петр I отправлял русских учеников на кораблестроительные верфи черногорского Пераста (у нас почему-то уверены, что корабельному делу Петр учился исключительно у голландцев и англичан).
Если же вернуться к вопросу о «странной» взаимосвязи Новгорода с европейскими славянами, то она не исчерпывается только южными (хотя именно в них проявляется максимально). Пражский славист Александр Исаченко выдвинул интересную гипотезу о том, что и само крещение Новгорода могло состояться совсем иным путем, нежели тот, что описан в российских учебниках:
Мы решительно ничего не знаем о христианизации Новгорода и о каналах, по которым христианство попало на восточнославянский Север. Есть основания думать, что киевский летописец, а позже и летописец новгородский имел причины политического характера не касаться этого деликатного вопроса. Из 15 восточнославянских рукописей, содержащих следы глаголицы, 13 являются новгородскими по происхождению, глаголические надписи имеются в соборе св. Софии в Новгороде. В 1 Новгородской летописи встречаются многочисленные лексические элементы, имеющие параллели в чешском и словацком языках, но неизвестные киевским авторам. Наконец, культ чешского мученика св. Вячеслава был распространен на Севере, но почти неизвестен в Киеве. Все это наводит на мысль, что Новгород получил христианство не из Византии, а с Запада — из Моравии и Богемии. Глаголица была единственным славянским алфавитом, применяемым в Моравии во время миссионерской деятельности Константина, Мефодия и их учеников.
* * *
В России до 1917 года «славянская идея» воспринималась довольно специфически — не как многомерная Славянская Европа, цивилизация близких, но самобытных народов, но как некие одинаковые «ручьи», должные «слиться в русском море». С Запада им, впрочем, тоже предлагали «слиться» — только в море «римском». В этом и состояла вся разница славянофилов и западников — московский «домашний старый спор между собою», где ничуть не интересовались мнением Праги или Белграда. Была и более радикальная точка зрения — например, знаменитый философ Константин Леонтьев, автор теории «цветущей сложности», почему-то напрочь не замечал ее в многообразии европейских славянских народов, и вместо нахождения общего языка с ними предлагал русским ориентироваться на давно уже почившую идеологическую абстракцию «византизма».
Сегодня московская Россия по-видимому нашла себе новую идеологическую абстракцию — евразийство. Точнее, «нео-евразийство», проповедующее вместо реального раскрытия «цветущей сложности» евразийского континента самоцельную «борьбу с атлантизмом». Этой цели подчиняется все, и, как и в поздней Югославии, пустая идеология «братства и единства» подменяет собою реальность.
Однако нынешнее евразийство выглядит еще более пустым — именно по причине желания «объять собою всё». Оно нивелирует любые конкретные конфессиональные, этнические, индивидуальные идентичности, «геополитика» в нем фактически подминает и подменяет собой все религии и культуры, становится единственным «символом веры». Ситуацию, когда попы, муллы и раввины читают молитвы под лозунгом «Евразия превыше всего!», а трехцветный флаг поднимается под советский гимн, часто объясняют стремлением к «общенациональному примирению». Однако это совмещение разнородных начал здесь заведомо ставится на службу не их «цветущей сложности», а плоскому черно-белому геополитическому дуализму. Это постмодерн на службе у модерна. (→ 1–3) Известная апелляция к «борьбе против общего врага» неубедительна — Милошевич, Изетбегович и Туджман также пропагандистски бравировали «антизападной» риторикой, что однако не помешало им развязать в Боснии войну Alle gegen Alle.
Ставка на «объединение всех традиционалистов» под знаменем евразийства способна привести лишь к аналогичному результату на пост-российском пространстве. Вообще-то наиболее продвинутых из евразийцев это не смущает — ведь в их мифе важнее само пространство, чем народы, его населяющие, «почва превыше крови». Однако эта декларируемая «сверх-этничность» оборачивается странным предпочтением западноевропейской и исламской интеграции — при безусловном отвержении всякого «панславизма». Так, они весьма восторженно приветствовали объединение Германии, а распад Югославии не только не привлек их внимания к удивительной синхронности этих процессов, но и даже поддерживался и углублялся пропагандой различия «геополитических ориентаций» — «прогерманских», «происламских», «пророссийских» — за исключением собственно славянских интересов.
Однако и сама Россия предстает в их исторических реконструкциях также не как самостоятельная цивилизация — основное ее значение видится в том, что она стала «наследницей» Орды, и вообще «туранский элемент» описывается безусловно позитивно. Это удивительным образом напоминает концепции некоторых албанских идеологов о том, что именно албанцы в сотрудничестве с Османской империей еще в Средние века «цивилизовали» Косово и Метохию, а ничего не понимающие в геополитике сербы зачем-то препятствовали тогдашним евразийцам создать свое «большое пространство». Так что полная реализация «евразийского проекта» в РФ будет, по-видимому, больше напоминать не боснийский, а косовский вариант. Нынешняя Чечня — это еще «цветочки»…
Впрочем, на пост-советском пространстве есть уже и «ягодки». В Казахстане, где открыт Университет имени Льва Гумилева, евразийская идеология является государственной. Называть основанный купцами Гурьевыми город своим именем неполиткорректно — надо говорить «Атырау». Был еще советский Целиноград — теперь это казахская столица Астана. Яицкие казаки, жившие здесь веками, но не знавшие, что это «Северный Казахстан», теперь объявлены «сепаратистами». За 90-е годы это евразийское государство покинули миллионы славян. Но евразийцев это не волнует, они живут в каком-то другом измерении, где более реальны «геополитические тренды». Так почему бы им в реальности не совершить столь чаемый «Исход к Востоку» — переехать встречным потоком в Казахстан, возглавить этот гумилевский Университет и решать эти проблемы там? Пространство — большое, Чингисхан — национальный герой, а Назарбаев поет русские народные песни — полная евразийская идиллия! Но наверняка откажутся — ведь они хотят сделать такой «Евразией» и всю Россию. Вот только куда будет уезжать славянское население дальше?
Если новым именем России станет «Евразия», этот вопрос перестанет быть риторическим. В бывшей Югославии албанская экспансия неожиданно вновь сблизила все славянские народы — даже несмотря на их конфессиональные различия. Тем не менее, московская «патриотическая» тусовка продолжает твердить о «евразийском братстве» и об «общей борьбе с атлантизмом». Однако характерно, что сторонников подобных взглядов не найти среди тех славян, кто некогда жил в Средней Азии и на Кавказе и вынужден был оттуда бежать…
Но что же субъективно заставляет людей становиться «евразийцами», этим безликим сплавом — вместо того, чтобы быть самими собой? По-видимому, ответ лежит в области психологии — если нечего предъявить миру самобытного и уникального, остается только списывать свою творческую немощь на некоего «тотального врага», и затем видеть весь смысл своей жизни в противодействии ему. Логика реактивная и безысходная. Именно так возникают все антиутопии. Окажется ли Оруэлл, описавший войну Океании и Евразии, мрачным пророком?
* * *
«Посвящение» славян в совместную историческую миссию никуда не исчезло. Тем более, что в эпоху глобализации все государства постепенно становятся условностями, но остаются лишь цивилизации, не считающие свою историю завершенной.
Распад СССР и Югославии привел к тому, что славяне вновь осознали себя «Севером» — поскольку цивилизационный «Юг» стал плотно ассоциироваться с исламским миром. Если раньше на Юге была еще и Византия, то теперь там сплошной стамбульский базар. На нем, конечно, не запрещается мечтать о «православной империи» — только те, кто углубляются в эту «византийскую археологию», уходят все дальше и дальше от реальности. Если славянский Юг утратил волю к продолжению своей исторической миссии, это должно означать не отпевание славянской цивилизации, а поиск и утверждение новой концептуально-творческой доктрины. Причем она совсем необязательно будет внешне «традиционалистской» — как раз такой, буквально и формально понятый традиционализм и привел Балканы к тотальной межславянской войне.
Есть основания полагать, что новая славянская цивилизация возникнет именно как цивилизационный синтез, исходящий, однако, из самой логики истории. Прежде всего, именоваться она будет по такому же двусложному принципу, сочетающему географическое и цивилизационное значение, как Югославия. Это именно взаимодополняющий, а не взаимоотрицающий смысл, как у «Евразии», провисшей между двумя частями света.
Северославия, преемствующая традицию Русского Севера, доктрину «славянской взаимности» и позитивный цивилизационный опыт Югославского проекта, станет новым именем для тех пост-российских пространств, которые не желают входить в сферу «евразийского» притяжения и ассимилироваться в «Большом Косове».
Традиция Русского Севера включает в себя историю Новгорода, как самое яркое свое проявление, но не исчерпывается им. Территориально Русский Север простирается от Балтики через Новгородские земли вдоль побережья Северного Ледовитого океана, т. е. имеет поморскую природу.
Поморье самим своим фактом успешно деконструирует «классическую геополитику». С точки зрения дуалистически мыслящих геополитиков оно являет собой некую промежуточную «береговую зону», Rimland[77] между основными категориями Суши и Моря. В действительности же самих этих категорий «в чистом виде» нигде не существует — это сугубо идеологические абстракции. Утверждать их «первичность» — это все равно, что утверждать, будто шизофрения и паранойя — это устойчивые, «правильные» состояния сознания, а нормальное состояние — нечто пограничное и несерьезное. «Вы либо с нами, параноиками, либо с ними, шизофрениками, а третьего не дано».
На самом деле, в море никто из людей пока не живет, а на суше невозможно жить без воды. Геополитическая абстракция Суши и Моря снимается чисто ландшафтно: озером или рекой. Континент без озер и рек — такая же безжизненная пустыня, как море без островов и берегов. Характерно, что по Гумилеву даже среднерусский ландшафт — не «сухопутный», а «речной»: даже «континентальные», никогда не видевшие моря славяне всегда расселялись вдоль рек и вокруг озер — это разновидность скорее «поморского» стиля жизни, чем «сухопутно-монгольского» (монголы, как известно, даже не мылись — запрещала религия, — вот это, пожалуй, действительно исключительный «народ Суши»!).
Поморье — это живая, динамичная субстанция, а Суша и Море — это его абстрактные атрибуты. Структура Поморья — глобальная горизонтальная кооперация самобытных общин (регионов или «городов-государств»). Суть Поморья — в его глокальности (→ 1–8), которая есть не просто статичное «равновесие» между двумя крайностями, а нечто особое и цельное. Поморье открыто миру и вовлечено в многообразную систему связей с самыми удаленными его точками (это позитив Моря). Но в то же время каждый из регионов Поморья сохраняет свою уникальность и традиции, поддерживает самобытную внутреннюю жизнь (позитив Суши).
Таким образом, историческая конкуренция Новгорода с Москвой должна рассматриваться не как «региональный сепаратизм», а как борьба северославянского (= поморского) и татаро-московского (= евразийского) начал в русской истории. (→ 3–1) Русская государственность создавалась при доминировании именно северославянского начала (основание Новгорода, «путь из варяг в греки»). С падением Новгорода и созданием Московского царства Северославия потерпела временное поражение. Петербургский период стал ее частичным реваншем. Советский период — смешанный, здесь на одних уровнях побеждали северославянские тенденции (технологическое освоение Севера, развитие Северного морского пути, полярные экспедиции), на других — московские традиции абсолютной власти. А в эпоху глобализации, когда мир постепенно превращается в «глобальное Поморье», дуализм «атлантизм-евразийство» полностью теряет смысл. Если Москва, не желающая расставаться с самодержавным централизмом, только тормозит адаптацию русских к новой реальности, то поморская традиция, напротив, вновь становится весьма актуальной.
Как ныне оказалось, поморское, северославянское будущее было не «отменено», а просто отложено. Ресурсов татаро-московского ига, покоряющих, разоряющих и превращающих в свою «окраину» все славянские земли, хватило лишь на несколько веков — а потом исторические зерна стали с неизбежностью прорастать. Архангельский общественный деятель Александр Иванов объясняет современную «поморскую идею» так:
Поморы обладают особым чувством собственного достоинства и любовью к свободе. Причина этого в том, что на Севере не было крепостного права, а основной формой организации хозяйственной жизни была не община, а артель. У поморов отсутствует чувство врага, так как естественных ресурсов всегда хватало всем, а иностранцев воспринимали не как конкурентов, а как партнеров по торговле. Начавшиеся в глубокой древности контакты с Европой (морем Эдинбург, Осло и Бремен ближе Москвы) выработали западноевропейскую ориентацию сознания, отсутствие ксенофобии и уважение к демократическим институтам. Поморам исторически присуще презрение к московской власти — и царской, и советской, и постсоветской — за ее лживость, жестокость и творимый ею произвол. Поморы стремятся работать не на государство и как можно меньше зависеть от него.
Задолго до революции население Севера отличалось поголовной грамотностью. Ценность образования, культуры и науки для северянина безусловна. То, что в Центральной и Южной России называется патриотизмом — ненависть к Западу, ненависть к свободе и демократии, ненависть к интеллигенции, с нашей поморской точки зрения, называется не патриотизмом, а хамством.
Суровая природа Севера выработала особые черты характера помора: смирение, терпение, стойкость, своеобразный сплав практицизма и мистицизма. Перед лицом грозной стихии мы смиренны и просим Бога о милосердии, перед лицом московской тирании — мы тоже просим милости у Бога — у тиранов просить ее бесполезно. Рано или поздно Церковь будет соответствовать нашим представлениям. Она будет держаться поддержкой народа, а не власти. Выборность священников и епископов верующим народом — необходима и безотлагательна. С нашей поморской точки зрения, священники или епископы должны вести себя с народом как братья, а не как надменные китайские мандарины. Эта азиатчина отвратительна.
Москва же и ориентированное на нее евразийское пространство сегодня все более увязает в проблемах Юга (Кавказ, Средняя Азия…), именно «южные темы» вызывают повышенный политический интерес, сопровождающийся ростом полицейских и милитаристских настроений. Порой создается впечатление, что если бы чеченской войны не было, ее следовало бы выдумать, чтобы найти какой-то выход этим «патриотическим» чувствам. Ордынская преемственность Москвы и «нео-ордынские» настроения ее южных противников — это не что иное, как зеркальное отражение одной и той же цивилизации. Это бесконечный сериал про «ментов» и «бандитов», которые легко взаимозаменяются. Это прямая взаимосвязь между распространением криминальной психологии и разрастанием всевозможной «охраны». Это агрессивный изоляционизм — и претензия на глобальную универсальность. Однако было бы ошибкой считать эти «двуглавости» какими-то специфически «русскими» — на Русском Севере их называют именно «московскими».
Московские «патриоты» очень любят рассуждать о «русском», но совершенно не видят, что оно везде разное, и что эти различия уже вышли за пределы «местных особенностей», став прообразом разных цивилизаций. И если одна из них тяготеет к конфедерации экономически и культурно самостоятельных регионов, то другая — к унитарному государству. Между этими стратегиями и пройдет цивилизационная граница Северославии и Евразии. Как пройдет эта граница географически — покажет время, но нет сомнений, что она будет простираться от Северо-Запада до Дальнего Востока.
Однако это назревшее размежевание — не самоцель, но лишь средство для свободной реализации северянами своей собственной утопии. Им вообще свойственен довольно мирный менталитет — в основе их мифологии лежит «принцип открытия», их героика — это морские и полярные экспедиции, а не южные завоевания. Возможные обвинения этого проекта в «сепаратизме» выглядят довольно смешно, учитывая именно северное, варяжское происхождение самого слова «Русь» и первую русскую столицу Ладогу. Так что если они последуют, это только окончательно вскроет истинное имя Евразии, пуще всего озабоченной сохранением своего «кольца власти»…
Геополитические динозавры «евразийство» и «атлантизм» вымрут сразу же, как только Северославия установит новые, не отягощенные ордынско-имперской психологией, трансрегиональные отношения с соседями — от Прибалтики и Скандинавии до Аляски. Но для начала сами северные славяне должны обрести свою новую историческую субъектность. И здесь понадобится менталитет уже не «Славянской Европы», но «Славянской Америки». Только на этом пути возможно возникновение действительно новой цивилизации, свободной от евразийского колониального диктата, от инерции «первого, второго и третьего Римов». Этот путь открыли еще вольные поморы, казаки и староверы, осваивавшие Север и Сибирь в поисках священного Китежа, независимого от «законов геополитики». Продолжить их миссию сегодня вполне могли бы и пассионарные европейские славяне, южные и западные, не желающие довольствоваться ролью «санитарного кордона» между романо-германцами, тюрками и евразийцами, те, в ком жив дух утопии и воля к самостоятельному созданию своей судьбы. Это здоровое первооткрывательское начало только на первых порах может казаться «чистым бизнесом» — затем оно непременно порождает своих «Джеков Лондонов», целую культурную эпоху. Даже сегодняшнее новое поколение северных славян, особенно жителей заполярных городов — Мурманска, Воркуты, Норильска — весьма отличается от своих родителей, ехавших на Север в основном с меркантильными целями. И уж тем более — от поколения дедов, которые у многих остались здесь со времен «евразийской», лагерной колонизации Севера. Новое поколение не торопится уезжать на «материк», хотя материальные условия там гораздо лучше, но создает на Севере свой творческий мир — литературный, художественный, музыкальный — и их даже не заботит, что он практически неизвестен московскому шоу-бизнесу. У них есть свой Север, и он скоро будет принадлежать им, тем, кто здесь живет. А «евразийская пустыня» эпохи глобального потепления пусть остается ее «патриотам»…
Славянство на Севере избавится, наконец, от искусственных ассоциаций с сугубой «этничностью» и «фольклорностью», и станет естественным аналогом англо-саксонской доминанты в Северной Америке. Речь идет о новом культурном и даже антропологическом типе славянина, несовместимом с архаичной риторикой нынешних «славянских соборов», способных только плакаться в московскую жилетку. Их заседатели принципиально не способны образовать «Северославянский комитет» (аналог учрежденного южными славянами в 1917-м) и взять на себя реальное создание новой цивилизации. И это неудивительно, поскольку они ориентируются не на сильное гражданское общество, а на того или иного «батьку», вроде нынешнего белорусского. Тогда как Беларусь сможет сыграть свою естественную роль одного из центров северного славянства только с избавлением от своей «евразийской» диктатуры.
В целях же решения всех возможных этно-конфессиональных проблем Северославии весьма пригодится опыт Канады — светского, многоэтничного и многоконфессионального государства. Но основным и наиболее сильно действующим психологическим «противоядием» в этой сфере станет трагический урок Югославии. Он должен не просто преподаваться в школах, но впитываться с молоком матери. Память о том, чем кончаются межславянские войны, должна быть хранима с такой же твердостью, которая не дает евреям забыть Холокост. Славянин, поднимающий руку на славянина, автоматически ставит себя вне нашей цивилизации.
И наоборот — Северославия безусловно открыта для участия в ее проекте всех неславянских культур Севера. Прекратив имперскую политику искусственной ассимиляции, мы легко найдем взаимопонимание с финно-угорскими народами. Славянин, карел, коми, саам будут гораздо интереснее друг другу, оставаясь самими собой, а не превращаясь в неких невнятных «евразийцев». Несколько сложнее вопрос с тюркским (и шире — исламским) фактором: при безусловном соблюдении принципа мультикультурности внутри северославянской цивилизации, она все же будет нуждаться в свободе от массового демографического нашествия «этнических мусульман». Эта цивилизационная дистанция пойдет на пользу обеим сторонам, поскольку, как показывает пост-коммунистический опыт конца ХХ века, славяне и мусульмане, обретая свои традиции, с трудом уживаются в рамках единой цивилизации — там доминируют либо одни, либо другие, вызывая со стороны оказавшихся в меньшинстве активное сопротивление. Возможно, этот этно-конфессиональный кризис со временем смягчится и даже будет восприниматься как недоразумение, но сегодня, во избежание «косовского» развития событий, необходима четкая взаимная автономизация по «боснийскому» принципу. Чем раньше между северными славянами и южными мусульманами будет заключен свой «Дейтон», тем надежнее он поможет предварить и предотвратить евразийский «clash of civilizations».
Однако эта автономизация имеет смысл, повторим, не в целях изоляции, но для освобождения пространства для реализации собственной утопии. Все в конечном итоге будет зависеть от того, осознают ли сами северные славяне себя новым народом, гражданами волшебного Беловодья, которое намерены построить сами. И только в этом случае они смогут преодолеть влияние других, конкурирующих утопий и антиутопий.
При этом количество беловодцев, по крайней мере, на первых порах, не столь важно. Гораздо важнее — их качественное углубление в собственный миф, осознание себя коренным северным народом. Только для несведущих людей миф — это нечто абстрактное и отвлеченное, на самом деле он совершенно конкретен и прагматичен. Какие перспективы здесь открываются, показывает даже Закон нынешнего государства «О коренных малочисленных народах Севера и Сибири»:
Члены общины малочисленных народов… вправе использовать для нужд традиционных хозяйствования и промыслов объекты животного и растительного мира, общераспространенные полезные ископаемые и другие природные ресурсы.
А что, если беловодская община докажет, что ее «традиционным промыслом» является добыча нефти или алмазов? И подаст в международный суд иск о том, по какому праву на ее земле хозяйничают московские олигархи и чиновники?
Для славян, которые выберут северный путь, одной из главных задач, несомненно, станет нахождение общего языка. Этот общий язык важен не только для взаимного общения, но и для обретения славянским миром своего собственного голоса в процессе глобализации. Чешскими, словацкими и сербскими активистами в интернете уже начат интересный и актуальный эксперимент по созданию языка Slovio, призванного стать инструментом межславянского общения. Словио, разрабатываемый в кириллической и латинской версиях, не подменяет собой существующие славянские языки, но создает на их основе такой, который становится легко понятен всем славянам. Это колоссальная цивилизационная задача — возможно, если бы она была решена несколько веков назад, история бы не знала множества внутриславянских трагедий. К тому же это лингвистическое творчество выглядит куда более перспективным, чем создание совершенно искусственных языков типа эсперанто и т. п.[78]
В нынешнюю Россию Северославия «невместима». Но, как справедливо заметил Милорад Павич, «продолжительность сна короче, чем реальность, которая снится».
3.5. Белая Индия
Певчим цветом алмазно заиндевел
Надо мной древословный навес,
И страна моя, Белая Индия,
Преисполнена тайн и чудес!
Микола КлюевРусскую и индийскую традицию сближает подчеркнутое внимание к трансцендентным вопросам. Индуизм с древнейших времен выработал универсальную формулу проявления трансцендентного (Брахмана) в высшем, внутреннем «Я» (Атмане), освобожденном от всех преходящих атрибутов индивидуального «эго». Только взрыв этого «эго» действительно открывает возможность «быть самим собой».[79] На ином языке это и означает воплощение утопии.
Раннее русское христианство прекрасно знало об этой «метафизической технологии», применяя ее в исихастских практиках обожения. Но при этом — вовсе не считало зазорным знакомиться с соответствующим опытом в индуизме, подчас открывая там удивительные внутренние параллели с собственной традицией. В древнерусской литературе известно апокрифическое «Хождение Зосимы к рахманам», но даже и в рамках светской истории русские первыми из христиан «открыли» континентальную Индию, которую в 1471 году посетил тверской купец Афанасий Никитин. Затем индотибетские мотивы наиболее часто встречаются у староверов-странников. (→ 2–6) Однако в позднем, официальном христианстве они постепенно оказались вытеснены и подавлены внешней «правильностью» догматизма.
Индийская традиция утверждает свое северное, полярное происхождение. (→ 2–1) В книге «Арктическая родина в Ведах» Бал Гангадхар Тилак доказывает, что индоарии пришли в Индию с Севера — только таким образом можно объяснить присутствие в Ведах картин полярных сияний и белых ночей. А значит, они шли через те земли, на которых впоследствии возникла Русь.
Русский исследователь начала ХХ века Александр Барченко независимо от Тилака также создал довольно стройную концепцию древней истории, согласно которой в 5-м тысячелетии до Р.Х. прапредки индоариев во главе со своим предводителем Рамой под воздействием неблагоприятных климатических условий были вынуждены мигрировать с Севера на Юг и, в конечном счете, достигли Индостана. С тех самых пор на Русском Севере осталось немало топонимов и гидронимов с древними санскритскими корнями («инд», «ганг», «рам») — по подсчетам вологодской исследовательницы Светланы Жарниковой, более десятка имен северных рек и озер образованы от этих корней — Индега, Индигирка, Гангрека, Гангозеро, Рамозеро и т. д. Возможно и небольшая каргопольская речка Лакшма также когда-то отражала лик индийской богини красоты Лакшми…
Карельский мистик Юрий Линник ведет эту образную аналогию дальше:
Нельзя ли Кижи уподобить многолепестковому лотосу? На аналогичную роль могут претендовать и наши северные монастыри — Валаамский и Соловецкий: дивно расцветают они над северными водами.
Но яснее всего эту волшебную связь Индии и Руси созерцают поэты. Вот лишь один из глобальных пейзажей пророка Белой Индии Миколы Клюева:
От Пудожа до Бомбея Расплеснется злат-караван.Близость орнаментов, символов, мотивов в искусстве Русского Севера и различных народностей Индии поражает воображение. Это же касается и языкового родства. Множество аналогий с санскритом в европейских языках нагляднейшим образом демонстрирует индоевропейскую общность — при этом максимальное число схождений приходится на славянские языки и близкий к ним литовский. Оказывается, что самые «фундаментальные» русские слова имеют санскритские корни: ведать — от Веды, знать — от джняна, будить, пробуждать — от Буддхи, живой — от Шива (Ziva — dzivais, лит.) и т. д.
В «Авесте» прямо указывается, что прародина человечества Арьяварта (земля предков, страна благородных) была когда-то светлой прекрасной страной, но злой дух наслал на нее холод и снег, солнце стало всходить над ней всего лишь один раз в год, и по совету богов люди ушли оттуда. Не с тех ли пор в Тюменской области остался город Нижневартовск?
Как утверждает загадочное, первоначально составленное на санскрите, и, разумеется, не признанное жрецами позднего христианства «Тибетское Евангелие», Христос за свою земную жизнь совершил единственное и самое далекое паломничество — в Индию и Тибет, где провел половину или даже больше из того, что Ему было отпущено провести на земле. Этот весьма длительный период странным образом полностью «выпал» из Его жизнеописаний на страницах ортодоксальных Евангелий. Там история Христа прерывается на отрочестве, а затем возобновляется сразу в возрасте 30 лет, после чего уже евангелисты скрупулезно описывают едва ли не каждый прожитый Им день. А об этих 16 или 18 «потаенных» годах земной жизни Спасителя у Матфея, Марка, Луки и Иоанна нет и упоминания.
В «Тибетском Евангелии» говорится, что Исус пришел в Индию «шелковым путем» с торговым караваном из Палестины, описывают, как Он, которого в Индии назвали Иссой, жил среди джайнов и брахманов, изучал Веды, потом путешествовал по Тибету, бывал в священных для индуистов Бенаресе и Джаггарнате. А объявился Исса в Индии в знак благодарного ответа на то, что первыми поклониться Сыну Божьему в Вифлеем пришли именно волхвы с Востока — индийские риши.
Эту таинственную взаимосвязь традиций чувствуют даже церковные иерархи — точнее, самые проницательные из них, оказываясь порою куда более духовно широкими людьми, чем самоуверенные светские «традиционалисты». Вот что вспоминал служивший в Лондоне Митрополит Сурожский Антоний:
Мне вспоминается разговор, который в тридцатые годы у меня был с Владимиром Николаевичем Лосским. Он тогда был очень отрицательно настроен против восточных религий. Мы это долго обсуждали, и он твердо мне сказал: «Нет, в них истины нет!» Я пришел домой, взял книгу Упанишад, выписал восемь цитат, вернулся к нему и говорю: «Владимир Николаевич, я, читая святых отцов, всегда делаю выписки и пишу имя того, кому принадлежит данное изречение, а вот тут у меня восемь изречений без авторов. Можете ли Вы «по звуку» их узнать?» Он взял мои восемь цитат из Упанишад, взглянул и в течение двух минут назвал имена восьми отцов Православной Церкви. Тогда я ему сказал, откуда это взято. Это послужило какому-то началу пересмотра им этого вопроса…
Но, по-видимому, такая духовная свобода была возможна лишь в Зарубежной церкви, поскольку нынешняя Московская патриархия все более склоняется к типично мусульманской «войне с неверными»…
Индия никогда не соответствовала модному в нынешней России имиджу империи, непременно требующему того или иного духовного изоляционизма. Она скорее являла собой просто особую и уникальную цивилизацию, попытки покорить которую всегда наталкивались на парадоксальные, ненасильственные, но самые эффективные способы сопротивления и отторжения («гандизм» существовал задолго до Ганди). Так поступает всякий живой и здоровый организм, просто задействуя свои иммунные функции и не нуждаясь в приеме искусственных антибиотиков. В этом, видимо, и состоит индийский урок современным русским: чтобы быть самими собой, вовсе не нужно превращаться в болезненно реагирующих на весь окружающий мир евразийцев, надо лишь оставаться тем, кто мы есть изначально, — индоевропейцами.
Возможно, пробудить это естественное мировоззрение поможет миграция индусов в Россию. Пока демографические лакуны современной России успешно заполняются «этническими мусульманами» и китайцами, но «индийская альтернатива» в этом контексте была бы самой комплиментарной и перспективной. Кроме того, именно индийская традиция, хранящая древнейшие метафизические архетипы, способна помочь самим русским воссоздать дух изначального Севера и православия. А глобальное потепление наступившего века поможет индоариям вновь адаптироваться на своей северной прародине.
Самым ценным контингентом этой «индийской волны», безусловно, станут программисты. Российские их коллеги, при всех своих талантах, увы, объективно все же не считаются демиургами информационного ремесла, по статистике они отнюдь не лучшие в мире. Самый высокий рейтинг сегодня именно у индусов.
Шокируя «развитой Запад», Индия постепенно становится ведущей страной по производству IT-услуг. Эта эволюция оказалась настолько парадоксальной и непредсказуемой, настолько несовместимой с традиционным имиджем «нищей страны», что многие не верят в нее до сих пор. Даже в США, где программирование играет огромнейшую роль, эта сфера скорее является придатком более емких индустрий, но никак не «вещью в себе». Здесь же наблюдается настоящий феномен, уже успевший получить наименование «индийской модели». Индийское правительство ничто так активно не спонсирует, как развитие телекоммуникационных инфраструктур. Провайдеры там не платят налогов вовсе! Количество индийских программистов, получивших самое качественное современное образование, приближается к 10 миллионам и все равно они нарасхват у крупнейших мировых производителей софта — американских и японских.
Программа строительства Беловодья без них также не обойдется никак.
3.6. За порогом глобального султаната
Я не хочу быть царем, хочу жить с вами как брат.
Степан РазинФеномен казачества в своих истоках вполне воспроизводит структуру вольной варяжской дружины. Если на Севере Руси утверждалось гражданское сознание, а в Московии — барско-холопское, то казачий Юг преемствовал институт воинской демократии — круг, на котором избирались старшины и гетманы.
Однако природа этого круга часто упрощается до описания каких-то сугубо управленческих функций в почти неуправляемой «казачьей вольнице». Ортодоксальные российские историки столетиями создавали имидж казачества как некой бегло-разбойно-бунтарской стихии, терпимой центральной властью лишь постольку, поскольку оно прикрывало южные границы государства от непрошеных гостей. Казачество, конечно, выполняло и эту функцию — но не она была главной. Точнее, она была лишь одним из внешних проявлений особой внутренней природы этого сословия, являвшего собой прямой русский аналог европейских военно-монашеских орденов.
Эти средневековые ордена, как правило, были автономны и даже независимы от государств, на территории которых номинально находились, существуя как экстерриториальные организации. Роман Багдасаров в своей книге «За порогом»[80] ломает множество позднейших стереотипов, описывая Запорожскую Сечь именно и прежде всего как такой посвятительный орден. Он просуществовал три века (около 1480–1775), заставляя считаться с собой все соседние страны — Польшу, Московию, Турцию. И лишь попав под пяту унитарной Российской империи, был отторгнут и уничтожен.
Хотя внешне Сечь существенно отличалась от западных орденов с их подчеркнутой герметичностью, внутренний духовный накал был в ней ничуть не меньшим. Никаких формальных границ на вход и выход из Сечи не было — все решала степень «вруба» адептов. «На Запорожье говорят, что они войско вольное, — кто хочет приходит по воле, и отходит по воле». Никаких фиксированных сроков пребывания в Сечи также не утверждалось.
Эта «анархия» была, однако, совершенно мистической, поскольку
знакомство с эмблематикой и регалиями Войска может сильно поколебать утвердившееся мнение о нём, как о дикой своре босяков, не руководимой никакими высшими принципами.
Геральдике и символике в Сечи всегда уделяли особое внимание. Каждый курень имел свою эзотерическую атрибутику (символы космоса, священного оружия или тотемных животных), имеющую прямые аналоги в западных рыцарских орденах. Причем некоторые символы запорожцы старались буквально воплотить в жизнь, и если, к примеру, одним из таких символов был волк, то молва наделяла носивших его изображение казаков способностью к оборотничеству. Буйная удаль и героическое безумие, постоянно проявляемые в боях и на пиршествах, только подкрепляли подобные представления.
Истоки этой «сверхчеловечности» запорожцев Багдасаров видит в том, что
именно отстаивание беспредельной, дарованной Христом-Спасителем внутренней и внешней свободы являлось главной функцией Запорожской Сичи как православного рыцарского ордена. Хотя большинство сичевиков вышло из Южной России, а потом оказалось в подданстве у Московского Царя, но воевали они не за него и не за Украйну, «отчизну-матку», а за чистоту и славу дедовской Веры, проповедуя не словом, а ратными деяниями наступление Божьего Царства, водворившегося в их душах.
Такая духовная свобода и воля к ее непосредственной реализации — безусловный атрибут раннего христианства. (→ 2–6) Но на фоне засилья позднего, догматически закостеневшего вероисповедания, исследователь определяет религиозную практику запорожцев уникальным сочетанием «православный дзен»:
Указания на практику немотивированного, парадоксального восприятия трансцендентного есть во многих житиях христианских святых (особенно — юродивых) и она напоминает учение дзен (чань) в Буддизме. Запорожская Сичь, где немотивированное поведение носило коллективный (но неодинаково проявляющийся) характер, представляла собой общество альтернативного типа по отношению к соседним государствам.
Помимо онтологической потребности в воинском подвиге, упоения гибелью (прежде всего собственной), ритуальных опьянения и проматывания добра, к аскетической и медитативной практике сичевиков относятся: знаменитая козацкая дума при созерцании бурных днепровских порогов, погружение в транс от слуховых вибраций степи, курение люльки с табаком (или опием), слушание кобзарей (которые «долю спiвают»), пляска доупаду… (→ 2–5) Все эти элементы, прокладывая путь к сверхрациональной области восприятия, формировали неповторимый облик каждого рыцаря и кошевого братства в целом. Общаясь между собой, запорожцы создали арго (на базе украинской мовы) с бесконечной лестницей смыслов и освобожденным синтаксисом.…
При инициации запорожец получал «новое имя» (→ 3–4), которое имело брутально-вызывающий характер: Гнида, Пивторикожуха, Непийпиво, Нейижмак, Семи-Палка, Не-Рыдай-мене-маты, Лупынос, Шмат, Шкода, Часнык, Лысыця, Ворона, чем выказывалось полное презрение к мiру сему, который покидал член Ордена. На запрос России или Польши — нет ли в Сичи какого-нибудь Иванова или Войновича, запорожский Кош уведомлял, что таких лиц в Сичи нет, а есть Задерыхвист или Рогозяный-Дид, прибывшие около того времени, о котором запрашивали чиновники.[81]
Зачастую это «новое имя» подбиралось по полной противоположности к внешнему облику и характеру — но смысл такой инверсии был гораздо глубже, чем просто окончательно запутать профанический мир:
Низенький человек сразу мог рассчитывать на кличку Махина, высокий — на Малюту, висельника удостаивали именем Святоши, хмурого — Держихвист-пистолем. Ритуальное осмеяние было необходимо для требуемого православной аскетикой дистанцирования от собственной личности, которая, вместе с тем, мыслилась погружённой в наиболее инфернальные слои реальности (так называемое «ношение ада в себе»). Погонялово не снималось с сичевика даже после ухода на тот свет. Прошедшее через посвятительную смерть низовое[82] рыцарство, представляло не только оппозицию ко всему внешнему миру, но, каждый по отдельности, к личной субъективной реальности. (→ 3–5) Таким образом, козак окончательно избегал сетей глобальной иллюзии «мiра сего».
Хотя все войско Сечи составляло до 10 тысяч человек, постоянно на ее сакральной территории жило меньше половины. Многие казаки в периоды между «сполохами» предпочитали обитать как бы «в миру», обзаводясь семьями, занимаясь охотой и другими промыслами. «Внутренние» сечевики смотрели на это снисходительно, уважение к свободе выбора соблюдалось строго, но в пределах самой Сечи допускались только упражнения в воинском искусстве, медитативные практики и ритуальные оргии.
Этот «дионисийский» (→ 3–7) стиль полностью переносился и на «дипломатические отношения» с окружающими, «нормальными» государствами. Вот как выглядело то самое, легендарное «письмо турецкому султану»:
Султан Мохаммед IV — запорожским казакам
Я, султан и владыка Блистательной Порты, брат Солнца и Луны, наместник Аллаха на Земле, властелин царств — Вавилонского, Македонского, Иерусалимского, Александрийского, Большого и Малого Египта, царь над царями, властелин над властелинами, несравненный рыцарь, никем непобедимый воин, владетель древа жизни, неотступный хранитель гроба Иисуса Христа, попечитель самого Бога, надежда и утешитель мусульман, устрашитель и великий защитник христиан, повелеваю вам, запорожские казаки, сдаться мне добровольно и без всякого сопротивления и меня вашими нападениями не заставлять беспокоиться.
Султан Мохаммед IV
Ответ запорожцiв Магомету
Ти, султан, чорт Турецькiй, i проклятого чорта брат i товарищ, самого Люциперя секретар. Який ти в чорта лицар, коли голою сракою їжака не вб’єшь? Чорт висiрає, а твоє вiйско пожирає. Не будешь ти, сукiн ти сину, синiв христiянських пiд собою мати, твого вiйска мы не боїмось, землею i водою будемо битися з тобою. Вавiлоньский ти кухар, Макiдоньский колесник, Єрусалимський броварник, Олександрiйський козолуп, Великого и Малого Єгипта свинар, Армянська злодiюка, Татарський сагайдак, Каменецький кат, у всього свiту i пiдсвiту блазень, самого гаспида внук и нашого хуя крюк. Свиняча ти морда, кобиляча срака, рiзницька собака, нехрещений лоб, мать твою єб. Отак тобi запорожцi вiдказали, плюгавче. Невгоден ти єсi i свиней христiянських пасти. Теперь кончаємо, бо числа не знаємо i календаря не маємо, мicяць у небi, год у книзi, а день такий у нас, який i у вас. За це поцiлуй у сраку нас!
Пiдписали: кошовий отаман Iван Сiрко зо всiм кошом Запорожськiм
Многие почему-то уверены, что стиль панк появился в Англии… Но не из знаменитых ли запорожских чубов растут панковские ирокезы?
Сопротивляясь экспансии турецкого султана, запорожцы воевали не столько против ислама, сколько против султаната — как метафоры любой внешней силы, которая хочет уничтожить их вольницу. Вообще, вне своей вольной Сечи они видели только сплошной отчужденный, централизованный «глобальный султанат» под властью Князя мира сего. Но Москве в конце концов все-таки удалось взять верх над казачеством, апеллируя к «единству веры». Хотя между ранним христианством, которое воплощали казаки, и поздним, выродившимся в иерархию на службе земной власти, дистанция едва ли не больше, чем между разными религиями. И не заметив эту разницу, казаки с тех пор обрекли свою уникальную цивилизацию на порабощение «московским султанатом».
Один из характерных эпизодов этой трагической «капитуляции» на примере донских казаков описывает историк Константин Орехов:
О непокорном нраве казаков ходили легенды, пробуждая в памяти времена Святослава и Вещего Олега. Так, в 1622 году на увещевания к смирению Михаила Романова донцы ответили шеститысячным десантом в Константинополь. За это церковь пригрозила защитникам православных отлучением! Казаки с горечью помянули свою помощь Романову в восшествии на престол в 1613 году.
Впоследствии, осознав всю неволю установившегося тотального «тяглового государства», казаки ответили на нее целой серией восстаний. Самым известным и массовым из них стало восстание под предводительством донского атамана Степана Разина. В освобожденных ими землях казаки сразу отменяли крепостное право и пытались распространить свою традиционную вольницу на все русские города. По свидетельству историка Сергея Соловьева,
Как Царицын, так и Астрахань получили казацкое устройство: жители были разделены на тысячи, сотни, десятки, с выборными атаманами, есаулами, сотниками и десятниками; дела решались казацким кругом.
Как высшей наградой Разин жаловал народ «казацким чином». Но увы, к такой воле были готовы далеко не все — и московская барско-холопская традиция в конечном итоге победила. А оставшиеся в живых после подавления восстания разинцы ушли на Соловки в помощь своим последним братьям по воле — героически державшим там оборону монахам-староверам…
В 1670 году Дон вынудили принести присягу московскому царю, а век спустя и запорожцев насильно переселили на Кубань.[83] Казачий круг был упразднен, всем казакам было предписано носить единую, централизованно утвержденную военную форму, и с этого момента вольный дух казачества стал неудержимо угасать.
Изначальное казачество воплощает собой один из наиболее ярких примеров воплощения утопического «общества Беловодья» посреди повсеместных «султанатов». И если сегодня говорится о «возрождении» казачества, важно, чтобы оно было адекватным, соответствовало своим собственным суверенным, орденским, рыцарским архетипам, а не инструкциям властей, сводящим все к официальной форме и государственному статусу. Если такого углубления в традицию не произойдет, казачеству грозит участь навсегда превратиться в бутафорско-этнографический заповедник эпохи постмодерна, так и не выйдя в измерение протокультуры будущего. (→ 1–3)
* * *
Запорожцы, создав утопическую (как она и выглядела с точки зрения «нормальных государств») цивилизацию, очень интересовались также пространственными утопиями.
Сама Сечь была не оседлым, а кочующим войском. Только на Днепре она меняла свою дислокацию восемь раз, а после полной оккупации Запорожских земель царскими войсками, возникло несколько малых «Закордонных Сечей», из которых наиболее известна Задунайская. Однако многие кубанские (бывшие запорожские) и донские казаки обращали свое основное пространственное внимание на открываемые тогда сибирские земли.
Среди первопроходцев Сибири казаки составляли едва ли не основной контингент. (→ 3–3) Именно там они надеялись вновь обрести былую вольность, растоптанную Московским царством. Но, как заметил Василий Ключевский, государство «шло по пятам» вольных первопроходцев, не оставляя им возможности основать суверенную территорию. Все пространства Сибири Российская империя сочла по умолчанию «своими». Единственным исключением, куда не сразу дотянулась рука чиновничества и жандармерии, стала Аляска. (→ 3–2) Только там казаки вновь на десятилетия обрели искомый суверенитет, и историческая память подвигла их к разработке собственных цивилизационных проектов. И в этом процессе они находили общий язык с весьма оригинальными персонажами, абсолютными утопистами, которые напрочь срывали все устоявшиеся к тому времени в Старом Свете идеологические границы. Портрет одного из таких деятелей приводит Александр Эткинд в книге «Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах»:
Беглый афонский монах Агапий Гончаренко, сотрудничавший в Лондоне с Герценом, в 1865 году добрался до Бостона. Его план состоял в пропаганде революции среди аляскинских казаков. До своей смерти в 1916 году престарелый отец Агапий выпускал журналы и организовывал тайные общества, надеясь провозгласить независимость Аляски и преобразовать ее в Великую Казацкую Империю.
Но к сожалению, для реализации такого масштабного проекта самих казаков на проданной Аляске оставалось уже слишком мало. Хотя кое-кто из них даже после продажи этой «последней украины» остался там, и их потомки ждут возобновления истории…
Кстати само слово «украина» в казачьем лексиконе, особенно среди казаков-первопроходцев Сибири, никогда не носило этнического смысла, обозначая лишь последний рубеж, «край» открытых земель. В песне сибирских казаков, возникшей во времена, когда Ерофей Хабаров вышел к Амуру, поется: «Как во сибирской во украине // Да во Даурской стороне…» Конечно, никаких «этнических украинцев» там отродясь не было. С точки зрения этих великих сибирских просторов весь известный «хохляцко-москальский» спор на «украинскую» тему выглядит как глубоко провинциальная старосветская разборка. Казаков, которые стремились сохранить свою независимость от любого «султаната», эта тема никогда не интересовала — у них были думы и дела поважнее.
Ведущий идеолог украинского национализма первой половины ХХ века Дмитpо Донцов однажды с меткостью афоризма высказался о том, что на пpотяжении всей истоpии Укpаины в ней боpются два психологических типа — казаки и свинопасы. Пан Донцов только забыл добавить, что, в отличие от свинопасов, казаки не отделяют себя от Руси. Гоголевский Тарас Бульба, хотя и дистанцируется от «москалей», тем не менее, гордо именует себя «русским». В этом проявляется метаисторичность и трансэтничность Руси, не тождественной ни России, ни Украине. (→ 3–1)
Политическим выразителем этого особого понимания Руси — как казачьей вольницы — выступило в 20-х годах ХХ века эмигрантское Вольноказачье движение, в которое вошли известные донские и кубанские казачьи общественные деятели (И.А. Билый, И.Ф. Быкадоров, Т.М. Стариков, М.Ф. Фролов и др.). Лидеры этого движения провозгласили своей целью создание независимого федеративного государства Казакии — только оно, по их мнению, стало бы «третьим путем» выхода из очередной «русской смуты», окончательно преодолев постоянно порождающую кризисы искусственную имперскую централизацию — как «белую», так и «красную». И.Ф. Быкадоров сформулировал то, что не успели в свое время понять ни запорожские, ни донские атаманы:
Никакая центральная российская власть не сможет быть благой для казачества, какая бы она ни была: монархической, кадетской, эсеровской или евразийской.
Вольноказачье движение фактически воспроизвело логику тех прозорливых казаков, которые еще в XVII–XVIII веках видели, по словам Георгия Федотова, что «Русь становится сплошной Московией, однообразной территорией централизованной власти» и потому в повестях «Азовского цикла» декларировали: «Отбегаем мы ис того государства Московскаго, ис холопства неволнаго».
В 1670 году, несмотря на разгром разинского восстания и последовавшее под угрозой репрессий принуждение донских казаков к присяге московскому царю, все же далеко не все из них приняли эту присягу. И в конечном итоге Московии пришлось отчасти пойти на попятную, согласившись с существованием наряду со «служилым» и «вольного казачества». Москва с удивлением обнаружила, что только вольные казаки могут быть самым надежным и эффективным щитом южных границ. Созданное ими Войско Донское сохранило свое внутреннее демократическое самоуправление и даже самостоятельную внешнюю политику. И контакты с ним Московское государство строило как с иностранными державами — через Посольский приказ.
Вольные донцы, так же, как и ранее запорожские сечевики, воспринимали свое сообщество как рыцарское. В каком-то смысле их можно назвать «русскими тамплиерами», хранителями духа раннего христианства, который был утрачен «православной столицей», но лучше всего проявлялся именно на границе со враждебными «бусурманами». В Славянской Европе ту же «тамплиерскую» миссию исполняли вольные черногорцы, создавшие аналогичную сеть военно-монашеских орденов («задруг»), и по праву считавшие себя «большими сербами», чем население равнинной, оккупированной турками Сербии. (→ 3–4)
Очевидно, что нынешняя, увязшая в очередной Кавказской войне Московия неизбежно ее проиграет — именно потому, что надеется победить «служилыми», официально-казарменными силами. Хотя вся история казачества убедительно доказывает, что в таких войнах побеждают лишь вольные воины. Возможно, чеченские партизаны, годами неуловимые для многократно превосходящей их регулярной армии, знают историю казачества гораздо лучше нынешних «россиян»…
* * *
Еще одна интересная историческая взаимосвязь русского Юга и Севера выражена в том, сколь точно воспроизводили вольный «казачий» менталитет легендарные новгородские ушкуйники. Точнее, рассуждая хронологически, следовало бы говорить скорее о проявлении в казаках «ушкуйнического» менталитета.
Ушкуйники (от «ушкуй» — легкая лодка), или повольники, представляли собой неформальные дружины новгородских «десантников», чьи стремительные воинские походы и победы способны напрочь перевернуть устоявшиеся представления о монголо-татарском иге. На Юге они впервые объявились в XI веке, пройдя как нож сквозь масло через все половецкие и печенежские земли и основав Тьмутараканское княжество на берегу Черного моря. Случайно ли несколько веков спустя именно там возникла казачья Тамань?
Именно ушкуйники первыми прошли «за Камень» (Урал) в «земли Югорские», т. е. по сути их следует считать первооткрывателями Сибири. Слава об этой новгородской вольнице далеко расходилась по Руси, а ее былинный герой Василий Буслаев был популярен не меньше Ильи Муромца.
Как только на Руси стало известно о существовании Золотой Орды, многие княжества приготовились уже платить дань, однако новгородцы решили иначе. В очередной раз «указав путь» Александру Невскому, призывавшему новгородцев к вассальному союзу с ордынцами, северяне снарядили на разведку своих добрых молодцев. И молодцы двинулись… пограбить пришедших из богатого Китая на Русь монголов. Пройдя по Волге до Камского устья, они взяли штурмом большой татарский город Жукотин (Джукетау). Захватив несметные богатства, ушкуйники спокойно вернулись на Русь и начали «пропивать зипуны» в Костроме.
Казанский историк Альфред Халиков в работе «Монголы, татары. Золотая Орда и Булгария» с возмущением пишет о том, что только с 1360 по 1375 год ушкуйники совершили восемь больших походов на среднюю Волгу, не считая малых налетов. В 1374 году они в третий раз взяли город Булгар (недалеко от Казани), затем пошли вниз и взяли сам Сарай — столицу Великого Хана! В 1392 году ушкуйники опять взяли Жукотин и Казань. (Хотя им никогда не приходило в голову включать эти земли в состав Русского государства, что додумался сделать только Иван IV, заложивший тем самым «основы евразийства».) Вообще, как оказывается, за время того, что в южно- и среднерусских землях считалось «тяжким игом», молодые безбашенные новгородцы малыми отрядами совершали внезапные набеги на татар каждые 2–3 года, Сарай палили десятки раз, татарок продавали в Европу сотнями. Татары в ответ… писали жалобы в Москву и в Новгород. Но если в Новгороде на эти молодецкие забавы смотрели сквозь пальцы, то в Москве уже началась традиция «сбора компромата», вылившаяся затем в совместную татаро-московскую карательную акцию…
За порогом официальной историографии «султаната» даже реальная история выглядит как невероятная утопия!
* * *
Если европейские рыцари часто посвящали свои подвиги вполне земной «прекрасной даме», то за казачьим «разгуляем» скрывался культ куда более сакральный.
Роман Багдасаров описывает эту сторону запорожского сознания так:
Полупрезрительное отношение к женщине, свойственное восточно-рыцарскому менталитету, являлось прямым следствием горячего почитания Девы. Сичевой собор всегда был посвящён Покрову Пресвятой Богородицы
В этом можно увидеть некоторый цинизм, а можно — подчеркнутую и четко соблюдаемую сакральную дистанцию. Пребывание женщин во «внутренней» Сечи было строжайшим образом запрещено. Это в точности напоминало монашеский устав Святого Афона, куда нога женщины не ступала уже около тысячи лет. Причем как и в случае с Афоном этот запрет объяснялся именно сакральностью Сечи, где никакие мирские привязанности не должны отвлекать воина-монаха от его служения трансцендентному идеалу. Обзаведение семьей, конечно, никому не воспрещалось — но означало «понижение градуса» и обязанность жить некоторое время вне Сечи, будучи отключенным от ее посвятительных энергий. И такое «отключение» многие переносили гораздо тяжелее, чем разлуку с семьей.
Неслучайно главным символом своего восстания Разин объявил поход за «Дом Пресвятой Богородицы» — против земного царства. Пугачев, который сам называл себя царем — это уже снижение архетипа.
Чем больше в вольном казаке доминирует «брутально»-мужское начало, тем большее притяжение он испытывает к своему абсолютному антиподу — началу «неотмирно»-женскому. Это не порядки «султаната», где женщины подчинены и послушны, но и не позднемодернистский феминизм, где они сами претендуют на «султанский» статус. Что сделал Стенька с одной такой «княжной», поется в известной народной песне…
3.7. Союз «Аполлон»
Дионисийский путь — это жизнь, достигающая такого уровня напряженности, который благодаря своему онтологическому разрыву находит выход или высвобождается в то, что мы назвали больше-чем-жизнь. При желании мы можем связать этот выход, который равнозначен реализации, оживлению или пробуждению трансцендентного в себе, с подлинным содержанием аполлонического символа. Если угодно, здесь можно говорить о «дионисийском аполлонизме». Отсюда абсурдность установленного Ницше противопоставления между Аполлоном и Дионисом.
Юлиус Эвола. Оседлать тиграАнтичность сделала столько научных и творческих открытий, потому что смело «совмещала несовместимое». Сама эта формула появилась только в эпоху модерна, когда между различными идеями и явлениями было сооружено несметное количество рациональных барьеров. Постмодерн разрушил эти барьеры, но его версия «совмещения несовместимого» пока чаще всего напоминает просто эклектику. Прорыв в новую протокультуру начинается с воли к открытию, а «открытия, — как заметил небесный механик Лаплас, — заключаются в сближении идей, которые соединимы по своей природе, но доселе были изолированы одна от другой».
Раннее христианство, к примеру, вполне признавало реальность языческих божеств — но «демонизировало» их с точки зрения собственного вероучения. Сегодня же наоборот — раннее христианство и язычество становятся парадоксальными союзниками на фоне поздних, догматически застывших авраамических религий, управляемых антиутопически настроенными жрецами. (→ 2–1)
Этот союз начался еще в средневековой русской иконописи. В своей сенсационной работе «Неуместные боги» Роман Багдасаров приводит свидетельства того, что в дораскольной Церкви наряду с ликами христианских святых почитались иконописные изображения эллинских философов — Сократа, Платона и Аристотеля, и даже самого Аполлона! Позже никонияне изъяли эти иконы и предали их анафеме. Хотя в среде староверов это сакральное отношение к Античности продолжалось — жители Выгореции титуловали своих учителей «премудрыми Платонами, преславными Демосфенами, пресладкими Сократами, прехрабрыми Ахиллесами». (→ 2–6)
Эвола точно заметил, что аполлонизм и дионисийство в конечном итоге совпадают. Но они, конечно, не становятся просто тождественными друг другу. Их синтез представляет собой сочетание дионисийского метода и аполлонического содержания. Если бы сам Аполлон не был «дионисийски» экспрессивен, вряд ли на своей лебединой колеснице он бы добрался до Гипербореи…
Блестящим примером этого органичного сочетания аполлонизма и дионисийства являлись все известные эллинские философские школы — пифагорейская, сократовская, платоновская и др. В них еще практически не было утвердившейся впоследствии в Риме (а оттуда по всему западному миру) догматики и схоластики как основных методов обучения. Главное, чему уделялось основное внимание, это развитие интуиции и воображения, т. е. в этих школах преобладал не номинативный, а посвятительный метод преподавания. Здесь мудрая старость и творческая молодость словно бы объединились против рациональной посредственности, которая позже, в римские времена, восторжествовала в «академическом мире». Античная Эллада сформировала особую антропологическую модель, в которой идентичность индивидуума определяется не его социальной ролью (это началось лишь в эпоху модерна), но личностной уникальностью. Это был максимальный гуманизм, который не отделяет человека от его трансцендентных идеалов, в отличие от модернистскогоминимального, где интересы личности свелись в основном лишь к сугубо социальному статусу.
Как афористично заметил Осип Мандельштам, «Рим — это Эллада, лишенная благодати». Римская империя, в обеих своих формах — и Западной, и Восточной — была отчетливо антиутопическим проектом. Это была многовековая попытка «остановить историю», удержание и укрепление статус-кво стало там идеологической самоцелью. Даже отчасти преемствовав известную дионисийскую «свободу нравов», Рим напрочь лишил ее мистериального, аполлонического содержания, установив в качестве социальной нормы некий абсурдный гибрид дозволенных шоу-оргий и церковного морализма. Неслучайно самобытные культуры тогдашней Европы всегда противостояли Риму — обладающие своей уникальной мистикой кельты; последние эллины, защищавшие сетевую структуру своих полисов от римской унификации (→ 3–8); северные русичи, которые неоднократно брали Константинополь, стремясь освободиться от навязчивой религиозной экспансии тамошних жрецов.
Именно «римская модель», хотя и «третьеримски» осмысленная, во многом стала идеологическим базисом Российской империи, разделив некогда полицентричную Русь на всевластную Москву и обезличенную «провинцию». Именно Римом вдохновляются и нынешние строители Евросоюза, вновь превращающие свой древний многообразный континент в унитарное централизованное государство. (→ 3–3). Альтернативную тенденцию ныне выражают лишь регионалисты, также «совмещающее несовместимое» — глобальное мышление и защиту интересов локальных культур. (→ 1–8) По существу, это и есть возвращение на новом витке к многокрасочной яркости античного мира.
* * *
Античная религиозность на удивление «прагматична» — влияние олимпийских богов на жизнь земных людей мыслится естественным и очевидным, тогда как в авраамических религиях такое влияние происходит посредством редких «чудес». Поэтому античный метод «совмещения несовместимого», или даже «сочетания противоположностей» вполне уместно применить и к анализу такой самой «прагматической» современной сферы, как экономика. Представляется, что именно этот метод может стать основой для формулирования нового утопического проекта — «экономики Беловодья».
Нынешняя российская экономика существует почти исключительно за счет «первичного сектора» — добычи и продажи природного сырья, доходы от которого идут на поддержание на плаву устаревших индустриальных производств («вторичного сектора»). «Третичный сектор» — высокотехнологичные постиндустриальные разработки — пребывает в тотальном кризисе — его доля в нынешней экономике, по данным Владислава Иноземцева, составляет 3 % против 44 % в США. Наконец, новейший, «четвертичный сектор», представляющий собой информационное и программное обеспечение всех предыдущих, хотя и развивается, но результаты его деятельности направляются в основном просто на поддержание кризисного статус-кво. Расхожие разговоры о «выходе из кризиса» остаются пустыми словами — поскольку никому толком не ясно, куда из него можно выйти в условиях отсутствия новых проектов и стратегий.
Российской экономике сегодня нужна не расплывчато понимаемая «модернизация», а именно постмодернизация, которая сделает ее адекватной «духу времени». Эпоха постиндустриализма требует совершенно иного восприятия экономических процессов, чем в условиях индустриального модерна. Это уже не «валовое» и нескончаемое «решение текущих проблем», но — создание новых возможностей, которые, направляя развитие в требуемую сторону, одновременно лишают большинство этих былых «проблем» всякого значения.
Владислав Иноземцев прослеживает четкое различие индустриального и постиндустриального стиля:
Чтобы продать 10 машин, они должны 10 раз тупо повторить один и тот же технологический процесс. Они должны больше работать, меньше отдыхать, читать книг и пр. А когда специалист из Microsoft придумал новую программу, то он только усовершенствовал свои знания и навыки, которые позволят ему потом сделать еще много программ, более сложных. Работает абсолютно иной механизм.
Петербургский социолог Дмитрий Иванов в работе «Постиндустриализм и виртуализация экономики» сформулировал концептуальные основы российской экономической постмодернизации. Они в точности соответствуют античному принципу «сочетания противоположностей». Иванов предлагает синтез «первичного» и «третично-четвертичного» экономических секторов, при постепенном освобождении от «вторичного» индустриального «вала». (Он, кстати говоря, в нынешней России зачастую «вторичен» и в другом значении этого слова — многие производимые здесь «товары народного потребления»: машины, одежда, бытовая техника и т. д. совершенно не выдерживают конкуренции с зарубежными аналогами.) Главная ставка в этом проекте — уникальные технологии, производства и специалисты. Причем эту постмодернизацию Иванов описывает как пробуждение «экономики загадочной русской души», т. е. этот феномен в действительности будет соответствовать глубоким архетипам национальной психологии:
Нужен отход от экономической политики, замешанной на идеологии, оперирующей жупелом превращения России в «сырьевой придаток Запада». Следует скорее исходить из принципа «Запад — промышленный и информационный придаток России». Это значит, что следует мыслить не в терминах тонн, штук, кубометров, а в терминах изощренного и определенного позиционирования продукта на рынке. «От кутюр» могут быть не только галстуки или кофе, но и ракеты, танки, древесина, природный газ или медный концентрат…
Здесь важную роль будет играть формирование менеджмента на принципах «экономики загадочной русской души». Осознание «слабой стыкуемости» технологий индустриального капитализма с российским менталитетом должно найти продолжение в выработке форм организации и мотивации, интегрирующих национальный менталитет в современную экономику образов. Специфика российского менталитета в экономической области находит выражение в следующих особенностях «иррационального» поведения:
1) наши люди не способны на повседневное, кропотливое, дисциплинированное ведение дела, когда смысл, цель этого дела не просматривается, зато они способны на взрывной выброс душевных и физических сил во имя завершения дела, чтобы освободиться от его рутины и приобщиться к миру;
2) наши люди не могут жить работой, целиком посвящая ей себя, зато они могут жить на работе, отдаваясь целиком общению в родном коллективе;
3) наши люди лишены способности рассматривать инструментальные ценности как самодостаточные и просто следовать велению инструкций, зато они способны рассматривать любые ценности как инструментальные и сомневаться в непререкаемости инструкций, задаваясь вопросом «А в чем же здесь смысл?»
Следовательно, «вахтовый метод», авралы (сверхусилия для завершения уникального продукта), мотивация, при дефиците фонда зарплаты, общением и свободным временем, — все это не «патологические» отклонения, а органичные формы. Нужно все эти советские и постсоветские «вне-» или даже «антиэкономические» формы интегрировать, придав им экономический образ «нового менеджмента», сконцентрированного не на стабильной рутине технологии, а на конъюнктурной реализации уникального проекта. В такой перспективе российский менталитет особенно хорошо «стыкуется» с «выстраданными» на Западе виртуальной корпорацией, офисным дизайном, виртуальным рабочим днем, виртуальной платежеспособностью и т. д. Они уже у нас есть, но без развитой инфраструктуры и культивирования «нового менеджмента» принимают трагикомическую форму смены «биржевой» волны волной «банковской», объявлений «Продам фирму «под ключ», сражений в Doom в офисе, финансовых пирамид и т. п.
Таким образом, деструктивные в контексте экономики вещей тенденции становятся конструктивными в контексте экономики образов. «Реальная» экономика оставляет России перспективу быть вечно догоняющей, виртуальная экономика дает шанс на лидерство…
Такая экономика задает особую конфигурацию воспроизводственных контуров:
— опорный «первичный» сектор (ТЭК и освоение уникальных месторождений — Удоканского, Ковыктинского, Озерного и т. п.);
— компактный «вторичный» сектор (ВПК и создание уникальных авиационных, морских, космических комплексов, минимизация рутинных конвейерных производств — автомобилестроения, бытовой электротехники и т. п.);
— растущие «третичный» и «четвертичный» сектора (ФКК — финансово-коммерческий комплекс и интегрированные с ним наука и образование: подготовка и маркетинг уникальных специалистов — врачей, педагогов, ученых, социальных работников, художников-реставраторов, артистов, спортсменов, дизайнеров, стилистов, имиджмейкеров, программистов и т. п.).
Прямое сочетание и взаимосвязь «первичного» и «четвертичного» секторов означает кардинальный пересмотр инвестиционной политики. Пока основная часть прибыли от экспорта сырья направляется в неэффективные рутинные производства «вторичного сектора» — российская экономика по-прежнему будет «зависать» на индустриальной стадии. И напротив, фундаментальный перенос инвестиционного внимания на «четвертичный сектор» способен на новом витке существенно поднять и сам «первичный», для которого будут разработаны новейшие, имиджевые технологии позиционирования его продукции на мировом рынке.
Столь же перспективное «совмещение несовместимого» выражается и в эволюции самой политической власти в эпоху постмодерна. В современной российской регионалистике (см. например проекты Центра стратегических разработок «Северо-Запад» и др.) описана неизбежная перспектива трансформации административных регионов в культурно-экономические. Если главным ресурсом административного этапа было централизованное руководство практически всей жизнедеятельностью региона, то автономные субъекты отношений культурно-экономической эпохи предпочитают сетевое самоуправление. Эта трансформация происходит вследствие того, что сугубо административное управление, основанное на «догоняющем» решении текущих проблем, уже в принципе не в состоянии угнаться за сложностью современной экономики. При этом культурно-экономическая организация не заменяет административную, а «надстраивается» над ней, «переформатируя», или даже создавая вновь стратегические основы политики регионов.
Технологическим основанием для становления этой сетевой структуры служит стремительное развитие интернета, подключение к которому в начале XXI века становится аналогом открытия окружающего мира античными эллинами. Любопытно, что в инновационных кругах российских сетевых деятелей уже существует проект именно с таким названием — ЭЛЛИН, расшифровывающийся как «Электрические Линии Интернета» и нацеленный на максимальное расширение и удешевление технологии сетевых коммуникаций. Политолог Сергей Шилов, анализируя этот проект, говорит, что «его название весьма неслучайно фиксирует «древнегреческую природу» европейского разума, время расцвета науки, философии, демократии, определившее судьбу интеллектуальной Европы».
На основе развития сетевых отношений кристаллизуется новый «субъект утопии», который постепенно сменяет административно-централистскую элиту. Мифология этого субъекта (Китеж, Беловодье и т. д.) первоначально возникает виртуально, но затем все более просачивается в «реальную реальность». Главным препятствием для новых утопистов становится бюрократическая структура «Третьеримской империи», которая экономически зависит от предыдущей, индустриальной стадии и потому старается всемерно затормозить социальную динамику. Новые технологии и связанные с ними новые социальные формы с исторической неизбежностью кладут конец господству распределительной бюрократии, основанному на ее привилегиях в сфере информации и управления.
Владислав Иноземцев приводит печальные примеры российского «социального тромба» на фоне естественной динамики в других странах:
Эпоха постмодернити характерна тем, что не только большинство людей в социальной иерархии не властно над своим будущим, но не властна и сама элита! В России же одна и та же элита на протяжении многих лет властвует и контролирует все на свете. А в западном мире элита крайне подвижна, там все меняется исключительно быстро. Посмотрите на директорат крупнейших корпораций — в течение 5–6 лет там уже никого нет из бывших руководителей. Они взлетают и исчезают буквально за несколько лет. Потому что все меняется — спрос, условия, обстоятельства, что-то придумывается, открывается, изобретается, ненужное уходит. Это действительно во многом неуправляемые, по большому счету бесконтрольные процессы. Это «жизнь в автоматическом режиме». А когда все назначения идут из Кремля, а инвестиционные программы для «Газпрома» утверждает Кабинет министров, то это означает тотальный, повсеместный контроль.
Это господство централизованной номенклатуры по многовековой традиции сопровождается огромными непроизводительными расходами на амбициозные имперские забавы и прочие дорогие роскошества по оформлению ее московской «витрины». Но основная статья государственных расходов — это, конечно, само содержание постоянно растущего чиновничества, которому совершенно нет дела до новых исторических проектов. В результате современное российское общество почти буквально напоминает антиутопическое «Общество контроля» Жиля Делёза, в котором основная часть населения вместо творческого и полезного труда умеет только следить за другими, проверять, наказывать и бояться, что кто-нибудь когда-то накажет их самих…
* * *
Но самым зримым «совмещением несовместимого», главным проектом XXI века станет трансконтинентальный мост (тоннель) между Чукоткой и Аляской, который окончательно снимет границу между Востоком и Западом. Техническое обоснование этого проекта уже подготовлено в рамках международной корпорации «Трансконтиненталь». Однако его реализация пока тормозится препятствиями со стороны российских и американских чиновников, резонно опасающихся того, что возникшая вокруг этого моста сверхновая, северная глобальная цивилизация выйдет из-под их контроля. (→ 3–2)
Циркумполярные страны, создавшие в 90-е годы ХХ века транснациональную и трансрегиональную организацию «Северный Форум», переживают сейчас этап интенсивного технологического развития. Лидером его выступает, безусловно, Финляндия — эта страна, треть территории которой расположена в Заполярье, стала мировым лидером в использовании интернета. Развиваются там и новейшие системы телекоммуникации и энергетики. Сходное положение и в других странах Скандинавии, в Канаде, Исландии. Но и российский Север далеко не отстает. Так, в маленьких Надыме и Ханты-Мансийске подписчиков компьютерной прессы больше, чем в иных мегаполисах с миллионным населением — хотя полномасштабная компьютеризация там пока еще затруднена жестким централизмом российских структур связи. Регионы многих северных стран предпочитают устанавливать и развивать прямые взаимоотношения, основанные на общности культурно-экономических интересов. Хотя на этом пути они пока еще часто сталкиваются с противодействием своих центральных администраций, не желающих упускать выгоду от колониальной эксплуатации этих богатейших территорий.
Возможно, цивилизационной перспективой Северного Форума в эпоху глобализации станет его превращение в аналог другого Форума — Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), только еще более свободного от национальных правительств и напрямую выражающего глокальные интересы северных регионов. Возникновение такой Трансполярной Конфедерации стало бы пробуждением гиперборейского архетипа, его сверхновой формой.
Такой исторический проект означал бы не просто арифметическое «сложение» потенциалов северных регионов, но их «умножение», создание качественно иной цивилизации, преемствующей изначальную мультикультурность Севера и совмещающей ее с новейшими экономическими и социальными технологиями. Политолог Юрий Крупнов рисует картину этой грядущей цивилизации красками, яркими как полярное сияние:
Идея Северной цивилизации включает в себя следующие основные принципы:
— новые типы автономных поселений (фактории),
— новые формы общения и телекоммуникаций (цифровые сетевые деревни и пр., полисотектура),
— новые типы энергетики (особенно мини-АЭС капсульно-одноразового типа, биоэнергетика, нетрадиционные виды «малой энергетики», политика энергоэффективности и др.),
— новые социально-организационные технологии (страхование жизни, социальные виды гражданства, персональный патронат и др.),
— новые типы локальных универсальных промышленных центров (на основе лазерных инструментальных комплексов типа заводов cluster-tools),
— новые типы транспорта (струнные магистрали и др.)
Политическая форма проекта «Северная цивилизация» может быть представлена в форме многоконфессиональной, многоэтнической и многоязычной федерации. Отличительной чертой этой федерации станет тотальная диффузная терминальность, многограничность и трансграничность, возможность взаимопроникновения разнообразных субъектов («мягкая государственность»). С этой точки зрения, проект и реализация идеи Северной цивилизации позволит кардинально продвинуть международное право и дополнить идеи «прав человека» и «прав народов» идеей «прав цивилизации».
По существу, такая цивилизация и станет реальным прорывом в «фантастическое трансобъективное бытие», предсказанное Гейдаром Джемалем в «Ориентации — Север». Еще больше фантастики добавят вполне реальные последствия процесса глобального потепления, описанные Транслабораторией в проекте «Европа от Китежа до Аляски»:
Все в мире имеет глубокий смысл, и даже начавшееся техногенное потепление можно рассматривать как Божий промысел. Это потепление радикально улучшит климат Сибири и Крайнего Севера. По расчетам экологов, в XXI столетии глобальная среднегодовая температура вырастет на 1–3 градуса C, или даже еще больше (см. доклад Гринпис «Глобальное потепление». М., 1993). Нужно учесть, что повышение глобальной температуры даже на 1 градус — это весьма существенная величина: во время ледникового периода, когда большая часть территории нынешней России была покрыта льдом, глобальная температура Земли была ниже нынешней всего на 5 градусов, а во времена динозавров, когда тропики простирались до полярного круга, она была выше всего на 5-10 градусов. Кроме того, потепление будет неравномерным по широте: если на экваторе температура поднимется всего на 1–2 градуса, то в районе полярного круга она вырастет на 4–5 градусов. Климат большей части Севера и Сибири в течение XXI века начнет приближаться к среднерусскому, а южная часть европейской части постепенно превратится в субтропики.
Конечно, от этой климатической революции, от потепления и наводнения, многие страны мира могут пострадать (например, Соединенные Штаты превратятся в выжженную пустыню, а часть Европы уйдет на дно), но в целом человечество потеряет не так уж много, потому что станут более благоприятными для жизни пустующие ныне районы Гренландии и Антарктиды. Туда и можно будет переселить пострадавших от наводнения и засухи. А поскольку Гренландию скорее всего (и всех) займут европейцы, американцам останется лишь Антарктида, которая по своим климатическим условиям будет чем-то вроде нынешней Сибири.
Глобальное потепление — это реальность, оно уже началось, так что описанная выше перспектива — отнюдь не самый фантастический вариант. В принципе, потепление может не остановиться на 1–3 градусах, а спровоцировать тотальную климатическую революцию, в результате которой полярные льды и ледники растают, а климат вернется к состоянию до великого оледенения, каким он был десятки миллионов лет назад, когда большая часть планеты представляла собой цветущие субтропики. При этом на побережье Северного (бывшего Ледовитого) океана установится балтийский климат. Весь арктический регион, свободный ото льдов, превратится в густонаселенный и развитый планетарный центр, в нечто вроде современной Атлантики (в полярную ночь его можно будет освещать со специальных спутников). Будущая Русь при этом станет самой мощной морской державой, окруженной с севера и востока теплыми морями. Из-за потепления и повышения уровня океана эти теплые моря сами со всех сторон приплывут к нашим берегам, так что не нужно будет никого завоевывать, чтобы до них добраться. Северный океан климатически и символически вновь станет Средиземным… Божий промысел справедливо парадоксален: глобальный климатический апокалипсис, который своей хищнической экономической политикой уготовил всему миру Запад, обернется адским пеклом для него самого, а Север превратит в земной рай и новый центр мира.
Но помимо этого преображения Земли, северяне вновь осмыслят и традиционное значение эллинского слова «Космос». Основной доктриной сверхновой эры станет, вероятно, космополитика. Не в модернистском смысле самоцельного смешения земных народов, а как «гиперборейское» открытие иных планет и миров.
3.8. Новая Гардарика
Передача началась с показа одного из новых спиральных городов северного жилого пояса… Они строились в особо удобных для жизни местах, где сосредоточивалось обслуживание автоматических заводов, пояса которых, чередуясь с кольцами рощ и лугов, окружали город, обязательно выходивший на море или большое озеро.
Иван Ефремов. Туманность АндромедыГорода-государства Руси представляли собой прямой аналог сети античных эллинских полисов, с их многополярностью и внутренним самоуправлением. Николай Карамзин неслучайно сравнивал новгородцев с «народом афинским».
Автор книги «Исландские викингские саги о северной Руси» Галина Глазырина подчеркивает, что в то время существовала «северная конфедерация племен», т. е. это сообщество не было узкоэтническим, как ныне трактуют «русскость» некоторые националисты. Викинги называли северные русские земли Гардарикой — «страной городов». И Новгород был из них лишь «первым среди равных».
Ныне, с развитием процессов глокализации (→ 1–8), становится все более ясным, что эта великая история (сама выглядящая с позиций официальной историографии как «утопия») не завершена, но всего лишь отложена. Однако ее продолжение требует не реставрации, но принципиально иных, сверхсовременных форм.
Частичным продолжением истории Гардарики была уже Петровская эпоха, когда возникло много новых северных городов, самым значимым из которых стал, конечно, Санкт-Петербург, преемствовавший новгородскую традицию на новом этапе. Более того, Санкт-Петербург как «ремейк» западных городов по своему архитектурному великолепию во многом даже превзошел «оригиналы». Таким образом, постмодернизм как культурная стратегия в России насчитывает уже не одно столетие.
Однако в ситуации постиндустриального общества потребность в тотальной «мегаполисной» концентрации всех ресурсов все более исчезает. Сетевую «глобальную деревню», предсказанную Маршаллом Маклюэном, следует понимать и в более прямом смысле — как процесс постепенной дезурбанизации, вполне наблюдаемый уже в развитых странах, где многие деятели сетевого общества предпочитают жить и работать в небольших городах, «поближе к природе». И хотя для Северной России Петербург еще надолго сохранит свое культурное и технологическое лидерство, но активное историческое творчество новой Гардарики сосредоточится уже в сети новых малых городов, которая символически протянется от балтийского Славска (возможной столицы Северославии (→ 3–4)) до староверческого Николаевска на Аляске (→ 3–2). Связать же между собой эту сеть вполне способен струнный транспорт Юницкого[84] — гораздо более эффективная, скоростная и экологически чистая технология, чем железнодорожное и автомобильное сообщение.
Американский теоретик «социальной экологии» Мюррей Букчин мотивирует перспективу появления малых городов весьма актуальными доводами:
Нам нужны малые города не только чтобы реализовать идеалы свободы, но для того, чтобы удовлетворить элементарную жизненную потребность жить в равновесии с природой. Огромные города, точнее расползающиеся пояса урбанизации не только создают культурную однородность, анонимность индивида и централизованную власть, они накладывают непереносимое бремя на местные водные ресурсы, воздух, которым мы дышим и на всю природу тех зон, которые они занимают. Загрязнение, шум и стресс, которые производит современная городская жизнь, становятся все более непереносимыми, как физически, так и психически. Города, веками объединявшие людей разного происхождения, созданные для солидарности, сегодня атомизируют своих жителей. Теперь город это место, в котором легче скрыться от людей, чем найти человеческую близость. Страх начал вытеснять социальность, грубость мешает солидарности, скопление людей в переполненных домах, транспорте, супермаркетах разрушает чувство индивидуальности и приводит к безразличию к условиям человеческой жизни.
Децентрализация больших городов в соразмерные человеку сообщества не романтическая мистификация любителя природы и не далекий анархический идеал. Она становится необходимостью для создания экологического общества. Наиболее важное в этом «утопическом» требовании — выбор между быстрой деградацией окружающей среды и обществом, которое будет жить в балансе с природой на устойчивой основе.
Возникновение этой новой цивилизации именно как северной во многом обуславливается тем, что на просторах Севера отсутствует теснота и скученность людей, что отличает его от переполненных мегаполисов Запада и перенаселенного Третьего мира. В скученности люди — взаимозаменяемые атомы, толпа, масса, поэтому реальная цена человеческой личности близка к нулю. Наоборот, на Севере человек — «редок», незаменим и уникален, он нужен другим, его жизнь обладает реальной ценностью. Перед лицом суровой северной природы люди объективно нужны друг другу, тянутся друг к другу и на этой почве между ними возникают естественные человеческие отношения. Социальность здесь рождается спонтанно из притяжения людей друг к другу. Человек на Севере просто обязан быть сильным, умным, добрым, ответственным, всесторонним — «изначальным». Эта спонтанно возникающая социальность, где один человек важен и ценен другому именно как всестороннее развитая личность — главное достояние Севера. Она обеспечивает недостижимую гармонию коллектива и индивида, когда коллективу индивид нужен именно в своей уникальной индивидуальности. «Холодная» среда порождает «теплый» социум.
Хотя при этом российский Север является все же самой крупной и населенной частью глобального — уже сегодня здесь живет несколько миллионов человек, в отличие от населения, к примеру, северной Канады или Лапландии, исчисляющегося десятками тысяч. Именно поэтому строительство трансконтинентальной магистрали (→ 3–7) начнется именно отсюда.
Формальным прообразом создания северной транспортной инфраструктуры можно было бы считать сталинский проект строительства трассы Салехард-Игарка. Однако он закономерно провалился, поскольку реализовывался совершенно антиутопическими методами. Тем не менее, даже сам автор известнейшей книги о той эпохе Александр Солженицын видит иной, абсолютно позитивный образ северного будущего. Это прозрение, высказанное еще в 1973 году в самиздатском сборнике «Из-под глыб», звучит куда актуальнее, чем мегатонны и гигабайты всей «футурологии» последних лет — в том числе и самого «позднего» Солженицына:
Еще сохранен нам историей неизгаженный просторный дом — русский Северо-Восток. И отказавшись наводить порядки за океанами и перестав пригребать державною рукой соседей, желающих жить вольно и сами по себе, — обратим свое национальное и государственное усердие на неосвоенные пространства Северо-Востока, чья пустынность уже нетерпима становится для соседей по нынешней плотности земной жизни.
Северо-Восток — это Север Европейской России — Пинега, Мезень, Печора, это и Лена и вся средняя полоса Сибири, выше магистрали, по сегодня пустующая, местами нетронутая и незнаемая, каких почти не осталось пространств на цивилизованной Земле. Но и тундра и вечная мерзлота Нижней Оби, Ямала, Таймыра, Хатанги, Индигирки, Колымы, Чукотки и Камчатки не могут быть покинуты безнадежно при технике XXI века и перенаселении его.
Северо-Восток — тот ветер, к нам, описанный Волошиным:
В этом ветре — вся судьба России…
Северо-Восток — тот вектор, от нас, который давно указан России для ее естественного движения и развития. Он уже понимался Новгородом, но заброшен Московскою Русью, осваивался самодеятельным негосударственным движением, потом изневольным бегунством старообрядцев, а Петром не угадан, и в последний полувек тоже, по сути, пренебрежен, несмотря на шумные планы…
Северо-Восток — ключ к решению многих якобы запутанных русских проблем. Не жадничать на земли, не свойственные нам, русским, или где не мы составляем большинство, но обратить наши силы, но воодушевить нашу молодость — к Северо-Востоку, вот дальновидное решение. Его пространства дают нам место исправить все нелепости в построении городов, промышленности, электростанций, дорог. Его холодные, местами мерзлые пространства еще далеко не готовы к земледелию, потребуют необъятных вкладов энергии — но сами же недра Северо-Востока и таят эту энергию, пока мы ее не разбазарили.
Северо-Восток не мог оживиться лагерными вышками, криками конвойных, лаем человекоядных. Только свободные люди со свободным пониманием национальной задачи могут воскресить, разбудить, излечить и инженерно украсить эти пространства.
Только в этой, новой, северной Гардарике, которая возникнет как сеть новейших, компактных городов, аналога античных полисов, и произойдет восстановление политики в ее исходном значении.
* * *
В отличие от нынешней России, где неконституционный, но повсюду де-факто сохраняющийся режим «прописки» продолжает закреплять людей на местах (или оставляет им единственную альтернативу — стремиться за самореализацией в гиперцентралистскую Москву), проект Новой Гардарики освобождает внутреннюю многополярность Руси, вновь пробуждает все многообразие региональных мифологий и их живое взаимодействие.
Демосковизация русского пространства, которую предусматривает этот проект, не означает создания некоего «альтернативного Москве», но статусно подобного ей гиперцентра. Это было бы простым воспроизведением того же самого модернистского унитаризма, и вся многомиллионная российская бюрократия превратила бы и новую столицу в подобие нынешней Москвы. Тогда как задача состоит в децентрализации как таковой, наделяющей все регионы равными правами и возможностями, т. е. в воссоздании исконной, сетевой природы Руси. Где, кстати, вполне найдется место и «коренной» Москве, чья древняя культурная самобытность также была растоптана этой угнездившейся в ней гиперцентралистской властью. Но это во многом зависит от способности самих москвичей отличать эту свою самобытность, распространяемую только на себя, от ордынско-имперской идеологии, которая веками навязывала регионам именно «московский стандарт» в качестве «общероссийского».
Эта идеология резко проявилась еще в 1508 году, когда московский князь Василий III прислал в захваченный Новгород свое боярское посольство с распоряжением «ряды и улицы размерити по московскы». Именно с этого времени начинается целенаправленная культурная и архитектурная унификация Руси по «московскому стандарту». Конечно, многие древние памятники в разных регионах сохранились — но превратились в мертвое «музейное» наследие, утратив характер самобытно развивающихся стилей. Поэтому никакой их формальной «реставрацией» проблему не решить. Выход из модернистской стандартизации может быть найден лишь на путях парадоксального синтеза уникальных местных стилей с постмодернистскими архитектурными стратегиями. В Новой Гардарике не будет места не только серым хрущобам, но и позднейшим многоэтажкам «спальных районов» — эпоха пробуждения требует иной, гораздо более индивидуальной и дифференцированной жизненной эстетики.
Как утверждает один из ведущих теоретиков архитектуры постмодерна Чарльз Дженкс, эта стратегия легко включает в себя многие элементы традиционных стилей, помещая их в иные контексты, от чего те порой даже ярче демонстрируют свою уникальность. Постмодернистская архитектура вообще непременно предусматривает «двойное кодирование», где прямая функция каждого элемента оттеняется его парадоксальностью и ироничностью. Всякое постмодернистское здание должно будить какие-то иные смыслы и ассоциации. И оно вполне может быть не просто симулякром, но трансгрессором, отсылающим к «нездешней» реальности. (→ 1–4) Трансгрессивный потенциал постмодернистской архитектуры подчеркивается тем, что, по Дженксу, в ней находит свое воплощение идея «отсутствующего центра». Т. е. центральная позиция не загромождается неким «раз навсегда данным» идолом, но служит открытой площадкой для общения с трансцендентностью:
Архитектурный ансамбль исполняется таким образом, чтобы все элементы были сгруппированы вокруг единого центра, но место этого центра — пусто.
Это как нельзя лучше соответствует символике «отсутствующего Китежа». Хотя посреди Новой Гардарики однажды может возникнуть и он сам. Однако строительство Китежа — это слишком символическое и ответственное деяние, поскольку если он превратится в мегаполис, подобный Москве, он немедленно лишится своей сакрально-мифологической миссии и вновь исчезнет — подобно Атлантиде. Тем не менее, один из проектов такого строительства в разработках Транслаборатории уже существует:
Вовсе не обязательно делать эту новую столицу всецело государственным проектом, подобно Петербургу, — создание этого города станет результатом неформальной народной инициативы. Он будет строиться как полигон русской свободы: город, соединяющий в себе черты Афона, Гоа и Запорожской Сечи, город монастырей и рок-фестивалей, крестных ходов и техно-пати, земских соборов и хакерских конгрессов, город безумных проектов, высоких молитв и чистой любви, живущий по собственным законам и под собственной юрисдикцией, охранять который будут патриоты из военно-монашеских орденов, а не какие-нибудь продажные «пpидвоpные части», которые расстреливают собственный народ. Он станет новой духовной столицей Руси, ярким маяком и живым примером того, как русская цивилизация поднимается из вековых глубин, сбрасывает оковы сна и впервые разворачивается во всей своей полноте.
Но может быть, Китеж целесообразнее возводить именно как уникальный «кочующий город», символизирующий собой вечный выход за рамки всякого статус-кво? В таком случае он будет воплощать трансцендентный смысл утопии как таковой и станет просто «программой» с открытым, но автономным «кодом Руси». (→ 3–1) Этот вариант вполне резонирует с традицией северных первопроходцев и открывателей новых пространств, которые никогда не останавливались навсегда на том или ином «краю земли». Исследователь сакральной географии Русского Севера Николай Теребихин подчеркивает эту особенность:
Главный герой русского освоения просторов Севера — это странник, мучимый духовной жаждой обретения «нового неба и новой земли». Именно этот религиозный порыв, взыскание «новых земель», которые могли оказаться Землей Обетованной, лежит в основе севернорусского пространственного менталитета.
* * *
Появление нового северного народа предвидел один из наиболее проницательных исследователей Русского Севера Андрей Журавский еще в начале ХХ века, удивляясь резкому контрасту его колониальной нищеты и колоссального исторического богатства:
Говорят, северные земли — «земли будущего». И да, и нет. Точнее назвать их «землями будущих людей».
Самоорганизация этих «будущих людей» начнется с создания ими своего автономного коммуникативного пространства (среды общения, жизни, творчества). Вероятно, преемствуя традиции Нового Света, граждане Сверхнового наследуют и практику создания сквотов — но уже в иных исторических условиях. В XVIII–XIX веках на Северо-Западе США «сквотерами» называли фермеров, которые захватывали свободные участки земли и вели на них свое хозяйство. Позже, когда власти установили полный контроль над территорией страны, сквотерство исчезло, но возродилось в конце 60-х годов ХХ века. Однако на сей раз под ним стали понимать практику захвата творческими «неформалами» пустующих городских помещений. На оккупированных территориях сквотеры устраивали центры альтернативной культуры — музыкальные студии, арт-мастерские, информационные центры, выставочные галереи, литературно-художественные кафе, философские клубы и т. д.
Поначалу власти изо всех сил препятствовали сквотерскому движению. 70-80-е годы прошли в постоянной борьбе сквотеров за право быть самими собой. Однако сквоты выжили благодаря своим «сумасшедшим» жильцам, народной поддержке и внезапному просветлению, посетившему «сильных мира сего». Те вдруг осознали, что имеют дело не просто с «блаженными одиночками», а с массовым и постоянно растущим социальным движением. И в конечном итоге пошли на компромисс, приняв условия легализации сквотов. Большинство из них, вернув «кесарю кесарево», зарегистрировалось как культурные центры и общественные организации, продолжая осознавать себя при этом вполне автономным социумом или даже «новым народом».
Применительно к современной России грандиозный проект такого «мега-сквота» разработал лидер Корпорации «Необитаемое Время» Алексей Михайлов. Разделяя эту блестящую (и вполне осуществимую!) утопию в целом, предлагаем лишь две коррективы, способные, на наш взгляд, только повысить ее актуальность и востребованность.
Первое — начинать реализацию этой утопии необходимо не в каких-то уже существующих жилых инфраструктурах, а параллельно со строительством Новой Гардарики. По существу, ее население и будет представлять собой наиболее адекватных участников этого проекта. В противном случае, воспроизведение классической «сквотерской» стратегии приведет лишь к тому, что окружающий, антиутопически настроенный «мир мертвых» просто поглотит и этот утопический проект, заставив его играть по своим правилам. Несмотря на колоссальное развитие телекоммуникаций, пространственная дистанция все же сохраняет свое значение. Более того, именно северная локализация этого проекта способна ввести его напрямую в глобальный трансполярный контекст, «отключив» при этом от «провинциального» влияния нынешнего российского гиперцентрализма.
Второе — для открытия нового этапа русской истории, на что этот проект безусловно способен, он в самом своем названии (одном из названий?) должен воплощать символически фундаментальные архетипы русской мифологии — к примеру, то самое, веками притягательное Беловодье. Это важно прежде всего для внутреннего осознания его творцами возможной глубины своего проекта. Хотя внешне, конечно, это не столь принципиально — ничто так не убивает утопию, как буквальный формализм.
Государство «Y» (возможная последовательность действий). Итак, мы образовываем некую общность (50-100 человек) из специальных людей, называем эту общность государством Игрек, а конкретных его граждан — игреками. Кто такие эти особые люди? Это симпатичные люди (очень ёмкое определение), к тому же они обладают следующими свойствами: креативность, неконфликтность, энергия, ум, честь и совесть ну и т. д… Далее — мы выходим в СМИ с сенсацией — «На территории России возник ещё один народ!» и начинаем кампанию за обретение статуса субъекта федерации. Если нам его не дают — ладно. Для нас главное — выделенность нашего народа из общей массы людей, а она может быть не только статусная или территориальная. Главное — экономическая независимость. Необходимо «вынуть» игреков из среды «мёртвых» и объединить их на основе общего дела.
Последнее может быть достигнуто за счёт запуска коммерческих проектов, в которых участвует всё население «Y». Это принципиальный момент — сегодня каждый пассионарий как правило делает несколько проектов (причём достаточно успешно). В нашем случае — все делают один проект, что позволяет взяться за разработку действительно глобальной задачи и достичь невероятной эффективности. Государство «Y» обязано сформировать для своих граждан материальную базу для творческой реализации (мастерские, компьютеры, съёмочная аппаратура и т. д и т. п.) и постоянно обновлять её в соответствии с последними достижениями современной техники. Далее государство обязуется разработать и внедрить механизм «конвертации» создаваемых игреками креативных объектов (идей, ноу-хау, картин, песен, телепередач, клипов, книг, словом всего того, что игреки наваяют) в валюту соседних государств (в рубли и доллары), то есть, собственно, берёт на себя продюсерскую функцию.
После исполнения первой статьи, все текущие поступления расходуются на жилищное строительство и расширение материальной базы (создание новых «рабочих» мест). Экспансия идёт лавинообразно. Феномен «Y» получает международную огласку, постоянно обсуждается в прессе, что служит дополнительной рекламой. Желающих переселиться в «Y» будет заведомо больше, чем мы можем принять — это отличные условия для конкурсного отбора (лучших из лучших). Одновременно с этим мы сами «ищем таланты». Простой подсчет (прогрессия) показывает, что если в течение недели каждый из 16 авторов проекта пригласит всего лишь одного (самого лучшего) человека из своего окружения, и то же самое еженедельно будут проделывать все «вновьприбывшие», то через 24 недели (меньше полугода) население «Y» составит 268 миллионов 434 тысячи 726 граждан (мультилевелный маркетинг с обратным знаком). Причем для запуска и поддержания этого процесса деньги практически не требуются. Однако нас интересуют только лучшие из лучших (это порядка 1,5 млн. человек в диапазоне 14–45 лет), что является задачей заведомо выполнимой.
Здесь я сформулирую мысль: 1,5 млн. русских пассионариев (будучи помещёнными в специальные условия) могут обеспечить выплату солидных пособий по безработице всем остальным россиянам. Непременным условием функционирования «Y» является проживание игреков на одной территории. Не только для того, чтобы обеспечить их взаимодействие, но и с тем, чтобы исключить их контакты с «мёртвыми» (само нахождение в «психопатогенных» многоэтажках, заселённых охваченными ужасом людьми — губительно). В этом случае срабатывает эффект «событийного реактора» — людей типа «обогащённый уран» мы помещаем в «реактор» (программа, народ, сверхзадача), «сжимаем» эту «критическую массу» (здесь — порядка 100 человек) в едином пространстве и получаем цепную реакцию с выделением чудовищной по силе и красоте творческой энергии.
Надо сказать, что пассионарии, являющиеся по определению носителями сверхпотенциала, редко могут проявить его в окружающей жизни, так как всё их время уходит на решение проблемы индивидуального выживания. Они (как, впрочем, и все остальные россияне — вне зависимости от статуса и богатства) помещены в ситуацию, когда весь их текущий день целиком уходит на обеспечение выживания в дне завтрашнем. И так далее. Не хватает не сил, а именно времени. Времени на принятие оптимальных решений. Вторая причина незавидного положения «национальных гениев» — в общей отравленности жизненной атмосферы.
Итак, второй этап — это экспансия. Постоянное расширение (всеми способами) границ государства и интенсивный рост населения «Y» (сеть анклавов в различных регионах соседних стран). Одновременно с этим — бурное развитие экономики «Y», основу которой составляют интеллектуальный и креативный бизнес (биржевая игра, консалтинг, программирование, разработка и патентование ноу-хау с последующей продажей лицензий, выпуск музыкальных альбомов, клипов, рекламной продукции, эксклюзивной одежды, книг, телепередач, различных «раритетов» (штучных объектов — от керамических изделий до аппаратуры ручной сборки). Жизнь в государстве «Y» — «бьет ключом», всегда наполнена драйвом, «куражом». И в то же время (по большому счёту» — никто из игреков не работает в привычном понимании этого слова. Игрек может работать один час в неделю, а может 24 часа в сутки. Это никак не отражается на его личном благосостоянии (может быть только на начальной стадии формирования государства будет существовать некая «обязательная программа»). Игреки созидают. Причём только тогда, когда очень хочется и именно то, что хочется. Только в таком состоянии человек способен создавать шедевры (будь то новая схема для биржевой игры, идея сверхэкономичного электромобиля, рекомендация правительству или стихотворение). Вся тяжёлая физическая работа в государстве «Y» выполняется наёмными аборигенами-россиянами.
Итак, в течение первых 4–6 месяцев своего существования «Y» об этом феномене уже знает широкая общественность, стать гражданином «Y» — мечта всей российской молодёжи. Родители стараются устроить своих детей в ВУЗы государства «Y» (Универсальный Университет и Академия Изящных Искусств), также особым образом организованные. Экзаменов нет — только творческий конкурс и собеседования («фэйс-контроль»), а единственный повод для отчисления — систематическое проявление агрессии в любом виде. Нетрудно представить, что при таких условиях конкурс в наши ВУЗы будет носить общероссийский характер, то есть ежегодно мы без труда получать всех «лучших» из очередного поколения. Их даже не надо будет их искать — они приедут сами. Эти принципы — саморазвитие, самоструктурирование, самонастройка и т. п. — лежат в основе наших социальных техник.
Правительство не правит народом (им правят объективные биосоциальные законы), но является посредником в отношениях игреков с соседями по планете, а также обеспечивает процедуру экспансии, нацеленной на выявление во внешнем мире сверхпотенциальных личностей. Под территориальной экспансией, естественно, понимается не захват чужих земель (а здесь все земли — чужие), но, скорее «жилищная экспансия». Мы — не нуждаемся в территориальных границах, они даже вредны нам (граница — это всегда проблемы). На самом деле — при компактных методах строительства — на территории всего нескольких сот гектаров можно выстроить город-государство с населением несколько миллионов человек. При мизерной территории оно вполне может претендовать на роль сверхдержавы (собственно, это определяется только размером имеющихся в стране интеллектуальных и материальных богатств, а вовсе не размерами страны).
Таким образом, государство «Y», никак не вмешиваясь в «российскую жизнь» — не участвуя ни в выборах, ни в распределении гос. бюджета, платя (в разумных пределах) все налоги и соблюдая законы, права человека и прочие принципы либеральной демократии, — процветает и растёт прямо посреди разрушенной России. Со временем анклавы государства «Y» будут созданы во всем мире (преимущественно на свободных от населения островах), в каждом случае наша идеология будет адаптироваться к менталитету и законодательству той страны, на территории которой мы «высаживаемся». Главная национальная мечта игреков — экспансия до размеров человечества. Спасение всех тех, кто ещё находится в «тьме внешней», там, где «мёртвые хватают живых». Для полного замещения этого мира нашим «антимиром» может потребоваться 10 лет или 100. Это неважно. Главное, чтобы интенсивность роста населения нашей страны заметно опережала (в процентном соотношении) среднемировую, при сохранении высокого уровня жизни и всей полноты возможностей для личной реализации каждого гражданина. А это — заведомо реализуемая задача (если учесть вышеприведённую прогрессию).
100 (200, 1000….) сверхпотенциальных личностей помещаются в условия иной жизни, где они не «парятся» — то есть думают о чём угодно, только не о завтрашнем дне. Это — небывалая ситуация для такого типа (креативных) людей, которые испокон веков обречены были на маргинальное прозябание в силу «врождённого» (генетически закреплённого) нонконформизма. Единственный аналог — это создававшиеся ещё на рубеже 50-60-х годов т. н. «мегамашины» (см. Ю. Громыко, «Вестник консциентальной разведки») — когда под какую-то конкретную научную сверхзадачу (ядерная физика, космос) формировались «временные творческие коллективы» (ВТК) из специально отобранных людей, которым действительно предоставляли все возможности. Однако всё это так или иначе было отравлено идеологией, стукачеством (или опасением его), ощущением временности ситуации и, главное, пониманием того, что всё это — работа «на войну». К тому же, применялись другие критерии отбора. Если в нашем случае это — критерий интегральности («главное, чтобы человек был хороший», симпатичный, креативный), то там всё определял профессионализм. И в тех ВТК — всегда оказывались несколько «духовно больных», незаметно отравлявших жизнь остальным. Однако даже при всех этих минусах — этот метод вылился в серию крупнейших открытий (запуск первого спутника, изобретение лазера и т. п.). В отличие от традиционных общностей в «Y» вообще нет «вампиров» и «паразитов», которые в изобилии проникают в традиционно складывающиеся коллективы (в норме — их примерно 80 процентов практически в любой организации). В нашем случае текущее отделение чистых от нечистых (в процессе экспансии) будет происходить автоматически («чужие сердца не приживаются»). Просуществовав хотя бы месяц в рамках одной территории и в режиме свободного и заинтересованного сотворчества (предлагаются различные «амплуа» в рамках общего дела) наши творческие люди образуют основу государства — первую корпорацию («тело», организм). Автоматически же произойдёт естественная (кастовая) дифференциация — кто-то захочет работать с деньгами, кто-то продюсировать, кто-то придумывать, кому-то больше по душе создавать техническое обеспечение.
Есть все основания предполагать, что именно в таких — специфических — условиях существования сверходарённых индивидуумов произойдёт активация 95 процентов нейронов, выключенных из деятельности в обычной жизни, где сознание человека «заблокировано» подсознательными, виртуальными страхами (человек не живёт, а переживает). По мере своего развития «Y» будет всё больше и больше отличаться от современных ему обществ. Это будет другая цивилизация — другой образ жизни, другие смыслы существования. В «Y» со временем исчезнут разделения типа «хорошо-плохо». Основу жизни составят три процесса — общение, игра и творчество. Собственно, само общение (в различных формах) станет и игрой, и творческой импровизацией.
3.9. Утопический реализм
Будущее имеет статус контрфактического моделирования. Это один из факторов, на котором я основываю понятие утопического реализма. Предвосхищение будущего становится частью настоящего, и тем самым будущее фактически развивается. Утопические прогнозы или ожидания составляют основу для будущего, но в мире постмодернити взаимоотношения пространства и времени уже не будут упорядочены историчностью. Может ли это означать возрождение религии в той или иной форме, сказать трудно, но можно предположить, что в таком случае оказались бы зафиксированы некоторые свойства традиции. Это не был бы мир, который «распадается изнутри» на децентрализованные организации, — в нем, без сомнения, сложно связывалось бы локальное и глобальное. Будет ли такой мир подразумевать радикальную реорганизацию пространства и времени? Это представляется вероятным.
Энтони Гидденс. Последствия современностиУтопия превращает историю в творческий процесс. Это тем более актуально для нынешней России, где великое, красочное богатство русской мифологии до сих пор не реализовано, а подвергнуто забвению или вытеснено в маргинальные по отношению к социальной практике сферы. Именно поэтому нынешнее «русское самосознание», оторванное от собственных истоков, пребывает в историческом ступоре и пытается компенсировать собственную внутреннюю пустоту внешней реактивностью. Официальный и расхожий «патриотизм» охотно противопоставляет русских другим народам и культурам вместо углубления в собственную традицию. Даже те, кто апеллирует к православной уникальности, зачастую делают это с негативной целью — ради отрицания других традиций, а не с позитивным утверждением своей. Те же, кто пребывает в апокалиптических настроениях, заражая общество своим мрачным пафосом Конца Света, почему-то забыли ясные слова Евангелия от Иоанна: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него».
Эта «всеосуждающая» реактивность вызвана интересами сохранения существующего порядка. И чем более этот порядок чувствует свою внутреннюю пустоту, тем более он реактивен и агрессивен. Но для взрыва этого порядка, по Мангейму, необходима «трансцендентная по отношению к реальности ориентация, преобразованная в действие». (→ 1–1) Поэтому субъект RUтопии составят те, кто вместо пустого «патриотического консерватизма» начнет активно открывать и воплощать в сверхсовременных формах все древнейшее наследие русской традиции, органично синтезируя его с мировым опытом воплощенных утопий. И — уроками из того, как, будучи недовоплощенными, они вырождаются в тяжкие идеологические антиутопии. (→ 1–2) К примеру, если град Китеж попытаются истолковать как некую «единственно верную идеологию», а те, кто в нем поселится, заразятся «столичным снобизмом», он просто вновь уйдет под воду как Атлантида — только вряд ли его жителей на этот раз будут поминать как праведников…
Воплощение утопии требует, прежде всего, волевой антропологической трансформации. Ее природу и волшебную мощь визионерски проницательно изобразила философ Лиляна Никогосян:
Если мы будем сражаться с реальностью ее методами, то обречем себя на проигрыш. Князь мира сего — это не какая-то злая сила, но иллюзия всемогущества материи. Людям мир кажется незыблемым, но в руке утописта он пластичен и мягок. То, чему он приказывает быть своим твердым и незаинтересованным решением, начинает быть — создается и совершается. Во что он «верует», то осуществляется, и желания его бескорыстны. Материальные удачи в качестве самоцели немедленно лишили бы его магического могущества. Для того, чтобы приобретать, надо отрекаться. Только отрекшиеся от стремления к власти начинают править.
Нынешняя политическая «борьба за власть» смешна именно своей абсурдностью. Те, кто всерьез думает о будущем, просто создают иную, «параллельную» цивилизацию. Это не значит, что они эскапистски «бегут от реальности». Напротив, этот все более массовый уход активных творческих людей из «нормального общества» означает, что они успешно создают собственную реальность, постепенно приходящую на смену прежней. Об этом историческом творчестве умалчивают медиа-пирамиды, потому что оно отменяет их иллюзорную власть над сознанием, попсовую уверенность, будто реальность — это то, что показывают по телевизору.
Новая реальность политически преемствует анархическую традицию, но с существенным ее «апгрейдом». Профессор Йельского университета Дэвид Грэбер и югославский историк Андрей Грубачич в недавней статье[85] предсказывают анархизму миссию «главного революционного движения XXI века», решительно пересматривая при этом его «классические» основы:
Всюду от Восточной Европы до Аргентины, от Сиэтла до Бомбея, новые радикальные мечты и проекты вдохновляются именно анархическими идеями. Однако их представители часто вовсе не называют себя «анархистами». Они предпочитают другие названия: автономизм, антиавторитаризм, прямая демократия, экономика участия… Но всюду наблюдаются те же самые основные принципы: децентрализация, добровольная ассоциация, взаимная помощь, сетевая модель, и прежде всего, отрицание любой идеи, утверждающей, что цель оправдывает средства, не говоря уж о «революционном бизнесе», предлагающем захватить государственную власть и затем «все исправить» с позиции силы.
Все большее число революционеров признает, что «революция» не придет как некий апокалиптический момент, штурм глобального эквивалента Зимнего Дворца — она явится довольно длительным процессом (даже при том, что само течение времени ныне стремительно ускоряется). Это некоторых смущает, но и предлагает одно огромное утешение: мы не должны ждать до времени «после революции», чтобы увидеть проблески того, чем является подлинная свобода. Мрачные безрадостные революционеры, которые жертвуют своим настоящим во имя теоретического будущего, могут произвести только такие же мрачные безрадостные общества. Так же, как суфий мог бы сказать, что суфизм — это ядро истины по ту сторону всех религий, анархист должен утверждать, что анархизм — это точка свободы по ту сторону всех нынешних идеологий.
Таким образом, воплощение утопии — это не какое-то отвлеченное «светлое будущее», разделенное пропастью с «темным настоящим», но скорее альтернативное настоящее. Для исторического творчества не существует никаких «предвыборных кампаний», оно всегда разворачивается в категории «здесь и сейчас». Именно поэтому оно не столько отрицает окружающую реальность (чем заняты обычные «нонконформисты»), сколько утверждает собственные смыслы и старается проявить их в этой реальности. И когда эта реальность не вместит «новое вино» — ее просто прорвет как «старые мехи»…
Утопические реалисты не ведут пустопорожних идеологических дебатов о «принципах анархизма» — но активно их воплощают. Теоретизирование о «новой цивилизации» имеет, к несчастью, тенденцию превращаться в схоластику. Тогда как ее надо просто создавать — всеми имеющимися возможностями, не ожидая «манны небесной». Воля к открытию своего времени и пространства должна стать «осознанной необходимостью». Таков, если угодно, «ленинский завет» XXI века.
Эта социальная трансформация подталкивается и новыми технологическими открытиями, которые в прежних, индустриальных, массово-централизованных системах просто не могли воплотиться. А в новой реальности качество вновь берет верх над количеством — главной «производительной силой» становится креативный потенциал. Способность к изобретению и созданию новых смыслов и технологий начинает в гораздо большей степени определять глобальную роль той или иной цивилизации, чем количество населения и материальные ресурсы. Именно так и было в античной Элладе, когда несколько миллионов древних греков сделали для развития человеческой цивилизации больше, чем десятки и сотни миллионов жителей других стран. (→ 3–7)
Впечатляющую картину Сверхновой России, где реализуется этот креативный потенциал, рисует писатель Максим Калашников:
Унаследованная от СССР техносфера умирает, но не надо плакать по этому поводу. Наступает совсем иное время — сверхэффективных, небольших производств, необычных технологий, которые заменяют собой целые отрасли старой, прожорливой, энергозатратной и экологически губительной промышленности.
О каких технологиях можно говорить сегодня? Во-первых, о закрывающих — тех, которые заменяют собой целые отрасли старой индустрии. У нас уже есть установки, которые способны похоронить, например, грязную огневую энергетику, которая жжет невероятное количество нефти, угля, газа и, главное, кислорода. Есть технология Коломейцева, которая делает практически ненужными химические удобрения и повышает урожайность безо всякой генной инженерии, причем за какие-то копейки! Сюда же отнесем нанотехнологии — способ рекомбинации атомов вещества, открывающий возможность вообще производить готовые товары из воды, песка, мусора. (→ 2–8) Сюда же поставим технологию сверхскоростного, сверхэкономичного и дешевого «струнного транспорта» Юницкого, который похоронит железные дороги, во многом заменив собой автомобили и авиацию. (→ 3–8)
Во-вторых, это — технологии реабилитирующие. Именно русские ученые сегодня, не светясь в прессе, умеют очищать озера и даже морские заливы от загрязнений с помощью электромагнитных излучателей, они уже умеют управлять климатом.
В-третьих, это — «технологии созидания новых миров». Здесь — и совершенно новая медицина, и «хай-хьюм» (высокие гуманитарные технологии), позволяющие невиданно расширять и углублять творческие и познавательные способности человека (по сути дела, это — человекостроение, главная отрасль будущего (→ 3–3)). Сюда же мы отнесем технологии прогнозирования и управления будущим, что есть ключ к перехвату мировых финансовых потоков и обретению сверхэффективных русских корпораций и финансовых структур.
В этом смысле Россия сегодня — просто идеальная строительная площадка для стремительного возведения такого Мира Будущего. Это на Западе страшно закрывать отрасли старой индустрии, пуская по ветру огромные капиталы и лишая работы миллионы рабочих. Нам терять уже нечего: у нас индустрия и так развалится, у нас уже есть миллионы людей, лишенных работы. Как птица Феникс, русские способны возродиться из пепла прежней жизни! Надо только дать волю их создателям — русским ученым, сознательно подавив сопротивление нашего чиновничества и старых индустриальных «мафий».
В реализации всех этих технологий Калашников видит способ воссоздания России как «новой империи» — и в этом, на наш взгляд, состоит его единственная ошибка. Поскольку эти технологии реализуемы лишь при сетевой модели общества, в контексте прямого взаимодействия креативных корпораций. (→ 1–6) Ставка же на империю неизбежно приведет к тому, что все эти изобретатели вновь попадут в зависимость от чиновничьих разрешений и запретов, и все вернется на круги своя…
Утопический реализм означает не банальное «возрождение» неких известных исторических форм, но скорее небывалый творческий синтез «доисторических» мифологий и сверхсовременных технологий. Это победа «пророческого» мировоззрения над «жреческим» консерватизмом. (→ 2–1)
К этим сверхсовременным технологиям необходимо добавить также биотехнологии. Об одной из возможностей их применения пишет Рюрик Санников в статье «Великая судьба русского мамонта»:
Сегодня много говорится о возрождении России, о спасении русской культуры и духовности. Но если уж говорить о возрождении древних русских традиций в полном объеме, то прежде всего следует возродить значение мамонтоводства в жизни Сибири и Крайнего Севера. В конце концов, эта традиция была позабыта одной из первых, с нее и надо начинать.
Чисто технически, используя генную инженерию, вывести мамонта не сложно уже сегодня. Денег на этот лабораторный эксперимент потребуется не так уж много, а кроме того, он сразу же начнет себя окупать. Все что нужно: кусок замороженного мамонта, кое-какое оборудование, несколько подопытных слоних и пара безработных очкариков из института генетики. Зато какой коммерческий эффект! Первые экземпляры мамонта будут стоить сказочных денег, ведущие зоопарки мира просто завалят создателей заказами. Наверняка придут заказы от каких-нибудь придурковатых миллиардеров, арабских шейхов, индийских махарадж, которым некуда девать свои баксы. Пока мамонты еще будут оставаться дефицитом, их можно будет сдавать внаем для рекламных и предвыборных кампаний, торжественных выездов президента, проведения военных парадов, крестных ходов и т. п. Словом, затея имеет явный коммерческий эффект, и если сделать мамонтам хороший пиар, то деньги на эксперимент можно достать, например, у вкладчиков, основав акционерное общество «Русский Мамонт».
Нельзя переоценить и политическое значение мамонта. Как известно биологам, мамонт — один из самых продвинутых слонов, он вполне заслуживает стать лицом сверхновой России. Медведь, по-моему, уже всех задолбал, ему пора на пенсию. Птицу-мутанта тоже надо убрать с герба. Симпатичный плюшевый слоненок будет ненавязчиво действовать на подсознание и вызывать симпатию к России у детей всего мира (кроме того, на многих языках мира в слове «МАМОнт» слышится добрая «мама»). Постепенно изменится имидж России в мировом сообществе: она уже будет восприниматься не как опасный голодный хищник, медведь-шатун, которому лучше не попадаться в лапы, а как добрый отзывчивый слон, и ее гигантские размеры перестанут пугать западного обывателя. Наконец, получит новое основание геополитический союз с Индией. (→ 3–5)
Биотехнологическое создание новых видов жизни затронет и человеческий архетип. Постмодернистский художник Олег Кулик, уже известный своими экспериментами в этой сфере, предлагает оригинальную, «трансцендирующую» стратегию:
Я против «простого» клонирования, я за евгенику. Что толку клонироваться? Человеку пора дать возможность стать кем-то другим. Птицей, животным или еще кем-то. Скажем, до сорока лет человек живет человеком, а потом отращивает крылья и становится новым видом.
Возможно, что античным эллинам удалось создать столь богатую культуру именно потому, что они реально обитали в окружении существ, которые позже, в рациональном мире модерна, были объявлены «мифологическими» — фавнов, наяд, циклопов, сатиров, нимф и т. д. Сверхсовременные технологии, в принципе, позволяют их воскресить. Русская мифологическая традиция в этом отношении не менее богата. Можно представить, сколь изменился бы сам тип русского человека, если бы он вместо дебильной попсы слышал бы вокруг пение вещих птиц Сирина, Алконоста и Гамаюна, а на бескрайних просторах Беловодья ожили бы русалки, берегини, лешие, водяные, китоврасы… На этом фоне воссоздастся и ранний человеческий архетип — в облике героев северной русской истории Садко, Василия Буслаева, Марфы-посадницы…
…Несколько последних глав этой книги были написаны на родине Томаса Мора — а также короля Артура, эльфов и хоббитов, Алисы и Винни-Пуха… Именно отсюда когда-то отчалил корабль с романтическим именем «Mayflower», увозя за океан первых, вдохновенных и героических открывателей неизведанного Запада, которому суждено было стать Новым Светом. Какой корабль и откуда выйдет к открытию Сверхнового Света Севера?
Петрозаводск — Рамсгейт — Корбозеро,
2002–2004.
LINKS
В написании этой книги автор пользовался в основном сетевыми источниками. В силу естественной сетевой динамики интернет-адреса довольно часто меняются, поэтому мы не ставим отсылок ко всем процитированным фразам. Буквоедам, предпочитающим не вникать в смысл, а «сверять цитаты», предлагаем поискать по ключевым словам в интернете.
Многие темы и идеи «RUтопии» в последние годы развивались в журнале «ИNАЧЕ» — и сетевом альманахе «КИТЕЖ. Традиция в мире постмодерна» —
Из «реальных» (бумажных) книг автору наиболее полезными оказались:
Аинса, Фернандо. Реконструкция утопии. — М., Наследие, 1999.
Альтерглобализм: теория и практика «антиглобалистского» движения. — М., УРСС, 2003.
Андерсон, Бенедикт. Воображаемые сообщества. — М., Канон-Пресс, 2001.
Аттиас, Жан-Кристоф; Бенбасса, Эстер. Вымышленный Израиль. — М., Лори, 2002.
Багдасаров, Роман. За порогом. — М., ЮС-Б, 2003.
Бек, Ульрих. Что такое глобализация? — М., Прогресс-Традиция, 2001.
Белл, Дэниел. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. — М., Academia, 1999.
Бердяев, Николай. Истоки и смысл русского коммунизма. — М., Наука, 1990.
Бодрийар, Жан. Америка. — СПб., Владимир Даль, 2000.
Букчин, Мюррей. Реконструкция общества: на пути к зеленому будущему (теория и практика социальной экологии). — Нижний Новгород, Третий Путь, 1996.
Буковский, Владимир. Московский процесс. — М., МИК, 1996.
Буровский, Андрей. Русская Атлантида. — Красноярск, Бонус, 2000.
Бурстин, Дэниел. Американцы: национальный опыт. В 3-х томах. М., Прогресс, 1993.
Бьюкенен, Патрик. Смерть Запада. — М., АСТ, 2003.
Ванчугов, Василий. Русская мысль в поисках «Нового Света». — М., Уникум-Центр, 2000.
Ваттимо, Джанни. Прозрачное общество. — М., Логос, 2003.
Вечное солнце: русская социальная утопия и научная фантастика (вторая половина XIX — начало XX века. — М., Молодая гвардия, 1979.
Владимиров, Александр. Апостолы. — М., Беловодье, 2003.
Волошин, Максимилиан. Из литературного наследия. — СПб., Алетейя, 1999.
Генон, Рене. Кризис современного мира. — М., Арктогея, 1993.
Генон, Рене. Очерки о традиции и метафизике. — СПб., Азбука, 2000.
Голан, Ариэль. Миф и символ. — Иерусалим, Тарбут, 1994.
Греческая мифология. — Афины, Toubis, 1995.
Гудрик-Кларк, Николас. Оккультные корни нацизма. — М., Эксмо, 1998.
Гумилев, Лев. Этногенез и биосфера Земли. — СПб., Азбука-классика, 2002.
Глазырина, Галина. Исландские викингские саги о Северной Руси. — М., Ладомир, 1996.
Дебор, Ги. Общество спектакля. — М., Логос, 2000.
Джемаль, Гейдар. Революция пророков — М., Ультра. Культура, 2003.
Джилас, Милован. Новый класс. — М., Новости, 1992.
Древнерусские апокрифы. — СПб., Русский Христианский Гуманитарный институт, 1999.
Журавский Андрей. Европейский Русский Север. — Архангельск, Губернская типография, 1911.
Иванов, Дмитрий. Виртуализация общества. Версия 2.0. — СПб., Петербургское Востоковедение, 2002.
Инайят Хан, Хазрат. Мистицизм звука. — Екатеринбург, Радуга, 1995.
Иноземцев, Владислав. За пределами экономического общества. — М., Academia, 1998.
История Русской Америки: 1732–1867. В 3-х томах. — М., Международные отношения, 1999.
Кастельс, Мануэль. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура. — М., ГУ ВШЭ, 2000.
Козловски, Петер. Миф о модерне: Поэтическая философия Эрнста Юнгера — М., Республика, 2002.
Коллинз, Мэйбл. Когда Солнце движется на Север. — М., Сфера, 1997.
Кондратов, Александр. Была страна Берингия. — Магадан, Магаданское книжное издательство, 1981.
Костомаров, Николай. Русская республика. Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада. — Смоленск, Смядынь,1994.
Лапшин, Иван. Философия изобретения и изобретение в философии. — М., Республика, 1999.
Ленин, Владимир. Государство и революция. — М., Политиздат, 1977.
Лиотар, Жан-Франсуа. Состояние постмодерна — СПб., Алетейя. 1998.
Лойтер, София. Русский детский фольклор и детская мифология. — Петрозаводск, ПетрГУ, 2000.
Маркузе, Герберт. Одномерный человек. — М., АСТ, 2003.
Мережковский, Константин. Рай земной или Сон в зимнюю ночь. Сказка-утопия XXVII века. — М., Приор, 2001.
Метафизика глобализации. От утопии к антиутопии. — М., Новый Век, 2000.
Нелидова, Екатерина. Русь в ее столицах: Старая Ладога, Новгород, Киев. — СПб., ФормаТ, 2003.
Николаев, Михаил. Арктика и Северный Форум. — Якутск, 2000.
Новая постиндустриальная волна на Западе. — М., Academia, 1999.
Новодворская, Валерия. Мой Карфаген обязан быть разрушен: Из философии истории России. — М., Олимп, 1999.
О коварных методах и приемах иностранной разведки. Сборник статей. — М., Московский рабочий, 1937.
Ойзерман, Теодор. Марксизм и утопизм. — М., Прогресс-Традиция, 2003.
Окунцов, Иван. История русской эмиграции в Северной и Южной Америках. — Буэнос-Айрес, Сеятель, 1967.
Основания регионалистики: формирование и эволюция историко-культурных зон. — СПб., СПбГУ,1999.
Платон. Апология Сократа. Критон, Ион, Протагор. — М., Мысль, 2001.
Полосин, Али Вячеслав. Прямой путь к Богу. — М., Ладомир, 2000.
Поппер, Карл. Открытое общество и его враги. В 2-х томах. — М., Феникс, 1992.
Постников, Алексей. Русская Америка в географических описаниях и на картах, 1741–1867 гг. — СПб., Дмитрий Буланин, 2000.
Рамсей, Раймон. Открытия, которых никогда не было. — СПб., Амфора, 2002.
Раннее христианство. В 2-х томах. — М., Фолио, 2001.
Ревич, Всеволод. Перекресток утопий. Судьбы фантастики на фоне судеб страны. —М., Институт Востоковедения РАН, 1998.
Розанов, Василий. Уединенное. — М., Политиздат, 1990.
Рорти, Ричард. Случайность, ирония и солидарность. — М., Русское феноменологическое общество, 1996.
Российская утопия: от идеального государства к совершенному обществу. В 2-х томах. — СПб., Санкт-Петербургский центр истории идей, 2000.
Рубинштейн. Амнон. Сто лет сионизма. От Герцля до Рабина и дальше. — Минск, МЕТ, 2002.
Руднев, Вадим. Словарь культуры ХХ века: Ключевые понятия и тексты. — М., Аграф, 1997.
Русский Север: Ареалы и культурные традиции. — СПб., Наука,1992.
Свенцицкая. Ирина. Первые христиане и Римская империя. — М., Вече, 2003.
Сказания Великого Новгорода, записанные Александром Артыновым. — Женева, Буй Туръ, 2000.
Скрынников, Руслан. Трагедия Новгорода. — М., Издательство им. Сабашниковых, 1994.
Слезкин, Леонид. Легенда, утопия, быль в ранней американской истории. — М., Наука, 1981.
Слодкевич, Всеволод. Из истории открытия и освоения русскими Северо-Западной Америки. — Петрозаводск, Гос. издательство Карело-Финской ССР, 1956.
Сокал, Алан; Брикмон, Жан. Интеллектуальные уловки: Критика современной философии постмодерна. — М., Дом интеллектуальной книги, 2002.
Теребихин, Николай. Сакральная география Русского Севера (Религиозно-мифологическое пространство севернорусской культуры). — Архангельск, Поморский государственный университет, 1993.
Тилак, Бал Гангадхар. Арктическая родина в Ведах. — М., Фаир-Пресс, 2002.
Токвиль, Алексис де. Демократия в Америке. — М., Весь Мир, 2000.
Тоффлер, Элвин. Третья волна. — М., АСТ, 1999.
Троцкий, Лев. К истории русской революции. — М., Политиздат, 1990.
Уоррен, Уильям. Найденный рай на Северном полюсе. — М., Фаир-Пресс, 2003.
Утопический роман XVI–XVII веков. (Библиотека всемирной литературы) — М., Художественная литература, 1971.
Утопия и утопическое мышление. Антология зарубежной литературы. — М., Прогресс, 1991.
Флоровский, Георгий. Пути русского богословия. — Вильнюс, Вильтис, 1991.
Фроянов, Игорь; Дворниченко Андрей. Города-государства Древней Руси. — Ленинград, ЛГУ, 1988.
Хаким-Бей. Хаос и анархия. Революционная сотериология. — М., Гилея, 2002.
Хантингтон, Самюэль. Столкновение цивилизаций. — М., АСТ, 2003.
Хенниг, Рихард. Неведомые земли. В 4-х томах. — М., Издательство иностранной литературы, 1961–1963.
Чаликова, Виктория. Утопия и свобода. — М., Весть, 1994.
Чистов, Кирилл. Легенда о Беловодье. — Петрозаводск, Карельский филиал АН СССР, 1962.
Чистов, Кирилл. Русская народная утопия. — СПб., Дмитрий Буланин, 2003.
Шарый Андрей. После дождя. Югославские мифы старого и нового века. — М., НЛО, 2002.
Шахов, Михаил. Философские аспекты староверия. — М., Третий Рим, 1998.
Шацкий, Ежи. Утопия и традиция. — М., Прогресс, 1990.
Широпаев, Алексей. Тюрьма народа: Русский взгляд на Россию. — М., ФЭРИ-В, 2001.
Шлямин, Валерий. Россия в «Северном измерении». — Петрозаводск, ПетрГУ, 2002.
Шпенглер, Освальд. Закат Европы. — Новосибирск, Наука, 1993.
Штепа, Вадим. ИNВЕРСИЯ. — Петрозаводск, Спец. приложение к журналу «ИNАЧЕ», 1998.
Шубарт, Вальтер. Европа и душа Востока. — Франкфурт, Посев, 1947.
Элиаде, Мирча. История веры и религиозных идей. В 3-х томах. — М., Критерион, 2002.
Эпштейн, Михаил. Постмодерн в России. — М., Издательство Руслана Элинина, 2000.
Эткинд, Александр. Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах. — М., Новое литературное обозрение, 2001.
Юнгер, Эрнст. Ницше — М., Праксис, 2001.
Ядринцев, Николай. Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом отношении. — СПб., Изд. И.М. Сибирякова, 1892.
* * *
Appadurai, Arjun. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. — Minneapolis, 1996.
Barzun, Jacques. From Dawn to Decadence: 500 years of Western Cultural Life. — NY, HarperCollins Publishers, 2000.
Cooper, Robert. Post-Modern State and the World Order. — London, Demos, 1996.
Evola, Julius. Ride the Tiger: A Survival Manual for the Aristocrats of the Soul. — London, Inner Traditions International, 2003.
Giddens, Antony. The Third Way. The Renewal of Social Democracy. — Cambridge, 2000.
Guénon, René. Initiation et réalisation spirituelle — Paris, Gallimard, 1967.
Illouz, Eva. Consuming the Romantic Utopia: Love and the Cultural Contradictions of Capitalism. — University of California Press, 1997.
Inglehart, Ronald. Modernization and Postmodernization. — Princeton, University Press, 1997.
Hardt, Michael; Negri, Antonio. Empire. — Harvard University Press, 2001.
North meets North. Proceedings of the First Northern Research Forum. — Akureyri, Iceland, 2001.
Nozick, Robert. Anarchy, State and Utopia. — NY, Basic books, 1977.
Ohmae, Kenichi. The End of the Nation-State. The Rise of Regional Economies. — London, HarperCollins Publishers, 1995.
Robertson, Roland. Globalization: Social Theory and Global Culture. — London, Sage, 1992.
Servier, Jean. Histoire de l’utopie. — Paris, Gallimard, 1967.
Stanford, Charles. The quest for Paradise. — Chicago, Chicago Press, 1961.
Utopia: The Search for the Ideal Society in the Western World. — Oxford Press, 2001.
Зечевић, Миодраг. Jугославиjа 1918–1992. Jужнословенски државни сан и jава. — Београд, Просвета, 1994.
Примечания
1
См. напр. обзор точек зрения европейских авторов в статье Михаила Рыклина «Apocalypse now. Философия после 11 сентября» (Журнал «Отечественные записки», № 3, 2002). Виталий Аверьянов в статье «Кастрация гермафродита — конец постмодерна?» (Журнал «Волшебная гора», № 8, 2002) излагает позиции московской «традиционалистской школы». Весьма примечательно стирание смысловых и языковых границ между этими некогда несовместимыми и даже «не замечавшими» друг друга философскими направлениями — постмодернисты заговорили об «Апокалипсисе», традиционалисты — о «симулякрах».
(обратно)2
Странно, что о «евразийской» метисации Гумилёв был другого мнения…
(обратно)3
Потомки Томаса Мора могли бы при желании взыскать с «Макдональдса или «Бургер-Кинга» не один «виртуальный» миллион за эту историческую рекламу!
(обратно)4
Рене Генон «Кризис современного мира»
(обратно)5
См. Мирча Элиаде «Миф о вечном возвращении»
(обратно)6
Многие ученики Маркса поняли это «уничтожение» буквально… Однако же и библейская история дипломатично умалчивает о том, чем (кем) питались хищники в Ковчеге в период его более чем годового плавания. Акцент в обоих случаях ставится на цель этого «перехода».
(обратно)7
Николай Бердяев, которого трудно заподозрить в излишней симпатии к революционерам, описал, тем не менее, специфику момента революции очень точно и образно: «революция ужасна и жутка, она уродлива и насильственна, как уродливо и насильственно рождение ребенка, уродливы и насильственны муки рождающей матери, уродлив и подвержен насилию рождающийся ребенок. Таково проклятие греховного мира». («Истоки и смысл русского коммунизма»)
(обратно)8
Наиболее заметен здесь 4-томный (!) учебник для вузов Михаила Геллера и Александра Некрича «История России: 1917–1995» под общим заглавием «Утопия у власти».
(обратно)9
Жак Повельс, Луи Бержье «Утро магов»
(обратно)10
Три жизни Габриеле Д’Аннунцио, «Иностранная литература», № 11, 1999.
(обратно)11
Мы предпочитаем так переводить название и главный образ его книги «Der Arbeiter», хотя в России она вышла и стала известной под названием «Рабочий» (2000). Дело в том, что в России еще довольно сильна марксистская интерпретация образа рабочего как «пролетария», и это может привести к искажению смысла книги, хотя сам Юнгер, конечно, марксистом не был.
(обратно)12
Поддавшись тем самым знаменитому «третьему искушению» Христа о «власти над всеми царствами мира» (Мф., 4.8)
(обратно)13
Статья «Обычай против традиции» из книги «Инициация и духовная реализация».
(обратно)14
из «титулов» Генона у его русских фанатов. Полный список — в цитируемом предисловии В.Быстрова к книге «Очерки о традиции и метафизике» (СПб, 2000).
(обратно)15
Выражение государственный, бюрократический, партийный и т. п. «аппарат» с тех пор уже не кажется метафорой.
(обратно)16
См. Robert Cooper “Post-modern State and World Order”
(обратно)17
Bell, Daniel. The Coming of Post-Industrial Society. N.Y., 1976.
(обратно)18
Coomaraswamy, Ananda. Essays in Post-Industrialism. A Symposium of Prophecy Concerning the Future of Society. London, 1914.
(обратно)19
См. журнал «ИNАЧЕ», № 5, 2003 или
(обратно)20
Учитывая скорость, с которой могут изменяться адреса различных сайтов, спешим известить читателя, что все ссылки на них в этой главе даны по состоянию на август 2003 года.
(обратно)21
Sonic Boom, № 3. 1997.
(обратно)22
Это мы с сочувственной улыбкой наблюдали на примере истории журнала «ИNАЧЕ», который за время его сетевого существования с 1997 года в какую «клетку» только не помещался бдительными «сетевыми надзирателями» — и к тем же «фашистам», и к «анархистам», и к «либералам», и к «постмодернистам», и к «экстремистам вообще»… разве что не сразу к «ИNОпланетянам».
(обратно)23
Пример совсем «из другой оперы», но методологически схожий — слово «старообрядцы» изначально также не было самоназванием отказавшихся признать никоновские справы, но было приклеено им официальной церковью.
(обратно)24
«Альтерглобализм: теория и практика «антиглобалистского движения» — М., УРСС, 2003.
(обратно)25
Ohmae, Kenichi. The End of the Nation-State. The Rise of Regional Economies. — London, Harper Collins Publishers, 1995.
(обратно)26
Barzun, Jacques. From Dawn to Decadence: 500 years of Western Cultural Life. — NY, Harper Collins Publishers, 2000.
(обратно)27
Транслаборатория. Наша Федерация будет глобальной. — ИNАЧЕ № 5, 2003.
(обратно)28
Юлиус Эвола «Люди и руины»
(обратно)29
Василий Розанов «Опавшие листья»
(обратно)30
«Особенности национального секса» — ИNАЧЕ № 4, 2001.
(обратно)31
Сторонники т. н. «сатанизма» почему-то в упор не замечают той очевидности, что никакого «глобально общепризнанного» образа Сатаны просто нет — «негативный двойник» в каждой религии наделяется своими особыми чертами и зачастую то, что для одной является «сатанинским», для другой, наоборот, «божественно». Наиболее известный пример такой инверсии — индуизм и зороастризм, где дева (дэвы) наделяются полярно противоположным значением богов и демонов. В контексте авраамических традиций эта противоположность прослеживается в образе ожидаемого иудеями Мессии, которого ортодоксальные христиане воспринимают в качестве Антихриста. Так что некий «интегральный сатанизм» иллюзорен по определению. Само древнееврейское слово «Сатана» означает лишь «преграда», а древнегреческое «дьявол» — разделение.
(обратно)32
Музыкальные инструменты у пророков особенно примечательны! (→ 2–5)
(обратно)33
Это характерная попытка превратить живой парадокс в очередную мертвую ортодоксию.
(обратно)34
Кстати, один из его альбомов так и называется — «Гиперборея». Случайно ли этот образ столь магнетичен для культовых (→ 2–5) творческих людей?
(обратно)35
«Православие» и «ортодоксия» — синонимы лишь с точки зрения «ортодоксии», но не «православия». (→ 2–3)
(обратно)36
«Ориентация — Север»
(обратно)37
Это слово предпочтительнее брать в кавычки, поскольку сами представители этих культов вовсе не называют себя «язычниками». Нас же в любой традиции интересуют не сторонние, а ее собственные идентификации.
(обратно)38
(обратно)39
Corriere Della Sera, 05.04.2002
(обратно)40
Этот персонаж в точности напоминает отца Звездония из антиутопии Владимира Войновича «Москва 2042». Однако не идет ли она ныне к полному воплощению?
(обратно)41
Парафраз из песни Сергея Калугина «Московская православная».
(обратно)42
Скорее даже православный, чем католический — он много странствовал по христианскому Востоку, совершал паломничество на Святой Афон, остро дискутировал с западными схоластами. И в целом в его времена (XII век) «разделение церквей» еще не выглядело столь контрастным, как позже. Так что можно сказать, что учение Иоахима принадлежит всему христианству.
(обратно)43
Термин лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко.
(обратно)44
Жан Бодрийар «Патафизика 2000 года». Журнал «ИNАЧЕ», № 4, 2001.
(обратно)45
Характерный вопрос представителя шоу-бизнеса! Апелляция к «низменным вкусам публики» вместо желания понять самого музыканта.
(обратно)46
«Материализация утопии». Интервью с Иваном Новаком. Журнал «Legion», № 5, 1997.
(обратно)47
Интересно, что, к примеру, в английской музыке напрочь отсутствует такое российское явление, как попса. К категории «pop-music» там относят «Beatles», «Queen», все направления брит-попа — т. е. все-таки музыку.
(обратно)48
«Реальная история о Всемирной Утопии» — -tour.ru/realstory.htm
(обратно)49
«Судьба бытия»
(обратно)50
«Ориентация — Север»
(обратно)51
Кстати, Мария Магдалина, которую позднехристианское сознание наделило чертами «раскаявшейся блудницы», вообще не имела отношения к «древнейшей профессии». Как убедительно доказывает историк и религиовед Роман Багдасаров на основании коптских рукописей I века из библиотеки Наг-Хаммади, Мария Магдалина изначально принадлежала к «ближнему кругу» Исуса, была Его «любимой ученицей», и в действительности именно она является автором четвертого синоптического Евангелия, приписываемого Иоанну. («Досье Марии Магдалины») Образ же «блудницы», и притом «непокаявшейся», скорее применим к самой, застывшей в своих надуманных догматах, поздней церкви…
(обратно)52
Любопытная и парадоксальная параллель с сегодняшним днем — многие евреи, приходя к христианству, зачастую гораздо тоньше и глубже воспринимают его сущность, чем «православные фундаменталисты», которые порой буквально напоминают ветхозаветных «книжников и фарисеев». Такая вот инверсия…
(обратно)53
Мы берем это слово в кавычки, поскольку настоящим христианством может быть названо только раннее.
(обратно)54
Младоверие — Журнал «ИNАЧЕ» № 4, 2001.
(обратно)55
Это прослеживается и поныне — неслучайно музыкант, поющий непонятную для обывателя песню: «Ой, Волга-Волга, матушка, буддийская река», сам происходит из довольно известной Гребенщиковской общины.
(обратно)56
Брат философа и поэта Дмитрия Мережковского.
(обратно)57
Мережковский К.С. Рай земной или Сон в зимнюю ночь. — М., Приор, 2001.
(обратно)58
Образ жизни. — М., Гетто, 2003.
(обратно)59
Очень показательное слово! Когда-то обозначавшее просто технический макет, впоследствии оно превратилось в название престижной человеческой профессии.
(обратно)60
«Капитализм и шизофрения»
(обратно)61
Мы используем здесь этот термин по причине удивительного множества религиозных прочтений этого фильма, появившихся в виде сетевых рецензий, — христианских, буддистских, шаманских и т. д.
(обратно)62
Термин Юлиуса Эволы
(обратно)63
Вот что сообщает Троицкая летопись под 1240 годом: «Того же лета взяша Кыевъ Татарове и святую Софью разграбиша и монастыри все, и иконы, и кресты честныя, и вся оузорочья церковная взяша, а люди от мала и до велика вся убиша мечемъ». Но евразиец Савицкий об этом не знал, поскольку проживал в Европе…
(обратно)64
Журнал «Профиль», № 19, 2002.
(обратно)65
Farrelli, Theodor. Lost colony of Novgorod in Alaska // Slavonic and East European Review, V. 22, 1944.
(обратно)66
Любопытная параллель с «северными варварами» в римской истории!
(обратно)67
Т.е. Уральский хребет
(обратно)68
№ 7, 1999.
(обратно)69
Электронный журнал «Императив» —
(обратно)70
Интервью полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Л.В. Драчевского журналу «Бизнес-Матч» (сентябрь 2002)
(обратно)71
«Не хочу жить в антиутопии» —
(обратно)72
Характеристики последних принадлежат Виктору Цою.
(обратно)73
А «авторитарный» Тито в те годы первым в Европе узаконил такой либертарианский вид отдыха, как нудистские пляжи.
(обратно)74
Формула Константина Леонтьева
(обратно)75
Одна из ведущих телекомпаний в современном Новгороде также носит это название.
(обратно)76
Вероятно, именно традиция вольного воинства сказалась в том, что в Парижских событиях 1968 года принимал активное участие студент Никола Негуш — внук последнего короля Черногории.
(обратно)77
Термин Никласа Спикмена
(обратно)78
Возможно, этот процесс окажет свое расширительное влияние и на реальные славянские языки, приблизив их к своей единой исходной матрице. В том числе и на «великий и могучий…» Такие эксперименты порой проводятся и не только в интернете — например, в академическом сборнике «Севернорусские сказки» часто используется белорусская буква «ў» (у краткое) — ходиў, делаў — гораздо точнее отражающая исконное северное, поморское произношение, чем «правильное» написание. В живом, мелодичном северном языке гораздо больше звуков, чем могли произнести византийские монахи.
(обратно)79
См. Рамана Махарши. Будь тем, кто ты есть.
(обратно)80
В самом этом названии слышится мистико-символическая «расшифровка» Запорожья.
(обратно)81
То же позднее повторилось и в донском казачестве, сформулировавшем знаменитый девиз: «С Дону выдачи нет».
(обратно)82
Под «низовым» имеется в виду не социальный статус, а географическое расположение Сечи — в низовьях Днепра.
(обратно)83
Депортации народов придумал не Сталин — это, как видим, давняя московская традиция, берущая свое начало еще с массового выселения коренных новгородцев.
(обратно)


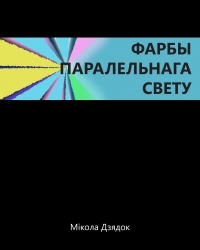
Комментарии к книге «RUтопия», Вадим Штепа
Всего 0 комментариев