АЛЬБЕР КАМЮ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ГИЛЬОТИНЕ
Незадолго до первой мировой войны некий убийца, чье преступление было на редкость зверским (он зарезал крестьянскую чету вместе с детьми), был приговорен к смертной казни в городе Алжире. Преступник был батраком, которого обуял какой-то кровавый бред; преступление отягчалось тем, что, расправившись со своими жертвами, он еще и ограбил их. Дело получило широкую огласку. Общее мнение сводилось к тому, что смерть под ножом гильотины — слишком мягкое наказание для такого чудовища. Так думал, как мне говорили, и мой отец, которому убийство детей казалось особенно гнусным. Отца я почти не помню, но точно знаю: он самолично хотел присутствовать при казни. Ему пришлось встать затемно, чтобы поспеть на место экзекуции на другой конец города вместе с огромной толпой. Но о том, что отец увидел в то утро, он не проронил ни слова — никому. Мать рассказывала: он с перекошенным лицом опрометью влетел в дом, бросился на кровать, тут же вскочил — и тут его вырвало. Ему открылась жуткая явь, таившаяся под личиной напыщенных формул приговора. Он не думал о зарезанных детях — перед глазами у него маячил дрожащий человек, которого сунули под нож и отрубили ему голову.
Надо полагать, что этот ритуал оказался слишком чудовищным и не превозмог возмущение простого и прямодушного человека: кара, которую он считал более чем заслуженной, в конце концов только вывернула его самого наизнанку. Когда высшее правосудие вызывает лишь тошноту у честного человека, которого оно призвано защищать, трудно поверить в то, что оно призвано поддерживать мир и порядок в стране. Становится очевидным, что оно не менее возмутительно, чем само преступление, и что это новое убийство, вовсе не изглаживает вызов, брошенный обществу, и только громоздит одну мерзость на другую. Это столь очевидно, что никто не решает напрямую говорить об этой церемонии. Чиновники и газетчики, которым волей-неволей приходится о ней распространяться, прибегают по этому случаю к своего рода ритуальному языку, сведенному к стереотипным формулам, словно они понимают, что в ней есть нечто одновременно вызывающее и постыдное. Вот так и получается, что за завтраком мы читаем где-нибудь в уголке газетного листа, что осужденный «отдал свой долг обществу», что он «искупил свою вину» или что «в пять утра правосудие свершилось». Чиновники упоминают об осужденном как о «заинтересованном лице», «подопечном» или обозначают его сокращением «ПВМН» — «приговоренный к высшей мере наказания». О самой же «высшей мере» пишут, если можно так выразиться, лишь вполголоса. В нашем цивилизованнейшем обществе о тяжелой болезни принято упоминать только обиняками. В буржуазных семьях полагалось говорить, что старшая дочь «слаба грудью» или что отца «беспокоит опухоль», ибо туберкулез и рак считались болезнями в известном смысле постыдными. Тем более это справедливо по отношению к смертной казни, поскольку все и каждый исхитрялись выражаться на сей счет только посредством эвфемизмов. По отношению к общественному телу она все равно что рак по отношению к телу отдельного человека, с тою лишь разницей, что отдельный человек не станет говорить о необходимости рака, а вот смертная казнь обычно рассматривается как печальная необходимость, оправдывающая узаконенное убийство, потому что без него не обойтись, и замалчивающая его, потому что оно достойно сожаления.
Я же, напротив, намерен говорить о ней безо всяких околичностей. Но не из любви к скандалам и, мне кажется, не из-за врожденной порочности моей натуры. Как писателю мне всегда претили такого рода самооправдания; как человек я считаю, что отталкивающим явлениям нашей действительности, уж коли они неизбежны, нужно сопротивляться только молча. Но если умолчание или словесные уловки потворствуют заблуждениям, которые можно искоренить, или бедам, которые можно отвратить, у нас нет иного средства, кроме прямой и ясной речи, раскрывающей все бесстыдство, таящееся под прикрытием пустословия. Франция разделяет с Испанией и Англией сомнительную честь быть одной из последних стран по сю сторону железного занавеса, где в арсенале наказаний числится смертная казнь. Сохранение этого варварского пережитка стало у нас возможным лишь благодаря безответственности или глухоте общественного мнения, привыкшего обходиться навязанными ему условными фразами. Когда воображение спит, слова лишаются смысла: пораженный глухотою народ рассеянно внимает сообщению о казни того или иного человека. Но покажите ему машину смерти, заставьте его коснуться дерева и железа, из которых она состоит, и услышать стук отрубленной головы — и внезапно пробужденное общественное мнение устыдится и собственного пустословия, и самой казни.
Когда в Польше нацисты проводили прилюдные казни заложников, они затыкали рты жертв повязками, пропитанными гипсом, опасаясь, что из уст казнимых прозвучат призывы к сопротивлению и свободе. Нельзя цинично сравнивать участь этих невинных жертв с участью осужденных преступников. Но — исключая то обстоятельство, что у нас идут на гильотину не одни лишь преступники, — метод остается тем же самым. Мы скрываем медоточивыми речами правду о высшей мере наказания, о законности которой можно рассуждать лишь после того, как вникнешь в ее действительную суть. Прежде чем говорить о необходимости смертной казни, а затем ее замалчивать, нужно сначала сказать о том, чем она является на самом деле, а уж потом решать, необходима ли она.
Что касается меня, то я считаю ее не только бесполезной, но и по-настоящему вредоносной, и, перед тем, как перейти к сути дела, обосную свое убеждение. Бесчестно было бы утверждать, будто я пришел к этому заключению после многодневных расспросов и поисков, посвященных данной проблеме. Но столь же непорядочно было бы приписывать это заключение одному только всплеску эмоций. Я, как никто другой, чужд дряблому умилению, до которого так падки всякого рода человеколюбцы, и в котором стираются грани между достоинством и ответственностью, все виды преступлений приравниваются один к другому, а невиновность в конце концов лишается всех прав. Вопреки мнению многих знаменитых современников, я не считаю, что человек по природе своей — общественное животное. Правду сказать, я думаю совсем иначе. Другое дело, что, как мне кажется, он уже не может жить вне общества, чьи законы необходимы для его физического существования. Из этого следует, что шкала его ответственностей должна быть установлена таким образом, чтобы отвечать велениям разума и приносить пользу обществу. Но высшее оправдание закона — в том благе, которое он приносит или не приносит обществу в данном месте и в данное время. Много лет я видел в смертной казни всего лишь кару, невыносимую для воображения и нерадивый разлад, неприемлемый для моего рассудка. При этом я готов был согласиться, что моя позиция определялась воображением. Но, сказать по правде, мои многодневные поиски не увенчались чем-то таким, что пошатнуло бы мои убеждения или изменило ход моих размышлений. Как раз наоборот: к аргументам, с которыми я давно сжился, прибавлялись все новые и новые. И теперь я целиком разделяю убеждение Кестлера: смертная казнь позорит наше общество и ее сторонникам не под силу найти для нее разумные оправдания. Не пересказывая его резкую обвинительную речь, не нагромождая факты и цифры, которые можно повернуть так и этак — тем более, что Жан Блок-Мишель с убийственной точностью обосновал их бесполезность — я только разовью положения Кестлера, призывающие к немедленной отмене высшей меры наказания.
Главный аргумент защитников смертной казни общеизвестен: она служит острасткой для других. Головы рубят не только затем, чтобы наказать тех, кто носил их на плечах, но и затем, чтобы этот устрашающий пример подействовал на тех, кто решился бы подражать убийцам. Общество не мстит, а лишь предупреждает и предотвращает. Оно потрясает головой казненного перед лицом кандидатов в убийцы, чтобы они прочли в его чертах свою судьбу и одумались.
Этот аргумент был бы неотразим, если бы мы не были вынуждены констатировать:
1) Общество само не верит в «острастку», о которой говорит;
2) Никем не доказано, будто смертная казнь заставила отступить хотя бы одного человека, решившего стать убийцей, тогда как яснее ясного, что она не оказала никакого эффекта, кроме завораживающего, на тысячи преступников;
3) Во многих отношениях она являет собой отталкивающий пример, последствия которого непредсказуемы.
Итак, прежде всего общество не верит в то, что само провозглашает. Если бы верило, оно и впрямь демонстрировало бы отрубленные головы. Оно воспользовалось бы казнями для рекламной шумихи, которую обыкновенно поднимают вокруг государственных займов или новых марок аперитива. На деле все обстоит как раз наоборот: казни у нас уже не совершаются публично, они происходят во дворе тюрьмы перед узким кругом специалистов. Менее известно, почему и с каких пор так происходит. Речь идет о сравнительно недавнем нововведении. Последняя прилюдная экзекуция состоялась в 1939 году: казнили некоего Вейдмана, совершившего несколько убийств; его «подвиги» получили широкую огласку. Тем утром в Версале собралась огромная толпа, в которой было несколько фотографов. Пока Вейдман был перед казнью выставлен на обозрение, фотографы успели сделать множество снимков. Несколько часов спустя «Пари-суар» опубликовала целую страницу фотографий, иллюстрирующих это пикантное событие. Добрый парижский люд смог таким образом удостовериться, что легкая и точная машина, которой пользовался палач, столь же отличается от знакомой ему по истории гильотины, как автомобиль марки «ягуар» от допотопного «дион-бутона»{1}. Противу всякого ожидания, администрация и правительство весьма неодобрительно отнеслись к этой великолепной рекламе и заявили, что газетчики хотели подогреть кровожадные инстинкты читателей. Поэтому было решено, что экзекуции больше не будут производиться публично; это распоряжение чуть позже значительно облегчило деятельность оккупационных властей.
Логика в данном случае изменила законодателям. Ведь нужно было бы, напротив, наградить лишним орденом директора «Пари-суар», чтобы в следующий раз он действовал с еще большим размахом. И в самом деле: если мы хотим, чтобы казнь действительно была показательной, следовало бы не только размножить снимки, но и установить эшафот с гильотиной посреди площади Согласия не на рассвете, а в два часа дня, зазвать туда весь парижский люд, а для отсутствующих произвести телесъемку. Вот что надо было сделать — или же прекратить болтовню о показательных казнях. Как может быть показательным убийство, свершающееся ночью, тайком, во дворе тюрьмы?
Сообщения о такого рода казнях могут, самое большее, периодически напоминать гражданам, что их ждет смерть, решись они на убийство; то же самое можно обещать и тем, кто никакого убийства не совершал. Чтобы быть по-настоящему показательной, казнь должна быть устрашающей. Тюо де Ла Буври, представитель народа, оказался куда логичнее наших теперешних правителей, когда в 1791 году провозгласил в Национальном собрании: «Чтобы сдерживать народ, надлежит устраивать для него ужасающие зрелища».
А сегодня мы лишены каких бы то ни было зрелищ, их заменили слухи да редкие сообщения в прессе, приукрашенные обтекаемыми формулировками. Каким образом преступник в момент убийства может помнить о грозящей ему санкции, которую власти исхитрились сделать как можно более абстрактной? И уж если они в самом деле хотят, чтобы санкция эта накрепко засела у него в памяти, чтобы она могла сперва поколебать, а затем и пересилить его безрассудное решение, не следовало ли бы запечатлеть эту санкцию в каждой душе всеми средствами образности и словесной убедительности?
Вместо того, чтобы туманно напоминать о долге, который в это самое утро кто-то возвратил обществу, не стоило ли бы воспользоваться подходящим случаем, расписав перед каждым налогоплательщиком подробности той кары, которая может ожидать и его? Вместо того, чтобы твердить «Если вы совершите убийство, вас ждет эшафот», не лучше ли сказать ему без обиняков: «Если вы совершите убийство, вам придется провести в тюрьме долгие месяцы, а то и годы, терзаясь то недостижимой надеждой, то непрестанным ужасом, и так — вплоть до того утра, когда мы на цыпочках проберемся к вам в камеру, чтобы схватить вас во сне, наконец-то сморившем вас, после полной кошмаров ночи. Мы набросимся на вас, заломим вам руки за спину, отрежем ножницами ворот рубахи, а заодно и волосы, если в том будет необходимость. Мы скрутим вам локти ремнем, чтобы вы не могли распрямиться и чтобы затылок ваш был на виду, а потом двое подручных волоком потащат вас по коридорам. И, наконец, оказавшись под темным ночным небом, один из палачей ухватит вас сзади за штаны и швырнет на помост гильотины, второй подправит голову прямо в лунку, а третий обрушит на вас с высоты двух метров двадцати сантиметров резак весом в шестьдесят кило — и он бритвой рассечет вашу шею».
Чтобы этот пример был еще убедительнее, чтобы наводимый им ужас обратился в каждом из нас в столь слепую и могучую силу, что она могла хотя бы на миг противостоять необоримой тяге к убийству, следовало бы пойти еще дальше. Вместо того, чтобы со свойственной нам бессознательной кичливостью бахвалиться столь молниеносным и человечным орудием[1] уничтожения смертников, нужно было бы распечатать в тысячах экземпляров, огласить в школах и университетах медицинские свидетельства и отчеты касательно состояния тела после экзекуции. Особенно желательным было бы издание и распространение недавнего отчета Академии медицинских наук, составленного докторами Пьедельевром и Фурнье. Эти мужественные медики, приглашенные — в интересах науки — для осмотра тел после казни, сочли своим Долгом подвести следующий итог своим чудовищным наблюдениям: «Если нам позволительно высказать свое мнение на сей счет, признаемся: зрелища такого рода невыносимо тягостны. Кровь хлещет ручьем из рассеченных артерий, затем она мало-помалу сворачивается. Мышцы судорожно сокращаются, ошеломляя наблюдателя; кишечник опорожняется, сердце работает с перебоями, через силу. Губы по временам искажаются страдальческой гримасой. Глаза отрубленной головы неподвижны, зрачки расширены; их невидящий взгляд еще не отуманен трупной поволокой, он ясен, как у живых, но смертельно пристален. Все это может длиться много минут, а у субъектов с крепким здоровьем — и часов: смерть наступает отнюдь не мгновенно… Таким образом, все жизненные отправления продолжаются и после обезглавливания. Этот кошмарный опыт производит на медика впечатление убийственной вивисекции, за которой следует поспешное погребение»[2].
Думаю, найдется немного читателей, которые могли бы бесстрастно ознакомиться со столь ужасным отчетом. Стало быть, можно рассчитывать на его впечатляющую силу и способность к устрашению. Ничто не мешает дополнить его сообщениями свидетелей, лишний раз подтверждающими наблюдения медиков. Говорят, искаженное лицо Шарлотты Корде залилось краской от пощечины палача. Стоит ли этому удивляться, принимая во внимание рассказы более современных наблюдателей? Один подручный палача, чья должность не очень-то располагает к романтике и чувствительности, следующим образом описывает то, чему он был свидетелем: «Человек, которого мы швырнули под резак, казался одержимым, его сотрясал настоящий приступ delirium îremens. Отрубленная голова тут же перестала подавать признаки жизни, но тело буквально подпрыгивало в корзине, словно его дергали за веревочки. Двадцать минут спустя, на кладбище, оно все еще содрогалось»[3]. Теперешний капеллан тюрьмы Санте, преподобный отец Девуайо, вроде бы не являющийся противником смертной казни, в своей книге «Преступники» идет еще дальше, как бы воскрешая историю осужденного Лангийя, чья отрубленная голова подавала признаки жизни, когда к ней обращались по имени[4]. «В утро казни осужденный пребывал в сквернейшем расположении духа и отказался от исповеди и причастия. Зная, что в глубине души он таил привязанность к жене, ревностной католичке, мы обратились к нему: „Послушайте, соберитесь с духом хотя бы из любви к жене!“ Осужденный последовал нашему совету. Он долго предавался сосредоточенным раздумьям перед распятием, а потом перестал обращать на нас внимание. Во время казни мы находились неподалеку от него; голова осужденного скатилась в лоток перед гильотиной, а тело было тут же уложено в корзину, но, вопреки обыкновению, ее закрыли крышкой, забыв поместить туда голову. Подручному палача, принесшему голову, пришлось немного подождать, пока корзину снова откроют. Так вот, в течение этого короткого промежутка времени мы успели заметить, что оба глаза казненного смотрят на нас с умоляющим выражением, словно взывая о прощении. В безотчетном порыве мы осенили голову крестным знамением, и тогда ее веки затрепетали, выражение глаз смягчилось, а потом красноречивый взгляд окончательно потух…» Читатель может принять предложенное священником объяснение сообразно со степенью своей религиозности. Но «красноречивый взгляд» не нуждается ни в каком толковании.
Я мог бы привести другие, не менее впечатляющие свидетельства, но не хочу заходить слишком далеко. Как бы там ни было, я не считаю смертную казнь назидательной, это мучительство представляется мне грубой хирургической операцией, производимой в условиях, сводящих на нет весь ее поучительный характер. А вот обществу и государству, насмотревшимся и не на такие операции, легче легкого переносить подобные детали. Будучи поборниками назидания, они должны приучать к тому же и своих граждан, чтобы никто не оставался в неведении относительно кары и чтобы раз и навсегда устрашенное население обрело кротость Святого Франциска. Но на кого рассчитывают они нагнать страху этим невнятным примером, угрозой наказания мягкого, мгновенного и, в общем, более сносного, чем раковая опухоль, — наказания, увенчанного риторическими цветочками? Уж во всяком случае не на тех, что слывут порядочными людьми (и, конечно же, таковыми являются), поскольку в час казни, не возвещенной им заранее, они спят сном праведников, в час поспешного погребения уписывают бутерброды и узнают о свершившемся правосудии только из слащавых газетных сообщений, которые растают в их памяти, как сахар. И однако именно эти кроткие создания поставляют наибольший процент убийц. Многие из этих порядочных людей не подозревают, что они — потенциальные преступники. По мнению одного судьи, подавляющее большинство душегубов, с которыми ему довелось сталкиваться, утром, во время бритья, даже не предполагали, что вечером посягнут на человеческую жизнь. Значит, в целях острастки и ради общественной безопасности следовало бы не накладывать грим на лицо казненного, а сунуть его отрубленную голову прямо в лицо всем обывателям, мирно бреющимся по утрам.
Но ничего подобного нет и в помине. Государство представляет казни в розовом свете и замалчивает тексты и свидетельства вроде тех, что приведены выше. Стало быть, оно само не верит в назидательную ценность смертной казни, а если и верит, то разве что по привычке и лености мысли. Преступника убивают потому, что так делалось столетиями, да и сами эти убийства совершаются в той форме, что установилась в конце XVIII века. В силу своей косности мы повторяем аргументы, бывшие в ходу столетия назад, обессмысливая их мерами, которые стали необходимыми с ростом общественной чувствительности. Мы прибегаем к закону, который уже не способны осмыслить, и наши смертники становятся жертвами вызубренных наизусть параграфов и гибнут во имя теории, в которую давно не верят их палачи. Верили бы — у них сжималось бы сердце. Что же касается гласности, то она, и впрямь пробуждая кровожадные инстинкты, непредсказуемые последствия которых могут разрешиться новым убийством, может, кроме того, вызвать гнев и отвращение общества. Было бы куда труднее производить казни одну за другой, как это по сей день и делается у нас, если бы каждая запечатлевалась в народном восприятии в виде животрепещущих образов. Того, кто прихлебывает кофе, почитывая заметку о «свершившемся правосудии», стошнило бы от упоминания малейшей детали. А приведенные мною тексты наверняка вызвали бы кислую мину у тех профессоров уголовного права, которые, будучи неспособными оправдать эту устаревшую меру наказания, утешаются, повторяя вслед за социологом Тардом, что лучше уж претерпеть безболезненную казнь, чем всю жизнь казниться. Именно поэтому заслуживает одобрения позиция Леона Гамбетта, который, будучи противником высшей меры наказания, голосовал против проекта закона, отменявшего публичные экзекуции, заявив при этом: «Отменив это ужасное зрелище, совершая казни за стенами тюрем, вы подавите всплеск народного возмущения, проявившегося за последние годы, и тем самым будете способствовать упрочению смертной казни».
И в самом деле, следует либо казнить прилюдно, либо признать, что никто не давал нам права на казнь. Если общество оправдывает ее необходимостью устрашения, ему следовало бы оправдаться и перед самим собой, позаботившись о необходимой публичности. Пусть оно обяжет палача после казни выставлять напоказ руки, пусть принудит смотреть на них чересчур чувствительную толпу — и в первую очередь тех, кто вблизи или издали подзуживал этого палача. В противном случае ему придется признать, что оно убивает, либо не ведая, что творит, либо сознавая, что эти отвратительные церемонии не только не могут устрашить общество, но, напротив, способны породить новые преступления или стать причиной растерянности и разброда. Кто мог бы прочувствовать все это лучше, чем судья в конце своей карьеры, — я имею в виду господина советника Фалько, чье мужественное заявление стоит того, чтобы над ним поразмыслить: «Был у меня единственный за всю жизнь случай, когда я высказался против смягчения приговора, за казнь подсудимого. Мне казалось, что присутствие на экзекуции не лишит меня душевного равновесия. Преступник, кстати сказать, был личностью вполне заурядной: он всего-навсего замучил свою маленькую дочь и швырнул ее тело в колодец. И что же? Спустя недели и даже месяцы после казни, она продолжала преследовать меня по ночам… Я, как и многие, прошел войну, видел, как гибнут ни в чем не повинные молодые люди, но могу сказать, что при виде этого ужасного зрелища не испытывал таких угрызений совести, какие пережил, став соучастником организованного убийства, именуемого высшей мерой наказания»[5].
Но почему же, в конце концов, общество продолжает верить в назидательность таких примеров, — ведь они не в силах остановить волну преступлений, а их воздействие, если оно и есть, остается незримым? Прежде всего, высшая мера не способна смутить человека, не подозревающего о том, что его ждет участь убийцы, того, кто решается на убийство в считанные секунды, готовит роковой шаг с лихорадочной поспешностью или под влиянием навязчивой идеи; не остановит она и того, что отправляется на встречу с кем-то для выяснения отношений. Он прихватывает с собою оружие, только чтобы запугать отступника или противника, и пускает его в ход, сам того не желая или думая, что не желает. Словом, угроза смертной казни — не препона для человека, попавшего в преступление, как попадают в беду. То есть угроза эта в большинстве случаев оказывается бессильной. Справедливости ради заметим, что в подобных случаях она осуществляется лишь изредка. Но само слово «изредка» способно бросить нас в дрожь.
Отпугивает ли она хотя бы тех, против кого главным образом и направлена, тех, кто живет преступлением? Маловероятно. У Кестлера можно прочесть, что в ту пору, когда в Англии вешали карманников, оставшиеся на свободе воры изощрялись в своем ремесле среди толпы, окружавшей виселицу, на которой вздергивали их собрата. Согласно статистическим данным, опубликованным в начале нашего века в той же Англии, из 250-и повешенных 170 ранее сами присутствовали при двух-трех смертных казнях. Еще в 1886 году 164 из 167-и смертников, прошедших Бристольскую тюрьму, были свидетелями по меньшей мере одной экзекуции. Такого рода статистика стала теперь невозможна во Франции по причине покрова тайны, окутывающей смертные казни. Но собранные в Англии данные наводят на мысль, что среди зевак, стоявших рядом с моим отцом в то утро казни, было предостаточно будущих преступников — и уж их-то не мучили приступы тошноты. Устрашение действует только на боязливых, которые и не помышляют о преступлении, но отступает перед сорвиголовами, которых она как раз призвана обуздывать. У Кестлера и в других специальных трудах можно отыскать еще более убедительные цифры и факты, относящиеся к данному вопросу.
При всем при том невозможно отрицать — люди боятся смерти. Лишение жизни — тягчайшее из наказаний, источник невыразимого ужаса. Страх перед смертью, зародившийся в самых темных глубинах человеческого существа, пожирает и опустошает его; жизненный инстинкт, поставленный под угрозу, безумствует и корчится в мучительном смятении. Законодатели, стало быть, руководствовались мыслью, что их закон воздействует на один из самых тайных и мощных рычагов человеческой натуры. Но закон всегда неизмеримо проще натуры. И когда, стремясь возобладать над нею, он сбивается с пути в слепых пространствах человеческой души, ему более, чем когда-либо, грозит опасность оказаться бессильным перед той сложностью, которую он намерен одолеть.
Страх перед смертью, таким образом, очевиден, но существует и другая очевидность: как бы ни был силен этот страх, ему не пересилить страстей человеческих. Прав был Бэкон, говоря, что даже самая слабая страсть способна преодолеть и укротить страх перед смертью. Жажда мщения, любовь, чувство чести, скорбь, какой-то другой страх — все они торжествуют над страхом перед смертью. А если это под силу таким чувствам, как любовь к тому или иному человеку или стране, не говоря уже о безумной тяге к свободе, то почему бы то же самое не доступно алчности, ненависти, зависти? Век за веком смертная казнь, подчас сопряженная с изощренными мучительствами, пыталась взять верх над преступлением, но ей это так и не удалось. Почему же? Да потому, что инстинкты, ведущие между собой борьбу в человеческой душе, не являются, как того хотелось бы закону, неизменными силами, пребывающими в состоянии равновесия. Это изменчивые сущности, поочередно терпящие поражение или одерживающие победу; их взаимная неустойчивость питает жизнь духа, подобно тому, как электрические колебания порождают ток в сети. Представим себе ряд психических колебаний, от желания похудеть до страсти к самоотречению, которые все мы испытываем в течение одного дня. Умножим эти вариации до бесконечности — и получим представление о нашей психологической многомерности. Эти противоборствующие силы обычно слишком мимолетны, так что ни одна из них не может целиком взять власть над другой. Но бывает, что какая-то из них, словно срываясь с цепи, завладевает всем полем сознания; тогда ни один инстинкт, включая волю к жизни, уже не может противостоять тирании этой неодолимой силы. Для того, чтобы смертная казнь и впрямь была устрашающей, следовало бы изменить человеческую натуру, сделать ее столь же устойчивой и ясной, как сам закон. Но это была бы мертвая натура.
Между тем она полна жизни. Вот отчего, сколь бы поразительным это ни казалось тому, кто не прослеживал и не испытывал на себе всю сложность человеческой натуры, убийца, в большинстве случаев, в момент преступления чувствует себя невиновным. Каждый преступник оправдывает себя еще до суда. Он поступает так если не по праву, то хотя бы в силу смягчающих обстоятельств. Он ни о чем не думает и ничего не предвидит, а если и думает, то лишь для того, чтобы предвидеть свое полное и окончательное оправдание. С какой же стати ему бояться того, что представляется ему в высшей степени невероятным? Страх смерти овладевает им только после суда, но не до преступления. Посему необходимо, чтобы закон, стремясь к устрашению, не оставлял убийце ни малейшего шанса, чтобы он был заранее неумолим и не учитывал никаких смягчающих обстоятельств. Но кто из нас решился бы требовать такое?
А если бы и решился, ему пришлось бы столкнуться еще с одним парадоксом человеческой натуры: тяга к жизни, сколь фундаментальным инстинктом ее ни считай, не фундаментальнее другого инстинкта, о котором помалкивают записные психологи, — тяги к смерти, направленной подчас на самоуничтожение и на уничтожение других. Вполне вероятно, что тяга к убийству нередко совпадает со стремлением к самоубийству, саморазрушению[6]. Таким образом, инстинкт самосохранения уравновешивается, в разных пропорциях, инстинктом саморазрушения. Только он полностью объясняет разнообразные пороки — от пьянства до наркомании, — помимо воли человека ведущие его к гибели. Человек хочет жить, но бесполезно надеяться, что этим желанием будут продиктованы его поступки. Ведь он в то же время жаждет небытия, стремится к непоправимому, к самой смерти. Вот так и получается, что преступник зачастую тяготеет не только к преступлению, но и к вызванному им собственному несчастью, и чем оно безмернее, тем вожделенней. Когда это дикое желание разрастается и становится всепоглощающим, то перспектива смертной казни уже не только не сдерживает преступника, но, может статься, с особой силой влечет его к всепоглощающей бездне. И тогда, в известном смысле, он решается на убийство, чтобы погибнуть самому.
С учетом всех этих странных особенностей становится понятно, отчего мера наказания, задуманная для острастки нормальных людей, лишается всей своей силы при столкновении с обычной психологией. Вся без исключения статистика, относящаяся к тем странам, где смертная казнь отменена, и ко всем прочим, показывает, что не существует никакой связи между ее отменой и уровнем преступности[7]. Последняя не растет и не сокращается. Гильотина существует сама по себе, преступление — само по себе; их связывает только закон.
Все, что мы можем заключить из цифр статистики, сводится к следующему: веками смертной казнью каралось не только убийство, но и другие преступления, однако постоянно применяемая высшая мера не помогла искоренить ни одного из них. Теперь они давно уже не караются смертью, тем не менее, число их не возросло, а кое-какие из них даже пошли на убыль. Равным образом, карой за человекоубийство столетиями служила казнь, но несмотря на это, Каинов род не перевелся до сих пор. В тридцати трех странах высшая мера либо отменена, либо не применяется на практике, но в результате количество убийств нисколько не увеличилось. Кто решится заключить из всего этого, что смертная казнь и в самом деле служит устрашением?
Консерваторы не в состоянии отрицать эти факты и цифры. Но их последний и решающий довод против подобных выкладок сам по себе знаменателен и служит объяснением парадоксальной позиции общества, тщательно скрывающего казни, которые оно же считает назидательными. «Ничем, в самом деле, не подтверждается, — говорят они, — что смертная казнь назидательна; ясно как день, что она не сумела устрашить тысячи и тысячи убийц. Но мы не можем судить и о том, скольких она все-таки отвратила от преступления; посему мнение о ее неэффективности тоже ни на чем не основано». Выходит, что страшнейшее из наказаний, влекущее за собой бесповоротное уничтожение осужденного и являющееся наивысшим правом общества, основывается лишь на вероятности, которая не поддается проверке. А ведь смерть не знает ни о каких степенях и вероятностях. Все, чего она коснулась, застывает в непоправимом окоченении. Тем не менее, у нас прибегают к ней, руководствуясь одновременно и случаем, и расчетом. Даже будь этот расчет разумным, не следовало бы подкрепить его достоверностью, прежде чем посылать кого бы то ни было на самую верную из смертей? А пока преступника рассекают надвое не столько за совершенное им преступление, сколько во имя всех преступлений, которые могли бы совершиться и не совершились, которые еще могут произойти, но не произойдут. Самая зыбкая неопределенность торжествует здесь над самой неколебимой достоверностью.
Не одного меня поражает столь опасное противоречие. Государство также осуждает его, и эти муки совести, в свой черед, объясняют всю противоречивость его позиции. Оно не предает гласности совершение казней, поскольку не может утверждать перед лицом фактов, что казни эти когда-либо служили для устрашения преступников. Оно не в силах разрешить дилемму, которую поставил перед ним еще Беккариа{2}, писавший: «Если необходимо почаще являть народу доказательства власти, нужно совершать побольше казней, но тогда и преступлений должно быть больше, а это доказывает, что смертная казнь не производит ожидаемого впечатления, из чего следует, что она столь же бесполезна, сколь и необходима». А что делать государству с бесполезной и все же необходимой карой, как не скрывать ее, но и не отменять? Вот оно и сохраняет ее где-то на задворках, делая это не без смущения, в слепой надежде, что хоть кто-нибудь, хоть когда-нибудь будет арестован из уважения к наказанию и его смертной сути и тем самым, втайне от всех, оправдает существование закона, никому не нужного и непонятного. Упорствуя в своем утверждении, будто гильотина служит для острастки, государство вынуждено, таким образом, множить вполне реальные убийства ради того, чтобы избежать одного-единственного кровопролития, о котором оно ничего не знает и никогда не узнало бы, не выпади ему шанс совершиться. Что за странный закон, учитывающий только обусловленные им самим убийства и знать не знающий о тех, которым он должен воспрепятствовать!
Что же в результате остается от этой показательной власти, если доказано, что смертная казнь наделена другой властью, причем вполне реальной, которая доводит людей до бесстыдства, безумия и убийства?
Можно без труда проследить показательные последствия этих ритуалов на общественное мнение — всплески распаляемого ими садизма, мелкое и мерзкое тщеславие, которое они возбуждают у части уголовников. У эшафота не найти никакого благородного чувства — только отвращение, презрение да самое низкое злорадство. Эти последствия общеизвестны. Благопристойности ради гильотину перенесли с Ратушной площади за специальные загородки, а потом — за стены тюрьмы. Меньше известно о чувствах людей, которые по долгу службы обязаны присутствовать на такого рода представлениях. Прислушаемся же к словам директора английской тюрьмы, который признается в «остром чувстве личного стыда», или тюремного капеллана, который вспоминает об «ужасе, стыде и унижении»[8]. Попробуем представить себе чувства человека, вынужденного убивать по распоряжению, — я имею в виду палача. А что прикажете думать о тех чиновниках, которые называют гильотину «драндулетом», а казнимого — «клиентом» или «посылкой»? Тут поневоле согласишься со священником Белой Жюстом, который присутствовал при трех десятках казней и впоследствии писал: «Жаргон вершителей правосудия не уступает по вульгарности и цинизму блатной фене»[9]. А вот откровения одного подручного палача, касающиеся его поездок в провинцию: «Это не командировки, а настоящие пикники. И такси к нашим услугам, и лучшие рестораны»[10]. Тот же тип говорит, бахвалясь сноровкой палача, нажимающего на пусковую кнопку резака: «Можно позволить себе удовольствие потаскать клиента за волосы». Сквозящая в этих словах моральная разнузданность имеет и другие, более глубокие аспекты. Одежда казненных в принципе достается палачу. Дейблер-старший развешивал эти тряпки в дощатом бараке и время от времени заходил полюбоваться на них. Но и это еще не все. Вот что сообщает наш подручный палача: «Новый палач окончательно чокнулся: сидит возле гильотины целыми днями в полной готовности, в пальто и шляпе, сидит и ждет вызова из министерства»[11].
Да, вот он каков, этот человек, о котором Жозеф де Местр говорил, что его существование немыслимо без особого указа высших сил, иначе «порядок обернется хаосом, троны падут, а общество погибнет». Вот он, этот человек, с чьей помощью общество полностью избавляется от преступников, ибо именно палач подписывает бумагу об освобождении осужденного из-под стражи и, таким образом, получает в свое распоряжение свободного человека. Великолепный и назидательный пример, придуманный нашими законодателями, влечет за собой по меньшей мере одно неоспоримое следствие: принижение и уничтожение человеческой сути и разума у всех, кто непосредственно участвует во всей этой мерзости. Кое-кто мог бы сказать, что здесь мы имеем дело с диковинными существами, нашедшими свое призвание в столь гнусной профессии. Он поостерегся бы так говорить, если бы узнал, что сотни человек набиваются на эту должность, не требуя никакой платы. Людей нашего поколения, своими глазами видевших историю последних лет, такой информацией не удивишь. Им ли не знать, что за фасадами самых мирных, самых добродушных лиц порою дремлет страсть к истязаниям и убийствам. Кара, якобы устрашающая возможного преступника, на самом деле — только повод для того, чтобы иные чудовища, куда более реальные, осуществили свое призвание головорезов. И раз уж мы привыкли оправдывать самые жестокие законы соображениями вероятности, не усомнимся в том, что из этих сотен отвергнутых претендентов на должность палача, сыщется хотя бы один, кто сумеет на иной лад утолить кровожадные инстинкты, разбуженные в нем гильотиной.
Если общество хочет и дальше цепляться за смертную казнь, то пусть нас хотя бы избавят от ее лицемерного и показательного оправдания. Откроем же подлинное имя этой кары, которой отказывают в какой бы то ни было гласности, этой меры устрашения, которая бессильна против честных людей, покуда они остаются таковыми, но зачаровывает тех, кто перестал быть людьми, которая унижает и растлевает всех, кто становится ее пособниками. Она, что и говорить, наистрашнейшее наказание, но иных уроков, кроме деморализующих, в себе не содержит. Она осуществляет кару, но ничего не предотвращает, лишь подстрекая жажду к убийству. Ее как бы не существует — и в то же время она реальна для того, кто год за годом казнится ею в душе, а затем претерпевает ее всем своим телесным составом в тот отчаянный и жуткий миг, когда его, не лишая жизни, рассекают надвое. Огласим настоящее имя этой кары — оно, за неимением лучшего, способно хотя бы намекнуть на ее подлинное существо; имя это — месть.
Наказание карающее, но не предотвращающее и впрямь заслуживает имя мести. Это квазиарифметический ответ общества тому, кто посягает на его изначальные законы. Этот ответ столь же стар, как и сам человек: он называется расплатой. Кто причинил мне зло — должен пострадать от зла, кто выбил мне глаз — должен окриветь, кто убил — должен умереть. Речь идет не о принципе, а о чувстве, причем необычайно неистовом. Расплата относится к области природы и инстинкта, а не к сфере закона. Закон, по определению, не подлежит тем же установлениям, что и природа. Если убийство заложено в природе человека, закон установлен не для того, чтобы подражать этой природе или воспроизводить ее. Он призван ее исправить. Расплата же ограничивается тем, что потакает чисто природному чувству и придает ему силу закона. Все мы, нередко к собственному стыду, знакомы с этим чувством, знаем его могущество: оно пришло с нами из чащи первобытных лесов. В этом отношении мы, французы, свысока посматривающие на нефтяного короля Саудовской Аравии{3}, который проповедует всемирную демократию и в то же время прибегает к услугам мясника, чтобы отрубить руку воришке, — мы тоже пребываем в некоем Средневековье, только лишенном религиозной благодати. Мы все еще определяем наше правосудие в соответствии с простейшими правилами арифметики[12]. Но можно ли по крайней мере утверждать, что эта арифметика точна и что правосудие, пусть даже самое элементарное, даже ограниченное узаконенной местью, должно обеспечиваться ценою смертной казни? Ответ один — нет.
Оставим в стороне тот факт, что закон расплаты неприложим на практике: расправляться с поджигателем, обращая в головешки его собственный дом, так же глупо, как и наказывать вора, снимая с его банковского счета сумму, равноценную им украденной. Предположим, однако, что было бы справедливо и необходимо компенсировать убийство жертвы смертью убийцы. Но смертная казнь — не просто смерть. По сути своей она так же отличается от лишения жизни, как концлагерь от тюрьмы. Она есть убийство, спору нет, арифметическая расплата за другое убийство. Но она присовокупляет к смерти некий регламент, публичную и заранее известную осужденному преднамеренность, организованность, наконец, которая сама по себе является источником моральных страданий, более ужасных, чем смерть. Короче, ни о какой равноценности не может быть и речи. Многие законодатели считают предумышленное преступление куда более тяжким, чем спонтанное. Но что такое смертная казнь, если не наиболее предумышленное из убийств, с которым не сравнится самое расчетливое злодеяние? Если уж соблюдать принцип равноценности, следовало бы приговаривать к смертной казни лишь того преступника, который заблаговременно предупредил свою жертву о дне и часе, когда его настигнет ужасная смерть, так что начиная с этого момента обреченный на смерть человек должен месяцами цепенеть в ожидании своей участи. Но такие чудовища в природе не встречаются.
И вот еще что: когда наши официальные юристы твердят о безболезненной смерти осужденных, они не сознают, о чем говорят и, что самое главное, им не хватает воображения. Опустошающий и разлагающий страх, который становится уделом осужденного в течение долгих месяцев или лет[13], — это наказание похуже смерти, наказание, подобного которому жертва не испытывает. Даже ошеломленная грубым посягательством на ее жизнь, она, в большинстве случаев, гибнет, так и не осознав, что с нею происходит. Вряд ли она мучится ужасным сознанием того, сколько именно ей еще остается жить и есть ли у нее надежда на спасение. Зато осужденный испытывает весь этот ужас вплоть до мелочей. Пытка надеждой сменяется приступами животного отчаяния. Адвокат и священник из чистого человеколюбия, тюремщики — для того, чтобы узник не буйствовал, — все в один голос уверяют его, что он будет помилован. Он то всем своим существом доверяется им, то отказывается верить. Днем он надеется, а ночью теряет надежду[14]. Неделя проходит за неделей, отчаянье и безнадежность растут и становятся в равной мере невыносимыми. По словам всех очевидцев, цвет лица у осужденных меняется, страх действует на него словно кислота. «Знать, что умрешь, это еще полбеды, — сказал один из узников тюрьмы Френ. — Не знать, суждено ли тебе остаться в живых, — вот страшнейшая пытка». «Подумаешь, поганая четверть часика!» — говорил о смертной казни Картуш{4}. Но ведь речь идет не о минутах, а о целых месяцах. Задолго наперед осужденный знает, что будет убит и что спасти его может только указ о помиловании, столь же вероятный, как глас небесный. В любом случае он не может самолично что-то изменить, выступить в свою защиту, убедить кого-то. Все свершается помимо его воли. Он перестал быть человеком, превратился в неодушевленный предмет, которым палачи могут вертеть, как им вздумается. Он пребывает в царстве абсолютной необходимости, в царстве инертной материи, наделенной, однако, сознанием, — своим злейшим врагом.
Когда должностные лица, чье ремесло предписывает им убить этого человека, называют его «посылкой», они знают, что говорят. Не иметь возможности противиться рукам, которые перемещают тебя с места на место, держат или бросают, — это ведь и значит быть просто вещью, пакетом или, лучше сказать, стреноженной скотиной. Но скотина может хотя бы отказаться от кормежки. А смертник такой возможности лишен. Его ублажают так называемым «спецрационом» (в тюрьме Френ стол № 4 включает в себя молоко, сахар, сладости, вино, сливочное масло); тюремщики следят за тем, чтобы он питался как следует. Скотина, идущая на бойню, должна быть в хорошей форме. Эта вещь или скотина имеет одно-единственное право — право на мелкие поблажки, на удовлетворение прихотей. «Какие они все привередливые!» — без тени иронии восклицает начальник тюрьмы Френ, имея в виду смертников. Спору нет, но как иначе сочетать это подобие свободы с достойным выбором, без которого человек не может обойтись? Привередливый или непритязательный, начиная с момента вынесения приговора, осужденный попадает в чрево бесстрастной машины. Неделю за неделей он крутится в колесном механизме, управляющем всеми его действиями, и в конце концов передающем в руки, которые уложат его на машину для убийства. «Посылка» подчинена не случайностям, управляющим жизнью живого существа, а механическим законам, которые позволяют ей безошибочно предвидеть день собственной казни.
Этот день подводит итог всему предыдущему существованию смертника в роли предмета. В те три четверти часа, что отделяют его от казни, неотвратимость смерти подавляет все; перед связанным и покорным зверем разверзается ад — и что в сравнении с ним та преисподняя, которой его пугают! В конечном счете древние греки с их цикутой были куда человечнее: они предоставляли смертникам относительную свободу, возможность отсрочить или приблизить час собственного конца. Они признавали за ними право выбора между самоубийством и казнью. Мы же, из пущей предосторожности, вершим правосудие сами. Впрочем, о настоящем правосудии можно было бы говорить лишь тогда, когда осужденный, за много месяцев наперед оповестив свою жертву о том, что он намерен с нею сделать, входил бы к ней, крепко-накрепко связывал ее, сообщал, что она будет убита ровно через час и посвящал этот час наладке аппарата для убийства. Но найдется ли преступник, который повергал бы свою жертву в столь безнадежное и беспомощное состояние?
Этим, без сомнения, объясняется та странная безропотность, что обычно овладевает смертниками непосредственно перед казнью. Эти люди, которым уже нечего терять, могли бы идти ва-банк, предпочесть смерть от пули «при попытке к бегству» или угодить под резак гильотины после отчаянной схватки, помрачающей сознание. В некотором смысле то был бы свободный выбор смерти.
Однако, за редчайшими исключениями, осужденный идет на смерть покорно, в каком-то тупом оцепенении. Вот это, вероятно, и имеют в виду журналисты, когда пишут, что осужденный «встретил смерть мужественно». А речь идет всего-навсего о том, что он не наделал шума, не вышел из роли «посылки», и что все на свете признательны ему за это. Участвуя в столь гнусном спектакле, «заинтересованное лицо» доказало свою похвальную благопристойность, способствуя тому, чтобы вся эта гнусность не слишком затянулась. Но и похвалы, и свидетельства о мужестве составляют часть общей мистификации, окружающей смертную казнь. Ибо смертник часто ведет себя тем благопристойнее, чем больший страх его мучает. Он заслуживает похвал со стороны прессы лишь потому, что его страх или чувство беспомощности настолько сильны, что полностью лишают его воли. Поймите меня правильно. Некоторые осужденные, политические или уголовники, встречают смерть достойно, и о них следует говорить с подобающим уважением. Но большинство из них не разжимают рта просто-напросто от страха и кажутся невозмутимыми лишь потому, что скованы ужасом, и, по-моему, эта дышащая жутью немота достойна еще большего уважения. Когда отец Бела Жюст за несколько минут до казни предложил молодому смертнику написать письмо близким, он услышал в ответ: «У меня не хватит духу даже на это». Мог ли этот священник, услышав подобное признание в слабости, не склониться перед тем, что есть в человеке самого жалкого и самого святого? Кто посмеет сказать, будто трусливо умирают те, кто до самого конца так и не разжал рта, и только оставленная ими лужица под ногами может поведать о том, что они испытали? И что в этом случае прикажете думать о тех, кто довел их до такого состояния? В конце концов, каждый убийца идет на риск ужаснейшей из смертей, тогда как те, кто убивает его, не рискует ничем, кроме разве что повышения по службе.
Нет, то, что этот человек испытывает в свой смертный час, вне всякой морали, ни добродетель, ни мужество, ни ум, ни сознание собственной невиновности уже не играют здесь никакой роли. В его лице общество разом отбрасывается в область первобытного страха, где уже ничто не подлежит суду. Всякая справедливость, всякое достоинство обращаются в ничто. «Сознание невиновности не служит защитой от насилия… Я видел, как мужественно умирали отпетые головорезы и какая дрожь била невиновных, идущих на казнь»[15]. Добавляя, что слабость во время казни выказывают чаще всего интеллектуалы, тот же автор не делает отсюда вывод, будто эта категория людей лишена мужества, — просто у нее больше воображения. Оказавшись лицом к лицу с неотвратимой смертью, любой человек, каковы бы ни были его убеждения, чувствует себя опустошенным и разоренным дотла[16]. Ощущение беспомощности и одиночества, владеющее осужденным на виду у сборища, которое жаждет его смерти, само по себе является невыразимо тяжким наказанием. В этом смысле тоже было бы лучше, если бы казни совершались прилюдно. Актер, таящийся в любом человеке, мог бы тогда прийти на помощь загнанному зверю, придать ему значения в собственных глазах. Но от ночи и тайны нет спасения. Мужество, душевная сила, даже вера — все превращается в игру случайности, когда на человека наваливается такая беда. Как правило, человек гибнет в ожидании казни гораздо раньше своей физической смерти. Его, убившего всего раз, приговаривают к двум смертям, из коих первая страшнее второй. В сравнении с этой пыткой кажется мягким даже закон мести. Ведь он никогда не требовал, чтобы человека, выколовшего брату своему один глаз, полностью лишили зрения.
Эта коренная несправедливость отзывается к тому же и на родственниках осужденного. У жертвы есть близкие, чьи муки не поддаются описанию, — естественно, что они в большинстве случаев жаждут отмщения. Оно свершается, но тогда родственникам осужденного приходится познать горе, карающее их безжалостнее любого правосудия. Ожидание, длящееся целыми месяцами, каморка для свиданий, пустые разговоры, которыми не заполнишь недолгие минуты, проведенные с узником, неотвязчивые картины будущей казни — такие мучения выпадают на долю отца или матери осужденного, мучения, которые неведомы родственникам жертвы. И каковы бы ни были чувства этих родственников, они едва ли захотят, чтобы месть намного превосходила преступление, чтобы она терзала людей, испытывающих такие же страдания, как и они сами. «Святой отец, меня помиловали, — пишет один осужденный, — и я еще не могу осознать, что за счастье на меня свалилось. Указ был подписан 30 апреля, а огласили его мне в среду, когда я вернулся со свидания. Я тут же дал знать папе и маме, они были еще здесь, в Санте. Вообразите себе, как они обрадовались!»[17] Вообразить себе это нетрудно, но лишь в той мере, в какой возможно представить их бесконечные терзания вплоть до момента помилования, а также, бесповоротное отчаянье тех, кто получил новость совсем иного рода, которая жестоко измывается над их непричастностью к преступлению и усугубляет их горе.
Чтобы покончить с законом расплаты, необходимо упомянуть, что в изначальной форме он мог относиться лишь к двум людям, один из коих был абсолютно невиновным, а другой — абсолютно повинным. Невиновной была, разумеется, жертва. Но разве общество, представляющее ее на суде, может претендовать на невиновность? Разве оно не несет, хотя бы частично, ответственность за преступление, которое так жестоко карает? Эта тема обсуждалась неоднократно, и посему я не стану повторять аргументы, которые, начиная с XVIII века, излагались на сей счет людьми самых разных взглядов. Все они сводятся к тому, что каждое общество порождает таких преступников, каких оно заслужило. Но коли уж речь идет о Франции, нельзя не упомянуть о некоторых обстоятельствах, способных сбить спесь с наших законодателей. Отвечая в 1952 году на анкету «Фигаро», посвященную смертной казни, один полковник утверждал, что замена ее пожизненными каторжными работами привела бы только к созданию рассадников преступности. Этот высокопоставленный офицер видимо не знал — и я рад за него, — что у нас сколько угодно таких рассадников, отличающихся от тюрем тем немаловажным обстоятельством, что из них можно выйти в любое время дня и ночи: это кабаки и трущобы, украшение нашей Республики. О них невозможно говорить спокойно.
Статистика насчитывает до 64000 перенаселенных (от трех до пяти душ на комнату) квартир в одном только Париже. Спору нет: детоубийца — гнуснейшее существо, не заслуживающее ни малейшего снисхождения. Возможно также (я подчеркиваю — возможно), что ни один из моих читателей, оказавшись в таких чудовищных условиях, не дойдет до детоубийства. Так что нет надобности преуменьшать степень вины отдельных извергов. Но и эти изверги, живи они в сносных квартирах, может быть, не зашли бы так далеко. По крайней мере, надо признать, что не только они во всем виноваты, а также что право карать их предоставлено тем, кто в первую очередь субсидирует разведение сахарной свеклы, а в последнюю — жилищное строительство[18].
Алкоголь делает эту проблему еще более жгучей{5}. Известно, что французский народ, чаще всего в самых гнусных целях, спаивается своим парламентским большинством. Роль спиртного в росте кровавой преступности головокружительна. Один адвокат (г-н Гийон) считает, что 60 % правонарушений связано с алкоголем. Доктор Лагрифф полагает, что эта цифра составляет от 41,7 % до 72 %. Исследование, проведенное в 1951 году в пересыльной тюрьме Френ, выявило среди уголовников 29 % хронических пьяниц и 24 % потомственных алкоголиков. Наконец, 95 % детоубийц — алкоголики. Красноречивые цифры! Но мы можем привести цифру еще более красноречивую: декларацию одной фирмы по производству аперитивов, которая в 1953 году представила налоговой комиссии отчет о получении 410 миллионов прибыли. Сопоставление этой цифры с вышеприведенными позволяет предположить, что акционеры данной фирмы вкупе с «алкогольными депутатами» спровадили на тот свет куда больше детей, чем им кажется. Будучи противником смертной казни, я отнюдь не требую, чтобы их отправили на гильотину. Но для начала мне кажется необходимым препроводить их под конвоем на место казни очередного детоубийцы, а по завершении экзекуции — выдать каждому статистический бюллетень с цифрами, о которых я говорил.
Если государство сеет алкоголизм{6}, то не следует удивляться, что оно пожинает преступность[19]. Но ему это не в диковину, оно знай себе рубит головы, которые предварительно само же и дурманит алкоголем. Оно бесстрастно вершит правосудие и в то же время выступает в роли кредитора: его совесть чиста. Я считаю защитником алкоголя того, кто, отвечая на вопрос «Фигаро», воскликнул: «Я знаю, что сделал бы самый рьяный противник смертной казни, окажись он с оружием в руках лицом к лицу с убийцами, готовыми прикончить его отца, его мать, его детей или его лучшего друга. Вот так-то!» Это «вот так-то» явственно припахивает алкоголем. Спору нет, самый рьяный противник смертной казни не колеблясь открыл бы огонь по этим убийцам, и правильно сделал бы, однако это вовсе не превратило бы его в рьяного поборника высшей меры наказания. Но если бы он умел чуть более связно мыслить, а от вышеупомянутых потенциальных убийц заметно разило бы спиртным, он, разделавшись с ними, занялся бы теми, кто спаивает будущих убийц. Просто диву даешься, почему родственникам жертв алкогольного криминала не пришла в голову мысль потребовать от депутатов парламента кое-каких разъяснений! На самом же деле происходит нечто прямо противоположное, и государство, облеченное всеобщим доверием, поддерживаемое общественным мнением, продолжает перевоспитывать убийц, в первую очередь — убийц-алкоголиков, точь-в-точь как иной сутенер по мере сил перевоспитывает неутомимых тружениц, обеспечивающих его пропитание. Но сутенер не корчит из себя моралиста, а государство только этим и занимается. Если правосудие и признает, что опьянение является иногда отягчающим обстоятельством, то оно знать ничего не знает о хроническом алкоголизме. Преступления, совершенные в подпитии, редко влекут за собой смертную казнь, тогда как хронический алкоголик способен на предумышленное убийство, за которое расплачивается собственной жизнью. Государство, таким образом, сохраняет за собой право карать смертью в том единственном случае, когда оно само разделяет ответственность за преступление.
Значит ли это, что каждый алкоголик должен быть избавлен от ответственности государством, которое будет бить себя в грудь до тех пор, пока весь народ не приучится пить только фруктовые соки? Конечно, нет. Даже генетические законы не снимают с нас всей вины за преступление. Реальную ответственность правонарушителя невозможно определить с математической точностью. Известно, что никакими расчетами не установишь точное число всех наших предков, будь они пьяницами или трезвенниками. Оно может в 1022 раз превышать число теперешних жителей земли. Стало быть, количество доставшихся нам от них дурных или порочных склонностей вообще не поддается исчислению. Мы появляемся на свет, обремененные грузом беспредельной неизбежности. Но в таком случае следует говорить и о столь же беспредельной безответственности. Логика требует, чтобы ни наказание, ни воздаяние никогда не применялись, в результате чего общество перестало бы существовать. Инстинкт сохранения обществ — а следовательно, и отдельных личностей — требует, напротив, признания индивидуальной ответственности. Ее надлежит применять как должное, оставив туманные грезы о всеобъемлющей снисходительности, равнозначной гибели любого общества. Но тот же ход мыслей должен привести нас к заключению, что не существует и тотальной ответственности, а, следовательно, абсолютного наказания или воздаяния. Никто не может претендовать на окончательное воздаяние{7}, даже Нобелевские лауреаты. Но никто не должен и претерпевать абсолютное наказание, если он признан виновным, и уж тем более, если он может оказаться невиновным. Смертная казнь, не соотносимая ни с острасткой, ни с предвзятым правосудием, присвоила себе, помимо прочего, неслыханную привилегию карать всегда относительную вину окончательной и непоправимой мерой.
Спору нет, смертная казнь — сомнительный пример и порождение хромающего правосудия, однако нужно согласиться с ее защитниками: она есть средство устранения. Смертная казнь окончательно устраняет осужденного. Уже одно это, по правде говоря, должно было бы положить предел повторению сомнительных аргументов, которые, как мы видели, можно оспаривать бесконечно. Куда честнее сказать, что она необратима, ибо именно такой и должна быть, и признать, что некоторые люди нетерпимы в обществе, что они представляют постоянную угрозу для каждого гражданина и всего общественного порядка и что необходимо, стало быть, покончить с этим злом, раз и навсегда устранив его. Ведь никто не станет отрицать существование хищников в человеческом обличье, энергию и жестокость которых не сломит ничто. Смертная казнь, разумеется, не решает проблему, которую они ставят перед нами. Но она, по крайней мере, устраняет ее.
Я еще вернусь к этим людям. Но разве смертная казнь применяется только к ним? Кто возьмется доказать, что все казненные были в равной мере неисправимы? Кто поручится, что среди них не было невиновных? В обоих случаях следует признать, что смертная казнь устраняет проблему вместе с человеком — и непоправимо. Вчера, 15 марта 1957 года, в Калифорнии был казнен Бартон Аббот, приговоренный к смерти за убийство четырнадцатилетней девочки. Вот, как мне кажется, пример гнусного преступления, позволяющего причислить его виновника к разряду неисправимых. Аббот был осужден, хотя не переставал твердить о своей невиновности. Казнь была назначена на десять часов утра 15 марта. В десять минут десятого было получено известие об отсрочке казни, чтобы защитники успели сделать последнее заявление[20]. В одиннадцать оно было отклонено. В четверть двенадцатого Аббот вошел в газовую камеру. Через три минуты он вдохнул первую порцию газа. А еще через две минуты раздался телефонный звонок секретаря комиссии, ведающей помилованиями. Она пыталась связаться с губернатором, но тот уехал на пляж, и тогда она решила позвонить прямо в тюрьму. Аббота вытащили из камеры, но было уже слишком поздно. А если бы накануне погода в Калифорнии была похуже, губернатор не отправился бы на пляж. Он позвонил бы в тюрьму двумя минутами раньше, и Аббот остался бы в живых и, может быть, дожил бы до признания своей невиновности. Всякое другое наказание, даже самое суровое, оставляло ему такую возможность. А смертная казнь не оставляла никакой.
Кто-то может сказать, что это исключительный случай. Наша жизнь столь же исключительна, и однако в этом быстротечном существовании мы становимся свидетелями подобных случаев, происходящих совсем рядом, в каких-нибудь двенадцати часах авиаполета. Трагедия Аббота — не столько исключение, сколько обычный факт, заурядный пример оплошности, — стоит только почитать газеты (я имею в виду недавнее дело Деше{8}, не касаясь остальных). В 1860 году, пользуясь теорией вероятности для установления числа возможных судейских ошибок, юрист д'Оливекруа установил, что из 257-и осужденных на казнь по меньшей мере один невиновен. Соотношение представляется неубедительным? Да, оно было бы таковым, иди речь о заурядных преступлениях. Но оно чудовищно по отношению к высшей мере. Когда Гюго связывал гильотину с именем Лесюрка[21], он не хотел сказать, что все осужденные так же невиновны, как он, но что достаточно одного Лесюрка, чтобы навсегда запятнать позором это орудие казни. Неудивительно, что Бельгия окончательно отказалась от вынесения смертных приговоров после единственной юридической ошибки и что Англия подняла вопрос об отмене смертной казни после дела Хайеса{9}. Нет ничего удивительного и в решении того генерального прокурора, который писал, ознакомившись с просьбами о помиловании человека, почти наверняка виновного в убийстве, хотя тело жертвы так и не было обнаружено: «Сохранение жизни г-на X. даст возможность властям без всякой спешки разобраться в новых данных, касающихся вопроса о том, осталась ли в живых его жена… А смертная казнь, устраняя гипотетическую возможность дальнейших расследований, может, я опасаюсь, придать шатким аргументам теоретическую ценность, силу раскаяния, которую я предпочел бы не вызывать». Стремление к истине и справедливости выражено здесь столь впечатляющим образом, что мне хотелось бы, чтобы эта формула — «сила раскаяния» — почаще звучала на судебных процессах, так как в ней отчетливо выражена опасность, грозящая каждому присяжному заседателю. Коль скоро казнь над невиновным свершилась, ему уже никто не в силах помочь, разве что посмертно реабилитировать его, да и то лишь в том случае, если кто-то возьмется хлопотать об этом. Тогда ему возвращают невиновность, которую он, по правде сказать, никогда и не терял. Но преследования, коим он подвергся, но его жуткие муки, его ужасная смерть — все это пребывает навеки. Остается только позаботиться о будущих невиновных, чтобы их миновали все эти немыслимые терзания. Так и было сделано в Бельгии. У наших законников совесть еще не проснулась.
Они, надо полагать, тешат себя мыслью, будто правосудие идет по тому же пути прогресса, что и наука. Когда какой-нибудь ученый-эксперт разглагольствует перед судом присяжных, кажется, что слышишь проповедь священника, а присяжные, привыкшие к обожествлению науки, только и делают, что поддакивают ему. И, однако, недавние судебные процессы, главным из которых было дело Бенар{10}, дали нам достаточное представление о том, что такое фарс экспертов. Доказательства вины не становятся убедительнее, если их определяют в пробирке, пусть даже градуированной. Исследования в другой пробирке приведут к противоположному результату, личностная же оценка сохраняет все свое значение в столь рискованных математических операциях. Настоящих ученых среди экспертов столько же, сколько подлинных психологов среди судей, то есть немногим больше, чем среди ответственных и объективных присяжных. Сегодня, как и вчера, вероятность судебной ошибки сохраняется. А завтра какая-нибудь новая экспертиза без труда докажет невиновность какого-нибудь Аббота. Но этот Аббот все равно будет умерщвлен по-научному, а наука, с одинаковым успехом берущаяся доказать как его невиновность, так и вину, пока не в состоянии воскрешать тех, кого убивает.
Но возьмем безусловно виновных: можно ли утверждать, что все казненные были одинаково неисправимы? Те, кто, как я, когда-либо в силу необходимости присутствовали на заседании присяжных{11}, знают, что вынесение приговора, даже смертного приговора, зависит от многих случайностей. Выражение лица обвиняемого, подробности его биографии (измены часто считаются отягчающим обстоятельством теми присяжными, в чьей супружеской верности позволительно усомниться), его поведение на суде (поощряется и на пользу идет только притворство), его манера говорить (рецидивисты знают, что не следует ни мямлить, ни быть излишне красноречивым), непредвиденные происшествия в зале суда, воспринимаемые чисто эмоционально (а реальность — увы! — не всегда душещипательна), — вот сколько случайностей может повлиять на окончательное решение присяжных. В момент вынесения приговора нельзя упускать из виду, что он был обусловлен стечением многих случайных обстоятельств. Памятуя о том, что он зависит от оценки, данной присяжными этим обстоятельством, не забывая и о том, что судебная реформа 1832 года дала присяжным возможность толковать эти обстоятельства произвольным образом, нетрудно представить себе, какой простор для изменчивой игры настроения у них остается. Здесь уже не закон со всей точностью определяет, кто должен быть приговорен к смертной казни, а суд присяжных, который, кстати сказать, может верно оценить свой приговор только после его исполнения. А поскольку нет двух одинаковых присяжных коллегий, то преступник, отправленный на гильотину одной из них, вполне мог бы быть помилован другой. Неисправимый с точки зрения честных граждан Иль-и-Вилена, он вполне может оказаться поддающимся исправлению в глазах почтенных жителей Вара. К сожалению, в обоих этих департаментах на шею смертника падает один и тот же нож гильотины. А уж он-то никогда не вникает в детали.
Случайности, обусловленные временем, присовокупляются к случайностям географического порядка, усиливая изначальную абсурдность правосудия. Французский рабочий-коммунист, недавно гильотированный в Алжире{12} за то, что он подложил бомбу (ее обнаружили до взрыва) в заводскую раздевалку, был осужден не столько за свое преступление, сколько по велению времени. В теперешней политической атмосфере Алжира нужно было доказать арабской общине, что на гильотину можно отправить и француза, и вместе с тем успокоить французскую общину, возмущенную ростом терроризма. В то же самое время министр, взявший на себя ответственность за казнь, собирал голоса коммунистов в своем избирательном округе{13}. При иных обстоятельствах обвиняемый отделался бы легким испугом и, став депутатом от компартии, вполне мог бы пользоваться той же кормушкой, что и министр, пославший его на казнь. Все это горькие мысли, но хотелось бы, чтобы они остались в сознании тех, кто нами правит. Правители должны знать, что времена и нравы меняются и что может настать день, когда слишком поспешно казненный человек будет казаться не таким уж злодеем. А сейчас поздно что-либо предпринимать, можно лишь терзаться раскаянием или предать это дело забвению. Но общество так или иначе страдает. Безнаказанное преступление, как считали древние греки, отравляет город, где оно было совершено. Но осуждение невиновного или чересчур строго наказанное преступление таят в себе не меньше отравы. И нам ли, во Франции, не знать этого?
Таково уж, скажут мне, человеческое правосудие: несмотря на все его недостатки, оно все-таки предпочтительнее произвола. Но эта меланхолическая оценка терпима по отношению к обычным наказаниям, но она невыносима, когда речь идет о смертных приговорах. В одном классическом французском труде по уголовному праву как бы извиняющимся тоном говорится, что высшая мера наказания не поддается делению на степени: «Человеческое правосудие не претендует на подобные операции. Почему? Да потому, что оно сознает свою ущербность». Следует ли отсюда, что именно она дает нам право на бесспорные суждения и что, будучи не в силах осуществлять правосудие в чистом виде, общество должно, с величайшей для себя опасностью, устремиться к высшей несправедливости? Если правосудие сознает себя ущербным, ему следовало бы быть поскромнее и оставлять на полях приговоров достаточно места для исправления ошибок, которые могут в них закрасться[22]. И не должно ли оно, постоянно находя для себя смягчающие обстоятельства в этой слабости, находить их также и для преступника? Суд присяжных может вежливейшим образом заявить: «Если мы отправим вас на смерть по ошибке, простите нас, принимая в соображение слабости нашей с вами общей натуры, но мы-то приговариваем вас к смерти, отнюдь не считаясь с этими слабостями». Все люди солидарны в своих ошибках и слабостях. Но справедливо ли, что эта солидарность играет на руку трибуналу, а обвиняемому в ней отказывают? Нет, и если правосудие имеет в нашем мире хоть какой-то смысл, оно не означает ничего другого, кроме признания этой солидарности; оно не может, по сути своей, отрешиться от сочувствия. Сочувствие же здесь, в свою очередь, не может быть ничем иным, как истинным состраданием, а не бездумной снисходительностью, которой нет дела до мучений жертвы и ее прав. Оно не исключает наказания, но не прибегает к высшей его мере. Ему претит эта окончательная, непоправимая мера, творящая несправедливость по отношению ко всему естеству человека, поскольку она непричастна к невзгодам нашего общего существования.
Надо признать, что некоторым присяжным известны все эти соображения, иначе они не принимали бы в расчет смягчающих обстоятельств при разборе таких преступлений, где их просто не может быть. Смертная казнь кажется им столь крайней мерой, что они предпочитают недостаточно суровое наказание наказанию чрезмерному. Избыточная суровость кары в таком случае покровительствует преступлению вместо того, чтобы его пресекать. Ни одно судебное заседание не обходится без того, чтобы в прессе не сообщалось, что приговор страдает непоследовательностью и что, в соответствии с фактами, он должен быть мягче или строже. Но ведь и сами присяжные это сознают. Причина в том, что, столкнувшись со всем ужасом высшей меры, они предпочитают, как это сделали бы на их месте и мы сами, прослыть за недоумков, чем всю дальнейшую жизнь мучиться ночными кошмарами. Сознавая свою ущербность, они хотя бы делают из нее достойные выводы. И подлинное правосудие на их стороне именно в той мере, в какой с ними расходится логика.
Есть, однако, закоренелые преступники, которых осудила бы коллегия присяжных любой страны и любой эпохи. Их преступления очевидны, а доказательства обвинения согласуются с признаниями защиты. Все, что в них есть ненормального и чудовищного, позволяет без колебаний отнести их в разряд патологии. Но эксперты-психологи нередко говорят о невменяемости таких людей. Недавно в Париже один молодой человек, слабохарактерный, но мягкий и сердечный, очень привязанный к своим близким, был, по его словам, выведен из себя выговором, который сделал ему отец за позднее возвращение домой. Отец был погружен в чтение, сидя за обеденным столом, когда юноша схватил топор и, подкравшись к отцу сзади, нанес ему несколько смертельных ударов. Затем он таким же образом прикончил мать, оказавшуюся в тот момент на кухне. После этого он переоделся, спрятал свои окровавленные брюки в платяной шкаф и, как ни в чем не бывало, отправился в гости к невесте, а затем вернулся домой, позвонил в полицию и заявил, что обнаружил отца и мать убитыми. Полиция тотчас отыскала окровавленные брюки и без труда получила от юноши невозмутимое признание в убийстве. Психиатры заключили, что он вполне вменяем. Его поразительное бездушие, новые доказательства которого проявились уже в тюрьме (он был рад, что на похороны родителей пришло много народу, — «Их все так любили», — сказал он адвокату), не может рассматриваться как нечто нормальное. Но умственные способности его, видимо, не были затронуты.
Многие «изверги» представляются личностями столь же непостижимыми. Они фактически вычеркнуты из списков рода человеческого. Суть и размах совершенных ими злодеяний не позволяет думать, что они способны к раскаянию или исправлению. Нужно сделать так, чтобы они не натворили новых бед, а посему они должны быть вычеркнуты окончательно — иного решения нет. На этой грани, и только на ней, возможны дискуссии о правомерности смертной казни. Во всех других случаях аргументы ее защитников не выдерживают критики сторонников ее отмены. А на этой предельной грани, принимая во внимание невежество, в котором мы пребываем, полемика вполне естественна. Никакие факты, никакие доводы не способны убедить ни тех, кто считает, что последний шанс должен быть предоставлен даже последнему из людей, ни тех, кто считает, что этот шанс иллюзорен. Но, может быть, на этом роковом рубеже возможно разрешить затянувшийся спор между сторонниками и противниками высшей меры и оценить ее уместность в современной Европе. С меньшей долей уверенности я попытаюсь ответить на заявление одного швейцарского юриста, профессора Жана Гревена, который писал в 1952 году в своей замечательной работе, посвященной смертной казни: «…Пытаясь разрешить эту проблему, вставшую перед нашей совестью и нашим разумом, мы должны понимать, что ее решение должно зависеть не от понятий, проблем и аргументов прошлого, не от надежд и теоретических обещаний будущего, а от современных идей, фактов и насущных нужд»[23]. В самом деле, можно бесконечно спорить о пользе и вреде смертной казни на протяжении веков или в заоблачном мире идей. Но она играет свою роль здесь и сейчас, и мы тоже должны определить свое отношение к ней здесь и сейчас. Что же значит смертная казнь для нас, людей середины XX века?
Чтобы упростить вопрос, скажем, что наша цивилизация утратила единственные ценности, которые могли бы оправдать эту меру наказания, и, более того, страдает от зол, которые делают необходимой ее отмену. Иначе говоря, за упразднение смертной казни должны выступить сознательные члены нашего общества по логическим и реальным причинам.
Прежде всего — логика. Постановить, чтобы тот или иной человек подвергся непоправимой мере наказания, — значит решить, что у него нет никаких шансов на исправление. В этом случае аргументы обеих сторон сталкиваются вслепую и кристаллизуются в бесплодное противостояние. И никто из нас не в силах его разрешить, ибо все мы — пристрастные судьи. Отсюда наша неуверенность в праве на убийство и неспособность убедить друг друга. Если не существует абсолютной невиновности, не может быть и беспристрастных судей. А ведь всем нам на протяжении жизни случалось творить зло, даже если оно, не подпадая под статьи Уголовного кодекса, фактически являлось преступлением. Нет праведников, но есть сердца, в большей или меньшей мере причастные к праведности. Жизнь помогает нам, во всяком случае, осознать эту истину и присоединить к совокупности наших поступков ту малость добра, которая хотя бы отчасти компенсирует зло, посеянное нами в мире. Это право на жизнь, равноценное шансу на исправление, является естественным правом любого человека, даже наихудшего. Последний из злодеев и праведнейший из судей стоят в этой жизни бок о бок, в равной степени убогие и взаимно друг другу обязанные. Без этого права моральная жизнь решительно невозможна. Никому из нас, в частности, не дозволено считать пропащим ни одного человека, разве что после его смерти, когда жизнь обращается в судьбу и тем самым позволяет вынести о нем окончательное решение. Но высказывать подобное решение до смерти, объявлять о погашении долга, когда заимодавец еще жив, — такое непозволительно никому на свете. Кто решается на этой грани высказать абсолютное суждение, тот абсолютным образом осуждает самого себя.
Бернар Фалло, член банды Мази, состоявший на службе у гестапо, приговоренный к смерти после того, как признал себя виновным во множестве ужасных злодеяний, и принявший смерть с величайшим мужеством, заявил, что не может быть помилован. «У меня руки по локоть в крови», — признался он одному из сокамерников[24]. Его собственное мнение и мнение его судей свидетельствовали о том, что он относится к разряду неисправимых, и я готов был бы согласиться с этим, если бы не познакомился с одним потрясающим свидетельством. Вот что говорил фалло тому же сокамернику, перед этим заявив ему, что хотел бы умереть с честью: «Хочешь, скажу, о чем я больше всего жалею? Ну так вот: жалко, что я раньше не был знаком с Библией — я впервые открыл ее только здесь, в тюрьме. Будь иначе, я не угодил бы сюда». Нам не пристало умиляться картинными условностями и поминать добродетельных каторжников Виктора Гюго. Века, что зовутся просвещенными, хотели бы упразднить смертную казнь под тем предлогом, что человек-де по природе своей добр. Естественно, это совсем не так (на самом деле он лучше или хуже). За последние двадцать лет нашей блистательной истории мы прекрасно усвоили эту истину. Но именно потому, что это совсем не так, никто из нас не вправе брать на себя роль абсолютного судьи и выносить окончательный приговор худшему из злодеев, — ведь никто из нас не может претендовать на абсолютную невиновность. Непреложное суждение нарушает единственную неоспоримую человеческую солидарность — ту, что противостоит смерти; оно может быть оправдано лишь с помощью истины или принципа, выходящих за рамки человеческого.
Высшая мера наказания веками была фактически религиозной карой. Свершаемая ли именем короля, божьего наместника на земле, или священниками, или от имени общества, которое рассматривалось как некое мистическое тело, она в ту пору нарушала не человеческую солидарность{14}, а принадлежность виновного к божественной общине, единственной подательнице жизни. У него отнималась земная жизнь, но не шанс на исправление. Окончательный приговор еще не произнесен, он должен был прозвучать только на том свете. Религиозные ценности и, в частности, вера в загробную жизнь, служили основанием для высшего приговора, ибо, согласно их собственной логике, он не может быть окончательным и непоправимым. Он оправдан в той мере, в какой является высшим.
Католическая церковь, например, всегда признавала необходимость смертной казни. И она щедро поделилась этим убеждением с другими эпохами. По сей день она оправдывает смертную казнь и признает за государством право ее применять. Сколь бы неоднозначной ни была ее позиция, в ней сквозит глубокое чувство, ясно выраженное в 1937 году швейцарским государственным советником из Фрибурга во время дискуссии о смертной казни. Согласно г-ну Гранду, худший из преступников перед лицом грозящей ему кары углубляется в себя. «Он раскаивается в содеянном и тем облегчает свое приуготовление к смерти. Церковь спасла одного из членов своей паствы, выполнила свою божественную миссию. Поэтому она всегда понимала смертную казнь не только как средство законной защиты, но и как могучее орудие спасения…[25] Не оказывая прямых услуг церкви, смертная казнь сама по себе обладает полубожественной действенностью, что роднит ее с войной».
Подтверждением подобных теорий может служить надпись на мече фрибургского палача: «Господи Иисусе, Ты мой Судия». Палач, таким образом, оказывается исполнителем сакральной функции. Он истребляет тело, чтобы вверить душу божественному суду, чье решение предугадать не в силах никто. Может показаться, что подобные формулы таят в себе известный соблазн. Для того, кто исповедует учение Христа, этот великолепный меч — еще одно оскорбление Его личности. Отсюда становится понятной чудовищная фраза одного русского революционера, которого в 1905 году вели на виселицу царские палачи. Он решительно заявил священнику, в знак утешения протягивавшего ему распятие: «Ступайте прочь и перестаньте кощунствовать!» Но и неверующий тоже не может отделаться от мысли, что люди, избравшие сердцевиной своей веры потрясающую жертву судебной ошибки, способны менее снисходительно относиться к узаконенному убийству. А верующим можно напомнить, что император Юлиан до своего обращения отказывался предоставлять христианам государственные должности, поскольку те систематически отказывались от вынесения смертных приговоров или от их исполнения. Стало быть, в течение пяти веков христиане верили, что точное соблюдение моральных заветов их Учителя несовместимо с убийством. Но католическая вера питается не только личными наставлениями Христа. Она подкрепляется также Ветхим Заветом, учениями апостола Павла и отцов Церкви. Бессмертие души и всеобщее воскрешение тел составляет часть ее догматов. Исходя из них, смертная казнь считается для верующего всего лишь временным наказанием, за которым должен последовать окончательный приговор, — действием, необходимым только для поддержания земного порядка, административной мерой, которая не только не сводит последние счеты с осужденным, но может способствовать его искуплению. Я не утверждаю, что именно так думают все верующие и без труда допускаю, что католики могут быть ближе к Христу, чем к Моисею и апостолу Павлу. Я говорю только, что вера в бессмертие души позволила католицизму поставить вопрос о смертной казни в совершенно особых терминах — и оправдать ее.
Но что значит это оправдание в условиях общества, в котором мы живем, где все десакрализовано — и нравы, и общественные установления? Когда судья-атеист, скептик или агностик оглашает смертный приговор неверующему подсудимому, он выносит окончательное, не подлежащее пересмотру решение. Он узурпирует престол Бога[26], не обладая его властью, да и не веря в нее. Он, можно сказать, убивает потому, что его предки верили в жизнь вечную. Но общество, которое он будто бы представляет, на самом деле озабочено просто-напросто устранением осужденного из своей среды; оно разрушает человеческую общность, противостоящую смерти, и возводит себя в ранг абсолютной ценности, поскольку считает, что наделено абсолютной властью. Спору нет, оно по традиции все еще посылает к осужденному священника. Священник вправе небезосновательно надеяться, что страх перед наказанием поможет обращению преступника. Но можно ли согласиться с тем, что подобный расчет способен оправдать кару, назначенную и принятую чаще всего совсем в ином состоянии духа? Одно дело — верить, еще не испытывая страха, совсем другое — обрести веру, познав страх. Обращение посредством огня и железа всегда вызывает подозрения, поэтому немудрено, что церковь отказалась от применения силы по отношению к неверным. Как бы там ни было, десакрализованное общество не в силах извлечь для себя никакой пользы из обращения, к которому оно относится с явным равнодушием. Оно предписывает священную кару, лишая ее в то же время и оправдания, и смысла. Оно упивается некоей манией величия, самовластно исторгая злодеев из своего лона, словно оно — сама добродетель. Так всеми уважаемый отец мог бы послать на смерть своего заблудшего сына, воскликнув при этом: «Ну что еще остается с ним делать?» Оно присваивает себе право отбора, словно является самой природой, да еще отягчает этот отбор страшными муками, выступая в роли Бога-искупителя.
Утверждать, будто того или иного человека можно абсолютным образом отсечь от общества, потому что он абсолютно зол, значит признать, что общество представляет из себя абсолютное добро, а этому сейчас не поверит ни один здравомыслящий человек. Более того, легче поверить обратному. Наше общество стало таким злым и преступным лишь потому, что возвело себя в ранг первопричины и озабочено только самосохранением да успехами в истории. Оно десакрализовано, в этом нет сомнений, но начиная с XIX века оно начало создавать некий эрзац религии, навязывая себя в качестве объекта для поклонения. Эволюционные доктрины и сопутствующие им идеи естественного отбора сделали высшей целью человечества общество будущего. Политические утопии, привитые к этим доктринам, предрекают в конце времен золотой век, заранее оправдывающий все общественные неурядицы. Общество приучилось обелять все, что способствует приближению этого будущего, в том числе и смертную казнь, применяемую без ограничений. С этого момента оно стало считать преступлением и святотатством все, что противоречит его замыслам и недолговечным догмам. Иначе говоря, палач из жреца превратился в функционера. Результат налицо: общество середины XX века, утратившее, в силу простой логики, право на применение смертной казни, должно теперь отменить ее из реальных соображений.
Как, в самом деле, можно определить нашу цивилизацию, соотнося ее с преступлением? Ответ прост: вот уже тридцать лет, как преступления государства довлеют над преступлениями отдельных лиц. Я уж не говорю о войнах, широкомасштабных или локальных, хотя кровь — тоже своего рода алкоголь, одурманивающий человека похлеще самых забористых вин. Число людей, убитых непосредственно государством, приняло астрономические размеры и бесконечно превосходит число обычных «частных» убийств. Среди заключенных все меньше и меньше уголовников, все больше и больше политических узников. И вот тому доказательство: сегодня каждый из нас, как бы ни была чиста его совесть, не исключает для себя возможности быть приговоренным к смерти, тогда как в начале века подобные опасения показались бы абсурдными. Каламбур Альфонса Kappa «Пусть господа убийцы начинают» потерял всякий смысл. Больше всего крови проливает тот, кто считает, что на его стороне право, логика и сама история.
Не против отдельного человека должно в первую очередь защищаться наше общество, а против государства. Возможно, лет через тридцать положение изменится. Но в данный момент средства законной обороны должны быть направлены прежде всего против государства. Правосудие и здравый смысл требуют, чтобы закон защищал человека от государства, пораженного безумием фанатизма или самомнения. «Пусть государство начинает с отмены смертной казни», — вот каким должен быть наш теперешний лозунг.
Кровавые законы, по известному присловью, делают кровавыми и нравы. Но бывает, что общество переживает такую полосу позора и бесчестья, когда, несмотря на весь Царящий в нем разлад, нравы его по части кровавости далеко отстают от законов. Половина Европы знакома с такой полосой. Мы, французы, тоже пережили ее и рискуем пережить еще раз. Казни во время оккупации повлекли за собой казни во время Освобождения, а друзья последних казненных мечтают теперь о возмездии. Государства, запятнавшие себя множеством преступлений, готовятся смыть с себя вину новыми потоками крови. Убийства совершаются во имя обожествленной нации или класса. Убийства совершаются во имя будущего общества, тоже обожествленного. Кто полагает, что он все знает, тот считает, что ему все дозволено. Недолговечные идолы, требующие абсолютной веры, неустанно изрекают формулы абсолютных приговоров. А религии, лишенные трансцендентности, посылают на смерть множество узников, лишенных надежды.
Каким образом надеется выжить европейское общество середины XX века, не решаясь встать на защиту отдельных личностей, не стараясь всеми силами оборонить их от давления со стороны государства? Запретить смертную казнь значило бы прилюдно заявить, что общество и государство не являются абсолютными ценностями, признать, что никто не дал им права на бесповоротный суд, на совершение непоправимого. Не будь смертной казни, Габриель Пери{15} и Бразийак оставались бы, возможно, среди нас. И тогда мы могли бы судить их согласно собственному разумению, открыто объявив им наш приговор, тогда как теперь они судят нас, а мы вынуждены безмолвствовать. Не будь смертной казни, труп Райка{16} не отравил бы Венгрию, Германии было бы легче войти в европейское сообщество, русская революция не погрязла бы в бесчестьи, Европа не задыхалась бы от смрада бесчисленных трупов, погребенных за последние двадцать лет в ее истощенной почве. Все ценности на нашем материке поставлены с ног на голову, поколеблены страхом и ненавистью между людьми и целыми народами. Борьба идей вершится с помощью удавки и ножа гильотины. Законы подавления теперь пускает в ход не человеческое, естественное сообщество, а правящая идеология, которая требует человеческих жертвоприношений. «Урок, преподносимый эшафотом, состоит в том, что человеческая жизнь перестает быть священной, поскольку человека считают пригодным для уничтожения»[27]. Пригодность эта становится все более явственной, пример подхватывается, зараза расползается все шире. А вместе с нею растет угроза нигилизма. Стало быть, необходимо поставить ей ощутимую препону и во всеуслышанье заявить: человеческая личность выше государства. Любая мера, ослабляющая давление социальных сил на индивида, поможет Европе избавиться от прилива дурной крови, даст ей возможность одуматься и позаботиться о собственном выздоровлении. Европа больна тем, что ни во что не верит и в то же время притязает на всезнайство. Но это далеко не так, ей не дано знать всего, и, судя по нашему негодованию и нашей надежде, она все-таки продолжает верить во что-то: в то, что предельная униженность человека на некоем мистическом рубеже смыкается с беспредельным его величием. Вера для большинства европейцев потеряна, а вместе с нею утрачены и доводы, с помощью которых она оправдывает систему наказаний. Но большинство европейцев в то же время отвергло идолопоклонство перед государством, которое тщилось заменить собою веру. И теперь мы, сбившиеся с пути, полные решимости и мучимые сомнениями, но давшие себе зарок никогда никого не угнетать и не терпеть никакого угнетения, — мы должны осознать и свою надежду, и свое неведение, должны отвергнуть абсолютные законы вместе с их непоправимыми решениями. Мы достаточно разбираемся в них и можем сказать, что такой-то душегуб заслуживает бессрочной каторги. Но мы недостаточно сильны в этих законах и не можем заключить, что у него надо отнять будущее, то есть наш общий шанс на исправление. Исходя из всего мною сказанного, в завтрашней объединенной Европе заявление о торжественной отмене смертной казни должно стать первым пунктом всеевропейского свода законов, на создание которого все мы надеемся.
От гуманистических идиллий XVIII века рукой подать до кровавых эшафотов, а теперешние палачи, как всем известно, сплошь гуманисты. Посему не следует слишком доверять гуманистической идеологии, когда речь заходит о таких проблемах, как смертная казнь. В заключение хотелось бы повторить, что не иллюзии относительно врожденной доброты человека и не вера в грядущий золотой век определяют мое неприятие смертной казни. Как раз наоборот: ее отмена кажется мне необходимой из соображений разумного пессимизма, логики и реалистического подхода к действительности. Я пытался вложить душу во все сказанное. Тот, кто не один месяц общался с текстами, воспоминаниями, людьми, имеющими касательство к эшафоту, не может выйти из этого чудовищного лабиринта прежним. Но отсюда не следует, повторяю, что в этом мире нет никакой ответственности и что мы должны идти на поводу у современных представлений, согласно которым можно все свалить в одну кучу, найти оправдание и для жертвы, и для убийцы. Эта чисто сентиментальная путаница замешана скорее на трусости, чем на великодушии, и с ее помощью нетрудно в конце концов найти оправдание всему наихудшему на свете. Благословляя все и вся, можно благословить и концлагеря, и цинизм крупных политиков; можно дойти и до предательства собственных братьев. Именно это и совершается вокруг нас. Но при теперешнем положении вещей истинные сыны века стремятся прежде всего к тому, чтобы им были обеспечены средства для выздоровления, законы и организации, которые сдерживали бы, но не стесняли их, влекли за собой, но не подавляли своей тяжестью. Вовлеченные в разнузданный бег истории, они нуждаются в какой-то точке опоры, в каких-то принципах равновесия. Короче говоря, им необходимо разумное общество, а не та анархия, в которую их погрузила их собственная гордыня и непомерные притязания государства.
Я убежден: отмена смертной казни поможет нам продвинуться по пути к такому обществу. Взяв на себя эту инициативу, Франция могла бы попытаться распространить ее среди стран по обе стороны железного занавеса, где высшая мера еще сохранилась. Но прежде всего она должна подать пример. Смертную казнь в таком случае нужно заменить каторжными работами, бессрочными для неисправимых преступников, ограниченными каким-то сроком — для всех других. Тем, кто считает, что такое наказание хуже смерти, можно возразить: отчего же вы оставляете его для таких душегубов, как Ландрю, и в то же время посылаете на казнь второстепенных правонарушителей? И еще им можно напомнить, что каторжные работы оставляют осужденному возможность самому выбирать смерть, тогда как гильотина закрывает им все пути для возвращения. Тем же, кто полагает, что каторга — это слишком легкое наказание, следует ответить, что, во-первых, им не хватает воображения, и, во-вторых, лишение свободы кажется им пустяком лишь в силу того, что современное общество приучило их презирать свободу[28].
Пусть Каин останется в живых, но сохранит на себе печать осуждения, — вот урок, который нам надобно извлечь из Ветхого Завета, не говоря уже о Евангелии, а не вдохновляться жестокими примерами закона Моисеева{17}. Во всяком случае, не мешает нам провести хотя бы ограниченный временем эксперимент (отмена смертной казни лет на десять), если наш парламент еще не в состоянии искупить свои выступления в защиту алкоголя той великой цивилизаторской мерой, какой стала бы окончательная отмена высшей меры наказания. Если же наше общественное мнение и его глашатаи не в силах отречься от этого неподъемного закона, который устраняет то, чего не может исправить, тогда, в ожидании лучших времен, постараемся сделать все возможное, чтобы упразднить эту «торжественную бойню»[29], пятнающую наше общество. Ведь смертная казнь в том виде, в каком она, пусть редко, но совершается, и в самом деле есть отвратительная бойня, вызов, брошенный душе и плоти человеческой. Перерубленная шея, отсеченная, но все еще живая голова, потоки крови — все это наследие варварской эпохи, пытавшейся подобными унизительными зрелищами произвести впечатление на толпу. Но сегодня, когда эта гнусная казнь совершается тайком, остался ли в ней хоть какой-то смысл? Истина в том, что убийство в атомном веке ничем не отличается от убийства в веке каменном. И сыщется ли человек с нормальными чувствами, которого не затошнило бы при одной мысли об этой чудовищной хирургии? Если французскому государству не под силу сладить в этом вопросе с самим собой и одарить Европу целительным средством, в котором она сама так нуждается, пусть оно начнет хотя бы с изменения процедуры смертной казни. Наука, с таким рвением помогающая убивать, могла бы, по крайней мере, посоветовать, как убивать более пристойно. Снадобье, превращающее сон узника в смерть и находящееся у него под рукою хотя бы в течение суток, чтобы он мог свободно им воспользоваться, или еще какое-то средство, необходимое в случае злой или ослабшей воли, обеспечат его устранение, если оно так уж необходимо, и привнесут хоть малость благопристойности в то, что сегодня предстает гнусным и бесстыдным балаганом.
Я указываю на это компромиссное решение, поскольку иногда кажутся несбыточными все надежды на то, что мудрость и подлинная человечность осенят людей, ответственных за наше будущее. Некоторым людям — их куда больше, чем обычно считают, — физически невыносимо знать, что такое на самом деле смертная казнь, и не иметь возможности помешать ее применению. Они на свой лад претерпевают ее, не нуждаясь ни в каком суде. Так пусть же они избавятся от гнусных кошмаров, которые их томят, — обществу это ничего не будет стоить. Но по большому счету этого недостаточно. Ни в человеческих сердцах, ни в обществе не воцарится постоянный мир, пока смертную казнь не объявят вне закона.
Сноски
1
Осужденный, согласно обнадеживающему мнению доктора Гильотена, не должен ничего чувствовать. Разве что «легкий холодок в области шеи»
(обратно)2
«Правосудие без палача», № 2, июнь 1956 г.
(обратно)3
Опубликовано Роже Гренье в книге «Чудовища», изд. «Галлимар». Все собранные в ней свидетельства — подлинные.
(обратно)4
Изд. «Мато-Брэн», Реймс.
(обратно)5
Журнал «Réalités», № 105, октябрь 1954 г.
(обратно)6
В прессе каждую неделю сообщается о преступниках, которые колебались между убийством и самоубийством.
(обратно)7
В отчете английского Select Committee (1930) и Королевской комиссии, недавно продолжившей исследования, говорится: «Все изученные нами статистические данные свидетельствуют о том, что отмена смертной казни не влечет за собой увеличения числа преступлений».
(обратно)8
Отчет Select Committee, 1930.
(обратно)9
Бела Жюст, «Виселица и Распятие», изд. «Фаскелль».
(обратно)10
Роже Гренье, «Чудовища», изд. «Галлимар».
(обратно)11
Там же.
(обратно)12
Несколько лет назад я подал петицию о помиловании шестерых тунисцев, приговоренных к смерти за убийство во время беспорядков трех французских жандармов. Обстоятельства убийства затрудняли определение степени вины каждого из участников. Ответ, полученный мною из канцелярии Президента республики, гласил, что моя просьба является вмешательством в деятельность компетентных органов. За две недели до получения ответа я узнал из газет, что приговор по этому делу уже приведен в исполнение. Трое осужденных были казнены, трое других — помилованы. Причины осуждения одних и помилования других не определены. Просто нужно было казнить именно троих, поскольку жертв было столько же.
(обратно)13
Ремен, приговоренный к смерти во время Освобождения, до казни провел семьсот суток в кандалах — факт возмутительный! Осужденные на смерть уголовники обычно ждут казни от трех месяцев до полугода. Эту отсрочку трудно сократить ввиду возможности помилования. Впрочем, я могу засвидетельствовать, что рассмотрение прошений о помиловании производится во Франции со всей ответственностью, не исключающей явного стремления к милосердию в той мере, с какой это позволяют закон и нравы.
(обратно)14
Поскольку по воскресеньям казни не производятся, субботняя ночь считается среди смертников самой спокойной.
(обратно)15
Бела Жюст, op. cit.
(обратно)16
Один видный хирург, католик, признавался мне, что он, исходя из опыта, никогда не сообщает пациентам, даже верующим, что они неизлечимо больны раком. Это потрясение могло бы лишить их всего, даже веры.
(обратно)17
Преп. отец Девуайо, op. cit. Невозможно читать без слез просьбы о помиловании, поданные отцом или матерью осужденного, которые, скорее всего, не осознают, что за страшная напасть их постигла.
(обратно)18
Франция занимает первое место в мире по потреблению алкоголя на душу населения и пятнадцатое — по жилищному строительству.
(обратно)19
В конце прошлого века поборники смертной казни подняли большой шум в связи с ростом преступности начиная с 1880 года. Но ведь именно в этом году был принят закон, позволяющий без предварительного разрешения открывать винные погребки. Вот и доверяйте после этого статистике!
(обратно)20
Следует заметить, что в американских тюрьмах накануне казни осужденного обычно переводят в другую камеру, заодно сообщая ему о предстоящем исполнении приговора.
(обратно)21
Имя невинно осужденного по делу «Лионского почтового поезда».
(обратно)22
Как не порадоваться известию о помиловании Силлона, убившего недавно свою четырехлетнюю дочь, чтобы не отдавать ее жене, которая собиралась с ним разводиться. Дело в том, что во время заключения обнаружилось: Силлон страдает от мозговой опухоли, чем можно объяснить все безумие его поступка.
(обратно)23
«Журнал криминологии и полицейской техники», Женева, специальный выпуск, 1952 г.
(обратно)24
Жан Боконьяно, «Загон для хищников, тюрьма Френ», изд. «Фюзо».
(обратно)25
Курсив мой — А. К.
(обратно)26
Известно, что решение суда присяжных предваряется формулой: «Пред Богом и нашею совестью…».
(обратно)27
Франкар.
(обратно)28
Заглянем в отчет Дюпона, представителя Национального собрания, от 31 мая 1791 года: «Убийцу снедает острое и жгучее беспокойство; чего он больше всего опасается, так это покоя, ведь тогда бы ему пришлось остаться наедине с собой. Поэтому он постоянно пренебрегает собственной смертью и стремится причинить ее другим; одиночество и сознание этого одиночества — вот его подлинная казнь. Не наводит ли все это на мысль, какого рода наказанию должны мы его подвергнуть, чтобы он как следует его прочувствовал? Разве лекарство не должно обладать той же природой, что и болезнь, которую оно призвано исцелить?» Последнюю фразу выделил курсивом я сам. Она позволяет видеть в этом малоизвестном депутате подлинного предшественника современных психологов.
(обратно)29
Тард.
(обратно)Комментарии
Размышление о гильотине
Еще с XVIII века в интеллектуальной жизни Франции утвердилась своеобразная традиция: писатели и художники активно выступали против пыток и казней, осуществляемых государством, объявляя подобную практику недостойной цивилизованной нации. В XX веке проблема смертной казни обострилась после освобождения Франции от фашистских захватчиков: как наказывать коллаборационистов? Камю выступал за скорый, жесткий, но справедливый суд; однако в действительности он оказался непропорционально скорым и жестким.
Волна жестокости, поднявшаяся в годы войны и после нее, заставила Камю задуматься над проблемой нетерпимости. Начиная с 1947 года, он хотел вставить главу о смертной казни в свой очерк о бунте, рассматривая проблему прежде всего как политическую и философскую. Поскольку никто не может быть абсолютно виновен, никого нельзя осуждать абсолютно, т. е. непоправимо. А смертная казнь является именно таким наказанием, особенно если учесть атеистический отказ от веры в загробный мир. Развернутая Камю философия смертной казни напрямую связана с концепцией жизни, рассматриваемой в «Человеке бунтующем».
Позиция Камю основана на двух типах реакции: инстинктивной (недоверие к судебной машине, отвращение к самому виду крови) и разумной (совершенство недостижимо в нашем несовершенном мире, где никто не является абсолютно невиновным).
«Размышления о гильотине», опубликованные в «Нувель ревю франсез» в 1957 году (июнь, июль), были несколько переработаны Камю и в том же году вышли под одной обложкой с работой Артура Кестлера, посвященной смертной казни через повешение. Несмотря на некоторое последующее расхождение позиций, оба автора призывали к борьбе с социальной нетерпимостью и ее крайним проявлением — смертной казнью.
1
«Дион-бутон» — марка одного из первых автомобилей, выпускавшихся в начале века.
(обратно)2
Беккариа — итальянский философ и криминалист XVIII века, автор трактата «О преступлениях и наказаниях» (1764), который комментировали Вольтер и Дидро.
(обратно)3
Нефтяной король Саудовской Аравии — Ибн Сеуд, знаменит феодальными нравами и судопроизводством под стать им.
(обратно)4
Картуш (настоящее имя — Бургиньон) — легендарный главарь разбойников, казнен в 1721 г.
(обратно)5
Франция занимает первое место — парламентское большинство систематически спаивало французов в том смысле, что вопрос о самогоноварении не раз поднимался Национальным собранием, но никакого решения найдено так и не было.
(обратно)6
…государство сеет алкоголизм — во Франции существует государственное управление производством алкогольных напитков. Сочетание французских традиций и интересов бюджета часто способствовало потреблению алкоголя.
(обратно)7
Никто не может претендовать на окончательное воздаяние — сам Камю еще не был удостоен Нобелевской премии, его слова свидетельствуют о том, что даже в середине марта 1957 г. он и не помышлял о Нобелевской премии.
(обратно)8
…недавнее дело Деше — дровосек из Майенна сознался в убийстве, которого не совершал, так как не сумел объяснить, что не виновен.
(обратно)9
…после дела Хайеса — Хайес был повешен в 1955 г. за преступление, которого не совершал.
(обратно)10
…дело Бенар — Мари Бенар обвинили в отравлении семи людей из ее окружения на основании доклада экспертов-токсикологов. Однако суд, даже не установив ее виновность, доказал ненадежность заключений экспертов, противоречивших друг другу.
(обратно)11
Те, кто… когда-либо в силу необходимости присутствовали на заседании присяжных — Камю присутствовал на заседаниях суда присяжных в Алжире, сначала сотрудничая с «Альже репюбликэн», а затем работая для «Комба».
(обратно)12
Французский рабочий-коммунист, гильотинированный в Алжире — Ивтон, сосед Э. Роблсса. Камю советовал своему другу Роблесу написать пьесу о смерти Ивтона.
(обратно)13
…министр, собирал голоса…в своем избирательном округе — Камю намекает на Робера Лакоста, который, впрочем, в действительности не мог получить голоса коммунистов. Однако Камю смутно припоминал, что однажды во время выборов в Сенат Пюнье, кандидат-социалист от Дордони, которого поддерживал Робер Лакост, был избран во втором туре благодаря голосам коммунистов.
(обратно)14
…нарушала не человеческую солидарность — человеческая солидарность, противостоящая смерти, — одна из тем «Человека бунтующего».
(обратно)15
Габриель Пери — активист компартии, депутат, расстрелян немцами в декабре 1941 г.
(обратно)16
Райк — бывший секретарь венгерской компартии, министр, казнен при Ракоши в 1949 г., реабилитирован в октябре 1956 г.
(обратно)17
Закон Моисеев — око за око, зуб за зуб.
(обратно)

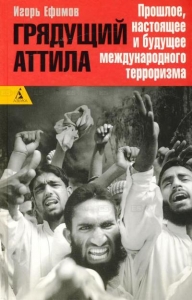

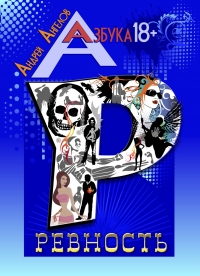
Комментарии к книге «Размышления о гильотине», Альбер Камю
Всего 0 комментариев