Харлан Эллисон Волны в Рио
Стою у окна отеля и упираюсь взглядом в Атлантический океан, что обрушивает сумрачные валы на пляжи Копакабаны. Черт знает, зачем меня вообще занесло в Бразилию. Вот и болтаю сам с собой. Стою у незнакомого мне окна, которое вдруг прекрасно узнал, – а тем временем другое, на Авенида-Атлантика – то, что прекрасно знаю, – вдруг становится совершенно мне незнакомо.
Смотрю, как к берегу несутся ониксовые волны – потом обретают цвет бутылочного стекла, обрастают белыми кружевами, тянутся жадными лапами к берегу – и под конец лишь раз судорожно дергаются, прежде чем исчезнуть в рыхлом песке. Да, дебил я знатный. Я тут и стих сочинил.
А говорится в моем стихе, что вот стою я здесь, оглядывая труды человеческие, и сам удивляюсь, какого черта мне здесь нужно – мне, чужаку, в стране, которой я и знать не знаю… И еще там про волны. Катятся они две тысячи миль во мраке и пустоте, в полном одиночестве от самого Лагоса. Подобно тем неграм, которых везли сюда с Золотого Берега. Чашечка к чашечке, черенок к черенку – как ложки – как черное мясо в трюмах чужих кораблей. Несутся сюда черт-те откуда – несутся, чтобы, как и я, оказаться на чужом берегу.
Зачем? По какой такой надобности люди и волны отправляются невесть в какую даль – чтобы в конце пути остаться в одиночестве?
Христос с высокой горы оглядывает весь Рио-де-Жанейро. Руки распростерты, беззвучная молитва стекает с каменных губ. Изваяли его итальянцы, водрузили на гору – пусть слепо глазеет в сторону Сахарной Головы. Еще в Христа вмонтировали лампочки. Раз в году (сами знаете когда) далеко-далеко в Ватикане щелкает выключатель – и Папа зажигает своего Cristo Redentor.
Это Христос богатых, тех, кто обитает в роскошных апартаментах. Христос шаркающих по голубым коврам в Жокей-клубе. Христос тех, кто вкушает фондю ориентале в «Швейцарском Шале». Христос тех, кто выплывает в залив Рио на гордых белых яхтах. Таких гордых и таких белых, что даже и не посмотри – ослепнешь. Таков Христос на горе.
Но Рио-де-Жанейро – город разительных контрастов.
Чего тут только нет. От белых яхт, Жокей-клуба и роскошных апартаментов – до скопищ жалких лачуг, лепящихся к склонам холма, где бедняки содранными до мяса ногтями цепляются за жизнь в своем тропическом раю. Зовут их здесь фавеллас. Где-то чуть ниже большого Христа, но выше богатых, разместились потомки негров с Золотого Берега. Ходят друг другу по головам, ютятся в хижинах, кое-как слепленных из бросового шифера и обломков досок, насквозь прогнивших на жуткой жаре. Город над городом, что будто лоскутное одеяло покрывает пологий склон. И есть там над ними еще холмик, поменьше. И на этом холмике воздвигли они еще одного Христа. Христа бедняков.
Они не знатные дебилы. Не бумагомараки, проводящие тонкие и бессмысленные параллели между громадным белым Христом на горе и маленьким черным Христом на холме. Они знают только, что он – Христос Избавитель. И нет у них достаточно крузейрос, чтобы прокормить своих рахитичных детей. Нет у них лишних сентавос, чтобы купить дешевые сальные свечки и поставить их в уличной церковке. Но Христос избавит их. Обязательно избавит.
Они одиноки. Одиноки на собственной земле. Христос не избавит их. Никогда. И люди их никогда не избавят. Проживут они свои дни подобно волнам от берегов Африки – и разобьются о побережье безжалостного бытия.
Они ничем не лучше вас. Или меня.
Я пришел к этой книге с чистыми руками. Знаю, что работу свою сделал хорошо. Чего ради гадать, что будет дальше?
Я провел барьер, обозначил позиции, выбрал оружие и огласил боевой клич. Зачем?
Затем, быть может, чтобы окончательно себе уяснить, о чем идет речь в моих рассказах последних лет. А речь там, по-моему, о том, что человек возводит для себя темную завесу от мира, который сводит его с ума. Что давление слишком велико, а машины слишком часто ломаются. И что в одиночку никто с этим справиться не может. Надо думать по-новому, иначе любить – открывать в себе такую любовь, о которой мы раньше и не подозревали. А если делом чести оказывается насилие, надо идти на него, справляться, жить с чувством вины за содеянное – и двигаться. Двигаться дальше.
И как бывает со всякой моей книгой, вначале мне кажется, что это хорошая книга. Даже лучшая моя книга. Потoм мне доходчиво объясняют, что все совсем не так. Что вот тут я имел в виду вот это (чего мне, признаться, и в голову не приходило) – и что я вообще изгадил все, что только мог, ибо отродясь не обладал ни талантом, ни интуицией. Сейчас я об этом переживать не способен. Какнибудь потом, Бог даст, запереживаю и постараюсь исправиться, но прямо сейчас я удовлетворен.
Хотелось бы мне поведать вам кое-что по поводу этих рассказов. Самую-самую малость, ибо, как точно выразился Джордж Эрнсбергер, мой редактор в «Эвоне», «на самом деле ничего интересного ни об одном из когда-либо написанных рассказов сказать нельзя – включая порой и самые лучшие». Но о возникновении и написании некоторых из них, может, и стоило бы кое-что поведать если и не ради проникновения в суть творческого метода данного автора, то хотя бы для пополнения рабочего материала у идущих той же дорогой.
Рассказ «Зверь и т д.» задумывался как эксперимент. Изначально задумывался. Я рассматривал его как серьезное начинание в области формы и стиля. Теплый прием его теми читателями, что пожелали отправиться со мной и проверить, достигну ли я своей цели, дает мне повод поделиться некоторыми мыслями относительно авангарда – как внаучной фантастике, так и в целом.
(А рассказ, кстати говоря, не последовательное повествование. Он написан в циклической форме – как если бы некоторое число событий одновременно случились на ободе некоего колеса. Причем одновременность событий по всему ободу разделяется искусственными барьерами времени, пространства, измерения и мысли. А в конце концов все сходится к одному в центре – в ступице колеса.) В последние два-три года «авангарду» в умозрительной литературе определенными критиками и самозваными историками жанра приписывалась необходимость быть неразрывно связанным с некой загадочной категорией, что помечена биркой «Новая Волна». Множеству совершенно несхожих писателей – от Филипа Хосе Фармера до Томаса Диша – налепили куда надо красивую наклейку «писатель Новой Волны». Список осчастливленных растет изо дня в день, с явлением народу каждого нового журналиста.
Олдисс, Браннер, Боллард, Саллис, Зилазни, Дилэйни, Муркок, Спинрад, Энтони, Вильгельм… – короче, все, кроме Паншина и Нивена (которые упорно не желают).
Все они в то или иное время удостаивались причисления к «Новой Волне». И все как один свою принадлежность отрицали.
Куда ж тут без меня? Из-за рассказов типа «Зверь, в сердце мира о любви кричащий», да еще из-за составленной мной на грех антологии «Опасные видения» и меня сунули в тот же безразмерный мешок особого пошива.
Так вот. Для протокола и для тех, кому все нужно разжевывать. Я не считаю, что в умозрительной литературе существуют категории наподобие «Новой Волны» (как, кстати говоря, и что какое-то произведение можно пометить тошнотворной аббревиатурой НФ – хотя и не надеюсь, что чуждые жанру обозреватели Обретут достаточно вкуса, чтобы отказаться от этого удобного жаргонно-ублюдочного ярлыка). А считаю я, что «Новая Волна» – всего лишь расхожее журналистское клише, приветствовать которое могут только совсем безмозглые критики и сторонние обозреватели. Не хватает им ни духа, ни глубины, чтобы понять: это богатство голосов суть многие волны. И каждая волна – писатель.
Хотя мне уже надоело без конца мусолить этот термин, скажу еще вот что: «Новая Волна» просто-напросто включает в себя писателей, которые занимаются своим делом. И не более. Сравнивать то, что делаю я, с тем, что делает Чип Дилэйни, – просто чушь. Проводить параллели между, скажем, рассказами Болларда, где содержится кодификация образа «героя нашего времени», и рассказами Олдисса об «ЛСД-войнах» – тяжелое помешательство. Пытаться слепить в один комок таланты столь расхожие, как поэтичный Зилазни и поэтичный Саллис, – прямое оскорбление.
И все же нельзя отрицать: нечто происходит. Вы, мистер Джонс» ни хрена в этом не смыслите, но знаете, что оно происходит, – вот вы и называете это «Новой Волной». Так проще. Вроде бы и кретином себя уже не чувствуешь. Да, мистер Джонс? А? Не слышу!
Да, нечто происходит. Происходит в том, что я называю умозрительной литературой, вы называете научной фантастикой, а прочие козлы кличут НФ. Происходит и в университетских кампусах, и в рок-музыке, и в испанском Гарлеме, и вообще повсюду. А происходит просто-напросто то, что самый передовой народ полнее открывает себя все новому и новому опыту, а также разным способам выражения. (Сегодня человек, отвергающий все экспериментальное только потому, что оно, мол, экспериментальное, уже достоин не обвинения в тупости, а простой жалости. Вроде тугоухого, колченогого или невосприимчивого к цвету – короче, слегка дефектного.
Был я тут как-то в Рио на вечеринке у Харта Спрейджера вместе с прочими светилами мировой фантастики, и Харт положил на крутилку что-то из Джимми Хендрикса. Только я себе заторчал – ведь с самого прибытия не слышал ничего, кроме паскудной самбы и еще какого-то музыкального зловония, – как подходит будто бы элегантная супруга одного из светил, морщит рыло и спрашивает: «Ах, неужели вам и вправду нравится этот шум?» Я промолчал. Хрена ли мне? Из нее и так уже песок сыплется.) Так что все происходящее происходит сегодня повсюду.
И вот Спинрад в «Джеке Барроне» отвешивает громкую плюху правящим кругам за их способы использования энергии, солидная вроде бы дама Кейт Вильгельм посылает к нужной матери общепринятые правила построения рассказа и заслуженно удостаивается премии «Небьюла» за своих «Плановиков», а Кэрол Эмшвиллер и Пирс Энтони становятся писателями, активно читаемыми андеграундом. Скажите мне наконец честно – кого волнует, в каком именно рассказе Сыоэлла Пизли Райта 1928 года предсказана алюминиевая полоска на банках с сардинами?
Реакционеры, которые всегда с нами, – всего лишь пугливые малые дети (возраст значения не имеет), которым просто хочется, чтобы все оставалось как есть. Проповедуют они при этом даже не цензорство, а сталинскую опеку, когда закрытыми объявляются целые темыТаковы они, мистеры Джонсы от НФЛепечут об «ощущении чуда», а сами прочно вделаны в бетонные устои своего прошлого. Заперты во вчерашнем дне – а все пытаются переврать наши фантазии о дне сегодняшнем и временах грядущего. Уверяют нас, что новые писатели с их новыми словечками и подходцами оскверняют драгоценные телесные флюиды научной фантастики. И клянутся вести священную войну против этой самой «Новой Волны».
Хрен вам, дети, Дед Мороз.
Впрочем, пусть себе словоблудствуют. Читатели фантастики год от года становятся все вдумчивее и все острее чувствуют требования литературного мастерства. Заскорузлое вчера, конечно же, достойно уважения, ибо содержит корни нашего наследия в области формы. Но одно дело уважать. Превращать в кумира – совсем другое. Пытаться ухватить будущее, позволяя вчерашним призракам кормиться днем сегодняшним, которым они не владеют, – занятие безнадежное. Никто при этом не предлагает начисто отвергнуть более традиционные формы научной фантастики – тут всем хватит места встать в полный рост. А с такими мастерами, как Саймак, Азимов, Нивен, Кларк, Пол и Дель Рей, у нас еще долго не будет недостатка в прекрасных уроках пусть и в русле традиции.
Все, чего мы просим… впрочем, нет – время просьб давно прошло. Все, чего мы требуем, – это равного времени для каждого голоса, включая и новые. А эти новые голоса как раз и принадлежат тем, кого успели украсить дешевым ярлыком «Новая Волна».
И еще ярлыком «авангард», что уже тридцать пять лет как стал не более чем снобистским анахронизмом. Причем эти обращенные в завтра люди, надо думать, охотно будут предоставлять право голоса и тем, кто предвидит другое завтра, по-иному выраженное.
Один из этих иных способов выражения как раз и есть тот, который мне показалось необходимым использовать в «Звере». Я уже объяснил, какая потребовалась форма, чтобы поведать всю историю так, как мне представлялось единственно возможным. И все же в журнальном варианте издатель счел необходимым изменить эту форму и добавить некоторые пояснения. Ему показалось, что в первоначальном виде рассказ будет труден для читателей его журнала. Спорить с этим издателем я не мог. Значит, просто больше не буду с ним работать. В письме он пояснил, что аудиторию свою представляет состоящей в основном из четырнадцатилетних подростков, чьи мамочки заблаговременно пролистывают рассказы, желая убедиться в достаточной их невинности для драгоценных сыночков. Вот жалость! Ну не пишу я для четырнадцатилетних подростков! Тем более для их строгих мамаш. И вообще ожидаю от своего читателя несколько больше эрудиции, внимания и сотрудничества. Упомянутый издатель уже знает, что для него я больше писать не буду, и не считает это достаточной потерей. Особенно если вспомнить те муки адовы, что он испытал, мухлюя с названиями и текстами моих рассказов. Все к лучшему куда ни кинь. Главное – множество мамаш четырнадцатилетних подростков смогут теперь спать спокойно, твердо зная: этого Эллисона держат на коротком поводке. Спокойно, мамаши! Эллисон не сорвется и не осквернит драгоценные телесные флюиды ваших сыночков!
Но для вас, кто купил эту книгу, я написал рассказ «Зверь, в сердце мира о любви кричащий» без лишней заботы о детках и мамашах. Без поводка и намордника. И надеюсь, что творческая свобода не раз сверкнет для вас при его прочтении.
…кажется, я забрел намного дальше, чем собирался, махнул далеко за границы, которых обещал придерживаться Джорджу Эрнсбергеру. Намеревался-то я поведать про шестилетнюю цепь параноидных событий, что привели к написанию рассказа «Попробуй тупым ножом». У меня просто язык чесался поговорить о семинаре Робина Скотта Уилсона при Кларион-колледж, на котором я накропал «Феникса» и «Бригаду Пъел-Пъеб», одновременно умоляя студентов строчить по рассказу в день. Хотел я попытаться выяснить, почему «Разбитый как стеклянный гоблин» вызывает такой отклик, когда я читаю его на лекциях в колледже… и почему кайфоманы не устают от него обламываться.
А больше всего я хотел поговорить про «Парня и его пса». Ох, ну и рассказик.
Но уже нет места. А если честно, то и желания.
С одной стороны, мне думается, что всякий, кто выкладывает свои кровные денежки за подобный товар, заслуживает чего-то новенького – чего-то написанного специально для этой книжки. А с другой стороны, прав и Джордж – не стоит пороть горячку.
И мне кажется, итог всего, что я тут нагородил, – это связь рассказов с тем, что я почувствовал в Рио (и с «волнами» – во всех смыслах). Одни рассказы – всего лишь рассказы. Для развлечения. «Фома», как выражается Воннегут, безвредная неправда. Другие же должны поведать вам, что, когда ночь близится, все мы становимся незнакомцами – чужими друг другу на чужой Земле. Сказать, что ни люди, ни правительства вас не спасут. Сказать, что писателям о днях грядущих нельзя жить днем вчерашним, что работать надо всем сердцем, собирая в себе всю волю и всю отвагу, чтобы все-таки поведать о днях грядущих, пока эти дни у нас не украли. Сказать, что никто не спустится с горы, чтобы спасти вашу лилейную кожу или вашу черную жопу. Бог в вас самих. Спаситесь сами.
Иначе к чему идти весь этот путь – просто чтобы остаться в одиночестве?


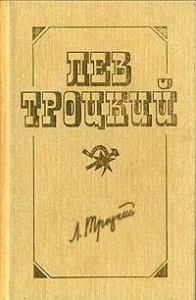

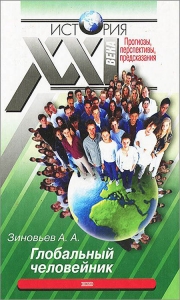
Комментарии к книге «Волны в Рио», Харлан Эллисон
Всего 0 комментариев