Дмитрий Сергеевич Мережковский НЕВОЕННЫЙ ДНЕВНИК. 1914–1916
НЕ СВЯТАЯ РУСЬ (Религия Горького)
I
Куда идет Россия? Великие русские писатели отвечают на этот вопрос — как бы вечные вехи указывают путь России.
Последняя веха — Толстой. За ним — никого, как будто кончились пути России. За Толстым никого — или Горький.
По сравнению с теми, великими, Горький мал. Мало все, что рождается; велико все, что выросло, достигло своего предела и конца. Великим кажется прошлое, малым — будущее. Вот почему Горький и те, великие, — младенец и взрослые, росток, из-под земли едва пробившийся, и дремучие, древние дубы. Но они кончают, а он начинает. Они — настоящее и прошлое, а он — будущее. Откуда идет Россия, можно судить по ним, а куда — по Горькому.
Сознание, идущее к стихии народной, воплотилось в тех, великих. Обратное движение — народная стихия, идущая к сознанию, — воплотилась в Горьком.
Сознание над стихией властвует. Народ, идущий к сознанию, есть народ, идущий к власти. Возникающее сознание народа — возникающая власть народа — «народовластие», «демократия». Горький есть первый и единственный сейчас представитель возникающей русской демократии.
Лица тех, великих, — гениально личные, неповторяемые; таких лиц никогда еще не было и никогда уже не будет. У Горького как бы вовсе нет лица; лицо как у всех, собирательное, множественное, всенародное. Но правда единственных, правда личностей («аристократия» в высшем смысле) уже совершилась, достигнута; а правда всех, правда множества («демократия» тоже в высшем смысле) еще только совершается, достигается. Последнее, величайшее явление личности — в тех, великих; первое, самое малое явление всенародности — в Горьком.
Нас пугает безличность множества. Но ведь всякий зародыш безличен, всякое семя безобразно, а между тем таит в себе возможность нового прекраснейшего образа, новой совершеннейшей личности. Если семя не умрет, то не оживет: надо умереть одному, чтобы ожить всем; надо умереть личности, чтобы ожить множеству.
Те, великие, слишком сложны; потому-то и стремятся так жадно к простоте, к всенародной или только простонародной стихийности. Горький слишком прост; потому-то и стремится так жадно к сознательной или только полусознательной сложности.
Как явление художественного творчества, Толстой и Достоевский неизмеримо значительнее Горького. О них можно судить по тому, что они говорят; о Горьком — нельзя: важнее всего, что он говорит, то, что он есть. Самая возможность такого явления, как он, как они — потому что он — многие или будет многими, — самая возможность эта, в смысле жизненном, не менее значительна, чем все художественное творчество Толстого и Достоевского.
В этом же смысле жизненном он, «малый», — не меньшее знамение времени, чем те, великие. И, может быть, сейчас не в них, а в него надо вглядеться, чтобы понять наше время, ответить на вопрос, куда идет Россия.
II
Несколько лет назад предсказывали «конец Горького». В предсказании была правда и ложь. Как пророк «сверхчеловеческого босячества» Горький действительно кончился. Но кончился один Горький — начался другой.
Страшное испытание огнем — ложною славою — выдержал он, как немногие. Вознесенный на высоту, упал с нее, но не разбился. Сделал, хотя бы бессознательно, то, что способны делать только самые сильные русские люди, — «сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал». Ведь именно то, что он утверждал некогда как последнюю правду: «Человек — это гордо», человек против человечества, один против всех, — он теперь отрицает как последнюю ложь. Самого себя отрицает, преодолевает. Преодолеет ли? Но уже одно то, что преодолевает, — знак силы. Чтобы так одному человеку пережить две жизни, кончиться и снова начаться, нужна большая сила. Теперь уже никакие испытания огнем не страшны ему: в огонь вошло железо, вышла — сталь.
Чужое лицо истлело на нем — пышная маска «сверхчеловека», «избранного», «единственного», — и обнажилось свое простое лицо, лицо всех, лицо всенародное.
Стихия разлагается неполным сознанием — полусознанием. Человек из народа, делаясь полусознательным, «полуинтеллигентным», изменяет своей народной стихии. Так изменил ей Горький, тот первый, чей «конец» уже наступил. А этот второй, «начинающийся», к ней возвращается или хочет вернуться. Но нельзя вернуться к стихии, не пройдя через полноту сознания, а эта полнота не может не быть религиозною, ибо религия и есть абсолютный предел, исполнение, завершение сознания, абсолютное соединение всех частей сознания в единое целое. Вот почему Горький ищет религиозного сознания, может быть, пока еще бессознательно. (Как это ни странно — искать сознания бессознательно, это часто бывает с такими людьми, полусознательными.)
А что это именно так, что нет для Горького иных путей к народной стихии, как через сознание религиозное, видно по его последней книге — «Детству».
Не только в смысле художественном это одна из лучших, одна из вечных русских книг (не потому ли так мало сейчас оцененная, что слишком вечная?), но и в смысле религиозном — одна из самых значительных. На вопрос, как ищут Бога простые русские люди, «Детство» Горького отвечает как ни одна из русских книг, не исключая Толстого и Достоевского.
Толстым и Достоевским наше религиозное сознание переполнено; никуда нам не уйти от них. Но вот Горький ушел. Он, первый и единственный, заговорил о религиозной жизни народа помимо Толстого и Достоевского и даже против них. У Горького все в этой области новое, неожиданное, непредвиденное, неиспытанное — целый религиозный материк неведомый.
Неужели человек, сам чуждый религии, мог бы это сделать? Неужели только случайность, что наиболее правдивое, сильное, вечное из всего, что написано Горьким, — наиболее религиозное?
В своем интеллигентском сознании или полусознании он отрицает религию. Но между интеллигентским сознанием его и его народной сущностью — противоречие неразрешимое. Тут-то именно, в религии, он и отрицает, преодолевает себя с наибольшей силой, с наибольшей мукой. Тут вопрос: быть или не быть Горькому истинным пророком того, к чему Россия идет, — народного сознания, народной власти, «народовластия», «демократии» в подлинном, религиозном смысле этого слова.
«Не надо религии, Бога не надо», — говорит интеллигентское сознание Горького, а вот что говорит его народная сущность:
«В те дни (детства) мысли и чувства о Боге были главной пищей моей души… Бог был самым лучшим и светлым из всего, что окружало меня».
Так было в детстве, в начале жизни. Когда круг замыкается, то начало его сходится с концом. Богом все началось у Горького — не Богом ли и кончится?
Бог его — «бабушкин Бог». Бабушка маленького героя «Детства» Алеши Пешкова (Горький не скрывает, что Алеша — он сам) — духовная мать его: она родила его, создала, «вывела на свет», хранила, спасала в детстве, а может быть, и доныне спасает и будет спасать до конца.
«До нее как будто спал я, спрятанный в темноте, но явилась она, разбудила, вывела на свет… и сразу стала на всю жизнь другом, самым близким сердцу моему». На всю жизнь — на веки веков. Если это так, если бабушка, то и «бабушкин Бог»—самое лучшее и светлое в детстве, в начале жизни — тоже на всю жизнь, на веки веков.
Бабушка вся, до последней морщинки, — лицо живое, реальное; но это не только реальное лицо, а также символ, и, может быть, во всей русской литературе, не исключая опять-таки Толстого и Достоевского, нет символа более вещего, образа более синтетического, соединяющего.
Бабушка—сама Россия в ее глубочайшей народной религиозной сущности. Отречься от Бабушки значит отречься от самой России. Этого Горький не сделает, и если бы даже хотел, то не мог бы это сделать. Сколько бы ни отрекался от религии, какими бы безбожными словами ни говорил о ней, как бы ни был религиозно бессознателен или, хуже того, полусознателен, он все-таки не отречется от своей народной, «крестьянской» — «христианской» — сущности. И если Бабушка воистину Россия, то все, что говорит он о себе и о ней, — больше чем рассказ о своей жизни и даже больше чем исповедь — это проповедь, пророчество о том, куда идет Россия.
«Ее бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни».
«Любовь к миру» — религия Бабушки — религия Горького. Какая же это религия? Христианская? Но ведь христиане — люди не от мира сего: «Не любите мира, ни того, что в мире; любовь к миру — вражда Богу». А Бабушка любит мир и Бога вместе. Для христиан «небесное» значит «неземное»; любить небо — ненавидеть землю. А Бабушка любит землю и небо вместе. Да и как ей не любить земли, когда она сама земля?
«Хороша у тебя бабушка, — о, какая земля!» — говорит о ней кто-то.
«Ты настоящая мне мать, как земля», — говорит ей самой кто-то.
Алеша Пешков слышал эти слова, и Горький запомнил их «на всю жизнь», на веки веков. Ведь именно «любовь к земле», тайна земли и соединила его с Бабушкой, с ее народной сущностью, ибо тайна народа — тайна земли.
Если Христос равен христианству, если в христианстве все кончено, сказано, сделано — есть, то что, есть и больше ничего не будет, то религия Бабушки — не христианская и не Христова. Тогда прав дедушка, из православных православнейший:
«Ты ей, старой дуре, не верь. Она смолоду глупа, она безграмотна и безумна».
Но если Христос больше, чем христианство; если в христианстве не только есть то, что есть, но что-то будет еще, то религия Бабушки, может быть, и не христианская, но Христова воистину.
Бабушка — не святая, а грешная, «окаянная». Любит плясать, петь, нюхает табак, пьет вино. И выпивши «становится еще лучше».
«Господи, Господи! Как хорошо все! Нет, вы глядите, как хорошо-то все!» — говорит пьяная, точно молится.
Вообще не умеет молиться, как следует.
«Сколько я тебя, дубовая голова, учил, как надобно молиться, а ты все свое бормочешь, еретица… чуваша проклятая!»
Бормочет свое — не церковное, не православное и, может быть, даже не христианское — такое вольное, странное, ни на что не похожее, что православному дедушке молитвы эти кажутся кощунственными. Говорит с Богом «внушительно», то как будто «советует» Ему, то как будто «ворчит» на Него — бунтует, богоборствует: «Господи, али не хватило у Тебя разума доброго на меня, на детей моих?..» То жалеет Бога — «такого милого друга всему живому», всеблагого, но не всемогущего и не всеведущего: «Кабы все-то знал, так бы многого, поди, люди-то не делали бы! Он, чай, Батюшка, глядит-глядит с небеси-то на землю, на всех нас, да в иную минуту, как восплачет да возрыдает: „Люди вы Мои, люди, милые Мои люди! Ох, как Мне вас жалко!“» Этот плачущий Бог — «безумие», «безграмотность». А разве Агнец, закланный от начала мира, тоже не безумие? Только то привычное, старое, а это новое, необычайное.
Бабушка не умеет молиться как следует Богу Отцу и Сыну Божьему; но на языке человеческом нет молитв прекраснейших, чем ее акафисты Божьей Матери.
«Радость неизбывная… яблоня во цвету… сердечушко мое чистое, небесное… солнышко золотое…»
Нет, этого нельзя повторить — надо самому услышать. И всего удивительнее, что услышал это неслыханное, затаеннейшее в сердце народа, в сердце земли не христианин Толстой, не православный Достоевский, а «безбожный» Горький.
Что такое «Матерь Божья», бабушка сама не знает. Если бы спросить ее об этом, то она указала бы на икону Казанской, Тихвинской, Феодоровской или иной поместной Матушки. Так в ее сознании, но не так в ее бессознательном религиозном «ведении», «гнозисе».
«Ты настоящая мне мать, как земля», — могла бы она сказать Божьей Матери, так же как ей самой говорит кто-то. Или как у Достоевского (в «Бесах») говорит одна прозорливая: «Матерь Божья есть великая мать сыра земля». Тайна Матери — тайна Земли.
В догматической христианской Троице — Отец, Сын и Дух; а в этой бабушкиной, как будто не христианской, «еретической» — Отец, Сын и Мать. Неоткрытый, неисповеданный, неисполненный лик Духа — в лике Земли-Матери.
Отец — в Первом Завете, Сын — во Втором; не в последнем ли, Третьем — Дух? Явление Духа — Святая Плоть, Святая Земля, Вечное Материнство, Вечная Женственность. Если откровение Отца — любовь к миру (земное, природное, космическое — в дохристианских религиях); если откровение Сына — любовь к Богу (неземное, антикосмическое, «не от мира сего» — в христианстве), то откровение Духа — любовь к земле и к небу, любовь к миру и к Богу вместе. А ведь это и есть религия Бабушки. Вот к чему она прикасается, «старая дура, безумная, безграмотная».
Лермонтов, Тютчев, Некрасов, Вл. Соловьев, Достоевский и те, кто идет за ними, — русские люди высшего религиозного сознания — прикасались к тому же. «Это страшно верное, страшно русское», — говорит кто-то о бабушкиной религии.
Тут высота сходится с глубиной — высота русского религиозного сознания — с глубиной русской религиозной стихии. И опять всего удивительнее, что это схождение увидел — хотя бы слепо увидел, только нащупал — не христианин Толстой, не православный Достоевский, а «безбожный» Горький.
Русских интеллигентных «богоискателей» ненавидит он и презирает, а сам приближается к ним, как никто; открывает в своей народной стихии то же, что они открыли в своем интеллигентском сознании. На разных языках говорят об одном.
III
Бабушка — Россия, но не вся, потому что у России «две души», по вещему слову Горького, может быть, из всех его слов самому вещему. Одна душа России — Бабушка, другая — Дедушка.
Бабушка прекрасна, дедушка уродлив. У бабушки — добрый Бог, «такой милый друг всему живому»; у дедушки — злой. Если бабушкин Бог — настоящий, то дедушкин — не Бог, а дьявол.
Так или почти так для Алеши Пешкова, но не так или не совсем так для Горького. Он уже знает, что не вся правда у Бабушки, что есть и у Дедушки своя правда, такая же вечная, «страшно верная, страшно русская».
Не всегда был и дедушка злым уродом.
«Он ведь раньше-то больно хорошим был, да как выдумал, что нет его умнее, с той поры и озлился и глупым стал».
Был хорошим, — может быть, и будет. Может быть, не только по своей вине, но отчасти и по вине самой бабушки озлился и оглупел.
— «Меня дедушка однова бил на первый день Пасхи от обедни до вечера. Побьет — устанет, а отдохнув — опять. И вожжами и всяко.
— За что?
— Не помню уж…
Бабушка была вдвое крупнее деда, и не верилось, что он может одолеть ее.
— Разве он сильнее тебя?
— Не сильнее, а старше… За меня с него Бог спросит, а мне заказано терпеть».
Даже маленький Алеша чувствует, что чего-то не хватает бабушке. «Иногда хочется, чтоб она сказала какое-то сильное слово, что-то крикнула». Но никогда ничего не скажет — будет молчать и терпеть до конца. И чем больше будет терпеть Бабушка, тем больше будет Дедушка злиться и глупеть.
Бабушка хотя и не святая, но «вроде святой», и главный грех ее — не во грехе, а в святости. Чем сама она святее, тем грешнее все вокруг.
Знает — и не может; созерцает — и не делает. Дедушка знает и делает — мало знает, плохо делает; но в России так много созерцания, так мало делания, что уж лучше плохо, чем никак.
Бабушка — огромная и мягкотелая, рыхлая, бескостная. Дедушка — маленький, крепенький, остренький, как рыбья косточка, и все-таки сглотнул огромную, а его самого никто не сглотнет — косточкой подавится.
Бабушка — беспредельная и безличная. Узок дедушкин предел, но зато у него есть лицо, правда, полузвериное, но все же лицо — зародыш личности.
В Бабушке — «дионисовское», в Дедушке — «аполлоновское». Бабушка — пьяная, Дедушка — трезвый.
Бабушка делает Россию безмерною; Дедушка мерит ее, копит, собирает, может быть, в страшный кулак; но без него она развалилась бы, расползлась бы, как опара из квашни.
И вообще, если бы в России была одна Бабушка без Дедушки, то не печенеги, половцы, монголы, немцы, а своя родная тля заела бы живьем «Святую Русь».
Бабушка — Россия старая, обращенная к Востоку; Дедушка — Россия новая, обращенная к Западу. Бабушка безграмотна; Дедушка полуграмотен. Но если когда-нибудь Россия будет грамотной, то благодаря не Бабушке, а Дедушке.
Бабушка—«еретица», «вольница» на словах, в созерцании, а на деле ей «заказано терпеть». Дедушка пока что «православен» и «самодержавен». И тоже терпит, потому что руки коротки, чтоб сдачи дать; но когда вырастут — не стерпит. И если вообще кто-нибудь забунтует в России, то, уж конечно, не Бабушка, а Дедушка.
«Ты за бабушку крепко держись», — советует кто-то Алеше. Горький исполнил этот совет: крепко за Бабушку держится, но, может быть, еще крепче — за Дедушку. И если вошел в огонь железом, а вышел сталью, то благодаря не Бабушке, а Дедушке.
Бабушкину правду — «Святую Русь» — понять легко: она сияет, лучезарная; правду дедушкину — Русь не святую — понять трудно: она сквозь облик звериный чуть светится. Ни Толстой, ни Достоевский не поняли ее, потому что смотрели на нее со стороны, извне; Горький понял, потому что увидел ее изнутри.
IV
О двух душах России говорит «Детство». О том же говорит статья, не случайно написанная Горьким почти одновременно с «Детством», так и озаглавленная: «Две души».
У России две души — азиатская, восточная, и европейская, западная. На Востоке господствует религия, на Западе — наука. Религия утверждает то, чего нет (бытие Божие, загробную жизнь и прочие «суеверия», «фантазии»); религия — ложь. Наука утверждает то, что есть («законы природы»); наука — истина. Россия гибнет или находится на краю гибели, потому что колеблется между двумя душами — восточной и западной. Чтобы спастись, надо перестать колебаться, надо сделать выбор: отречься от Востока, от религиозной лжи, и предаться Западу — научной истине.
Вот как просто, и, если бы речь шла не о Горьком, можно бы сказать — вот как простодушно, до детскости, до дикости.
Стоит ли возражать? Нужно ли доказывать, что нельзя ставить знак равенства между «суеверием», «фантазией», обманом воображения и религиозным опытом; что после кантовской «Критики»[1] утверждать на основании научного опыта или философского разума, что Бог есть или что Бога нет, — два одинаковых нежевества?
Если Горький атеист-догматик, то нечего ему говорить о «научном мышлении» как единственном способе познания, потому что всякий догматизм, все равно, отрицательный или положительный, всякая вера, все равно, в бытие или небытие Божие, противоречат законам «научного мышления». Если же он позитивист-агностик, то как же он смешивает «непознанное» с «Непознаваемым»? Стоило бы ему заглянуть в «Первые начала» Спенсера,[2] творца агностицизма, чтобы увидеть, что «Непознаваемое» никогда не может быть познано по самой природе научного опыта. Такова философская неосведомленность Горького.
Неосведомленность историческую выказывает он, когда противополагает религиозный Восток научному Западу как две равнодействующие во всемирной истории. Если понимать религию в нашем европейском смысле — как теизм, утверждение Бога (а так именно понимает религию Горький), то большая часть Востока — буддийская — не религиозна, атеистична, потому что буддизм[3] — чистейший атеизм. Только приближаясь к Западу, Восток становится религиозным в нашем, европейском смысле — теистичным (зороастризм,[4] иудаизм,[5] ислам[6]); а чем дальше от Запада, чем восточнее, тем атеистичнее. Все религии, так же, впрочем, как и все научные системы (египетские, ассиро-вавилонские, основы греко-римского знания), на Востоке рождаются, но растут и зреют на Западе. Семя — на Востоке, цвет и плод — на Западе. Там — религиозное прошлое человечества, здесь — настоящее и будущее. Христианство родилось на Востоке, но выросло на Западе. И если христианство — религия всемирно-историческая по преимуществу, то не Восток, а Запад религиозен по преимуществу.
Неосведомленность психологическую выказывает Горький, когда противополагает религию как абсолютное созерцание — науке как абсолютному действию. Религия или ничто, «обман воображения», или величайшее явление человеческой воли, а воля — единственный источник действия. Разум освещает и направляет — воля решает и совершает действие. Вот почему безвольная, бездейственная религия — все равно что нежгущий огонь: огонь перестает жечь, когда потухает; и религия становится бездейственной, когда перестает быть религией. Наоборот, наука становится действенной, только переставая быть наукой и делаясь «религией», обращаясь от разума к воле, хотя бы бессознательно. Чтобы действовать, надо желать или знать должное, а для науки нет ни желанного, ни должного — есть только данное.
Религия, по мнению Горького, порабощает; наука освобождает личность. Но самое понятие «личности» неразрывно связано с понятием «свободы», а для науки нет свободы: закон необходимости, детерминизм — основной закон научного мышления. Вот почему наука не знает «личностей», а знает только «неделимые», «особи» безличных «родов» и «видов». Понятие «личности», так же как понятие «свободы», вовсе не научное, а религиозное. Чтобы утвердить личность, надо утвердить свободу, преодолеть закон необходимости в его самой крайней точке — в смерти как уничтожении личности. Это и делает христианство религией абсолютной свободы, Абсолютной Личности.
Из всего, что говорит Горький о религии, одно только верно — что религия «опасна». Но ведь вообще всякая сила опасна: чем больше сила, тем опаснее; религия — величайшая сила — величайшая опасность. Но, если от огня бывают пожары, из этого не следует, что надо жить без огня.
V
Да, говоря о религии, Горький не знает, о чем говорит. Но важно не то, что он знает и чего не знает, а то, чего он хочет и не хочет.
Не хочет религии, потому что хочет любить мир, а всякая религия есть нелюбовь к миру.
Ну, а как же бабушкина религия — любовь к миру и к Богу вместе? «Это ее бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни».
О Бабушке-то он и забыл, а если не забыл, то проклял ее так же, как Дедушка: «старая дура, безумная, безграмотная».
«Две души» написаны по поводу войны — «катастрофы, никогда еще не испытанной миром, потрясающей и разрушающей жизнь Европы», по словам самого Горького. Откуда же катастрофа — от религиозного Востока или от «научного» Запада? Кажется, ясно, что «наука» без религии, полунаука, не только не спасла мир от катастрофы, но, может быть, и была ее главной причиной. Когда человеческий разум утверждает, что он — все и ничего больше нет в человеке, ничего больше не надо, то сам разум становится безумием.
— Он ведь раньше-то больно хорошим был, дедушка наш, да как выдумал, что нет его умнее, с той поры и озлился и глупым стал.
Каких нечеловеческих ужасов и мерзостей может наделать этот озлившийся и оглупевший, обезумевший разум, мы теперь видим воочию. Это он, Дедушка, маленький, хитрый, хищный «хорек», бьет огромную Бабушку — «от обедни до вечера; побьет — устанет, а отдохнув — опять; и вожжами, и всяко». Он бьет, а она молчит, терпит — только жалеет, «безумная», полоумного:
— Ах, дедушка, дедушка, малая ты пылинка в Божьем глазу!
О Бабушке Горький забыл, но вспомнит о ней; ушел от нее, но вернется к ней.
Может быть, не только у России, но и у самого Горького — «две души», и он разрывается, мечется между ними — то к Востоку, то к Западу, то к Бабушке, то к Дедушке. Какую из этих двух душ спасать, какую губить?
Но, может быть, не надо губить ни одной, а надо спасти обе, соединить «две души» в одну. Может быть, Россия — не Восток и не Запад, а соединение Востока с Западом.
Чтобы соединить, надо не смешивать, а чтобы не смешивать, надо разделить до конца. Это Горький и делает: разделяет, разрывает две души России в своей собственной душе. И если душа его погибнет от этого разрыва, то недаром: она погибнет, чтобы спасти другие души.
Так, «безбожный», делает он Божье дело. Разрыв двух душ — Запада и Востока, действия от созерцания, земли от неба — неполная, не последняя, не вечная правда. Но нет иных путей к правде вечной, как жертва одной из двух невечных; только надо знать, чем и для чего мы жертвуем. Горький этого еще не знает; может быть, узнает когда-нибудь.
«Святая Русь! Святая Русь!» — затвердили мы кощунственно. Нет, не святая, а грешная, сказал Горький так, как еще никто никогда не говорил.
Однажды дедушка засек Алешу до потери сознания. «С тех дней, — вспоминает Горький, — точно мне содрали кожу с сердца, — оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде, своей и чужой». Вот это сердце с содранной кожей все еще бьется в Горьком.
Однажды «господин в новом мундире», Алешин отчим, бил его больную мать. «Даже сейчас вижу, — вспоминает Горький, — эту подлую, длинную ногу, с ярким кантом вдоль штанины, вижу, как она раскачивается в воздухе и бьет носком в грудь женщины». Алеша схватил нож и ударил отчима. Вот этот нож все еще в душе у Горького: для него не в переносном смысле, а в точном, кровном, кровавом — обида России — обида матери.
Два чувства дивно близки нам, В них обретает сердце пищу: Любовь к родному пепелищу, Любовь к отеческим гробам.Но вот для Алеши «отеческий гроб» — «тухлый Дюков пруд, куда дядья зимой бросили отца его в прорубь». Вот какое «отечество» надо полюбить Горькому.
Когда Дедушка бьет Бабушку смертным боем и та молчит, терпит — «мне заказано терпеть», — мы умиляемся:
Край родной долготерпенья, Край ты русского народа!«Святая Русь! Святая Русь!» Горький не умиляется. Да будь она проклята, эта «святость», если от нее все наши мерзости!
«Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И с обновленной уверенностью отвечаю — стоит; ибо это — живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжкой и позорной». Никто никогда не говорил об этой правде так, как Горький, потому что все говорили со стороны, извне, а он — изнутри.
По-нашему, по Толстому и Достоевскому — «смирение», «терпение», «неделание», а по Горькому — возмущение, восстание, делание — «страшно верное, страшно русское». И если Россия не только откуда-то пришла, но и куда-то идет, то в этом Горький правее Толстого и Достоевского. В этом Россия грешная святее «святой».
И не нужна ли бóльшая любовь, чтобы любить грешную, чем «святую»? Не нужна ли бóльшая вера, чтобы верить в грешную? Такой любовью любит, такой верой верит Горький.
«Не только тем изумительна жизнь наша, что в ней так плодовит и жирен пласт всякой скотской дряни, но и тем, что сквозь этот пласт растет доброе… возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, человеческой».
Никто никогда не говорил об этой надежде так, как Горький, потому что опять-таки все говорили со стороны извне, а он — изнутри. Надо самому пройти сквозь тьму России прошлой и настоящей, чтобы так говорить о светлой России будущей.
Да, не в святую, смиренную, рабскую, а в грешную, восстающую, освобождающуюся Россию верит Горький. Знает, что «Святой Руси» нет; верит, что святая Россия будет.
Вот этой-то верой и делает он, «безбожный», Божье дело. Ею-то он и близок нам — ближе Толстого и Достоевского. Тут мы уже не с ними, а с Горьким.
БОЛЬНАЯ КРАСАВИЦА
«Мне хотя нужно писать, но я не пишу через свои трудные материальные обстоятельства. Я человек непривилегированного класса, как крестьянин, рабочий, — всякое время нужно убивать для насущного хлеба… Мы, реальные, должны добывать хлеб трудом и смертью…»
Это пишет в частном письме Архип, бывший севастопольский матрос, который участвовал в движении 1905 года, бегал, сидел в тюрьмах; потом вышел из военной службы, зажил в деревне крестьянином; ушел и оттуда, а в настоящее время служит рабочим на одном из московских заводов.
«Я все своим умом кренился к Божьей правде… Много я думал, что такое жизнь, как понять ее ближе к истине. Читал сколько — социальные книги, декадентские, Евангелие. Дверь истины заперта. В последнее время стал больше прислушиваться к шуму за дверью истины».
Письмо так безграмотно, что трудно не только понять, но и прочесть. Чудовищные иероглифы, детские каракули о глубочайших вопросах метафизики, мистики — о жизни, о смерти, о Боге, о вечности.
Несмотря на безграмотность и косноязычие, иногда вдруг страшная сила языка, но какая-то не личная, а общая, стихийная, как в древних былинах, сказках и песнях народных. В отдельном голосе — гул голосов бесчисленных. Сила стихийная, бессознательная. Кажется, сознай себя пишущий «писателем», и все исчезнет, растворится в полуинтеллигентной, полуграмотной тусклости.
Письмо — загадка почти неразгаданная, клубок мыслей и чувств, в котором все концы и начала спутаны. Но, может быть, в этой путанице — иной порядок, в этой бессвязности — иная связь, в этой безграмотности — иная грамота, не наша, не интеллигентская? Может быть, этот человек, «прислушивающийся к шуму за дверью истины», — мудрец?
«Жизнью смерть страшная». «Все непонятно, все плохо, все хорошо». Не напоминает ли это изречения полумифической древности, какого-нибудь Анаксагора[7] или Гераклита Темного?[8] Слова — как монолитные глыбы, тяжкие, цельные, нераздробимые, вечные.
А на обыкновенный интеллигентский взгляд — обыкновенная безграмотность, дикость, юродство и невежество. В недавнее прошлое иного взгляда и быть не могло; сейчас — может быть. А какой из этих двух взглядов глубже проникает в реальность «реальных людей, добывающих хлеб трудом и смертью», — это еще вопрос.
В 1907 году Архип посетил Толстого. Вот как он описывает это посещение.
«Шел в Ясную Поляну пешком, верст 50 сделал и очень устал. Долго дожидался в саду, под деревом; весь промерз на холодном ветру. Стемнело. Вдруг застучали копыта и въехал граф в своей натуральной форме. Кликнул служителя, быстрой своей ухваткой слез, отдал лошадь. Я ему поклонился, и он кланяется. Спрашивает жалостным голосом: „Что нужно?“. Я говорю: „Ничего. Я посетить вас пришел“. Граф продолжал спрашивать, какого уезда да к чему пришел. Я заторопился сказать, что мог: что читаю я много и из чтения вижу, что мне будто нужно необходимо вас видеть.
— Что читать? Зачем много читать?
Только я хотел ему в двух-трех словах объяснить, как после этой минуты и говорит граф:
— Раз у тебя нету ничего до меня, то прощай.
Поклонился низко и пошел в теплое место своего дома. Я приподнял шапку с опозданием от моей неожиданности. Так он ушел от меня со своей отверженностью».
В чем именно «отверженность», объясняет Архип довольно отчетливо.
«Я графа Льва Николаевича очень жалею, так как он в книжках писал, что надо все переделать, а как переделать — не знал да, по видимости, и теперь не знает. Советует самовольно и покорно положить оружие и чтобы как где кто есть, там бы и оставался и книжки не читал. Он, конечно, во всем всегда был обеспечен; думаю, трудней, если б он был пролетарием и день цельный за хлеб сухой, на морозе рукавицей нос бил, чтоб не зяб. Ну, однако, не избежал и он страшных мук о жизни, когда хотел убить себя. После он себя успокоил, положил оружие и говорит: не жди, когда будет всем хорошо, а всегда так будет… Успокоил себя, что неизвестно, зачем человек на земле… А теперь его еще жальче, чем когда мучился. Ему теперь ни к какой душе пути нету, потому что он сам по себе, а мы сами по себе. Он велит не знать, а человек не может этого. Он в себе муку задавил и отошел на свое место; однако, думаю, ему там не радостно, а только старается вид доказать, что успокоил себя. Я, уставший было, в холоду, — и то мне радостнее перед ним было. А то вот еще по тюрьмам многие товарищи сидят, так, думаю, и им отраднее» («Архип у Толстого», 3. Гиппиус).
Первое письмо Архипа от 1907 года, последнее — от 1914. Но как будто ни в нем самом, ни вокруг него ничего не изменилось за эти семь лет. И, кажется, если бы не семь, а семьдесят или семьсот лет прошло, он писал бы все то же о том же. Как будто нет для него нашего отдельного, личного времени, коротенького века человеческого, а есть только общая вечность — века жизни народной; как будто, живущий под «властью земли», вечной, недвижной стихии, он и сам недвижен и вечен.
Но это только на первый взгляд, а если вглядеться пристальнее, то и в Архиповой недвижной вечности что-то движется, меняется в соответствии с нашим коротеньким веком интеллигентским, с нашим движением общественным.
«Во мне последнее время произошла некоторая перемена», — замечает он. В чем же эта перемена? За эти семь лет он понял окончательно то, что начал понимать еще тогда, в 1907 году, после посещения Толстого, — понял, что христианство и толстовство не одно и то же.
«Толстой не мог молиться, не мог и я молиться. Сколько раз приходило в голову, для чего Христос молился. А Христос — не Толстой и не я: он не прижимался к жизни, боясь смерти, потому что знал ее. Он все знал, — почему и называется у нас Богочеловеком… А кто мы с Толстым? Испугались жизни, как затравленные зайцы… Нам, простым людям, „реальным“, в силу необходимости надо держать руку под козырек, говорить, как дурак Средневековья: „никак нет“, „точно так“. А пущай из нас кто захочет хоть Толстого осуществить, какие начнутся мытарства! Не облегчит себе жизнь, а хуже будет жить в рабах».
«Осуществить Толстого» — не знать, не желать, не думать, «успокоить себя, задавить в себе муку», сказав: «не жди, когда будет всем хорошо, а всегда так будет», — это и значит «жить в рабах». Но этого человек не может, этому и Христос не учил. «Душа просит истинной свободы, слышит, есть вода живая, от какой жажды не будет».
Нет, недаром прошли для Архипа эти семь лет: он жил в них верой, что восторжествует правда Божья — «правда моя, и всего русского народа, и всего мира». А что свобода и есть «правда Божья» — это он тоже понял окончательно.
И еще кое-что понял, увидел воочию, что и мы все видели за эти семь лет.
«Я ужасался, как моих товарищей за правду гнали… Они были бледны перед смертным ужасом; они не знали ничего; они верили в правду: этим, думали, служили Богу. Мы их отправили в будущую жизнь, как мучеников. Верили, Бог им там даст жизнь. Мы, простые люди, верили в Бога, что получим помощь и возрождение».
Но вера оказалась тщетной. «Они (гонители) живут до смерти беспечно, творят произвол. После смерти никто не знает, как кому воздается. Может, Бог воздаст там по заслугам, а только здесь за правду нет возрождения. Они (гонимые) не узнали, чем жизнь хороша».
Вот где совпадает Архипова вечность с нашим веком коротеньким; вот где прошел единый меч сквозь наше сердце и сердце народное. Тут мы и народ — одно.
В муке, в болезни — одно, но еще не одно в исцелении.
Толстой не молился, потому что правдой небесной задавил в себе муку о правде земной, успокоил себя: здесь, на земле, всегда так будет. Христос молится, потому что муку о правде земной принял всю до конца, сказал: «Да не будет так всегда и здесь, на земле; да будет воля Твоя на земле, как на небе». Что не только на небе, но и на земле — в этом для Архипа главное.
Я договариваю, выражаю мысль его яснее, чем он сам выразил. Он только ощупью подходит к этому, но именно к этому — к правде Христовой как правде земной.
«Земная жизнь — не царство Бога… И действительно, если абсолютно взглянуть, вся земля в агонии. Предел этому неизвестен… Говорят, жизнь наша — ад. Мы находим в ней все-таки излюбленное, живем — веселье есть человеку на земле жить… А многие ни одного раза, может, не подумали, что такое мы и наша земля, зимой с ее белыми снегами, летом — с райскими цветами. Как будто всем она хороша, наша родная, любимая до смерти мать-земля. В сущности, наша земля — больная красавица. Ныне нас радует, завтра заставит страдать. Все еще в агонии… За наше непонимание положили Евангелие под спуд, 2000 лет лежит — никто его не знает».
Никто не знает Евангелие, потому что никто не знает правды Христовой не только о небе, но и о земле. Через землю — к небу, через «агонию земли», бесконечную муку о правде земной — к правде небесной — это и значит, как утверждает Архип: «Бога через Христа можно понять, можно полюбить Его и подойти к Нему».
«Современные некоторые люди стали больше разбираться в Евангелии, — прибавляет он загадочно. — Что-то говорят — не договаривают; что-то знают и не сказывают. А только почему-то стали отставать от жизни, как масло от воды».
(Если бы «договорили», то, может быть, не «отстали» бы?)
Кто же эти современные люди? По косноязычию Архипову — русские «декаденты», а по нашему косноязычию интеллигентскому — «богоискатели».
«Прочел статью Д. С. (Мережковского) в „Русском Слове“ о Тютчеве. Крайне меня заинтересовала. В сущности, Тютчев был обыкновенный человек, маленький, худенький, голова всклокоченная, — в общем, не сознательный, а может, и порченый. Есть такие: ничего не знают, хоть сердце человечье будут есть, а скажут: на земле все позволено… Он просто не вникал в жизнь, считал жизнь за ненужный, сухой мусор, почему и был весь всклокоченный…»
Особенно поразила Архипа эта «всклокоченность» Тютчева. Он то и дело возвращается к ней с какой-то насмешливой нежностью. Кажется, в том же метафизическом смысле «всклокоченным» считает и себя самого. «Всклокоченность» — возмущенность, мятежность, любовь к «хаосу», демонизм, «бесноватость» — и «порченность».
«Д. С. вспоминает русских людей — с колдуном повстречались („Рассказ отца Алексея“). Может, я один из них. Да, наверно, так: еще неизвестна моя будущая жизнь и смерть», — замечает Архип.
И не себя одного считает он «порченым». «Когда жена рабочего разочарованно поет песни, выходит, как будто душа ее в звездное небо просится, в простор древнего хаоса родимого… „Не пой ты мне про древний хаос…“ А все-таки он — наш… Это не Христово, но не плохое».
Тут опять не договаривает он, не умеет чего-то сказать. «Не Христово» — не Сыновнее, но, может быть, Отчее? В древнем и новом, гётевском смысле, «демоническое» — «божеское»?
И вот оказывается, что этой именно «всклокоченностью», мятежностью, любовью к хаосу, «демонизмом», Тютчев Архипу ближе Некрасова.
«Тютчев при смерти просиял, — может, через это, что не ценил жизнь, в ней видел сухой мусор, и у самого были волосы всклокочены, не причесаны: дескать, это к делу не относится. Некрасов же агонию перенес, может быть, потому, что чрезмерно любил жизнь, весь отдался реальности, ходил, наверно, с причесанной головой».
Это значит: Тютчев хотя и бессознательно, не религиозно, не христиански, а только язычески, но принял на себя весь разлад мира, хаос в космосе, всю бесконечную муку, «агонию земли, больной красавицы». А Некрасов этой муки не знал или не хотел знать. Один весь в этом мире, другой весь в том, а тот мир больше этого — вот почему Тютчев больше Некрасова, — кажется, такова мысль Архипа.
Если поверить ему, что метафизическая мятежность, любовь к хаосу, «демонизм» (опять-таки в смысле древнем и новом, гётевском: «демоническое» — «божеское»; «не Христово, но не плохое»), если поверить, что все это действительно звучит в русской душе, то уклон от Тютчева к Некрасову, на наш интеллигентский взгляд столь неожиданный, чрезвычайно знаменателен. Ведь это тот самый уклон от стихийной общественности к сознательной или мнимо сознательной личности, от «социализма» к «индивидуализму», который переживается в настоящее время всей русскою интеллигенциею. Неужели же этот уклон докатился и до них, до «реальных людей»?
Еще знаменательнее вывод, который делает Архип.
«Д. С. как бы подсмеивает революционера: томись иной жаждой, а то все пропало. К чему ты стремишься — к гражданской свободе? Это все — продолжение мира сего, и не от Бога. Нужно заходить с другой стороны. Пойми истину — ты будешь свободен, сказал Христос. А революционер забыл, как будто ему не под силу. Если бы понял, то ужаснулся бы, к чему стремился».
Архип ошибается: никогда ничего подобного я не говорил. Я только и делаю, что стараюсь доказать, что нельзя «революционера подсмеивать», что томящийся жаждой свободы человеческой уже томится «жаждой иной», и, если даже сам еще не знает этого, ничто не «пропало», «ужасаться» нечему — не сегодня, так завтра узнает.
Но если я даже «революционера подсмеиваю», то как же Архип этому сочувствует? Он, который еще так недавно «ужасался», как его товарищей «за правду гнали». Тогда ужасался, а теперь «подсмеивает»? Понял, что вера тщетна, что здесь, на земле нет «возрождения», — и дело с концом?
Но ведь если так, то прав тот, кто «сердце человечье ест» и говорит: «все позволено».
И нет в творении Творца, И смысла нет в мольбе…«Агония земли» — безысходна?
Нет, исход есть, утверждает Архип. «Настоятельно говорит Евангелие и Д. С. (хотя это и смешным считают) — второе пришествие будет, и будет врасплох». Что именно «врасплох», без всякого участия воли человеческой, вне всякого движения исторического — это сейчас для Архипа самое важное, кажется, даже единственно важное.
Мир так же будет жить во зле, в смерти, в хаосе— и вдруг наступит второе пришествие, преображение мира, тот мир войдет в этот. Уже и сейчас входит, уже и сейчас в нем присутствует. «Земля все такая же, — все то же? Свидетельствую, совершенно верно: все хорошо, даже и то хорошо, на что сейчас противно смотреть. Все непонятно, все плохо, все хорошо».
И то, что за правду гонят, и то, что человечье сердце едят и говорят: все позволено, — тоже хорошо? Тоже «не Христово, но не плохое»?
Это напоминает «минуты вечной гармонии» бесноватого Кириллова. А ведь мы уже знаем, чем это кончается.
Второе пришествие будет «врасплох». А что же нам сейчас делать? «Успокоить себя», сложить руки, сидеть у моря и ждать погоды? Но это и есть толстовское и вообще христианское «неделание». Из-за чего же было огород городить, уходить от Толстого?
И не за это ли наше «непонимание положили Евангелие под спуд, 2000 лет лежит — никто его не знает»?
Тут какой-то провал, противоречие, косноязычие не только в языке, но и в мыслях Архипа. «Порченность», «сглаженность».
Хотелось бы верить, что это мы его «сглазили» нашею интеллигентностью и что в этом он один. Но страшно подумать, что много таких, что эта наша зараза опустилась до сердца народного.
Да, наша зараза. Не произошла ли и в нас за эти семь лет та же «перемена», что в Архипе? Не отказались ли и мы от «неделания» толстовского не для дела — а для неделания злейшего? «Кающиеся интеллигенты», «веховцы» — не те же ли Архипы? Не так же ли и они «подсмеивают революционера», говорят ему: жажда свободы человеческой — «не от Бога, томись жаждой иной».
Наша земля — «больная красавица». Болезнь ее — религиозная созерцательность, бездейственность, обломовщина, архиповщина. Ее «агония» — вечное колебание между Европой и Азией, движением и недвижностью, деланием и неделанием.
«Все непонятно, все плохо, все хорошо» — это отказ от действия, от спасения, от Христа, Который для того и пришел, чтобы принести меч, отделяющий «плохое» от «хорошего».
Преображение, искупление мира совершается, но не без участия воли человеческой. Мы «все своим умом кренимся к Божьей правде» — умом, но не волей.
Мы, как расслабленный в Силоамской купели, все ждем, чтобы ангел возмутил воду. Расслабленный не может встать и пойти, но может протянуть руки. Но если не может и руки протянуть, может поднять взор; если не может и взора поднять, может захотеть это сделать.
Захотим же сделать — только тогда исцелит Христос нашу землю, больную красавицу.
ПОДЕНЩИК ХРИСТОВ
I
Говорить о христианстве Л. Толстого в нынешней «христианской» Европе — почти то же, что говорить о веревке в доме повешенного.
Недавний властитель дум, Толстой как будто вдруг потерял всю свою власть, как будто стал вдруг весь некстати, не нужен, не современен, не своевременен; нам нечего делать с ним, как, впрочем, и со всеми мудрецами, учителями, пророками. Кажется, никогда еще не обнажалось так, как сейчас, бессилие человеческого духа перед бездушною силою материи: что бы люди духа ни говорили, ни думали, ни чувствовали, ни делали, от этого ничто не изменится. О всей духовной жизни человечества можно сказать в наши дни: баба скачет задом и передом, а дело идет своим чередом.
И, может быть, недаром послан был Толстой накануне того, что в наши дни совершается. «У меня были времена, когда чувствовал, что становлюсь проводником воли Божией», — говорит он в своем «Завещании». Проводник воли Божьей, предвестник, предтеча — глас вопиющего в пустыне: «Обратитесь, покайтесь. Уже секира лежит при корне дерева». Не обратились, не покаялись — и совершилось то, что должно было совершиться. Секира ударила, и огонь, в котором сожжется дерево, уже пылает.
Да, нечего греха таить, мы о Толстом забыли. Хотим вспомнить и не можем. Был — и нет его, а если даже есть, то нам почти не мешает: не бревно, не сучок, а соринка в глазу. И мы ее вынули — решили: великий художник, великий мудрец, великий праведник, но…
Этих «но» так много и так они известны, что повторять не стоит.
Мы забыли о нем; но вот он сам напомнил о себе, да еще как! Немногие поверят сейчас, что «Дневник» (1895–1899) — одно из сильнейших произведений его, если не самое сильное.
Книга «несовременная». Но время наше пройдет, пройдут века, а это останется. И с чем это сравнить в веках прошедших? С Паскалем,[9] Эпиктетом,[10] Сократом,[11] Марком Аврелием?[12] Нет, все не то. Кто поймет эту книгу, тому будет понятна и несравнимость, несоизмеримость ее, небывалость, единственность.
У нас вообще нет меры для Толстого. Мы еще не знаем, что он такое. Стоя у подошвы горы, нельзя видеть ее вершину; по истокам реки нельзя судить об ее разливе. Толстой растет на наших глазах, и во что он вырастет, мы еще не ведаем.
Трудно понять «Дневник», потому что он слишком прост. Нам кажется, что мудрое темно и сложно, а оно просто и ясно. «Все то, что глубоко, то ясно. Как вода, которая бывает мутна на поверхности, а чем глубже, тем прозрачнее», — говорит Толстой. Прозрачное — невидимое. В «Дневнике» эта невидимость.
Скучная книга, скажет читатель со спокойной совестью.
Но у кого «горят змеи сердечной угрызенья», тот пусть лучше не заглядывает в эту книгу: там соль на раны.
Да это вовсе и не книга, не разговор с читателем, а разговор с самим собой и с Богом — чуть слышный шепот. Но он сильнее громов: умолкнут громы, а то, о чем этот шепот, не умолкнет во веки веков.
Это или совсем не действует, или так, как ни одна из книг. Этого нельзя читать безнаказанно: прочел — позабыл. Может быть, и забудется, но в самую страшную минуту жизни, в минуту смерти, вспомнится.
Не книга, а смертный приговор читателю. Тот «свиток», —
Воспоминание безмолвно предо мной Свой длинный развивает свиток, —который будет читать каждый из нас «в день гнева, в день оный, когда и праведник едва спасется».
II
Вообще Толстой нас против шерсти гладит, а здесь, в «Дневнике», особенно.
Книга о смерти. А мы смерти знать не хотим. Не знают смерти боги и звери. Но ведь мы не боги…
— Когда ты перестанешь мне твердить об этой гадости! — прерывал Соболевский Пушкина, когда тот говорил ему о смерти.
— Прощайте. Увидимся, если не сшалим, — говорила одна старушка XVIII века.
Смерть — «гадость», смерть — «шалость», смерть — «случай». Казалось бы, наоборот: все случайно, кроме смерти.
Тут между Толстым и нами противоречие безысходное: или мы в здравом уме, а он сумасшедший, или мы сумасшедшие, а он в здравом уме.
«Е. б. ж.» — «если буду жив» — так заканчивает он запись прошедшего дня, выставляя вперед число следующего, и это лучше всего выражает то состояние душевно-телесное (да, не только душевное, но и телесное — в этом главное), в котором писался «Дневник». «Если буду жив» означает условность, сомнительность, призрачность жизни и безусловность, несомненность, действительность не смерти, а того, что нам, живым, кажется смертью.
Наполеон думал, что люди умирают только тогда, когда сами этого хотят, конечно, бессознательно. У Толстого эта бессознательная воля к смерти становится сознательной.
Нам кажется, что смерть есть то, что с нами делается; Толстой знает, что смерть есть то, что мы сами с собою делаем. «Умирать постоянно готовишься, и это — дело… Учишься получше умирать». Смерть — наука, смерть — искусство. Человек — художник, творец не только своей жизни, но и своей смерти.
«…Лежал, засыпая; вдруг точно что-то оборвалось в сердце. Подумал: так приходит смерть от разрыва сердца, и остался спокоен — ни огорчения, ни радости, но блаженно спокоен; здесь ли, там ли — я знаю, что мне хорошо, то, что должно, как ребенок на руках матери, подкинувшей его, не перестает радостно улыбаться, зная, что он в ее любящих руках».
«…Вчера, потушив свечу, стал щупать спички и не нашел, и нашла жуткость. „А умирать собираешься? Что ж, умирать тоже будешь со спичками?“ — сказал я себе, и тотчас же увидал настоящую свою жизнь в темноте и успокоился… То, что было страхом, стало успокоением».
«Страшный чирей на щеке. Я думал, что рак, и рад, что не очень неприятно было думать это: получаю новое назначение — то, которое во всяком случае не минует меня».
Чирей, страх темноты, боль в сердце — это все в теле. Сначала в теле, а потом в душе. От телесного к душевному — таков путь Толстого и здесь, в религии, как там, в искусстве. Нам казалось, что Толстой, религиозный мыслитель, изменяет художнику. Ничуть не бывало: он до конца остается тем, чем был всегда, — великим реалистом, тайновидцем плоти или, вернее, того, что соединяет дух с плотью, той промежуточной области между телом и душою, которую апостол Павел называет «телом душевным». Никакой идеальности, отвлеченности; все реально, телесно, чувственно, опытно.
«Недавно я испытывал чувство — не то что рассуждение, а чувство, — что все материальное и я сам с своим телом есть только мое представление, есть произведение моего духа и что есть только мой дух».
Не рассуждение, а чувство, не мысль, а опыт, не идеализм, а реализм — в этом главное.
«Я вижу в зеркале человека, слышу его голос и вполне уверен, что это настоящий человек; но подхожу, хочу взять его за руку, и ощупываю стекло зеркала, и вижу свой обман. То же должно происходить с умирающим человеком: нарождается новое чувство, которое открывает ему обман признания собой своего тела и всего того, что через посредство чувств этого тела признавалось существующим».
Кант исследует оптические законы, по которым предметы отражаются в зеркале («трансцедентальная эстетика»); Толстой ощупывает стекло зеркала: в этом отличие философского мышления от религиозного опыта.
Бессмертие — вечная жизнь не только там, за гробом, когда-нибудь, но и здесь, на земле, сейчас, — таков реализм этого опыта. «Чтобы верить в бессмертие, надо жить бессмертною жизнью здесь». Смерть есть «перенесение себя из жизни мирской в жизнь вечную здесь, теперь, которое я испытываю». Не мыслю, а испытываю — в этом опять главное.
Умер — «преставился», как говорят христиане. Жизнь — «представление», смерть — «преставление», переставление, перемена декораций, переход из одной сцены в другую. «В момент перехода видно, что то, что мы считали действительностью, есть только представление, так как мы переходим от одного представления к другому. Во время этого перехода видна или хоть чувствуется самая настоящая реальность».
Если охотничий нюх дяди Ерошки, влюбленность Анны Карениной, материнство Китти — «самая настоящая реальность», то, может быть, и это чувство бессмертия — тоже? Мы верим великому реалисту Толстому в жизни; почему бы не верить ему и в смерти? Не обманул нас там — не обманет и здесь.
Кто обманывает, тот убеждает, доказывает; а он ни в чем не убеждает, ничего не доказывает — только показывает.
Нельзя доказать, но можно «испытать» бессмертие еще здесь, на земле. Такой опыт — «Дневник».
Человек что-то держит в руках; мы не видим, что, — но по тому, как держит, видим, что есть что-то, как бы осязаем, ощупываем. В «Дневнике» — такое осязание бессмертия.
Скрученные пальцы чувствуют два хлебных шарика, а глаз видит, что шарик один; так умирающий чувствует жизнь и смерть, а видит одно — бессмертие.
«Верующий в Меня не увидит смерти вовек» — это в «Дневнике» совершается воочию: умирающий перестает видеть смерть.
Толстовский «опыт бессмертия» есть, в сущности, не что иное, как самый подлинный опыт христианской святости.
Тут, несмотря на все свои отступления от церкви, Толстой церковен и даже православен до мозга костей.
Ведь и опыт христианской святости — опыт не только духовный, но и телесный, не только метафизика, но и физиология — физиология, углубленная до метафизики.
Тут может быть одна только разница — в большей утонченности и обостренности, сознательности опыта. Вносить свет сознания в самые темные глубины бессознательного, видеть в них то, чего никто не видит, помнить то, чего никто не помнит, — эта особенность толстовского гения художественного сохраняется и здесь, в религии. Целые миры, солнца — в бесконечно малых дробях, атомах чувства.
«На коленях перевернулся разрезной нож от тяжести, и мне показалось, что это живое, и я вздрогнул. Отчего? Оттого, что ко всему живому есть обязательства, и я испугался, что, не исполняя их, я раздавил, прижал живое существо».
Естественное чувство языческое — страх или брезгливость за себя, за свое тело, страх чужого тела неизвестного; естественное чувство христианское — страх за чужое тело.
Здесь атом чувства, но в атоме — солнце: начало того, что может быть, высшим явлением святости — «преображением плоти».
III
Христианство Толстого — древнее, вечное; но есть в нем и новизна небывалая.
В христианской святости нет боли социального неравенства. Святой червяка не раздавит, цветка не растопчет, а мимо вопиющих страданий человеческого рабства и бедности проходит безболезненно: всегда были, всегда будут рабы и нищие; так от Бога положено: рабы, повинуйтесь; нищие, терпите.
Но именно тут, где христианская святость кончается, святость Толстого начинается.
«…Всю ночь не спал. Сердце болит не переставая… Помоги, Отец! Вчера шел и встретил 80-летнего Акима пашущим, Яремичеву бабу, у которой во дворе нет шубы и один кафтан, потом Марью, у которой муж замерз, и некому рожь свозить, и морит ребенка; и Трофим и Халявка, и муж и жена, и дети их. А мы Бетховена разбираем. И молился, чтоб Он избавил меня от этой жизни. И опять молюсь, кричу от боли. Запутался, завяз, сам не могу, но ненавижу себя и свою жизнь».
Он весь — воплощенное угрызение социальной совести, воплощенная боль социального неравенства. «Накиньте намыленную веревку на мою старую шею!» — только теперь, по «Дневнику», мы поняли, что значит этот страшный крик.
В мыслях суживал свое христианство, понимал его по-старому, церковному, как только личное. Но в чувствах и больше всего именно в этом чувстве социальной боли — расширял до беспредельности, делал христианство таким общественным, каким оно никогда еще не было.
Ведь социальная боль и есть новая святая, религиозная боль человечества. И если христианство к ней бесчувственно, то правы те, кто утверждает, что оно кончено. Что это не так, что можно приобщить христианство к этой боли, Толстой показал, как еще никто никогда не показывал.
IV
Судить человека в религии надо не по тому, что он говорит и думает, а по тому, чем он живет и что делает. Мысль — поверхность, иногда ложная; воля — всегда истинная глубина религии.
Во всех своих религиозных писаниях Толстой кажется «рационалистом». Но до какой степени рационализм для него несущественен, поверхностен — видно по «Дневнику».
«Разум дан не на то, чтобы познать, что надо любить: этого он не покажет; а только на то, чтобы указать, чего не надо любить». Нельзя точнее определить религиозную условность разума. Недостаточность, ограниченность всех построений умственных вообще и своих особенно видит он яснее, чем кто-либо. «Запутался», «Глупо», «Вот так чепуха!» — то и дело прибавляет после каждой высказанной мысли и не смущается: знает, что там, где потухает мысль, загорается воля — единственно доступная людям возможность религиозной истины.
Закон мысли — логическая последовательность, «да» или «нет»; закон религиозной воли — метафизическая противоречивость, антиномичность, «да» и «нет» вместе. Чем религиознее, тем противоречивее.
Если бы Толстой был последователен, он не чувствовал бы социальной боли, так же как не чувствуют ее христианские святые. Ведь эта боль есть только часть всей той «поганой плоти», которую он хотел бы уничтожить: «Отец, покори, изгони, уничтожь поганую плоть». Всю плоть, со всеми болями и с болью социальной тоже. Так — в логике, в мысли, но в религиозной жизни и воле не так. Всею своею жизнью и волею Толстой принимает это самое острое и огненное жало плоти — муку социального неравенства. Тут конец логики, начало религии.
Для мысли его есть одна только правда — умирание, ухождение из плоти. Для воли его это только одна из двух правд.
«Ехал мимо закут. Вспомнил ночи, которые я проводил там, и молодость, и красоту Дуняши (я никогда не был в связи с нею), сильное женское тело ее. Где оно?»
Да, где? Если там же, где и вся «поганая плоть», то и спрашивать не о чем.
«Еще думал нынче же совсем неожиданно о прелести, — именно прелести, — зарождающейся любви… Это вроде того, как пахнувший вдруг запах липы или начинающая падать тень от месяца». Да, «совсем неожиданно», нелогично, непоследовательно. «Глупо». «Запутался». «Вот так чепуха!» Глупо для христианина, старца Акима, а для дяди Ерошки — язычника — мудро. Может быть, сильное женское тело Дуняши, зарождающаяся любовь, запах липы, тень от месяца — не «поганая», а невинная, чистая, «святая плоть»?
«Вчера иду по передвоенному черноземному пару. Пока глаз окинет, ничего, кроме черной земли, — ни одной зеленой травки; и вот на краю пыльной, серой дороги куст татарника (репья). Три отростка: один сломан, и белый, загрязненный цветок висит; другой сломан и забрызган грязью черной, — стебель надломлен и загрязнен; третий отросток торчит вбок, тоже черный от пыли, но все еще жив, и серединка краснеется. Напомнил Хаджи-Мурата… Отстаивает жизнь до последнего, и один среди всего поля хоть как-нибудь, да отстоял ее».
Погубить душу свою, отдать жизнь — свято; но вот и «отстаивать жизнь до последнего» — тоже свято. Две святости, как бы два потока, оттуда сюда, из того мира в этот — рождение, вхождение; и отсюда туда, из этого мира в тот — умирание, ухождение. Два потока и оба одинаково божественны. Не как уничтожить одну святость другою, а как соединить обе — вот в чем вопрос. Этого Толстой не видит, но этим только и живет.
V
«Видел во сне, что думаю, говорю, что все дело в том, чтобы сделать усилие, — то самое, что сказано в Евангелии: „Царство Божие усилием берется“… Все хорошее, все настоящее совершается усилиями… Усилие важнее всего».
Вся жизнь и смерть его — одно усилие бесконечное. Изнемогает, падает. «Нет отдыха ни на чем почти». «Невыразимая тоска… Сейчас молился и ужаснулся тому, как низко я упал». «Мало верю в Бога». «Общая отчаянность». «Опять все по-старому; опять так же гадка моя жизнь…» «Хочется плакать над собой, над напрасно губимым остатком жизни». Падает и подымается, лезет, карабкается на страшную голую кручу, сам голый и страшный, как дядя Ерошка или тот мужичок из бреда Анны Карениной, который в железе копается: «Il faut le battre le fer, le broyer, le pétrir».
У нас тело — как дым; у него — как железо. У нас корни — как у луковки; у него — как у дуба. Чтобы вырвать их, выкорчевать, какое нужно усилие!
Да, если кто-нибудь восхищал Царство Божие усилием, то это он.
«Трудна работа Господня!» — говорил Вл. Соловьев, умирая. Можно сказать, что Толстой всю жизнь умирал и работал работу Господню.
Не святой, не пророк, не учитель, а рабочий, чернорабочий, поденщик Христов.
РАСПЯТЫЙ НАРОД
«Настанет день, о, народы Европы, когда каждая из мыслей ваших откроется, как открывается глаз, и когда все ваши мысли, как открытые глаза, прикуются к кровавому образу Народа Распятого». Это говорит Мицкевич о Польше в своей книге «Славяне» — курсе лекций, читанных в парижском университете в 1842–1844 годах. Книга эта вышла недавно новым изданием (Adam Mickiewicz, «Les Slaves». Paris, 1914).
Книга странная, менее всего похожая на «курс лекций». Тут, как верно замечает автор предисловия, Мицкевич уже не поэт, не мыслитель, не ученый, а «пророк Божий, Исайя или Иезекииль новых времен».
Он не столько читает лекции, сколько молится, плачет, благовествует, проповедует, священнодействует. Когда всходит на кафедру, сам не знает, что скажет: дал обет Богу не обдумывать заранее. Плохо говорит по-французски, но французам-слушателям кажется, что он говорит на их языке как на своем. Обладает тем «даром языков», которым обладали апостолы.
«Хотя бы мне пришлось оскорбить привычки моей аудитории, хотя бы мне пришлось кончить криками — я не побоюсь кричать. Не от меня будут эти крики — я решил собой жертвовать, — а из сердца великого народа. Из глубины всех его преданий, пройдя сквозь душу мою, упадут они среди вас как стрелы, дымящиеся потом и кровью». «И разве бы я мог говорить с вами так, если бы не чувствовал за собою силу, не от людей идущую?..» «Я провозглашаю себя пред лицом неба живым свидетелем нового откровения и беру на себя смелость требовать, чтобы те из поляков и французов, которые находятся здесь и знают об этом откровении, ответили мне: существует ли оно? да или нет?» В неописанном волнении слушатели встают и, подымая руки, отвечают: «Да!»
Герцен издевался над Мицкевичем: «мистическим бредом, болезнью, сумасшествием» казались ему эти лекции. Герцен не понял Мицкевича так же, как впоследствии русские люди не поняли Гоголя, Л. Толстого и Достоевского.
Не поняли свои — чужие поняли. «Со времени пророков Сионских не раздавалось такого голоса», — говорит Жорж Санд.[13] «На наших глазах произошло небывалое… с той поры освятилась кафедра парижского университета», — говорит Мишле[14] об этих лекциях.
Семьдесят лет книга пролежала под спудом, забытая, закрытая, запечатанная семью печатями. И вот только теперь, когда на наших глазах исполняются пророчества, когда шепот их повторяется голосами громов, — мы начинаем понимать, что это не «бред сумасшедшего». О, если бы мы раньше поняли!
«Я испытываю леденящий ужас за Европу. Угроза нового нашествия варваров — Аттилы,[15] Чингисхана,[16] Тамерлана[17] — тяготеет над нею. Туча, чреватая бурями, ожидает только мания Божьего, чтобы разразиться над преступными народами».
И вот только теперь, когда туча разразилась, — семь печатей сорвано, книга перед нами раскрыта, мы ее читаем — и каждая строка огнем и кровью наливается. И, как всегда бывает при исполнении пророчества, пророк более прав, чем думал сам…
Главная мысль книги заключается в том, что предстоит великая борьба двух человечеств, двух Европ, двух культур. Прометей, похититель небесного огня, — прообраз культуры подлинной, живого знания, откровения — интуиции; Прометей — создатель человека. Эпиметей, подражатель брата своего, — прообраз культуры мнимой, мертвого знания, бездушной механики — отвлеченного рационализма; Эпиметей — «создатель обезьяны».
Интуиция — дар славянского и французского, как говорит Мицкевич, или, как мы теперь сказали бы, англо-романского племени. «Интуиция — познание, исходящее не от мысли, не от внешних предметов, а из внутренних глубин духа». Intuitio — intus itio — вхождение вовнутрь себя, внутренний опыт, внутреннее зрение, «ясновидение». «Интуитивный метод познания — религиозное возвышение духа». «Это не новость для вас, — обращается Мицкевич к своим французским слушателям, — это самая глубокая сущность вашего гения, интуитивного no-преимуществу. Интуиция — легкость схватывания того, что приносит каждый миг, и того, что можно извлечь из каждого мига, — составляет творческую непосредственность (spontanéité) французского гения». «В этой-то области интуиции, вдохновения (enthousiasme) славянство будет понято грядущей Францией».
Интуитивный гений Франции создал революцию и Наполеонову империю — начало современной культуры. Рациональный гений Германии создал реакцию и Прусскую монархию — начало современного культурного варварства.
Предстоит великая война Прометея с Эпиметеем, человека с обезьяною, истинной культуры с культурным варварством, славянского и англо-романского племени с германским.
Германский рационализм, искажающий самое лицо Европы, иссушающий самые родники культурного творчества, есть крайний вывод из протестантизма, а протестантизм в свою очередь — крайний вывод из того религиозного индивидуализма, который коренится в метафизике всего исторического христианства. Религиозный индивидуализм утверждает религию как «частное дело» (Privat Sache) и отрицает ее как дело общее, «соборное», «церковное». Но все историческое христианство от религиозного индивидуализма беззащитно. «Евангелие, воспринятое только личностью, не вошло в общественную жизнь народов». Метафизическое существо церкви — существо, отрешенное от мира, аскетическое, монашеское, созерцательное. «Церкви деятельной вовсе не было».
Каково нынешнее состояние церкви? Чем она влияет на людские дела, на общественность, на политику, на великие движения народов? «Народы страдали, народы шли крестным путем, народы приобщились к тайнам и надеждам, которых церковь не может разделить, не может понять». Церковь остановилась, а человечество продолжало идти вперед. «Более чем когда-либо нуждалось оно в помощи свыше; но напрасно искало ее в церкви: она не могла ее дать, потому что сама лишилась ее, перестала сообщаться с небом».
Никогда еще народы не были так одиноки, покинуты, духовно разрознены, как в наши дни. Доныне союзы народов и государств основывались только на внешних, материальных выгодах. Но всегда ли будет так? В личной жизни соединяет людей внутренняя правда духовная. И если человечество не отречется от христианства окончательно, не исторгнет его из души своей, то и народы будут призваны к соединению, основанному на той же правде внутренней. А так как церковь остается бездейственной или даже противится этому призванию, то сами народы исполнят его. Христианство, образовав частичные союзы, отдельные государства, должно сделать новое усилие, чтобы соединить их в высший союз всечеловеческий.
Но для этого усилья должно совершиться в самом христианстве «новое откровение» (nouvelle revélation), «новый взрыв Слова» (nouvelle explosion du Verbe), — «третий взрыв», тот самый, который предсказан в Апокалипсисе. Было два откровения — Отца и Сына, будет третье откровение Духа.
«Бесчисленные легионы воинов Христовых идут в Рим и пройдут через Рим и оружием своим поддержат падающий купол Св. Петра… Это оружие — дух народов… Великие народы и великие люди Европы никогда не переставали служить грядущей Церкви Вселенской».
Все, кто отвергнут старой церковью, кто страдает и ожидает, суть воины Христовы, которых Он призовет, чтобы установить царство Свое на земле. Политические мученики, солдаты, умирающие на полях сражений, — ближе ко Христу, чем все богословы и сановники церкви.
В народе таится семя Церкви Будущей; но всякой преждевременной, только человеческой попытке сдвинуть его народ неодолимо противится. «Мир ожидает в безмолвии знамения свыше; это такое же безмолвие, как то, которое было на Голгофе, в час распятия».
Славянское племя — «Кариатида» всемирной истории, несущая все ее тяжести. «Умирающий гладиатор», вечная жертва — из всех «распятых народов» распятый по преимуществу. «Неизмерим на карте — ничтожен в судьбах мира». Но особый знак на нем — знак ожидания. И если все другие народы предчувствуют всемирный переворот, то у славян предчувствие это сильнее, чем у кого-либо.
Западная Европа вообще и Франция в особенности приняла или хотела принять христианство как действие и, приняв его, тотчас же приложила к вопросам общественным. Вот почему дух Франции — дух революционный по преимуществу. Славяне, приняв христианство как созерцание, умели только страдать и терпеть.
За эту религиозную бездейственность казнили их сначала татары, потом русская историческая государственность, которая говорила народу: «Будь распят, терпи и смиряйся, как терпел и смирялся Христос, — и спасешь душу свою».
Но кто страдал от христианства созерцательного больше всех, тот раньше всех поймет, что оно неполно. «Славяне должны восполнить христианство; они призваны к откровениям последующим» (révélations successives). И если вообще христианству суждено зажечь «пламя действенное» (flamme active), то славяне должны распространить это пламя в человечестве, сделаться орудием для «христианства развивающегося» (christianisme développé).
Славяне — «словене» — народ Слова, ставшего Плотью. С них-то и начнется «третий взрыв» Слова — Апокалипсис, откровение Духа.
Почему же польский народ ближе всех других славянских народов к истине? Потому что есть один только путь к истине — путь крестный, а что польский народ шел самым крестным из крестных путей — в этом нет сомнения.
После падения Польши дух ее сосредоточился в самом себе с такою силою, что не было ей равной со времен политического падения Израиля. Восходя от скорби к скорби, польский народ соединился с Богом своим, который был на земле «человеком скорбей». Почти ничего на земле не имеющий, расчлененный, стертый с карты Европы, изгнанный, блуждающий, он сделался «народом Божьим», «новым Израилем».
Польша — искупительная жертва за все человечество, «распятый народ».
Что же такое в последнем счете эти два племени — славянское и латинское — самое религиозно-страдательное и самое религиозно-деятельное? «Два полюса единой силы, две руки единого гения». Две руки титана Прометея, которые соединяются, чтобы обнять и одолеть в последней борьбе Эпиметея, двойника и «обезьяну» человечества. Это и значит: племена славянское и англо-романское соединяются для борьбы с германским племенем.
«Гению Франции, гению всех, кто не усомнился и не отчаялся в будущем, мы обещаем, что в славянах найдут они поддержку, помощь и орудие. Пусть же смотрят они на славян, как на воинство того Слова, которым создается новый порядок вещей». «Мы, славяне, ничего не сделаем без Франции (без европейского Запада). Но и Франция (Запад) ничего не сделает без Христа. Наш союз может быть основан только на Христе».
Так при свете этой пророческой книги, как при внезапном блеске молнии, открывается религиозный смысл великой войны. Эта война есть казнь за два отступления от Христа: за религиозный индивидуализм с его пределом — «человекобожеством» и за религиозный национализм с его пределом — «народобожеством».
Как силен соблазн этих двух отступлений, видно на догматических ошибках самого Мицкевича. То единый народ (Польшу), то единую личность (Наполеона, Товянского) делает он, или едва не делает, новым воплощением, богоявлением Духа. Но если первое богоявление — Отчее — совершалось в едином народе (Израиле), второе — Сыновнее — в единой личности (Христе), то третье богоявление — Духа — совершится уже не в народе и не в личности, а в человечестве.
Муки великой войны — муки великих родов: ныне человечество рождается. И если родится живой младенец, а не мертвый выкидыш, то человечество будет Богочеловечеством.
Книга Мицкевича обращена не только к Европе, но и к России. Он сознает «ожесточенную борьбу двух непримиримых идей — русской и польской». Между 1830 и 1848 годом эта непримиримость была слишком ясна. И все-таки: «Мы, поляки, не питаем ненависти к России». Дорого стоили Мицкевичу эти слова. <…>
«Оба народа действовали в противоположных направлениях; но есть высшая точка, в которой они могут соединиться». Эта высшая точка — славянство как явление религиозно-всемирное.
Как бы ни страдал русский народ, польский все-таки страдает больше, и если страдание — источник познания, то и больше знает: нам есть чему у него поучиться.
Истинный пророк славянства как явления религиозно-всемирного — не Л. Толстой и Достоевский, а Мицкевич.
У Л. Толстого вместо религиозного утверждения и преодоления — голое отрицание народности; «международность», «космополитизм» — вместо всемирности.
У Достоевского — всемирность двусмысленная: быть русским значит быть «всечеловеком»; но и обратно: быть «всечеловеком» значит быть русским. И если «не будучи православным нельзя быть русским», то нельзя быть и «всечеловеком», потому что православие, по Достоевскому, уже христианство вселенское, а следовательно, все церкви и все народы только отрекшись от самих себя могут приобщиться к православной русской «вселенскости». Но ведь, пожалуй, и германцы от такого «всечеловечества» не отказались бы. «Панславизм» Достоевского так же, как всех русских славянофилов, — «пангерманизм», перелицованный, переведенный на русский язык.
Мицкевич понял то, чего не понимал Л. Толстой, — что всемирность не «космополитизм», не голое отрицание, а высшее религиозное утверждение и преодоление народности. Понял и то, чего не понимал Достоевский, — что историческое христианство еще не вселенское, что необходим новый «третий взрыв Слова», «откровение Духа» для Церкви Грядущей, основы «всечеловечества».
Поразительно сходство главной религиозной мысли Мицкевича с так называемым русским «богоискательством». Тут, однако, нет заимствований: русские «богоискатели» так же мало знали о Мицкевиче, как он — о них. Тут встреча нежданная: с разных концов мира, по тем же звездам, пришли они в ту же страну.
«Настанет день, о, народы Европы, когда каждая из мыслей ваших откроется, как открывается глаз, и когда все ваши мысли прикуются навеки к кровавому образу Народа Распятого».
Много сейчас распятых народов. Но только тогда, когда все они соединятся в одно распятое человечество, оно воскреснет так же, как Распятый Человек воскрес.
ПОЭТ ВЕЧНОЙ ЖЕНСТВЕННОСТИ
Тургенев забыт, не нужен, ничтожен по сравнению с Л. Толстым и Достоевским. Такова еще робкая, не сказанная, но уже у многих шевелящаяся мысль.
Так ли это? Не вспомним ли мы о Тургеневе? Не вернемся ли к нему?
Может быть, не простая случайность, что именно в наши дни, столь не тургеневские, вышла замечательная книга о Тургеневе («Сборник», изд. «Тургеневским кружком» слушательниц пет-ских Высших женских курсов, под руководством Н. К. Пиксанова: «Новые страницы, неизданная переписка, воспоминания, библиография»).
«Мы ленивы и нелюбопытны». За треть столетия какими только пустяками не занимались, а мимо такого явления русского духа, как Тургенев, прошли без внимания: ни одного научного исследования, критического издания, исчерпывающей биографии, ни даже полного собрания писем. Мы проглядели Тургенева. Скоро умрут все, кто видел живое лицо его, и мы почти ничего не узнали от них. А что мы знаем о писателе? Кое-что сказано о Л. Толстом и Достоевском, а о Тургеневе, кроме общих мест, ничего. Да, мы ленивы и нелюбопытны.
Но вот наконец этот «Сборник».
Может быть, не простая случайность и то, что именно женские руки впервые с любовью коснулись певца женщин по преимуществу.
Но тут произошло что-то странное, почти жуткое: любящие женские руки, совлекая нечаянно саван, чистый покров забвения, открыли наготу покойника.
— Что они со мной делают! — ужаснулся бы живой Тургенев, если бы увидел себя в таком обнажении.
Но если бы увидел и то, как мы смотрим на него, обнаженного, то, может быть, понял бы, что ужасаться нечему, что не мертвый саван славы или забвения (они так схожи), а живая любовь наша к нему покрывает его наготу.
Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит. Тургенев в этой книге даже не черненький, а серенький, как та уродливая куколка, пустая кожица, из которой вылетела бабочка. Там, в его созданиях, или где-то над ними, бьются белые крылья бессмертной Психеи, а здесь только ее оболочка смертная.
И неужели этот серенький, маленький — он? Да, он. Чему мы удивляемся? Или не знаем, что такова судьба поэта, что «меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он»?
«Он мал, как мы; он мерзок, как мы». Нет, будем помнить, что «он мал и мерзок не так, как мы, — иначе»; глядя на куколку, будем помнить о бабочке.
Кое-что мы и раньше слышали о человеческой малости Тургенева.
«Тургенев занимал меня разговором о своей поездке за границу и однажды рассказал о пожаре на пароходе, на котором он ехал из Штетина, причем, не потеряв присутствия духа, успокаивал плачущих женщин и ободрял их мужей, обезумевших от паники… Я уже слышала об этой катастрофе от одного знакомого, который тоже был пассажиром на этом пароходе; между прочим, знакомый рассказал мне, как один молоденький пассажир был наказан капитаном парохода за то, что он, когда спустили лодку, чтобы первых свезти с горевшего парохода женщин и детей, толкал их, желая сесть раньше всех в лодку, причем жалобно восклицал:
— Mourir si jeune!
Этот пассажир оказался Тургеневым» («Воспоминания» А. Я. Головачевой-Панаевой, 1824–1870).
Мы слышали об этом и не поверили. Но вот после письма Варвары Петровны Тургеневой, матери Ивана Сергеевича, напечатанного в «Сборнике», уже нельзя не верить.
«Почему могли заметить на пароходе одни твои ламентации?.. Слухи всюду доходят! — и мне уже многие говорили к большому моему неудовольствию… Се gros monsieur Tourguéneff qui se lamentait tant, qui disait mourir si jeune… Какая-то Толстая… Голицына… И еще, и еще… Там дамы были, матери семейств. Почему же о тебе рассказывают? Что ты gros monsieur — не твоя вина. Но ты трусил, когда другие в тогдашнем страхе могли заметить… Это оставило на тебе пятно ежели не бесчестное, то ридикюльное».
Кто знает себя в смертном страхе? Кто посмеет судить другого в этом страхе? Не то скверно, что Тургенев испугался до потери сознания, а то, что он потом лгал так бессовестно.
«— Когда вы, Тургенев, перестанете быть Хлестаковым? Это возмутительно… Стыдно и больно мне за вас! — упрекал его Белинский» (Головачева-Панаева).
Не лучше история с «Фетисткою», дворовою девушкою, горничной одной из дальних родственниц Тургенева. Влюбившись в эту девушку до того, что, как потом сам признавался, «готов был броситься к ее ногам и покрыть ее башмаки поцелуями», он выторговал ее у хозяйки за 700 рублей (цена неимоверная — девки продавались тогда рублей по 25, 30 и не шли далее 50), сделал ее своей возлюбленной, а когда она ему наскучила, выдал ее за маленького петербургского чиновника. Но через двенадцать лет Фетистка тайком от мужа пробралась в Спасское, чтоб только «посмотреть на своего барина». Он поиграл с ней, а она отдала ему свою душу. Тогда же, после свидания с ней, Тургенев писал своему другу И. И. Маслову:
«Отъезжав от меня в 53 г., она была беременна, и у ней в Москве родился сын Иван, которого она отдала в воспитательный дом. Я имею достаточные причины предполагать, что этот сын не от меня; однако с уверенностью ручаться за это не могу. Он, пожалуй, может быть мое произведение. Иван попал в деревню к мужику, которому был отдан на прокормление… Голова у этой Феоктисты слабая… Если этот Иван жив и отыщется, то я б готов был поместить его в ремесленную школу — и платить за него… Муж ни о чем не знает — вернее, он очень смирный и порядочный человек».
Тут опять не то самое скверное, что «печальник народной доли» и певец женской прелести поступает с женщиной как с рабою и с живым человеком как с вещью, а то, что совесть его при этом так спокойна. «Я готов платить». Чего же более? Все просто, все ясно. Холодная ясность ума, холодная сухость сердца.
«Ты эгоист изо всех эгоистов. Пророчу тебе — ты не будешь любим женою. Ты не умеешь любить, т. е. ты будешь любить не жену, не женщину, а свое удовольствие».
Это пророчество матери только отчасти исполнилось: он действительно не был любим, но любил — и не «свое удовольствие». Очаровательная женщина «с некрасивым длинным желтым лицом, с крупною нижнею челюстью, как у лошади» и с очень крепкой головой, г-жа Виардо отомстила ему за Фетисткину «слабую голову».
«Если бы она была ваша законная дочь, вы бы ее иначе воспитывали», — заметил Л. Н. Толстой, когда Тургенев начал хвастать перед ним воспитанием своей незаконной дочери. «Тут уж я света не взвидел, сказал ему что-то вроде того, что размозжу ему голову, хлопнул дверью и выбежал вон из комнаты».
Толстой послал Тургеневу вызов, но потом извинился. «Он писал, что сознает себя кругом виноватым, но что, хотя он понимает, насколько его чувство дурно, непростительно, он не может себя побороть, что он меня ненавидит, что встречаться со мной не в состоянии, от дуэли же он отказывается и просит простить его… С тех пор мы с ним не видались» («Сборник». Н. А. Островская, «Воспоминания»).
Ненавидят друг друга, а почему, за что — не знают; знают только, что им нельзя встречаться, дышать одним воздухом, быть в одном мире: бытие одного исключает бытие другого. Это ненависть порядка нездешнего, трансцендентного. Не только ненавидят друг друга физически, как две стихии — огонь и вода, но отрицают метафизически, как две антиномии.
Тургенев так до конца и не понял Толстого. Когда умолял его в последнем предсмертном письме (1883) «вернуться к литературной деятельности», он понимал его, может быть, меньше, чем когда хотел «размозжить ему голову». Совет Толстому вернуться к литературе — все равно что совет реке, впадающей в море, вернуться к источнику или яблоне, отягченной плодами, опять зацвести по-весеннему: хорошо, что Толстой не послушался и дал нам все, что мог дать, — и цвет, и плод.
Достоевского Тургенев также не понял — отрицал и ненавидел метафизически. Что Достоевский просто «сумасшедший», он «нисколько не сомневается» (Полонскому, 1871). «Я заглянул было в этот хаос; Боже, что за кислятина, и больничная вонь, и никому не нужное бормотанье, и психологическое ковырянье» (Салтыкову, 1875). Сравнивает его с маркизом де Садом. «И как подумаешь, что по этом нашем де Саде все российские архиереи совершали панихиды и даже предики читали о вселюбви этого всечеловека» (Салтыкову, 1882).
Не понимает великих русских писателей, потому что не понимает в самой России чего-то главного.
«Я больше надеюсь на Францию, чем на Россию, где с каждым днем… расплывается какой-то мерзкий кисель» (Салтыкову, 1876). «Все это (русское) возбудило во мне чувство гадливости, доходящее до омерзения» (кн. А. И. Урусову, 1880). «Остается только краснеть за себя, за свою родину, свой народ — и молчать» (Е. Я. Колбасину, 1882).
Измена родине, измена матери (она его любит: «Моя жизнь от тебя зависит… как нитка в иголке: куда иголка, туда и нитка», — а он ее отталкивает), измена другу (Некрасову: он оскорбляет его, как только человек может оскорбить человека), измена женщине, измена себе самому — своему слову, последней святыне поэта. Никакой твердости, крепости, потому что никакой воли. «Содержание без воли», как он сам себя определяет, вместе со всем своим поколением, людьми 40-х годов. Содержание без воли — тело без костей. «Я оказался расплывчатым». «Я несчастнейший человек… Меня надо высечь за мой слабый характер!» Да, слабый, мягкий, жидкий, текучий, изменчивый, волнообразный, как стихия водная — стихия женская.
Таким «уродился», ибо это, конечно, «уродство» — уродство гения. Гений — внутри себя — высший лад, строй, чудо гармонии, а извне — уродство, чудовищность, односторонность, однобокость, роскошь в одном и нищета во всем остальном. Гений, как евангельский купец, продает все свое имение, чтобы купить одну жемчужину. Такая жемчужина Тургенева — вечная женственность.
Всей мужественной половины мира он почти не видит, зато женственную видит так, как никто.
Тут уже нет противоречия между человеком и художником, куколкой и бабочкой. Тут вершины духа связаны с корнями плоти и крови.
«Ma chère fille, ma Jeannette!.. О, точно, точно. Vous êtes ma favorite. Тс… ради Бога, чтобы этого кто не услышал!» (В. П. Тургенева, 1838).
Никто не должен слышать об этом, потому что это — физиологически тайное, скрытое, стыдное, то, чего нельзя обнажать, как наготу пола.
Душа женщины — в теле мужчины. В седом старике-исполине, Иване Сергеевиче Тургеневе, — маленькая Жанетта, четырнадцатилетняя девочка.
У него «тоненький голос, что очень поражает при таком большом росте и плотном телосложении» (Головачева-Панаева). Этим смешным тоненьким «бабьим» голосом плакал он: «Mourir si jeune!» — но им же спел песнь, которой мир не забудет, — «Песнь торжествующей любви», гимн Вечной Женственности.
Женственное прекрасно в женщине, а в мужчине кажется «бабьим», слабым, лживым, предательским, подлым — тем, за что порой «убить мало».
Он «свой брат» женщинам, и они это чувствуют и влекутся к нему, но до известной черты: он слишком соответствен, параллелен женщине, чтобы пересечься с нею в одной точке, соединиться окончательно: близок, неразлучен, но несоединим, неслиянен. Отсюда безнадежная любовь его к Виардо, такая смешная, «ридикюльная» и страшная. Тут великая мука, великая правда и совесть Тургенева, но тоже особая, женская.
Это в жизни — это и в творчестве.
Естество женское, от века безгласное, едва ли не впервые нашло свой голос в Тургеневе. Может быть, не только в русской, но и во всемирной поэзии нечто небывалое, единственное — тургеневские женщины и девушки.
Шекспир в Дездемону, Гёте в Гретхен, Пушкин в Татьяну проникают проникновением художественным, т. е. все-таки внешним, мужским; Тургеневу не нужно проникать в женщину извне: он видит ее изнутри. Это не о женщине — это сама женщина.
Кажется иногда, что и на своих героев-мужчин (вечных женихов и любовников) он смотрит глазами женскими, влюблен в них, как женщина.
Если верить Якову Беме,[18] Шеллингу[19] и другим великим мистикам, существо природы — женское, «Душа Мира». Не потому ли Тургенев не изображает, не «описывает» природы, как другие поэты, что видит ее не извне, а изнутри, как женщину? Не он о ней говорит, а она сама о себе — через него. У других — любовь, у него — влюбленность в природу.
Есть два полюса в вечно-женственном: любовь-материнство и влюбленность-девственность. Их соединение — в мире божественных сущностей — в Деве-Матери, а в мире явлений эти два начала противоборствуют друг другу.
Шопенгауэр[20] ошибается, когда смешивает половую чувственность как «волю к продолжению рода» с влюбленностью: влюбленность есть воля не к роду, а к личности. Тут антиномия пола неразрешимая: бесконечность рода — конец, смерть личности, и наоборот, бессмертие личности — конец рода. Ведь только потому и нужна смена родов, поколений во времени, что совершение личности отменяется, переносится из рода в род.
Кратчайший и высший миг влюбленности есть утверждение абсолютной личности в поле. Влюбленность хочет брака, соединения любящих, но иного брака, иного соединения, чем то, которое может дать обладание телесное, и только изнемогая, изменяя себе, падает в брак. «Счастливый брак» — конец влюбленности.
Влюбленность есть «нечаянная радость», неземная тайна земли, воспоминание души о том, что было с ней до рождения.
И долго на свете томилась она, Желанием чудным полна; И звуков небес заменить не могли Ей скучные песни земли.Что небесный звук влюбленности незаменим скучною песнею брака — Тургенев знает, как никто.
Лицо человека — серая куколка, смертная личинка бессмертной бабочки — личности: надо умереть лицу, чтобы родилась личность. Вот почему у Тургенева погибают все влюбленные.
Мы из рода бедных Азра, — Полюбив, мы умираем.Вот почему «первая любовь» — последняя. Любовь требует чуда, но не может быть чуда в порядке естественном; не может быть брака, утоления, достижения любви здесь на земле. И вот почему «песнь торжествующей любви» — песнь торжествующей смерти, но и бессмертия — «песнь песней», та «музыка сфер», которой «движутся солнце и другие звезды» (l'amor che muove il sol e 1'altre stelle).
Христианство есть откровение личности по преимуществу. И утверждение личности в поле — влюбленность, родилась вместе с христианством (платоновский «Эрос» — лишь смутное предчувствие христианства в самом язычестве).
Христианская любовь есть влюбленность в своем высшем, неземном пределе — преображение пола в той же мере, как преображение личности. Бесполая «братская» любовь — ущерб, угасание любви Христовой, а полнота ее, огненность — брачная: царствие Божие — «брачная вечеря», и входящие в него — «сыны чертога брачного».
«Я преимущественно реалист… ко всему сверхъестественному отношусь равнодушно, ни в какие абсолюты не верю», — говорит Тургенев (М. А. Милютиной, 1875). Так в сознании, но не так в воле, в творчестве: тут проникает он в такие глубины религиозного духа народного («Живые мощи»), в какие, может быть, не проникали ни Л. Толстой, ни Достоевский, ибо из этих глубин и возникает творческая мысль Тургенева — вечная женственность.
В человечестве — обществе, так же как в человеке — личности, борются два начала — мужское и женское. Их сочетание — благо, их разделение — зло. Мужское без женского — сила без любви, война без мира, огонь без влаги — самум сжигающий.
Такой самум уже пронесся раз над человечеством: дряхлое мужество Рима, юное мужество варваров едва не погубили мир. Тогда-то спасла его Вечная Женственность. Неземное видение посетило «бедного рыцаря».
Полон чистою любовью, Верен сладостной мечте, A. M. D. своею кровью Начертал он на щите.Начало новых времен — возрождение древнего римского и юного варварского мужества. Если душа средних веков созерцательная, страдательная, женственная, то душа современности — волевая, деятельная, мужественная: рационализм, победа «чистого разума» в науке, философии, религии, во всем культурном и общественном строительстве—победа мужского начала.
Но вот опять, как тогда, мужское без женского становится злым; опять сила без любви, война без мира, огонь без влаги — самум сжигающий; опять гибнет мир от мужества.
Не должна ли опять спасти его Вечная Женственность?
Германо-романский Запад мужествен, славяно-русский Восток женствен. Мы знаем о мире то, чего другие народы не знают, — что мир есть мир — не война и ненависть, а вечная любовь, вечная женственность?
Но истинная женственность требует мужества. Мужество есть и у нас: тайная женственность — явное мужество.
От Петра и Пушкина (потому что Пушкин — певец Петра по преимуществу) к Толстому и Достоевскому — титанам русской воли и русского разума — идет линия нашего мужества, явная, дневная; а ночная, тайная линия женственности — от Лермонтова к Тургеневу: от Лермонтова, певца Небесной Девы Матери («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), через Тютчева, певца земной Возлюбленной («Ты, ты — мое земное Провидение…»), и Некрасова, певца земной Матери, — к Тургеневу, уже не только русскому, но и всемирному поэту Вечной Женственности. И, может быть, далее — от прошлого к будущему — от Тургенева-поэта к Вл. Соловьеву-пророку, а от него и к нам.
Знайте же: вечная женственность ныне В теле нетленном на землю идет. В свете немеркнущем новой богини Небо слилося с пучиною вод… Гордые черти, вы все же мужчины, — С женщиной спорить не честь для мужей. Ну, хоть бы только для этой причины, Милые черти, сдавайтесь скорей!Нет, еще не так скоро сдадутся, но все же сдадутся когда-нибудь; исполнится когда-нибудь пророчество: Семя жены сотрет главу змия.
В наши дни, дни мужества неправого и невечного, дни вражды не человеческой и даже не зверской, а дьявольской, не пора ли нам вспомнить о вечной любви, о вечной женственности?
Ее певец забытый — Тургенев. Если мы вспомним о ней, то и о нем.
Да, мы еще вернемся к Тургеневу.
ЕЩЕ ШАГ ГРЯДУЩЕГО ХАМА
Уйди от скандала. И если даже услышишь: «Караул! Помогите!» — уйди. Это не жертва скандала кричит, а он сам. Уйди молча: для него единственная казнь — молчание.
Футуризм — скандал. Надо молча уйти от него. Если же говорить, то не о нем самом, а о тех причинах, которые заставляют о нем говорить.
Какие, в самом деле, причины, что мы попали в скандал футуризма?
Всемирное невежество газетной критики — одна из главных, а также особенная русская рыхлость, мягкотелость, податливость. Все на все готовы, и никто ничего не хочет, а футуристы как будто хотят чего-то.
Вот почему нигде скандал футуризма не разразился с такой непристойностью, как у нас, в России. Кстати же совпал он и с внезапно охватившей нас жаждою лекций, прений, диспутов. Как будто вся Россия сейчас — оружейная палата, где стучат молоты, новое оружие куют, новую идеологию. Ну, а что, если только языки стучат, а не молоты? Футуризм, кубизм, акмеизм, символизм, реализм — какое-то бешенство «измов», кликушество. Достаточно первому шуту гороховому взойти на кафедру с лакейской развязностью, чтобы все рты разинули, уши развесили. «Ах, футуризм! Ах, кубизм! Ах, Маринетти!»[21] Валом валят, жмутся, теснятся, как овцы без пастыря.
Пришел табор дикарей, шайка хулиганов, — скандалит, бесчинствует, — и все покоряются, подымают «руки вверх», как сидельцы в лавке, которую грабят экспроприаторы.
«Мы хотим прославить пощечину и удар кулака…войну, милитаризм, патриотизм, разрушительный жест анархистов… многоголосые бури революции… презрение к женщине… Мы хотим истребить музеи, библиотеки… Пусть же придут поджигатели с почерневшими пальцами!.. Вот они! Вот они! Подожгите же полки библиотек!.. Возьмитесь за лопаты и молоты! Сройте основания славных городов!» («Манифест о футуризме». 1909).
Если это не бесстыдная реклама, не «всеоглушающий звук надувательства», то просто ахинея, ибо нельзя же соединять патриотизм и милитаризм с анархизмом, пощечину и удар кулака с откровением новой истины.
Казалось бы, так. Но вот оказывается, что «вся наша эпоха под знаком футуризма»; что это — «возрождение культурных ценностей»; что «бессознательная религиозность, несомненно, кроется в футуризме»; что «мы еще услышим от него новое слово» («Футуризм», Генрих Тастевен.[22] Москва, 1914).
Неизвестному критику весь этот вздор, пожалуй, извинителен. Но вот и просвещеннейший Петр Бернгардович Струве[23] и академичнейший Валерий Брюсов — туда же! В «Русской Мысли», в этом доме, от всех «бесов» очищенном, выметенном и убранном, развели они футуристскую нечисть и теперь сами не знают, как с ней справиться.
Бедный Брюсов! Он ли не хранил святого огня на алтаре искусства? И вот, когда святотатцы говорят ему: «надо плевать на алтарь искусства», — Брюсову возразить нечего. Он ли не берег «великий русский язык»? И вот, когда дикари или сумасшедшие превратили этот язык в нечленораздельный рев звериный, — Брюсову опять-таки возразить нечего. Он пас футуристов, как пастух пасет овец; но овцы оказались волками, и волки съедят пастуха.
Что такое футуризм? Утверждение будущего. Это не ново, ибо кто не утверждал и не утверждает будущего? Новизна футуризма начинается там, где утверждение будущего переходит в отрицание прошлого: чтобы создать то, что будет, надо уничтожить то, что было.
Такое противуположение будущего прошлому отрицает вечное, ибо вечное соединяет прошлое с будущим: все, что было, и все, что будет, есть в вечности.
Футуризм — мнимое утверждение будущего, действительное утверждение настоящего, т. е. ближайшего прошлого и ближайшего будущего, действительное отрицание вечного, т. е. отдаленнейшего будущего.
Футуризм — благословение сегодняшнего дня, поклонение существующему порядку вещей, «образу мира сего, преходящему», — как вечному.
Да не будет того, что было; да не будет того, что будет, — да будет то, что есть. Футуризм называет себя «футуризмом» (от futurum — будущее), чтобы скрыть главную сущность свою — отрицание будущего.
Душа настоящего — позитивизм, как миросозерцание не научное, а религиозное (конечно, беззаконно и бессознательно религиозное). Но ведь это и душа футуризма: обесценить все религиозные ценности, уничтожить самое «чувство потустороннего» — главный завет его, и едва ли не единственный — единственная правда, подлинность, искренность, а все остальное — ложь, реклама, «всеоглушающий звук надувательства».
Футуризм — позитивизм, слегка подновленный, подкрашенный, перелицованный.
«Позитивизм — миросозерцание механическое». И тут опять у футуризма и позитивизма сущность одна.
«После царства животного вот начинается царство механики… Весь мир управляется, как огромная спираль Румкорфа… Разум царствует везде». Это с одной стороны, а с другой: «Поэты-футуристы! Я научил вас ненавидеть библиотеки и музеи. Это для того, чтобы приготовить вас ненавидеть разум, пробудить в вас божественную интуицию». Разум отрицается, разум утверждается. Опять бессмыслица. В уничтожении библиотек ни при чем разум; в спирали Румкорфа ни при чем интуиция.
Футуризм есть утверждение даже не механики, а «машинности», т. е. бездушности. Убийство Психеи, «души мира», «вечной женственности». Вот откуда «презрение к женщине», «обесценение любви». Естественное зачатие, материнство не нужно, — его заменяет «размножение человека механическим путем».
Человек мечтал царить над природой посредством механики. Но вот мнимый царь становится рабом своих рабов. Футуризм — рабья песнь машине, владычице мира.
Органическое медленно, и чем совершеннее, тем медленнее; механическое быстро, и чем совершеннее, тем быстрее. Быстрота — красота машины. «Мы, футуристы, возвещаем, что мир обогатился новой красотою — красотою скорости».
Но момент скорости только один из моментов, определяющих движение, даже с точки зрения механики: медленный ход колеса под нагруженной повозкой требует большей силы, чем быстрое вращение того же колеса в воздухе.
Это в порядке физическом, а в духовном — тем более. Тихое движение губ в улыбке Джиоконды значительнее, чем громовое движение локомотива или мотора. В механике целой планетной системы нет ничего подобного движению ростка из семени.
Чтобы понять смысл движения, надо знать не только как скоро, но и что и куда движется.
Футуризм этого не хочет знать; ему все равно, что и куда, только бы скорее двигалось: стремглав — никуда. Мы скоро движемся но может быть, это скорость камня, летящего в пропасть, или сумасшедшего, который из окна выпрыгнул.
Может быть, движение наше на одном и том же месте, как белки в колесе, — неподвижность в движении. Китаец или Обломов на аэроплане — тот же китаец и тот же Обломов. И свинья, летящая в лазури небесной, — та же свинья.
Новый материализм движения ничем не лучше старого материализма материи. «Автомобиль прекраснее, чем статуя Победы Самофракии». Для кого? Для готтентота. Футурист—готтентот, голый дикарь в котелке.
Да, возможна одичалость в культуре. Духовное влияние техники преувеличено. Человек страшно мало меняется. «Смертный» остается смертным, т. е. животным, познавшим смерть, в свете электричества, так же как в свете первого огня «деревянного». Смерть непобедима никакою техникой. Знание смерти для смертного больше всех знаний.
Вглядитесь в человеческие лица, мелькающие в современных толпах больших городов: какое озверение! Одинокий на улице Парижа или Лондона как троглодит в пещере. Горилла, лесная зверушка, с телеграфами, телефонами, аэропланами и броненосцами.
Образцы одичалых культур — Вавилон, Ассирия, Рим упадка. Сущность подлинных культур — единомыслие, единодушие: все — одно; одно — во всех; сущность культур одичалых — разъединение, уединение: каждый один; индивидуализм торжествующий.
Еще недавно томились мы в одиночестве: Желал бы я не быть Валерий Брюсов…Теперь уже не томимся, а торжествуем:
Я — гений, Игорь Северянин, Своей победой упоен…Футуризм — индивидуализм торжествующий, индивидуализм без трагедии. Глубины бытия трагичны. Отказ от трагедии — отказ от глубин, утверждение плоскости, пошлости, «лакееобразности».
«Нет, никогда я не был таким лакеем», — мог бы сказать современный человек футуризму.
История — движение во времени. Время глубже пространства. Тело движется в пространстве, дух — во времени; в пространстве есть то, что есть; во времени — и то, что было, и то, что будет. Футуризм отрицает движение во времени, историю, потому что отрицает глубины, утверждает плоскость.
Недавно в Японии возникла новая торговля углем, добытым из человеческих костей на полях Маньчжурии, «по 92 коп. за 100 цин». Кости перерабатываются в порох и в виде разрывных снарядов вылетают из жерла пушек. «Слава неукротимому пеплу человека, который оживает внутри пушек! — восклицает Маринетти. — Скорее: чтобы расчистить пути, упрячьте дорогих покойников в жерла пушек!»
Дикари пожирают своих престарелых родителей. Надругательство над прошлым, отрицание истории — сущность дикарства — сущность футуризма.
«Бояться людей — значит их баловать». И сердиться на них — значит их баловать. Не стоит футуризма бояться, не стоит на него сердиться. Сегодня он есть, а завтра нет, пройдет, забудется и не вспомнится. Упадет и эта волна современности, как все остальные падали. Но отразилось в ней то, что во всех отражается.
Словно тяжкие ресницы Разверзалися порою, И сквозь беглые зарницы Чьи-то грозные зеницы Загорались над землею…Зеницы «Зверя». «Зверя нужно поставить образцом», — объявляет футуризм. Да, если не к Богу, то к Зверю, потому что человек — равновесие неустойчивое между Богом и Зверем.
Самого Зверя мы еще не видим — видим только его отражение в волнах современности. Волна за волной набегает и падает, а отражение остается; значит, есть то, что отражается, — лик Зверя.
«Кто подобен Зверю сему и кто может сразиться с ним?» Сами футуристы меньше всего думают об этом пророчестве, тем изумительнее точнейшее совпадение признаков.
Силу электричества как «единственную мать будущего человечества», «ослепительное царство божественного электричества» — славит футуризм. Электричество — огонь грозовой, низведенный с неба на землю. Но вот и Зверь Апокалипсиса «творит великие знамения, так что и огонь низводит на землю с неба».
«Мы готовим создание механического человека», — объявляет футуризм. Механический человек — автомат — «образ Зверя», ибо «Зверя нужно поставить образцом» человеку. Но вот и Зверь Апокалипсиса «обольщает живущих на земле, чтобы они сделали образ Зверя. И дано ему вложить дух в образ Зверя, чтобы образ Зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу Зверя». От Бога — к Зверю, от Зверя — к Автомату, механизму бездушному — таков путь нисхождения, футуризмом начатый, но не им предсказанный.
Им же начато, но не им предсказано соединение «Блудницы» со «Зверем», сладострастия с жестокостью. «Разврат есть сила… Надо обнажить похоть от всех покровов… Женщины, вернитесь к жестокости, с остервенением нападайте на побежденных только потому, что они побежденные, — уродуйте их… Та, которая слезами удерживает мужчину у своих ног, — ниже проститутки, которая побуждает своего любовника удерживать посредством револьвера господство над подонками города». Это говорит футуристическая женщина. «Блудница со Зверем» — проститутка с хулиганом: «На челе ее написано имя: тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Вавилон — великий город современности, где царствует проституция, обнаженная в ослепительном свете «божественного электричества», «упоенная кровью святых, облеченная в порфиру и багряницу, украшенная золотом, драгоценными камнями и жемчугом», т. е. всеми «культурными ценностями». Что это — видение или реальнейшая действительность?
Да, футуризм в искусстве ничтожен, но в жизни страшно значителен. Это действительное откровение будущего, хотя и не в том смысле, как сам он думает, — «апокалипсис» обратный и нечаянный.
Футуризм похож на будущее, как щенок на зверя, червь на дракона: еще бессильный, беззубый, бескрылый, но те места уже чешутся, где вырастут зубы и крылья. Зловеще стрекочущий звук пропеллера, звук стальных «драконьих» крыл — песнь футуризма — действительная музыка будущего.
«Апокалипсический анекдот!» — хихикает просвещеннейший Петр Бернгардович Струве. Но не менее просвещенный Карлейль[24] не хихикает: «Вы непрестанно подвигаетесь к концу земли, — говорит он со страшной серьезностью, — вы в буквальном смысле завершаете путь, шаг за шагом, пока, наконец, не очутитесь на краю земли; пока не сделаете последнего шага уже не над землею, но в воздухе, над глубинами океана и клокочущими безднами. Или, может быть, закон тяготения перестал действовать?» («Past and Present», III, 2).
Чувство «конца» — единственное подлинное чувство футуризма, хотя он и сам не понимает его, как следует.
«Мы — на крайней оконечности столетий… Пространство и время умерли вчера, — мы уже живем в абсолютном… Стоя на вершине мира, мы бросаем вызов звездам!» — восклицает футуризм с хлестаковской развязностью. Смешон «Хлестаков, залетевший в надзвездные пространства», смешон, но, может быть, и страшен. Это футуристское чувство конца ложно и подлинно, действительно и призрачно. Футуризм еще не конец, а только проба конца. Пусть и эта не удастся, как тысячи других, но удастся одна из проб, — и тогда, просвещеннейший Петр Бернгардович, «сделав, наконец, последний шаг уже не над землею, а в воздухе», вы хихикать перестанете…
Футуризм — позитивизм ближайшего будущего — казнь за позитивизм ближайшего прошлого. Сохранить культуру, уничтожив религию или сделав ее одной из «культурных ценностей» (золотом и жемчугом на теле Блудницы), — такова мечта позитивизма. Но, что религия — душа культуры и что нельзя вынуть душу, не убивая тела, — это понял футуризм. Новый позитивизм лучше старого.
Для обоих религия — «клерикальные нечистоты, от которых надо очистить землю». «Но почему же вы топчетесь так? Вас удерживает ров, великий средневековый ров, который защищает Собор? Ну, так сравняйте его с землей, старики, бросьте туда те сокровища, под тяжестью которых гнутся ваши спины, — бессмертные изваяния, гитары, залитые лунным светом, излюбленное оружие предков, драгоценные металлы… Что, ров еще слишком глубок? Так бросьтесь же сами туда! Пусть ваши старые тела, наваленные кучею, приготовят путь для великой надежды будущего. А вы, молодые, бодрые, пройдите по ним! Галопом, вперед!»
Просвещеннейший Петр Бернгардович Струве, академичнейший Валерий Брюсов, что вы на это скажете? Знаете ли, кто идет по вашим телам? Если еще не узнали, то скоро узнаете.
Футуризм — еще шаг грядущего Хама. Встречайте же его, господа эстеты, академики, культурники! Вам от него не уйти никуда. Вы сами родили его: он вышел из вас, как Ева из ребра Адамова. И не спасет вас от него никакая культура. Для кого Хам, а для вас Царь. Что он захочет, то с вами и сделает: наплюет вам в глаза, а вы скажете: Божья роса. Кидайтесь же под ноги Хаму Грядущему!
Что такое «хам»? Раб на царстве. Без Царя Христа не победить Хама. Только с Царем истинным можно сказать рабу на царстве: ты не Царь, а Хам.
ДЕКАБРИСТ БУЛАТОВ
Александр Михайлович Булатов — герой 12-го года. Под Смоленском был тяжело ранен в голову и умер бы, истекая кровью, если бы солдаты не вынесли его из огня на плечах. Под Бородиным так далеко зашел в ряды неприятелей, что все в полку были уверены, что он погиб, — но уцелел не более как с шестью людьми из всей своей роты. В 1814 году, в триумфальном вшествии русских в Париж шел, весь израненный, с повязками на голове и на правой руке, салютуя государю левой. «Vive le brave!» — кричали французы и кидали ему под ноги цветы. Государь заметил Булатова и пожаловал ему золотую шпагу за храбрость.
А наружностью этот храбрый солдат напоминал фарфоровую куколку: такой белый цвет кожи, такой нежный румянец, такие голубые глаза. В лице была неправильность: один глаз выше другого, и от этого все оно чуть-чуть накриво, как в кривом зеркале, или как будто две половины лица неровно склеены; должно быть, от этого же было в нем что-то тяжелое, странное, почти жуткое. Но стоило ему улыбнуться, чтобы кривизна исчезла, — и все лицо сделалось правильным и почти прекрасным. В улыбке видна была душа его, душа солдата, простая и прямая, как шпага.
Недаром товарищи любили его, как брата, а нижние чины «жалели» и «почитали», как отца родного. Этот немудреный и неученый армейский полковник был такой же простой, как они. Вся философия его сводилась к немногим правилам: не искать ни в ком, а идти всегда прямою дорогою, служа во фронте верою и правдою своему царю и отечеству; дав слово, держать его, в чем бы оно ни состояло; дружбе не изменять; нижних чинов не обижать, потому что «и под сими толстыми шинелями таятся сердца русские, благородные»; дорожить честью больше, чем жизнью; и «всегда с охотою умереть для пользы отечества». Горячих напитков не употреблять, а «в картишки — можно, особенно ежели по маленькой».
Было у него еще что-то не входившее ни в какие правила: когда он видел или только слышал, что сильный обижает слабого, с ним делался припадок бешенства — «родимчик», как шутили товарищи.
Отец его после 50-летней непорочной службы был оклеветан Аракчеевым и лишен государевой милости и сослан в Сибирь. Когда Булатов сын узнал об этом, им овладело бешенство и он решил «вступить в заговор» (хотя ни о каких заговорах тогда еще не слыхивал), чтобы отомстить Аракчееву и, может быть, покуситься за жизнь самого государя. Эта безумная мысль исчезла вместе с «родимчиком»; но что-то осталось от нее, чего он и сам не мог бы выразить словами…
Осенью 1825 года Булатов получил трехмесячный отпуск для раздела имущества после смерти отца и из г. Керенска Пензенской губернии, где командовал 12-м егерским полком, приехал в Петербург.
Однажды в театре встретил он Рылеева,[25] своего товарища по I кадетскому корпусу. Рылеев был человек осторожный; но, верно, заметил что-то в словах или умолчаниях собеседника, что побудило его закинуть удочку. Тут же, в театре, он отвел Булатова в сторону и «потихоньку, с усмешкою» (усмешка эта запомнилась ему — должно быть, не понравилась) сообщил, что в России существует заговор, вот уже 8 или 9 лет, и «в будущем году будет всему решение».
«Признаюсь чистосердечно, — вспоминал впоследствии Булатов, — я не поверил ему и полагал, что подобные разговоры не что иное, как болтание молодых людей, которое вошло в моду в столице».
Но, может быть, все-таки сердце у него сильнее забилось, может быть, вспомнилось ему, что он чувствовал в минуту бешенства — «родимчика» — за неотомщенную обиду отца.
Он ничего не ответил Рылееву, больше не видался с ним и забыл или старался забыть об этом разговоре. Торопился кончить дело о наследстве, чтобы вернуться в полк.
27 ноября получено было в Петербурге известие о кончине императора Александра Павловича. Россия присягнула Константину I.[26] Но манифеста от нового государя не было, и ходили слухи, что дело неладно: Константин от престола отрекается. Наступило междуцарствие.
Снаружи все было тихо, но внутри смута. Если бы Константин отрекся, то Николай воцарился бы. А его не любили: говорили, что он «зол, мстителен, скуп, на немца похож и окружен будет немцами»; а пуще всего боялись, что при нем останется в прежней силе Аракчеев или дух аракчеевский и что это гибель России.
Смута была внизу, в народе, и еще большая смута вверху, у престола. Курьеры скакали из Петербурга в Варшаву, из Варшавы в Петербург, но все без толку. А злые языки говорили, что «корона русская ныне подносится, как чай, — и никто не хочет; с головы на голову перебрасывается, как соломенное колечко в детской игре — серсо».
Булатов, как все желавшие «пользы отечества», Николая не любил. Что если он воцарится? «За царя и отечество» — всегда звучало для Булатова единым верным звуком, а теперь — двойным, фальшивым, как стекло с трещиной. За царя против отечества, за отечество против царя — может ли это быть? И если может, то как разделить их? Как сделать выбор?..
6 декабря, в воскресенье, в день тезоименитства Николая Павловича, Булатов обедал у лейб-гвардии гренадерского полка поручика Панова в компании военных, большей частью незнакомых ему людей.
Несмотря на правило не пить, пришлось выпить: сначала за здоровье двух старых гренадеров, тех самых, которые вынесли его из огня под Смоленском; потом за весь их полк, в котором он служил в 12-м году; и наконец за невесту хозяина; он при этом пил из башмачка невестина.
После обеда начались «разговоры очень вольные», как Булатову казалось, «не для чего более, как для выказки своего ума». Он отозвал Панова и просил унять молодых людей, которые «врут вздор» и могут за это пострадать невинно.
Когда Булатов вернулся к собеседникам, речь зашла об Аракчееве. Один молоденький артиллерийский поручик начал говорить в пользу Аракчеева. Булатов заспорил с ним, вспылил и наговорил ему дерзостей.
— Желал бы я, сударь, чтобы вы сами были Аракчеевым: тогда услышали бы от меня всю правду! — сказал Булатов, чтобы кончить разговор. Но противник его согласился быть Аракчеевым, и Булатов облегчил сердце, выругал его как следует. Тот не обиделся — только рассмеялся. Булатов на минуту затих и посмотрел на него с удивлением. Все еще не мог успокоиться; к тому же, с непривычки, чувствовал, что выпил лишнее.
— Аракчеев, потеряв любовницу, забыл о пользе отечества, — начал он опять, — а по моему мнению, человек, пекущийся о пользе отечества, не должен жалеть о собственной жизни своей…
Эти два слова — «польза отечества» — повторял он упорно и мучительно, как будто вдумывался в них, хотел и не мог что-то понять.
Потом вдруг взял в руки пистолет, пустой или заряженный — не знал; и даже не помнил, как он очутился в руках его.
— Вот, друзья мои, — сказал он, приставляя дуло к виску, — если бы отечество для пользы своей потребовало сейчас моей жизни, — и меня бы не было!
— Живите! живите! — закричали все. — Ваша жизнь нужна для пользы отечества, особенно по теперешним обстоятельствам…
«По каким обстоятельствам?» — мог бы спросить Булатов, но не спросил. Опомнился и почувствовал, что голова у него кружится не только от вина. Вдруг опять затих, как будто задумался: все чаще находила на него эта странная задумчивость, похожая на столбняк или беспамятство.
Потом скоро уехал домой. Так и не понял, в чем дело: был прост, как голубь, но не мудр, как змий.
Панов и гости его, заговорщики, члены Северного тайного общества, испытывали Булатова — и он испытание выдержал. Сеть была расставлена так ловко, что он и не почувствовал, как увяз в ней — пока лишь одним коготком; но коготок увяз — всей птичке пропасть.
На другой день по приглашению Панова Булатов поехал к больному Рылееву. Тот уже прямо повел с ним речь о заговоре: должно быть, знал о вчерашнем испытании.
Булатов опять, как и тогда, в театре, ничего не ответил, но по его молчанию и смятению Рылеев понял, что на этот раз «клюнуло».
— Я, по старой нашей дружбе, никак от тебя не мог оного скрыть, — продолжал он, — тебя знают здесь за благороднейшего человека… Комплот наш состоит из людей решительных…
— Так и должно быть, ибо на такие дела малодушным решаться не должно, — проговорил наконец Булатов, чувствуя, что молчание становится неловким. Слова его, видимо, понравились Рылееву.
— Тебя давно сюда поджидали, и первое твое появление обратило внимание, — опять закинул он удочку.
Это значило: хочешь быть с нами, да или нет?
Кто-то вошел. Рылеев попросил Булатова заехать завтра.
Булатов имел время обдумать вопрос. Но, чтобы ответить, надо было знать, в чем, «по теперешним обстоятельствам», польза отечества. А этого он все еще не знал. И чем больше думал, тем меньше знал. Не поможет ли Рылеев узнать?
На другой день беседа продолжалась. Рылеев открыл ему цель заговора — «уничтожить монархическое правление», т. е. «тиранскую власть».
— Какая же в этом польза отечества? — спросил Булатов.
Рылеев не понял его или не хотел понять и начал говорить о представительном образе правления, о двухпалатной системе, о выборе депутатов. Но это было совсем не то, что нужно Булатову: ему нужно было знать, что такое царь и отечество — одно или два; и если два, то какой сделать выбор, как разделить сердце, как единым сердцем любить не единое?
Опять кто-то вошел.
— Это наш, — сказал Рылеев, представляя гостю Булатова.
Одним этим словом «наш» Булатов был принят в заговор.
Что все это не шутка, как ему сначала казалось, он теперь уже понял. Люди жизнью не шутят. Но ведь и он не шутил своей честью и совестью. Почему же не ответил: «нет, не ваш»? Потому что не мог ответить по совести ни да, ни нет, не мог решить и чувствовал с ужасом, что чем необходимее решение, тем невозможнее…
С минуты на минуту ждали в Петербурге последнего ответа из Варшавы, кому царствовать — Константину или Николаю.
12 декабря вечером собрались заговорщики у Рылеева. Пришел и Булатов, по приглашению хозяина.
Здесь впервые он увидел главных членов тайного общества: все молоденькие ротные командиры; один только полковник — князь Трубецкой, будущий «диктатор» мятежников. Он все молчал, «приняв на себя важность настоящего монарха». Это не понравилось Булатову: уж не в цари ли, в самом деле, метит? Он ждал «чего-нибудь посерьезнее».
Говорили опять все не о том — не о «пользе отечества».
— Какова наша сила? — спросил Булатов у Рылеева.
Тот ответил неопределенно: «Пехота, кавалерия, артиллерия». А по числу бывших здесь командиров выходило не более шести рот. Не обманывает ли их Рылеев? По кадетским воспоминаниям Булатов считал его человеком «годным только для заварки каш», а не для того, чтобы их расхлебывать.
Что здесь все-таки больше хороших людей, чем дурных, — он сразу увидел. Но ему казалось, что почти все идут в заговор нехотя, потому что сомневаются, не могут решить, где «польза отечества», и мучатся этим так же, как он.
Не решив главного, решили «вздор», по мнению Булатова: в случае, если Константин отречется, возмутить войска и собраться на Сенатской площади, «а там видно будет». На Булатова надеялись как на старшего по летам и по чину: он должен был принять команду вместе с Трубецким,[27] «диктатором».
И он опять не возражал, все по той же нерешимости. Да и жаль было «хороших людей»: как покинуть их в такую минуту опасности не только для жизни, но и для чести и совести.
Он был похож на солдата, который вдруг ослеп в бою: нельзя сражаться и нельзя бежать.
В тот же день, 12 декабря, получено было в Зимнем дворце отречение Константина и на 14-ое объявлена присяга императору Николаю I.
Булатов узнал об этом из коротенькой записки Рылеева, кончавшейся тремя словами: «Честь — Польза — Россия».
Он понял, что решать уже нечего — само решается.
14 декабря Булатов был на Сенатской площади, рядом с императором Николаем Павловичем.
«Вижу государя императора, — вспоминал он впоследствии. — Мне понравилось мужество его. Я был очень близко от него, и даже не более шести шагов, имея при себе кинжал и пару пистолетов… Я очень жалел, что не могу ему быть полезен… Обратился к собранию 12-го числа, где было положено для пользы отечества убить государя. Но теперь я был возле него и совершенно покоен и судил, что попал не в свою компанию… Узнал, что полковник Стюрлер ранен, и одна мысль, что, может быть, несчастное имя мое причиною жестокой раны верного слуги государя и отечества, приводит меня в ужас… Орудия начали действовать… Я был вблизи оных, досадовал на распорядителей заговора, что, не имея понятия в военном деле, губят людей… А когда услышал, что изрублен обезоруженный офицер Московского (мятежного) полка, злоба овладела мною. Итак, хотя гнусное дело быть заговорщиком, но, если бы они не обманули меня числом войск и открыли видимую пользу отечества, я сдержал бы слово. Может быть, мы были бы разбиты большинством войск, но не так легко могли бы купить последнюю каплю крови моей… Когда заговорщики были прогнаны, я уехал домой, имея в душе большое волнение… Слышу беспрестанно разносящиеся слухи, что перевес на стороне заговора — и то радуюсь, то сожалею… Уважая государя, кипел к нему ужасным мщением, с часу на час усиливающимся по доходящим слухам, что рубят обезоруженных… Узнал, что артиллерия не присягала, и как будто досадовал, что она не идет на помощь (мятежникам), и опять довольствовался, что она покойна. Не знаю, откуда человек мой Иван Семенов слышал, что в 12 часов (опять) начнется дело… Ложась в постель, я приказал, если что будет, оседлать мне лошадь. Но вскоре живущий у нас в доме капитан Полянской уведомил, что все кончено».
Булатов так и не сумел разделить сердца, — и оно само разделилось, раскололось на двое. Два сердца — два Булатова: один за царя, другой за отечество. В этом была мука, но еще большая мука в том, что он не знал, где настоящий Булатов и где двойник. Или нет настоящего, а только два двойника, которые сцепились и душат друг друга?
«На другой день отправился в Главный штаб для присяги… Злоба моя к государю еще более увеличилась… Я вбежал в залу в ужасном смятении, протолкался вперед между народом. Читали манифест. Я слушал и дрожал. Подняли руки вверх, и я тоже. Присягают все, и я присягаю. Присяга кончена, все целуют слова Священного Писания и подходят ко кресту… И так вот главное мое преступление… Я подхожу к св. Евангелию, дрожа, целую священные слова оного и, поцеловав крест, приношу клятву отомстить государю за изрубленных моих товарищей. Я отшатнулся от креста, едва стоял на ногах и удивлялся, что никто меня не замечает. Всякий, взглянув на меня, мог смело сказать, что я злодей, и злодей такой, которого и свет не производил».
Вот один Булатов, а вот другой:
«С сими мыслями выхожу из штаба. Государь идет к войскам. В глазах моих он кажется очень хорош, милостив. Он мне поклонился и, казалось, улыбнулся. Неужели одни слухи могли ожесточить меня так против него?»
В эту минуту Булатов понял бы восклицание Аракчеева: «Что мне до отечества? Был бы жив государь!»
Два Булатова — два двойника; то один, то другой — сменяются, перемежаются, все чаще и чаще, как биения сердца в стремительном беге или мелькания раскачавшегося маятника.
Ему казалось, что он сходит с ума. Иногда находили на него минуты беспамятства.
После одной из таких минут очнулся он, «с самою черною душою», в Зимнем дворце, в государевых комнатах.
Великий князь Михаил Павлович подошел к нему.
— Что вам угодно? — спросил он Булатова с тою любезностью, с которой в этот день в Зимнем дворце встречали всех «подозрительных».
— Имею нужду говорить с государем, — ответил Булатов.
Он был страшен: больше чем когда-либо лицо его кривилось, как в кривом зеркале, и казалось, что две половины лица плохо склеены.
Великий князь понял, в чем дело, и пошел докладывать. Булатов остался на своем месте.
Кто-то закричал:
— Веревок!
Он побледнел: думал, что его хотят вязать. Хватился кинжала и пистолетов: их не было, — должно быть, где-то забыл. Злоба его удвоилась.
Но он ошибся: не его хотели вязать, а кого-то другого. Весь этот день хватали заговорщиков, водили во дворец, встречали с «любезностью» и тут же обыскивали, допрашивали, вязали веревками, набивали кандалы и отсылали в крепость.
Булатову велели идти к государю. Он вошел в дверь и увидел издали идущего к нему навстречу Николая Павловича.
До последней минуты не знал он, какой из двойников что скажет и сделает.
Но произошло то, чего он меньше всего ожидал.
— Я преступник… вели расстрелять… — начал он и вдруг остолбенел, почувствовал, что его обнимают, целуют. Долго не мог понять, что это; когда же наконец понял, что государь милует его, прощает, благодарит, называет своим «товарищем», ужас охватил его, больше всех прежних ужасов. Он почти лишился чувств в объятиях государя…
Очнулся опять уже в крепости.
Знал, что умрет; сам себя осудил на смерть: нельзя человеку жить, испытав то, что он испытал; но был спокоен и счастлив: умереть «за царя и отечество».
Исчезли двойники проклятые. Сердце его, простое и прямое, как шпага солдата, сломалось надвое; но царская милость расплавила его, как молния плавит железо, и спаяла куски. Опять одно сердце, чтобы любить одно: царя и отечество.
«Народ, как несправедлива молва твоя! Какого вы хотите иметь еще государя? А ты, Рылеев, взгляни, чем я жертвовал для пользы отечества, которую ты не открыл мне… Куда ты вел душу мою? В вечное мучение… Но царь искупил ее… Боже, благодарю тебя!» — молился он и плакал от счастья.
Что милость царская как милость Божья — не сомневался. Уж если такого злодея, как он, царь помиловал, то как же не помилует и всех остальных «невинных преступников»? Преступники, потому что восстали на царя; невинны, потому что восстали для «пользы отечества», сами не зная, что делают.
«Чувствую биение ангельского сердца его, и можно ли думать, чтобы государь, оказывающий милости ужаснейшим злодеям, не захотел любви народной себе и блага отечеству?.. Нет сомнения, что он сделает все… Но от кого узнает он, что нужно народу?»
От него же, от Булатова. Он поклялся довести до царя «ропот народа», сказать ему всю правду, не щадя ни его самого, ни любимцев его и никого на свете.
Обо всем этом писал он великому князю Михаилу Павловичу бесконечные письма.
На одном из таких писем государь сделал собственноручную надпись карандашом: «Дозволить ему писать, лгать и врать по воле его».
Велико было удивление Булатова, когда повели его к допросу и он узнал, что его будут судить. Не самим ли царем он помилован? Какой же суд на царскую милость?
— Я виноват, но более ни слова не скажу, — отвечал он судьям все одно и то же, а потом и совсем замолчал.
Ждал ответа от царя — ответа не было. Он не мог понять, что это значит. Если бы знал, что те пятеро, которым суждена была виселица, тоже прощены, то понял бы.
Опять черные мысли стали находить на него: неужели он ошибся? Прощен, но не помилован; или помилован, но не понят и презрен? Опять сердце, по тому же месту, еще не зажившему, ломалось надвое. Только что из ада — и снова в ад.
Наконец не выдержал, потребовал ответа:
«Боясь потерять рассудок, желая лучше лишиться жизни, прошу ваше императорское высочество исходатайствовать всемилостивейшего утверждения моего приговора. Он необходим. Без прощения всех я свободы не принимаю… Ваше императорское высочество, умоляя вас, прошу исходатайствовать свободу всем или мне смерть. Избирайте любое».
«Il parle comme un fou. Je ne puis pour le moment rien pour lui» (Он говорит как помешанный. Я сейчас ничего не могу для него), — надписал великий князь на этом письме.
Положение было действительно трудное. Что делать с «помешанным»? Скорая смерть была бы для него единственной милостью. Но не расстрелять же его без суда, как он этого требовал.
А Булатов продолжал вопить из своего ада. Уже не молил прощения всем, а только себе казни, иначе грозил покончить с собой.
«Я имею случай найти тьму смертей: ножи, веревки, крючки, мой шарф и даже портупея могут прервать дни мои, но я не хочу употребить во зло великодушие моего государя… Итак, прошу ваше высочество утвердить мой приговор, мною избранный: велеть меня без замедления расстрелять».
Булатова не расстреляли, и он понял наконец страшную истину.
«С 30-го числа (декабря), видевши ко мне пренебрежение государя и вашего высочества, начал я готовиться к избранной мною смерти: уморить себя голодом. И, по моему расчету, я должен кончить жизнь в день Богоявления (6 января) и очень желаю для блага моего государя и отечества сойти в могилу. Тогда хотя тем, что говорил правду в защиту невинных преступников и в пользу отечества, возвращу доброе имя мое и не посрамлю креста моего».
В назначенный день начал он голодать. Дня через три так ослабел, что видно было, долго не выживет.
У Михаила Павловича было доброе сердце. Он посетил Булатова в крепости, образумливал, убеждал, умолял его; но наконец, видя, что все бесполезно, заговорил как с «помешанным»: обещал исполнить просьбу его, если он согласится ужинать. Булатов согласился. Но уже плохо верил.
«Я дал слово вашему императорскому высочеству вчерашний день ужинать — и исполнил. Теперь ожидаю выполнения слова вашего высочества, чтобы завтрашний день исполнить мой приговор… 6-го числа, в день Богоявления, я уже никаких милостей не принимаю и даю клятву, если завтрашний день не решится участь моя, во всем обманывать государя императора и ваше императорское высочество — и быть льстецом», т. е. лжецом. Ложь за ложь, обман за обман.
В назначенный день, 5 января, Булатов не получил ответа и 6-го, в день Богоявления, снова начал голодать.
Просил, чтобы ему позволили причаститься перед смертью. Не позволили. Все еще надеялись, что образумится. Установили строжайший надзор. Жалели и мучили его. Ставили перед ним самую вкусную пищу, самое свежее питье. Он ни к чему не прикасался — только грыз пальцы и сосал из них кровь, чтобы утолить жажду.
Должно быть, его насильно кормили, потому что муки его продолжались дольше, чем он думал, — 12 дней.
Как ни строг был надзор, он сумел обмануть сторожей. Вечером 18 января, когда один из них вышел или задремал, Булатов разбил себе голову об стену.
Его перевезли, еще живого, в госпиталь. На следующий день, 19 января, утром он скончался. Причастил ли его добрый о. Петр Мысловский, духовник арестантов по делу 14 декабря? Он так любил и жалел их, что не побоялся бы взять грех на душу.
Булатов — «безумец»? Но нет ли таких пределов человеческой муки, которые кажутся тем, кто не испытал этих мук, «безумием»? Как бы то ни было, но в последние минуты сознания он говорил слова не безумные.
«Каждый христианин, имея крест, должен нести его, ибо Сам Спаситель нес крест, данный Ему Отцом Его».
Вину своей гибели он брал всю на себя и никого не судил. «Не только не кляну тот день, в который попал в партию заговора, но в последние минуты жизни моей благословляю его и благодарю моего старого товарища Рылеева». И всех остальных заговорщиков «желал бы обнять, как друзей». У Аракчеева, злейшего врага своего, просил прощения: «отомстя ему за ненависть к русскому народу, прошу его прощения, принося ему мое совершенное благодарение, ибо одно имя его дало случай уловить меня в сей заговор». Государю возвращал слово, которым он простил его.
Так умер этот «безумец».
Среди «невинных преступников» 14-го декабря есть много людей более сильных и свободных духом, чем Булатов; но нет ни одного более чистого сердцем и кто бы так страдал, как он.
«По последнюю минуту дыхания моего люблю отечество и народ русский и за пользу их умираю самою мучительною смертью».
Он это сказал и сделал.
ДЕКАБРИСТЫ В 60-е ГОДЫ
«Я давно уже разделил Российскую историю на два периода. Первый — феодализм с Рюрика, второй — деспотизм с Иоанна III. Третьему семя положено 14 декабря… И сие 14 декабря к будущему относится так, как Иоанн Калита к Иоанну III» («Дневник» Погодина, 1826 г. — «Жизнь и труды М. П. Погодина» Н. Барсукова, кн. II, с. 18).
В свободомыслии трудно заподозрить Погодина; но у него было чувство исторической действительности.
Великий рубеж новой России — преобразование Петра — в этом разделении как будто отсутствует. Но в действительности, реформа петровская нашла свое завершение 14 декабря на Петровской площади: недаром батальонное каре мятежного Московского полка избрало для себя опорой подножье Медного Всадника. Петр приобщил Россию к плоти — 14 декабря приобщило ее к духу европейского Запада: если дух с плотью, то 14 декабря — с Петром.
1825–1915 — об этой девяностолетней годовщине никто не вспомнил.
Вообще память у нас коротка. Вся русская история, от Карамзина до нынешних, — «попятная», реакционная, а наше движение вперед — как будто вне истории. Тут каждое поколение внезапное; дети без отцов; сегодняшний день без вчерашнего.
«Новое поколение не считает себя связанным с прошедшим: оно хочет жить своею собственною жизнью. Пусть так, но ни одна жизнь не проявляется сама собою, она основывается на прошедшем; а если в этом прошедшем было жизненное начало, то оно проявляется и в будущем», — писал в 1860 году князь Евгений Петрович Оболенский, один из главных участников декабрьского восстания.
Святое предание свободы, святую связь времен воплощают те немногие декабристы, которые дожили до 60-х годов. Таковы кн. Оболенский[28] и Батеньков.[29]
«Оболенский был самым усердным сподвижником предприятия и главным, после Рылеева, виновником мятежа. За неприбытием Трубецкого на место восстания, собравшиеся злоумышленники единогласно поставили его своим начальником», — говорит Боровков, делопроизводитель Следственной комиссии.
А во «всеподданнейшем докладе Верховного уголовного суда» Оболенский помещен в 1-м разряде «государственных преступников», тотчас после Трубецкого, «диктатора»:
«Поручик князь Оболенский. Участвовал в умысле на цареубийство одобрением выбора лица, к тому предназначенного; по разрушении Союза благоденствия установил вместе с другими тайное Северное общество; управлял оным и принял на себя приуготовлять главные средства к мятежу; лично действовал в оном с оружием, с пролитием крови, ранив штыком графа Милорадовича; возбуждал других и принял на себя в мятеже начальство».
Суд приготовил Оболенского к «отсечению головы». Но при высочайшей конфирмации смертная казнь заменена «ссылкою в каторжные работы вечно».
Он пробыл на каторге в Нерчинских рудниках, в Чите и на Петровском заводе 13 лет; затем на поселении в Туринске и Ялуторовске — еще 17; всего 30 лет в ссылке. В 1856 году по манифесту Александра II вернулся в Россию и умер в 1865 г.
Гавриил Степанович Батеньков занесен в 3-й разряд: «Знал об умысле на цареубийство, соглашался на умысел бунта и приготовлял товарищей к мятежу планами и советами».
3-й разряд приговорен к вечной каторге, а по конфирмации — к 20-летней. Но каторга заменена для Батенкова одиночным заключением в крепости. Почему — неизвестно, но отчасти можно об этом судить по сохранившемуся в Государственном архиве собственноручному показанию Батенкова от 18 марта 1826 года:
«Странный и ничем для меня неизъяснимый припадок, продолжавшийся во время производства дела, унизил моральный мой характер… Постыдным образом отрицался я от лучшего дела моей жизни… Я не только был член Тайного общества, но член самый деятельный… Тайное общество наше отнюдь не было крамольным, но политическим. Оно, исключая разве немногих, состояло из людей, коими Россия всегда будет гордиться… Цель покушения не была ничтожна… не мятеж, как к стыду моему именовал я его несколько раз, но первый в России опыт революции политической… Чем менее была горсть людей, его предпринявшая, тем славнее для них, ибо хотя по несоразмерности сил и по недостатку лиц, готовых для подобных дел, глас свободы раздавался не долее нескольких часов, но и то приятно, что он раздавался».
Батеньков, когда делал свое показание, знал, на что идет.
Существует предание, будто бы император Николай Павлович, еще во время следствия, признав Батенкова невинным, повелел выпустить его из крепости. Но тот написал государю, что если его выпустят, то он составит новый заговор. Тогда Николай Павлович послал к нему своего лейб-медика Арендта освидетельствовать, нет ли у него горячки.
«Если вы скажете, что я болен, то будете сами отвечать за последствия», — объявил ему будто бы Батеньков.
Арендт доложил государю, что хотя пульс у Батенкова возбужден, но помешательства нет.
Его заключили в форте Свартгольм, высеченном в голой гранитной скале среди моря, на Аландских островах, в Финляндии. Здесь написал он свою страшную поэму «Одичалый»:
Пространство в нескольких шагах, С железом ржавым на дверях, Соломы сгнившей пук обшитый И на увлаженных стенах Следы страданий позабытых… Живой в гробу, Кляну судьбу И день несчастного рожденья… Скажите: светит ли луна? И есть ли птички хоть на воле? И дышут ли зефиры в поле? По старому ль цветет весна? … Не верю. Все переменилось: Земля вращается, стеня, И солнце красное сокрылось; Но, может быть, лишь для меня!После полугодового заключения в Свартгольме перевели его снова в Петропавловскую крепость и посадили в Алексеевский равелин, в полутемный каземат, шагов 10 в длину и 6 в ширину.
Заключение было так строго, что караульным запрещено было говорить с арестантом, и на самые невинные вопросы: «Который час? Какой день?» — был один ответ: «Говорить не велено».
Здесь просидел он остальные 19 лет с половиной, спасаясь от безумия чтением Библии. Наконец потерял счет времени: ему казалось иногда, что он уже несколько сот лет в заключении или что несколько месяцев стоит на молитве, не принимая пищи.
Все, друзья и враги, забыли о нем. Никто не знал, где он и что с ним. «И узнать нельзя было, что за вещь попала под № 5» (номер его каземата), — вспоминал он впоследствии.
Так бы и умер он в заключении, если бы случайно не вспомнил о нем и не доложил государю комендант крепости. В 1846 году отправили Батенкова на поселение в Томск.
На второй станции от Петербурга, увидев женщину, первую после 20 лет, он обрадовался ей, как малый ребенок, обнял ее и расцеловал.
Очутившись вдруг на свободе, с живыми людьми, он чувствовал такую растерянность, «одичалость», что многие считали его помешанным. Прохаживаясь по комнате и сделав несколько шагов — длину каземата, внезапно останавливался, как будто натолкнувшись на стену, и поворачивал назад. Боялся тишины. Однажды сидел один в комнате. Вдруг послышались оттуда крики. Бывшие в соседней комнате побежали узнать, что случилось. Оказалось, что Батеньков сидит спокойно на том же месте.
— Гавриил Степанович, что с вами?
— Ничего. Надо же человеку и покричать.
Так в каземате кричал, чтобы услышать хотя бы звуки собственного голоса.
По манифесту 1856 года вернулся в Россию и умер в 1863 году.
Оболенский и Батеньков были друзья и больше чем друзья — близнецы духовные.
Участникам 14 декабря, первого неудачного «опыта», им суждено было сделаться свидетелями и второго опыта, тоже не совсем удачного, — 19 февраля.
Батеньков почти не говорил о делах общественных.
«Я, кажется, остолбенел до гроба». Остолбенел и замолчал. Но о том, что он думал и чувствовал, можно судить по письмам друга его, Оболенского. («Декабристы», П. М. Головачева, изд. Зензинова. Москва, 1907 г.).
«Вот и Новый год наступил, — писал Оболенский в январе 1861 г., т. е. накануне 19 февраля, другому бывшему члену Тайного общества, но мог бы написать и Батенкову. — Обнимем друг друга… и пожелаем новому поколению того счастья, которого желали себе… Голос свободы земли русской скоро раздастся на всю ее ширину и долготу»…
«И это все будет совершаться в присутствии нашем, т. е. тех, которые давно и очень давно чувствовали всю тяжесть того зла, которое лежало тяжелым гнетом на всем народе нашем» (1864). «Наш покойный Александр всем сердцем желал ввести в жизнь все то, что ныне уже совершено и что совершается» (1865).
Старая, вечная история: зло становится добром, преступление — подвигом.
За что же эти «люди, которыми Россия всегда будет гордиться», причтены к злодеям? Этого вопроса нет у них — ни осуждения, ни ропота — только тихая улыбка тихой мудрости.
«Многое, мой друг, мы пережили и многое переживаем ныне… Останемся верны прошедшему — хорошему; по милости Божией, оно в нас очищено и очищается ежедневно; пусть оно явится в свете истины, — и жизнь наша не потеряет своего значения… Пусть юное поколение видит в нас ценителей добра… В этом наше призвание… Мы представляем знамя».
Да, «знамя», — лучше нельзя выразить того, что эти люди сделали в русской истории.
Но и вторым «опытом» они себя не обманывают, так же как не обманывали первым: знают, что дело не кончено, а едва лишь начато.
«Много ран надо уврачевать, много зла, укоренившегося веками, должно с корнем вырвать! И все это сделается не без боли, не без сопротивления тех, которые будут предметом лечения. И все негодование, всю невзгоду припишут гласу свободы», — предсказывает Оболенский, и тут же, на глазах его, исполняется это предсказание.
«Старое не хочет умереть, а новое еще не окрепло». «Память крепостного состояния остается в нравах, привычках и даже в крови… Весь наш чиновничий мир, весь состав нашего правительства не те же ли помещики, зараженные тем же духом крепостного права?.. По букве закона свобода водворена, но она не в жизни; она едва видна на бумаге, откуда ее хотя не вычеркнут, но исказят ее смысл». «На словах все согласны, что свобода весьма прекрасная идея, но когда нужно применить ее к жизни, то одна сторона — правительствующая — дает ей смысл безусловной покорности, а другая находит, что свобода, в применении к жизни, лишает ее того нравственного и вещественного капитала, без которого слово „свобода“ улетучивает ее существование» (1861).
«Это время — переходное, которое окончательно устроится, когда обе стороны найдут полезным теснейшее единение… Но до того времени много еще будет столкновений неизбежных… Образованная сторона не может еще признать равноправности другой» (1861).
Что «обе стороны», народ и интеллигенция (Оболенский здесь впервые употребляет это слово), — две стороны, два края вновь зазиявшей пропасти, он уже предчувствует.
Смысл первого «опыта» —14 декабря — только политический; смысл второго — 19 февраля — политический и социальный. Вот эта-то новая, неведомая сторона освобождения пугает стариков. Они, впрочем, и сами чувствуют, что чего-то не понимают и никогда не поймут. «Молодое поколение опередило нас и должно опередить». Тут между двумя поколениями неразрешимая антиномия либерализма и социализма, свободы и равенства.
«Петербургские пожары (1862) страшно всполошили всех и своим заревом осветили всю Россию». «Какая причина поджогов? Кто знает? Но всем известно, что прокламации самого революционного характера стараются рассеивать в народе… Неужели нет связи между огнем вещественным, которым истребляют собственность, и огнем революционным, коим стараются поджечь основания гражданского быта?»
Старики удивляются, что бледная заря становится красною, и, может быть, находят на них минуты сомнения, та ли это свобода, о которой они мечтали. «Мысль о будущем страшит. Как и чем разрешится готовящаяся буря?»
Но страх и сомнение — только мгновенная тень, как от бегущего облака. Антиномию, умом неразрешимую, разрешает сердце.
«Верю, что зло излечимо и исправимо». «Пусть общее движение будет даже ненормально; но и то хорошо, что люди пробудились от сна и жизнь начинает проявляться». «Те, которые привыкли к оковам, не умеют еще справляться со свободными движениями; неужели им можно ставить в вину естественную неловкость? Она скоро пройдет…» «Мы или дети наши увидят плоды наших лучших стремлений и желаний». «Ряд светлых годов рисуется впереди, как отрадные лучи того солнца правды и свободы, которые светят нам и будут постоянно освещать путь нашей тысячелетней России». «Все будет ладно».
Да, «все будет ладно» — это тихий свет вечерний, всеозаряющий, святая старость — святая радость.
«В душе мир и тишина… Благословение свыше есть основание, на коем одном зиждется радость вечная»… «Дай Бог нам явиться с именем Его святым, напечатленным на всей нашей жизни». «Отрадна вера в светлую будущность, которая открывается нам в доме Отца нашего небесного… Друг, держись крепко за этот единственный якорь спасения — и светла предстанет тебе жизнь во всей ее полноте и небесном величии».
К тому же приходит и Батеньков. Онемевший, «остолбеневший до гроба», он говорит, лепечет невнятно, вспоминая все, что выстрадал: «Сначала мне казалось вопиющею несправедливостью, потом кое-как приподымался в уровень, а теперь уж смешно было бы отталкивать понесенный крест… Тут Христос, научивший смирению… Вот, мой друг, утренние мои мысли…»
Владыко, отпусти слугу В родной дом с миром по глаголу; Я видел свет, нисшедший долу, И указать его могу…Не то ли это самое, что он предчувствовал еще тогда, в Свартгольмской крепости, «живой в гробу»?
Вкушайте, сильные, покой, Готовьте новые мученья! Вы не удушите тюрьмой Надежды сладкой воскресенья!Тут религиозная правда личная сливается с религиозной правдой общественной. Потому-то так и крепка общественность, что за нею — религия, за временным — вечное.
«Необходимо и неопровержимо отношение временного к вечному, — говорит Оболенский и мог бы сказать Батеньков. — Новая жизнь да восторжествует надо всем, что чуждо духу православному».
Он говорит «православие», потому что не умеет иначе сказать. Но что тут больше чем православие, что тут явление «нового мира» — нам теперь уже ясно. «Проходит старый и начинается новый мир, как было в начале нашей эры. Но истина тогда же была в Евангелии».
Таков религиозный смысл 14 декабря — первого опыта русской свободы. Во втором — в шестидесятых годах — этот смысл утрачен; новое поколение подняло знамя, на котором было написано: общественность без религии, свобода без Бога.
Но тут уже не новое поколение, не молодые опередили стариков, а, наоборот, старики — молодых. Тут, в соединении религиозной правды с общественной, мы, внуки и правнуки, к нашим дедам и прадедам ближе, чем к нашим отцам.
Если таков смысл первого опыта, то не таков ли будет и смысл последнего? И если 14 декабря — «знамя», то не склонятся ли все грядущие знамена перед этим первым, на котором написано: свобода с Богом!
О РЕЛИГИОЗНОЙ ЛЖИ НАЦИОНАЛИЗМА
Война с войной — таков желательный для нас, должный смысл настоящей войны. Но таков ли смысл данный, действительный?
Против милитаризма как ложной культуры выставляется принцип культуры истинной, всечеловеческой. Но принцип этот оказывается на наших глазах отвлеченным и бездейственным. Никогда еще за память европейского человечества не бывало такого попрания самой идеи культуры всечеловеческой.
Утверждение, будто бы Германия — страна малокультурная, легкомысленно и невежественно. Связь Канта с Круппом сомнительна. Но если какая бы то ни была культура может привести к тому, к чему привела Германию, то сама культура — палка о двух концах. В настоящей войне она не с варварством, а с иной культурой борется: кажущаяся истинной — с кажущейся ложной. А чтобы отделить ложную от истинной, в самой культуре, по-видимому, нет мерила абсолютного.
Существо культуры сверхнационально, всемирно. «Потребность всемирного соединения есть последнее мучение людей. Всегда человечество, в целом своем, стремилось устроиться непременно всемирно. Много было великих народов с великой историей, но чем выше были эти народы, тем были и несчастнее, ибо сильнее других сознавали потребность всемирности соединения людей. Великие завоеватели, Тимуры и Чингисханы, пролетели, как вихрь, по земле, стремясь завоевать вселенную, но и те, хотя и бессознательно, выразили ту же самую великую потребность человечества ко всемирному и всеобщему соединению» (Достоевский, «Великий инквизитор»).
Эта потребность — одна из главных движущих сил древнего, дохристианского человечества. Ассирия, Мидия, Македония — неудачные попытки всемирного соединения. Первая удача — Рим. Tu regere imperio, Romane, memento — в этом сущность Римской империи. Рим есть мир, и «римский мир», pax romana—воистину «мир всего мира». Таков первый момент всемирного соединения внешнего, государственного, как будто вечного, а на самом деле мгновенного равновесия, как будто непоколебимого, а на самом деле неустойчивого. Нашествие варваров, по преимуществу германцев, — своего рода национальная реакция против римского единства, возвращение к национальной самобытности племен — разбивает изнутри это внешнее единство римской империи, как теплые, вешние воды разбивают ледяную кору.
Второй момент — всемирное соединение уже не внешнее, а внутреннее, во имя не человеческого, а Божеского Разума, Логоса. Отвлеченная идея человечества впервые воплощается в церкви вселенской, и «Римский мир» становится миром Божиим — pax Dei. Но тут же, в самой церкви, происходит смешение двух несовместимых начал — церковного и государственного. Вот почему и это второе соединение, второй «мир всего мира» оказывается непрочным. Опять национализм вторгается в единство всемирное, но уже не изнутри, а извне, и раскалывает его сначала на две половины — восточную и западную церкви, потом на множество национальных, поместных церквей. В этом смысле реформация, не случайно германская, есть второе «нашествие варваров».
Третий момент — Великая французская революция и неизбежный вывод из нее — наполеоновская империя, новое возрождение древнего единства римского. Объявляя целью завоеваний своих «le reigne de la raison humaine» — царство человеческого, только человеческого разума, Наполеон совпал с Робеспьером. И в третий раз национализм разрушает единство всемирное: борьба за национальную самобытность против Наполеоновской империи, т. е. в последнем счете против революции, приводит к Священному Союзу, к злейшей реакции.
Наконец, четвертый момент, пока не осуществленный в истории, — социализм. Сейчас мы видим воочию только беспомощность его как начала объединения всемирного.
Настоящая война — продолжение «отечественных», «освободительных» войн с Наполеоном (1812–1815 гг.) — по внешности тоже освободительная, «народная» война с империализмом Германии, выразившимся будто бы исключительно в «прусской военщине». Но это именно только по внешности: в действительности существует неразрывная связь между империализмом и национализмом не в одной Германии, но и во всех ее противниках. У всех современных европейских народов под пеплом национализма тлеет огонь империализма, в большей или меньшей степени: тут количественная, а не качественная разница.
Что же такое национализм? Утверждение национальной правды, частной и относительной, как абсолютной, всеобщей и всечеловеческой. «Deutschland, Deutschland über allés!» или «Разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами Бог» (т. е. с нами с одними и больше ни с кем) — эти два лозунга одинаково кощунственны. Национализм лицемерно, словесно утверждает — искренне, деятельно исключает все другие национальности, кроме своей: если национальная правда абсолютна, то она исключительна, единственна, ибо не может быть двух абсолютов.
С патриотизмом, с чувством родины национализм не совпадает метафизически. В плоскости духовной, внутренней, понятие родины шире, чем понятие государства: самое живое, личное в быте народном не вмещается в бытии государственном. В плоскости материальной, внешней, понятие государства шире, чем понятие родины: в одном государстве может быть много народов, много родин. Это значит, что патриотизм может быть и внегосударственным: у современных поляков и евреев нет государства, но есть родина. Существо национализма всегда государственно. Но существо самого государства сверхнационально. Понятие нации вмещается в понятии государства, но не обратно: много наций может входить в одно государство. Нет столь малой державы, которая не стремилась бы сделаться «великой», на счет других меньших. Неизбежный метафизический предел государственности — «великодержавность», империализм, нация, утверждающая свою частную, относительную правду как абсолютную и всечеловеческую.
Вот почему национализм, метафизически связанный с империализмом, по природе своей хищен, воинствен и завоевателен.
Нет национализма без империализма. Под вечным предлогом защиты своего отечества он вечно нападает на чужое, беззащитное. Глаза у него «завидущие», руки «загребущие». Ex ungue leonem, по когтям узнается лев или волк: национализм — волк в овечьей шкуре.
Борьба с национализмом — главная задача русской интеллигенции. Кажется, ни в одной стране, ни в одну эпоху борьба эта не велась так непримиримо. От Чаадаева до Вл. Соловьева русское «западничество», борьба со славянофильством и есть не что иное, как борьба с национализмом. «Да будет проклята всякая народность, исключающая из себя человечность!» — этот завет Белинского — завет всей русской общественности.
В этом смысле Петр Великий — наш первообраз: первый западник, он в то же время самый русский из русских людей. И как бы ни смешивал он идеи национальной с государственной, сущность его остается сверхнациональной, всемирной. То же в Пушкине и во всей русской литературе: народность возвышается в ней до всечеловечности.
Тяжкий грех славянофильства — мнимое признание, действительное отрицание всемирности. Одно из главных свойств русского славянофильства — мягкотелость, бескостность, неумение или нежелание доводить мысль до конца, договаривать, ставить точки над i. Вот эту-то недоговоренную мысль и обнажает в кристально-ясной, математически-точной формуле Тютчев, самый бесстрашный и последовательный из русских славянофилов. Он вкладывает кости в тело, ставит точки над i. Логика его беспощадна: стоит принять посылки, чтобы сделать неизбежные выводы.
Сущность революции, утверждает Тютчев, есть человеческое я, ставящее себя на место Бога; «самовластье человеческого я, возведенное на степень политического и социального права». Сущность эта — антихристианская, «антихристова», ибо «антихрист» и есть человек, поставивший себя на место Бога, «человеко-бог».
Таковы посылки, а вот и выводы.
Сущность европейского Запада — революция, антихристианство, т. е. абсолютная ложь, а человеческое общество, построенное на лжи, обречено на гибель.
«Будет ли Франция иметь силу отречься от революции, сделаться снова христианской и монархической? — спрашивает Тютчев в 1870 г., накануне Коммуны. — Если нет, то гибель ее неизбежна». И не только гибель Франции, но и всего европейского Запада. «Запад отходит, все рушится, все гибнет в этом общем пожаре. Цивилизация убивает себя своими собственными руками, — предсказывал он еще в 1848 г. И в 1873 г., после Коммуны: „что-то в роде размягчения мозга у целой нации… состояние близкое к идиотизму… Судорога бешенства овладела Европой… Целый мир стал воплощенной ложью…“ Последнее слово Запада — „слово Иуды, который, предав Христа, очень умно рассудил, что ему остается одно: удавиться“».
Все вообще славянофилы ненавидят Запад, может быть, не менее Тютчева, но стыдятся, робеют и сами не знают, что делают, когда с медвежьего ловкостью сгоняют муху со лба спящего друга булыжником. Тютчев знает. Правда, для него это только «игра ума», но что для него игра, то для других дело.
Все мысли Достоевского о «человекобожестве» революции почти дословное повторение Тютчева.
Люди стыдливо скрывают тайну своего рождения: так славянофилы скрывают ненависть к Западу. Тютчев обнажил этот стыд, и если нагота оказалась чудовищной, то вина не его, а того учения, которое он проповедует.
Человекоубийственная ненависть — таков стыд славянофильства, обращенный к Западу, а вот и другой стыд, обращенный к России.
Всю тебя, земля родная, В рабском виде Царь Небесный Исходил, благословляя.Это значит: Христос благословил Россию, а все остальные народы проклял. «Russland, Russland, über alles». — «Разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами Бог», с нами с одними и больше ни с кем.
В мире только две силы: Россия и революция. «Между тою и другою не может быть ни договоров, ни сделок: что для одной жизнь, то для другой смерть. От исхода их борьбы зависит вся будущность человечества… Над громадным крушением Запада всплывает еще более громадная русская держава святым ковчегом… Кто дерзнет усумниться в ее призвании?»
Не верь в Святую Русь, кто хочет, Лишь верь она себе самой!«Ну вот, мы в схватке со всей Европой» (в 1854 г., накануне Севастополя). Это «заговор». «В истории не бывало примеров гнусности, замышленной и совершенной в таком объеме»… Ополчение Европы против России — ополчение самого «антихриста» против Христа:
Все богохульные умы, Все богомерзкие народы Со дна воздвиглись царства тьмы…Дело идет о последней борьбе всего западноевропейского человечества с Россией. Очень возможно, что Россия погибнет. Но если бы случилось, что погибнет не она, то уже не с Россией придется иметь дело Западу, а с чем-то исполинским и окончательным, чему еще нет имени в истории. Предсказание Наполеона на Св. Елене: «через 50 лет Европа будет революционной или казацкой» (т. е. русской) на наших глазах исполняется. Революция и Россия — «море и утес»: волны бьют об утес, разбиваются и, рано или поздно, присмиреют окончательно.
И без вою, и без бою, Под гигантскою пятою Вновь уляжется волна.Вся Европа под пятою России. Или, как Хомяков предсказал:
И другой стране смиренной Бог отдаст судьбу вселенной, Меч земли и гром небес.От такого смирения, пожалуй, сам дьявол не отказался бы.
Но всего бесстыднее открывает Тютчев наготу славянофильства именно там, где оно всего стыдливее, — в вопросе о религиозном смысле самодержавия.
Власть царя — и мирская, и церковная вместе — власть от Бога; помазание Божие; царь — не только царь — глава государства, но и первосвященник, глава церкви, наместник Христа, папа, хотя и обратный, потому что в Риме церковь становится государством, а в России государство — церковью. В этой противоположности двух теократии, восточной и западной, заключается главная мысль Достоевского, который идет дальше всех славянофилов; но и он до конца не доходит. Тютчев дошел до конца.
О будь же, царь, прославлен и хвалим, Но не как царь, а как наместник Бога, —т. е. как папа Третьего русского Рима.
Он божеством себя провозгласил, О новом богочеловеке Вдруг притча создалась — и в мир вошла, —мог бы сказать Тютчев о нем же, о русском царе-первосвященнике.
Между тем как новые «славянофилы» (Булгаков, Бердяев, Эрн, Флоренский и прочие «веховцы») косноязычно мямлят — Тютчев говорит внятно: самодержавие и православие связаны, как внешность и внутренность, форма и содержание, тело и дух; самодержавие — апокалипсис православия; православие в самодержавии исполняется; разорвать их значит убить. И наконец последний вывод: русская всемирная империя.
«Нельзя отвергать христианскую империю, не отвергая христианской церкви: они обоюдны (corrélatifs). Церковь, освящая империю, ее себе приобщила и сделала ее окончательною (абсолютною)». Единая вселенская церковь — единая вселенская империя.
Ее восстановлению должны содействовать два великих дела: в области светской — образование Греко-Славянской империи; в области духовной — воссоединение церквей, или, вернее, поглощение западной церкви восточною.
«Империя существовала всегда, только меняла властителей. Четыре империи: Ассирийская, Персидская, Македонская, Римская. С Константина Равноапостольного[30] начинается пятая, окончательная, христианская; ее завершение — Россия».
Что значит «христианство» этой христианской империи, видно из того, как Тютчев решает судьбы входящих в нее народов.
«Или быть Польше, или быть России». А так как, разумеется, быть России, то Польше не быть: уничтожить ее, раздавить «под гигантскою пятою», и не ее одну, но и Австрию, Италию, Германию — все «богомерзкие народы». Давить и душить — «в одной руке распятие и нож», как говорит он о Первом и мог бы сказать о Третьем русском Риме. Человекоубийство под знаменем Христа; царство «Зверя» под знаменем царства Божьего.
Византийская реставрация Тютчева, эта драгоценная ткань, оказалась непригодною для русской политики: дело обошлось дешевле. Но на полинялой тряпице современного славянофильского национализма, если всмотреться в него, можно узнать тот же византийский узор — «орлики да крестики», как на златотканой ризе Тютчева. Он вскрывает самую сущность того, что выдается и по сей день за «русский стиль», «русский дух». Тютчев не лучше и не хуже других славянофилов: он только правдивее всех.
В настоящей войне происходит торжество славянофильского национализма, окончательно выродившегося в «зоологический патриотизм». Вот почему исконная задача русской общественности — борьба с национализмом — сейчас труднее и ответственнее, чем когда-либо.
Борьба велась доныне в позитивной плоскости. Но окончательное преодоление славянофильского национализма возможно только в той плоскости, где сам он движется, а именно в религиозной.
В этом отношении польская интеллигенция может быть сейчас могущественной идейной союзницей интеллигенции русской. В учении польского мессианизма вопрос об отношении национальной правды к человеческой поставлен религиозно, т. е. именно так, как должна была и не сумела поставить его русская интеллигенция.
Польский мессианизм наиболее противоположен русскому славянофильскому национализму. Сущность идеи мессианской — не хищное, насильственное господство одного народа над всеми другими, а служение, самоотречение, страдание, жертва. «Кто из вас хочет быть господином, да будет всем слугой; кто хочет быть первым, да будет последним».
Великие страдальческие судьбы Польши — небывалая всемирно-историческая Голгофа. Ни один народ так не страдал, кроме народа Божьего, народа Мессии преимуществу — Израиля. Польша и есть новый Израиль, воистину новый народ Божий. Идея жертвенного служения воплотилась в нем как ни в одном из христианских народов. Россия страдала за Европу; Польша страдает за Россию. «Язвами ее мы исцеляем». В этом смысле польский народ — воистину народ-«богоносец».
Лучшее лекарство от застарелой русской болезни — «славянофильского национализма» — польский мессианизм, жертвенное служение народа высшей правде всечеловеческой.
Вот почему совершающееся ныне духовное сближение Польши с Россией может быть спасением обоих народов. «Еще Польша не сгинула» — да прозвучит в наших сердцах, как вечный завет: «Еще Россия не погибла».
Вместе погибали — вместе и спасемся.
ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС КАК РУССКИЙ
Хочется думать сейчас о России, об одной России и больше ни о чем, ни о ком. Вопрос о бытии всех племен и языков, сущих в России (по слову Пушкина: «Всяк сущий в ней язык»), есть вопрос о бытии самой России. Хочется спросить все эти племена и языки: как вы желаете быть — с Россией или помимо нее? Если помимо, то зачем обращаетесь к нам, русским, за помощью? А если не помимо, то забудьте в эту страшную минуту о себе, только о России думайте, потому что не будет ее — не будет и вас всех: ее спасение — ваше, ее погибель — ваша. Хочется сказать, что нет вопроса еврейского, польского, армянского, грузинского, русинского и проч. и пр., а есть только русский вопрос.
Хочется это сказать, но нельзя. Трагедия русского общества в том и заключается, что оно сейчас не имеет права это сказать. Разве оно может сказать, что благо России будет благом всех «сущих в ней языков»? Это сказать легко — сколько раз мы говорили, — но нам уже не верят.
Весь идеализм русского общества в вопросах национальных бессилен и потому безответствен.
В еврейском вопросе это особенно ясно.
Чего от нас хотят евреи? Возмущения нравственного, признания того, что антисемитизм гнусен? Но это признание давно уже сделано; это возмущение так сильно и просто, что о нем почти нельзя говорить спокойно и разумно; можно только кричать о помощи вместе с евреями. Мы и кричим.
Но одного крика мало. И вот это сознание, что мало крика, — изнуряет, обессиливает. Тяжело, больно, стыдно…
Но и сквозь боль и стыд мы кричим, твердим, клянемся, уверяем людей, не знающих таблицы умножения, что 2 x 2 = 4, что евреи такие же люди, как мы, — не враги отечества, не изменники, а честные русские граждане, любящие Россию не меньше нашего; что антисемитизм — позорное клеймо на лице России.
Но, помимо крика, нельзя ли высказать и одну спокойную мысль.
«Юдофобство» с «юдофильством» связано. Слепое отрицание вызывает такое же слепое утверждение чужой национальности. Когда всему в ней говорится абсолютное «нет», то, возражая, надо всему сказать абсолютное «да».
Что значит «юдофил», по крайней мере сейчас в России? Это значит человек, любящий евреев особой исключительной любовью, признающий в них правду большую, чем во всех других национальностях. Такими «юдофилами» представляемся националистам, «истинно русским людям», мы, русские люди, не «истинные».
— Что вы все с евреями возитесь? — говорят нам националисты.
Но как же нам не возиться с евреями, и не только с ними, но и с поляками, армянами, грузинами, русинами и проч. и проч.? Когда на наших глазах кого-нибудь обижают — «по человечеству» нельзя пройти мимо, надо помочь или, по крайней мере, надо кричать о помощи вместе с тем, кого обижают. Это мы и делаем, и горе нам, если мы перестанем это делать, перестанем быть людьми, чтобы сделаться русскими.
Целый дремучий лес национальных вопросов встал вокруг нас и заслонил русское небо. Голоса всех сущих в России языков заглушили русский язык. И неизбежно и праведно. Нам плохо, а им еще хуже; у нас болит, а у них еще сильнее. И мы должны забывать себя для них.
И вот почему мы говорим националистам:
— Перестаньте угнетать чужие национальности, чтобы мы имели право быть русскими, чтобы мы могли показать свое национальное лицо с достоинством, как лицо человеческое, а не звериное.
Возьму пример на удачу.
Еврейский вопрос имеет сторону не только национальную, но и религиозную. Между иудейством и христианством существуют, как между двумя полюсами, глубокие притяжения и столь же глубокие отталкивания. Христианство вышло из иудейства, Новый Завет — из Ветхого. Апостол Павел, который больше всех боролся с иудейством, желал «быть отлученным от Христа за своих братьев по плоти», т. е. за иудеев. И сам Христос — иудей по плоти. Кощунство над иудейством — кощунство над Плотью Христовой.
О притяжениях говорить можно, а об отталкиваниях нельзя. Как, в самом деле, спорить с тем, кто не имеет голоса. Бесправие евреев — безмолвие христиан. Внешнее насилие над ними — внутреннее насилие над нами. Нам нельзя отделять христианства от иудейства, потому что это значит, как выразился один еврей, проводить «новую духовную черту оседлости». Уничтожьте сперва черту материальную, и тогда можно будет говорить о духовной. А пока это не сделано, правда христианства пред лицом иудейства остается тщетною.
Почему сейчас, во время войны, так заболел еврейский вопрос? Потому же, почему заболели и все вопросы национальные.
«Освободительной» назвали мы эту войну. Мы начали ее, чтобы освободить дальних. Мы любим дальних. Почему же ненавидим близких? Вне России любим, а внутри — ненавидим. Жалеем всех, а к евреям безжалостны.
Вот они умирают за нас на полях сражений, любят нас, ненавидящих, а мы ненавидим любящих.
Если мы будем так поступать, нам перестанут верить, нам скажут народы:
— Вы умеете любить только издали. Вы лжете.
А мы ведь надеялись, что наша сила в правде. Мы хотели правдой победить силу. Если все еще хотим, то не будем лгать, ослаблять ложью правды нашей, силы побеждающей.
Немцы говорят: война за мip, за власть над мiром — и так и делают. А мы говорим: война за мир, за примирение, освобождение мipa, — и нам следует делать так, как мы говорим. В слове «мир» немцы ставят точку над i. Неужели же все наше отличие от них только в том, что мы точки над i не ставим? На русском языке «мир» и «мiр» звучат одинаково: тем более нам нужно не языком, а сердцем отличить себя от наших врагов, сделать так, чтобы народы поняли, за что мы воюем, за власть над миром или за освобождение мира. Начнем же это делать с евреев. Но пусть не забывают народы угнетенные, что свободу может им дать только свободный русский народ. Пусть не забывают евреи, что вопрос еврейский есть русский вопрос.
В. С. СОЛОВЬЕВ (Речь, сказанная 14 ноября 1916 года на вечере в память В. С. Соловьева)
Почему сейчас поминки по B. C. Соловьеве своевременны?
Борьба с национализмом — этими двумя словами можно определить его религиозно-общественную деятельность. Но, кажется, он сам не понимал всего значения этой борьбы или, по крайней мере, не умел сказать о нем как следует — тут косноязычие, немота его пророческая.
Он верно предчувствовал, что от преодоления русского национализма зависят судьбы России.
О Русь! в предвиденье высоком Ты мыслью гордой занята; Каким же хочешь быть Востоком: Востоком Ксеркса иль Христа?Страшный вопрос. Конечно, быть Востоком Ксеркса, отрекшись от Христа, не лучше, а может быть, и хуже, чем совсем не быть. Но мы теперь начинаем понимать нечто еще более страшное, а именно, что вопрос о национализме, о нечестивом утверждении своего народа как абсолюта, как Бога есть вопрос не только о том, быть или не быть России, но и о том, быть или не быть всей Европе, всему человечеству.
Нынешняя война именно так ставит вопрос.
Это война небывалая, единственная во всемирной истории. Все прежние войны по сравнению с этою кажутся частными, условными, относительными, как бы даже вовсе не войнами. Это, в сущности, первая война, — мы не смеем сказать: и последняя, но во всяком случае первая безусловная, всеобщая, окончательная или бесконечная — абсолютная.
Абсолютная война — плод абсолютного национализма. Мы утешаемся тем, что абсолютный национализм — свойство наших врагов, а не наше. Пусть наш национализм меньший, условный, относительный. Но нельзя победить большего меньшим, абсолютного относительным. Можно победить ложный абсолют национализма, только противопоставив ему абсолют истинный, т. е. ограничив идею нации какой-либо другою идеею высшею. Какая же идея выше нации?
До войны мы сказали бы с легкостью: идея человечества. Теперь мы этого не скажем или, по крайней мере, скажем не с прежней легкостью.
Только теперь, на страшном опыте войны, мы узнали, какая кровавая тяжесть в идее нации. Можно сказать, что эта идея наливается всей кровью, льющейся на полях, сражений, а идея человечества той же кровью обескровлена. Можно сказать, что ни одна из идей так сейчас не поругана, не растоптана, не задавлена, не убита, как идея человечества; что сейчас идея нации самая живая, огненная, нужная и понятная всем, а идея человечества — самая отвлеченная, холодная, мертвая, никому не нужная и не понятная. Миллионы людей умирают за идею национальную, за отечество, а за идею всемирную, за человечество — кто умирает сейчас? И если даже такие люди есть, то мы о них говорим: «Чудаки, безумцы, мечтатели!»
Вот русские, немцы, французы, англичане, и все это люди. Люди на словах, а на деле — человек человеку зверь? Нет, не зверь, а дьявол.
Если мы этого не хотим, не хотим абсолютной, бесконечной войны — самоистребления человеческого рода, то мы должны вспомнить, что мертвая ныне идея человечества была живою; мы должны верить, что она будет живою.
Вл. Соловьев это помнил, в это верил, как никто: только об этом все его слова и немые пророчества. Он знал, как никто, что абсолютного национализма нельзя преодолеть ничем, кроме абсолютного человечества. Но идея человечества остается отвлеченною, идеальною безжизненною и бездейственною, если она не воплотилась в действительности, хотя бы в одной точке, в одной личности, в одном Абсолютном Человеке. Такой Абсолютный Человек — Богочеловек Христос. От Богочеловека к богочеловечеству — вот главная религиозная мысль Соловьева.
Л. Толстой противоположен Соловьеву во многом, между прочим, и в отношении к войне.
Толстой отрицает войну, как и всякое насилие, всякое «противление злу», и это отрицание истинно, праведно, свято, но одиноко, лично, безобщественно, а потому преждевременно, нереально, бездейственно. Чтобы так отрицать войну, как он, надо быть им — но он один.
Вл. Соловьев не утверждает и не оправдывает войны (утвердить и оправдывать ее нельзя), но принимает ее, смиряется, снижается до нее вместе со всеми для того, чтобы изжить ее до конца, преодолеть изнутри, точно так же, как он принимает весь процесс всемирно-исторический, который преодолевает, изживает себя до конца — до царства Божьего.
Л. Толстой так противоположен, враждебен Соловьеву, что иногда кажется ему «антихристом». А между тем в этом, в главном — в идее или, вернее, в чувстве всемирности — они поразительно сходятся. И Достоевский, злейший националист в минуты затмений, — в иные минуты (напр., в своей знаменитой речи о Пушкине) прямо утверждает, что «быть русским значит быть всечеловеком». Пушкин «перевоплощается» в другие нации художественно, Вл. Соловьев и Толстой — религиозно. Эта способность к перевоплощениям, переселениям души из одного национального тела в другое — вовсе не только идеальная возможность, но и самая реальная действительность, как бы явление той «новой твари», о которой говорит апостол Павел, — новое рождение, вхождение в иную плоть и кровь. Когда Соловьев защищает евреев или поляков, кажется, что он сам становится поляком и евреем («ожидовел», «ополячился» — бранятся непонимающие люди); он для них весь родной, «кровный», а для нас по-прежнему русский — еще более русский, чем прежде. И Л. Толстой для самых далеких, чуждых народов — такой же кровный. Тут уже не только метафизика, но и физиология: как в шариках крови есть что-то, отличающее желтую расу от белой, так, может быть, и здесь, в самом составе крови происходит зачатие какой-то новой расы всечеловеческой.
Это чудо перевоплощения, чудо всемирности есть русское чудо по преимуществу, особый дар Божий, великий и страшный. Можно бы сказать, что национальное призвание России заключается в преодолении национальности, в достижении всечеловечности. Хотим или не хотим, нам от этого не отделаться. И всемирною войною задача русской всемирности поставлена так, как еще никогда.
О Русь! в предвиденье высоком Ты мыслью гордой занята; Каким же хочешь быть Востоком: Востоком Ксеркса иль Христа?России надо ответить на этот вопрос. И вовсе не радость, не гордость наша, а ужас в том, что, кажется, мы одни понимаем как следует, что быть со Христом или; против Христа — значит быть или не быть не только нам, но и всему человечеству.
Если Христа не было, то не будет конца абсолютному национализму, абсолютной войне — и мир погиб, и мы уже видим начало этой гибели. Но Христос был — и мир спасен, и мы уже видим или скоро увидим начало спасения. Вот что в наши дни мог бы сказать Вл. Соловьев.
Он принимал войну вообще. И эту войну принял бы. Сказал бы, как мы говорим: ужасная, проклятая война, а все-таки надо воевать до конца. Но он имел бы право сказать и то, что многие сейчас говорят без всякого права: надо воевать до конца, потому что конец этой войны — конец всех войн.
Сказать вместе с Соловьевым: да будет абсолютное человечество, Богочеловечество — и значит сказать: да будет эта война концом всех войн, да будет вечный мир.
Это сказать сейчас нужнее, чем когда-либо, и вот почему своевременнее, чем когда-либо, наши поминки по Соловьеве.
ЧААДАЕВ 1794–1856
I
Adveniat regnum tuum.
В прошлом году исполнилось стодвадцатилетие со дня рождения Петра Яковлевича Чаадаева (1794–1914), и никто об этом не вспомнил; в будущем году исполнится шестидесятилетие со дня его смерти (1856–1916), и никто, вероятно, не вспомнит. Хотя у нас теперь столько годовщин, сколько на кладбище памятников, но Чаадаев забыт: на таких людей память у нас коротка.
«Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или том, что его не будет, — все равно, надобно было проснуться». Так описывает Герцен впечатление от «Философического письма» Чаадаева (1836).
«Никогда с тех пор, как в России стали писать и читать, никакое литературное или ученое событие не производило такого огромного влияния, не разносилось с такою скоростью и с таким шумом», — замечает другой современник (Жихарев) о том же «Письме».
Это — «месть», «выстраданное проклятие» России. «Оставьте все надежды». Россия гибнет. Ее прошедшее пусто, настоящее невыносимо, а будущего вовсе нет. Вся она — «только пробел разумения, грозный урок, „данный народам, — до чего отчуждение и рабство могут довести“».
Так понял Герцен Чаадаева; так поняли все — славянофилы и западники, либералы и консерваторы, умные и глупые, честные и подлые.
Поднялась «ужасная суматоха», как в разрытом палкой муравейнике. «Все соединилось в одном общем вопле проклятия и презрения к человеку, дерзнувшему оскорбить Россию».
«Письмо Чаадаева не что иное, как отрицание той России, которую с подлинника списал Карамзин» (кн. Вяземский).[31] «Чаадаев излил на свое отечество такую ужасную ненависть, которая могла быть внушена ему только адскими силами» (Татищев).[32] «Обожаемую мать обругали, ударили по щеке» (Вигель).[33] «Тут бой рукопашный за свою кровь, за прах отцов, за все свое и за всех своих… Это верх безумия… За это сажают в желтый дом» (кн. Вяземский).
Взывали к митрополиту Серафиму, дабы он обратил внимание на «богомерзкое письмо», где изрыгаются «дерзостные хулы на веру и отечество». Студенты Московского университета выражали попечителю, гр. Строганову, желание «с оружием в руках вступиться за оскорбленную Россию». «Мало было Сибири, каторги, кнута, крепости, чтобы достойно покарать изменника своему Богу и своему отечеству» (маркиз де Кюстин).[34]
Не понял Чаадаева и проницательнейший из русских людей, Пушкин. «Клянусь вам честью, я не хотел бы иметь другое отечество, ни другую историю, чем те, которые дал нам Бог». Как будто Чаадаев хотел иметь другое отечество!
«Поверьте, я больше, чем кто-либо из вас люблю свое отечество… Но я не умею любить с закрытыми глазами, с опущенной головой, с немыми устами… Я думаю, что прежде всего мы обязаны отечеству истиной», — ответил он (в «Апологии сумасшедшего») всем своим обвинителям, в том числе и Пушкину.
«Прошлое России было удивительно, настоящее более чем великолепно, а будущее превзойдет все, что может себе представить воображение самое смелое: вот с какой точки зрения должно рассматривать и писать русскую историю», — говаривал гр. Бенкендорф, шеф николаевских жандармов. Разумеется, не так любил Россию Чаадаев.
Император Николай Павлович на «Философическом Письме» положил резолюцию: «Прочитав статью, нахожу, что содержание оной — смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного».
Вспомнили, что Чаадаев принадлежал к Союзу благоденствия и, может быть, к Тайному обществу 14 декабря, заподозрили связь «Письма» с какою-то «политическою сектою», чуть не целым заговором.
Нарядили следственную комиссию, и хотя никакого заговора не открыли, но с виновными расправились жестоко, даже по тому времени: журнал «Телескоп», где напечатано «Письмо», запрещен, редактор Надеждин сослан в Усть-Сысольск, цензор Болдырев отрешен от должности, а Чаадаев объявлен, по высочайшему повелению, «сумасшедшим», о чем послан указ московскому военному генерал-губернатору.
Так повторилась история Чацкого — «горе от ума». И никого не удивила эта небывалая казнь сумасшествием.
Только по особой милости не посадили Чаадаева в сумасшедший дом, а отдали под «медико-полицейский надзор».
Он был мудрец, но не мученик. Как это часто бывает с людьми смелыми в мыслях, он оказался робким на деле. В первые минуты храбрился, объявил, что «не отрекается от своих мыслей и готов их подписать кровью», — но потом не выдержал.
«Прочтя предписание (о своем сумасшествии), — доносил Бенкендорфу начальник московского корпуса жандармов, — он смутился, чрезвычайно побледнел, слезы брызнули из глаз, и не мог выговорить ни слова. Наконец, собравшись с силами, трепещущим голосом сказал: „Справедливо, совершенно справедливо!“ И тут же назвал свои письма „сумасбродными, скверными“».
«Чаадаев сильно потрясен постигшим его наказанием, — сообщал А. И. Тургенев,[35] — сидит дома, похудел вдруг страшно, и какие-то пятна на лице… Боюсь, чтобы он и в самом деле не помешался».
«Я должен видеть у себя ежедневно господ медиков, ex officio меня навещающих, — вспоминал сам Чаадаев. — Один из них, пьяный штаб-лекарь, долго ругался надо мною самым наглым образом».
(Этот пьяный штаб-лекарь, ругающийся над сумасшедшим философом, — не вечный ли символ русского просвещения?)
«Развязки пока не предвижу, да, и признаться, не разумею, какая тут может быть развязка. Сказать человеку: „ты с ума сошел“ — не мудрено; но как сказать ему: „ты теперь в полном разуме“?.. Земная твердость бытия моего поколеблена навеки».
Через год надзор был снят, под условием «не сметь ничего писать».
II
Чаадаев не помешался, но существование его было «опрокинуто» — никогда уже не мог он оправиться: замкнулся в себе, ушел в свою скорлупу, застыл, окаменел, как бы умер заживо, и остальные двадцать лет жизни провел в Москве — «Некрополисе», городе мертвых — как мертвый.
Как труп, в пустыне я лежал …
«Моя смешная жизнь… Всегда в самом печальном бывает смешное», — говаривал он с горькой улыбкой. Казнь сумасшествием — казнь смехом — это клеймо осталось на нем. «Басманный мудрец», «плешивый лжепророк», «дамский философ», «старых барынь духовник, маленький аббатик».
Все кричат ему привет С оханьем и писком; А он важно им в ответ: «Dominus vobiscum!»Он человек своего времени — отставной лейб-гвардии гусарского полка штаб-ротмистр, русский барин-помещик (хотя и продал свое имение, чтобы не владеть «рабами»), избалованный, изнеженный, ленивый и праздный, весь в долгу как в шелку.
Смолоду красавец и щеголь, до конца дней чрезмерно заботится о своей наружности. «Совершенная кокетка: по часам просиживал за туалетом, чистил рот, ногти, притирался, мылся, холился, прыскался духами».
Мнителен, как все ипохондрики (в молодости лечился от «гипохондрии», как от настоящей болезни). Боялся холеры до смешного. «Мне все кажется, что он немного тронулся… Деликатно хочу напомнить ему, что можно и должно менее обращать на себя и на das liebe Ich внимания, менее ухаживать за собою, не повязывать пять галстухов в утро, менее холить свои ногти, и зубы, и свой желудок… Тогда и холеры и геморроя менее будем бояться» (А.И. Тургенев).
Детски тщеславен и суетен. Любит, чтоб «вся Москва» вельможно-вольнодумная съезжалась на его понедельники. «Он принимал посетителей, сидя на возвышенном месте, под двумя лавровыми деревьями в кадках; справа находился портрет Наполеона, слева — Байрона, а напротив — его собственный, в виде скованного гения» (Вигель). По этой карикатуре, не столько злой, сколько злобной, можно судить, какие легенды ходили о нем.
С годами все больше опускался, погружался в «обломовщину». Зиму и лето проводил безвыездно в своей квартире на Новой Басманной, в одном из флигелей дома Левашовой (в другом флигеле жил М. Бакунин и часто бывал у соседа). За тридцать лет ни разу не ночевал за городом. Все не мог собраться перекрасить у себя полы и стены, поправить печи. Дом разрушался от ветхости, пугая своим косым видом хозяина и его посетителей.
Почти никуда не выходил. «Выхожу только для того, чтобы найти минуту забвения в тупой дремоте Английского клуба» (1845).
До какого малодушия он способен был доходить, видно по истории с Герценом. Когда в одной из своих заграничных книг («О развитии революционных идей в России». Париж, 1851) Герцен упомянул о Чаадаеве, тот перепугался не на шутку, написал по начальству унизительное оправдание, называя сочувственный отзыв Герцена «наглой клеветой», а в то же время самого Герцена благодарил и клялся ему в вечной любви. Когда же кто-то удивился этой «бесполезной низости» (bassesse gratuite), Чаадаев, подумав немного, сказал: «Надо, мой милый, беречь свою шкуру» (Mon cher, on tient à sa peau).
Конечно, все сознавал с неумолимою ясностью, как человек в летаргическом сне, когда его хоронят заживо. Судил себя страшным судом: «Я себя разглядел и вижу, что никуда не гожусь… Но неужто и жалости не стою?»
С виду был спокоен, сдержан, вежлив и холоден — «точно заморожен». Как посторонний наблюдатель, смотрел на бегущие мимо дела и лица с «язвительным снисхождением».
«Что бы нам ни готовило будущее, скрестим руки на груди и будем ждать».
Только иногда вырывается у него крик отчаяния: «Мы затопили у себя курную избу, сидим в дыму — зги Божьей не видать…»
«Величайшая глупость — надеяться на что-то, сидя в гнилой трясине, в которую каждое движение все больше погружает…»
Страдал неимоверно. «Бывали минуты, когда я не знал, что со мною будет, и помышлял невольно о самоубийстве».
Так тихо замучен, задушен этот «сумасшедший мудрец». Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес…Шеллинг называл его «одним из замечательнейших людей своего времени». Пушкин считал своим спасителем:
В минуту гибели над бездной потаенной Ты поддержал меня недремлющей рукой.«Никогда я тебя не забуду. Твоя дружба заменила мне счастье, — одного тебя может любить холодная душа моя» («Кишиневский дневник», 1821).
И теперь, почти ровно через восемьдесят лет (тоже годовщина: 1836–1916) стоит перечесть «Философическое письмо» — эти двадцать страничек, которые, подобно стихам Пушкина, не умрут, пока жива Россия, чтобы убедиться, что Чаадаев — одно из величайших явлений русского духа.
Что-то было в самой наружности его, что «производило необыкновенное впечатление даже на детей».
Высок ростом, худощав, строен; всегда безукоризненно одет. «Бледное, нежное лицо совершенно неподвижно, когда он молчит, как будто из воску или мрамора»; «чело, как череп голый»; женственно-тонкие губы улыбаются насмешливо, а серо-голубые глаза смотрят с добротою печальною: «Лучше всего на свете доброта», — говаривал он.
Женщины поклоняются ему. Кажется, только они и знают его как следует.
«Провидение вручило вам свет слишком яркий, слишком ослепительный для наших потемок… как бы Фаворское сияние, заставляющее людей падать лицом на землю», — писала ему одна из них. «Я хочу просить вашего благословения… Мне было бы так отрадно принять его от вас, коленопреклоненной… Не удивляйтесь и не отрекайтесь от моего глубокого благоговения — вы не властны уменьшить его», — писала другая, Авдотья Сергеевна Норова. Неразделенная любовь к нему свела ее в могилу. Но двадцать лет спустя он вспомнил об этой любви и завещал похоронить себя рядом с Норовой.
Кажется, никогда не любил женщины. Подобно многим русским романтикам 20 — 30-х годов — Станкевичу[36] Константину Аксакову, Михаилу Бакунину, был прирожденный девственник. «Рыцарь бедный».
Он имел одно виденье, Непостижное уму, И глубоко впечатленье В сердце врезалось ему. С той поры, сгорев душою, Он на женщин не смотрел… Какое же это видение?III
«Всегда человечество, в целом своем, стремилось устроиться непременно всемирно. Много было великих народов с великою историей, но чем выше были эти народы, тем были и несчастнее, ибо сильнее других сознавали потребность всемирности соединения людей» (Достоевский).
Всемирность — вот главная и, в сущности, единственная мысль Чаадаева. «У меня только одна мысль. Если бы в уме моем случайно оказались другие, то они, конечно, прилепились бы к этой одной». Но тут не только мысль, а мысль, чувство и воля вместе — все существо его, вся его «энтелехия», как сказал бы Гёте, то «видение, непостижное уму», от которого он «сгорел душой».
Не поняв этого, ничего нельзя понять в Чаадаеве. «Философическое письмо» — только отрывок, обломок огромного здания. Политический вывод — без религиозной посылки; но, не зная посылки, нельзя понять вывод. Отрицание — без утверждения; но, не зная утверждения, нельзя понять отрицание. Тут глубина сомнения — от глубины веры; но сомнение показано, а вера спрятана. Страшную силу удара почувствовали все, но меча и руки, наносивших удар, никто не увидел. Все услышали «выстрел, раздавшийся в темную ночь», но кто, и в кого, и зачем стреляет — так и не поняли. Вот почему настоящий смысл «Письма» остался неразгаданным.
Смысл его таков.
Церковь римско-католическая наиболее из всех церквей обладает религиозным сознанием всемирности, религиозной волей ко всемирности: недаром «католичество» и значит «всемирность». В течение пятнадцати веков народы Запада под сенью римской церкви жили одною жизнью, как члены одной семьи. Помогали друг другу, друг друга поддерживали и влекли на одном пути к одной цели. Благодаря этим общим усилиям, опередили они все остальные народы. Руководимые церковью, в поисках «Царства Божьего», нашли попутно все блага земные — науку, искусство, гражданственность. И так был силен этот первый толчок, что он и доныне двигает народы, как всемирное тяготение двигает планеты вокруг солнца.
Россия одна не участвует в общем движении. Христианство, «воспринятое из зараженного источника, из растленной, падшей Византии, отказавшейся от единства церковного», уединило Россию, исторгло ее из тяготения всемирного, бросило в пустое пространство, как метеор блуждающий.
Римская церковь в тысячелетней борьбе с римскою империей, утвердила свободу свою от власти мирской, от государства — и свобода церкви сделалась источником всех гражданских свобод: «Все политические революции Запада в сущности — революции духовные».
Русская церковь поработилась государству, и рабство церкви сделалось источником всех наших рабств. Русское социальное развитие — единственное во всемирной истории, в котором все с самого начала стремится к порабощению личности и общества.
Вот почему у нас нет истории в подлинном смысле этого слова. Стоя как бы вне времени, мы лишены чувства всемирно-исторической непрерывности. «Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошлого и будущего, среди мертвого застоя… Мы так странно движемся во времени, что с каждым следующим мигом миг предыдущий исчезает для нас безвозвратно».
«Вот почему одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его… Мы взяли все у других и все исказили… Ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины; ни одна великая истина не вышла из нашей среды». «И кто скажет, когда наконец мы обретем себя среди человечества и сколько бед нам суждено испытать, прежде чем исполнится наше призвание?»
Таково отрицание Чаадаева, услышанная всеми «отходная» России; а вот и утверждение, воскрешающий зов, никем не услышанный: «Пока из наших уст, помимо нашей воли, не вырвется признание во всех ошибках наших прошлого; пока из наших недр не исторгнется крик боли и раскаяния, отзвук которого наполнит мир», мы не увидим спасения.
Не проклятие и гибель России, а покаяние и спасение — таков настоящий смысл «Письма» и всех вообще писаний Чаадаева. Это глас Предтечи, глас вопиющего в пустыне: покайтеся, приготовьте путь Господу.
У нас нет прошлого, зато в настоящем — два огромных преимущества: первое — неопытность, нетронутость, девственность души («открытый лист белой бумаги, на котором ничего не написано», по выражению Мицкевича); второе — возможность использовать опыт наших старших братьев — народов европейского Запада.
Позади нас пустота. Но эта пустота может быть свободою. «Русский человек — самый свободный человек в мире» — в возможности.
«Мы — огромная внезапность (spontanéité) без внутренней связи с прошлым, без прямой связи с настоящим». Путь Запада — постепенное развитие, путь эволюционный, наш — революционный, потому что, в противоположность Западу, мы только и делаем, что разрываем с прошлым.
Россия прежде всех других народов призвана осуществить обетования христианства. Мы еще не начинали жить. Но «настанет день, когда мы займем в духовной жизни Европы такое же место, какое занимаем сейчас в ее жизни политической, и здесь наше влияние будет еще несравненно могущественнее, чем там. Таков естественный плод нашего долгого уединения, ибо все великое зреет в одиночестве и в молчании».
Сила Западной церкви — в расширении, во внешнем, общественном, социальном делании; сила церкви Восточной — в углублении, в делании личном, внутреннем (аскетическом подвиге). Но это две половины единого целого. Мы должны соединить религиозную правду личную с религиозной правдой общественной, ибо только в этом соединении полнота христианской истины. А в осуществлении этой полноты и заключается наше призвание вселенское.
IV
О Чаадаеве с большим правом, чем о ком-либо другом, можно сказать: тон делает музыку. Мысли его легко передать, но непередаваем их тон — звук всемирности. До него никто в России не говорил таким всемирным голосом. Тут впервые загорается всемирно-историческое сознание России; впервые дается всемирно-исторический разрез национального русского духа. Тут русская река впадает в океан всечеловеческий.
Да, своим обвинителям, славянофилам, Чаадаев имел право сказать: «Я больше, чем кто-либо из вас, люблю мое отечество». Они любят прошлое и хотят сделать его настоящим и будущим. Это значит мало любить Россию, мало верить в нее. Чаадаев любит будущую Россию и верит в нее так, как до него никто не любил и не верил.
«Прекрасная вещь — любовь к родине, но есть еще нечто более прекрасное — любовь к истине. Не через родину, а через истину ведет путь на небо». Что истина христианства не национальна, а всемирна — это общее место, в отвлеченности; но в действии новизна необычайная, острота невыносимая. Страшные силы национализма топчут всемирность христианства, как степную траву топчет конь Атиллы: где прошел этот конь, там трава не растет. Вот против этой-то страшной силы и восстает Чаадаев.
Это величайшее из всех восстаний человеческих. И не понимающий религиозной глубины Чаадаева Герцен все-таки прав, когда вписывает имя его в русский революционный синодик. И не правы новейшие исследователи, когда стараются это имя оттуда вычеркнуть.
Пусть для самого Чаадаева политика — в чужом пиру похмелье; пусть малодушно уверяет он, что 14 декабря — «огромное несчастие, отбросившее Россию на полвека назад», он все-таки учитель и пророк Декабрьского восстания.
Россия вспрянет ото сна, И на обломках самовластья Напишут наши имена!Во всяком случае имя Чаадаева с этих обломков никто не сотрет.
V
«Недавно мир жил в спокойной уверенности в своем настоящем и будущем… В этом счастливом мире всего мiра, в этом будущем я обретал мой собственный мир, видел мое собственное будущее. И вдруг случилась глупость одного человека… И вот спокойствие, мир, будущее — все разлетелось прахом… У меня, я чувствую, слезы навертываются на глаза, когда я смотрю на это великое бедствие старого, моего старого общества. Это всеобщее горе, обрушившееся столь внезапно на мою Европу, усугубило мое личное горе», — писал Чаадаев Пушкину по поводу июльской революции 1831 г.
«Моя Европа» — этого никто из русских и, может быть, даже никто из европейцев не говорил так, как Чаадаев. «У нас две родины — наша Русь и Европа» (Достоевский). Нет, не две, а одна. Одна земля — «земля ничья — земля Божья», это чувство всемирноcти — русское народное чувство по преимуществу.
Славянофилам, ученикам немца Гегеля, Чаадаев кажется изменником России, каким-то чужеземным «оборотнем». Но ведь и Петр, и Пушкин — такие же оборотни. Способность к превращениям, перевоплощениям из одного национального тела в другое — есть тоже русская способность по преимуществу. «Быть русским — значит быть всечеловеком», — говорит националист Достоевский. И славянофил Тютчев как будто отрекается от родины:
Ах, нет! Не здесь, не этот край безлюдный Был для души моей родимым краем…И Герцен, и Бакунин, и Вл. Печерин, и Л. Толстой, и Вл. Соловьев — все они, подобно Чаадаеву, «русские бегуны», «странники», «здешнего града не имеющие, Вышнего Града взыскующие».
Нет у вас родины, нет вам изгнания…В них во всех совершается тайна русской безродности, бездомности. Как будто измена родине, а на самом деле наибольшая верность ей. В них во всех совершается тайна русской всемирности.
Всемирность — не космополитизм, не международность, не бледная немочь, бескровность нации, а кровь ее, самая красная, самая жаркая; не отрицание народности, а ее утверждение высшее, ибо только во всемирности народность исполняется.
Да, все они — самые русские из русских людей.
Слишком ранние предтечи Слишком медленной весны…И самый ранний — Чаадаев. Самый несовременный своему времени, самый будущий.
«Совершается великий переворот… Рушится целый мир… Разве это не конец мира?» — пишет он в том же письме к Пушкину об Июльской революции.
Каждый переворот всемирно-исторический есть горный перевал, откуда открывается последний горизонт, конец всемирной истории — то, что христианство называет «кончиной мира», «Апокалипсисом». Чувство всемирности и есть «чувство конца».
Вот почему такая грусть и радость в глазах Чаадаева. Как будто они уже видят то, чего ничьи глаза еще не видели; как будто уже отразилось в них видение Конца.
И в этом он — самый русский из русских людей. На вопрос, что такое русский народ в религиозном смысле, можно бы ответить: народ, наиболее предчувствующий «конец всемирной истории», наиболее ищущий «всемирного соединения людей» — Града Божьего, Царства Божьего.
«Adveniat regnum tuum. Да приидет царствие Твое» — эту молитву всю жизнь твердил Чаадаев.
В наши дни — дни всемирного разъединения людей, всемирной войны — эта молитва самая забытая, невнятная и как будто ненужная. Но «мы не увидим спасения, пока из наших недр не исторгнется крик боли и раскаяния, отзвук которого наполнит мир» — эти слова Чаадаева можно бы повторить сейчас уже не только о России, но и о всей Европе, о всем человечестве.
Вот почему так близок нам сейчас этот странный человек с бледным и нежным, как из воска, лицом, с глазами радостно-грустными и с вечной молитвой на устах: «Да приидет Царствие Твое».
УБИЙЦА ЛЕБЕДЕЙ
Изучая естественные науки, знаменитый доктор Трибулá Бономе узнал, что лебеди поют, умирая. И ему захотелось послушать эту музыку.
В дремучем, покинутом парке, под тенью вековых деревьев, нашел он древний, священный пруд, где двенадцать тихих птиц скользили по темному зеркалу вод. Черный лебедь сторожил их по ночам, бодрствуя, с широко открытыми глазами; в длинном, розовом клюве он держал гладкий камень, который ронял в воду при малейшей тревоге, и, услышав падение, разлетались лебеди.
Однажды в осеннюю темную ночь, томимый бессонницей, Бономе встал и оделся в нарочно приготовленное платье: огромные гуттаперчевые сапоги на теплой подкладке, продолжавшие, без швов, непромокаемую куртку, такую же теплую, с парой стальных рукавиц, средневековым доспехом рыцарским (он приобрел его у продавца древностей). Нарядившись так, он вышел из дому, подкрался к пруду, погрузил в воду сперва один сапог, потом другой и пошел в воде — пруд был мелок, вода по пояс — с величайшей осторожностью, удерживая дыхание, чтобы не разбудить чуткого сторожа. Подойдя к нему и улыбаясь во мраке, начал царапать тихонько-тихохонько гладкое стекло воды, едва прикасаясь к нему указательным пальцем стальной рукавицы. Это царапанье было так слабо, что спящий лебедь, не просыпаясь, только прислушался. И, почуяв опасность, бедное сердце его забилось в ужасе.
И все остальные лебеди, не слыша падения камня, но чуя недоброе, расправили волнообразные шеи из-под серебряных крыльев, и сердца их забились в смертной тоске. И, слушая это биение, добрый старик упивался их ужасом.
— Как приятно поощрять художников! — шептал он, разнежившись.
Вдруг утренняя звезда озарила сквозь ветви черные воды, и белых лебедей, и отважного рыцаря. В то же мгновение испуганный сторож выронил камень… Но поздно! Испустив ужасающий крик, с протянутыми руками, с поднятыми когтями, кинулся убийца в стаю лебедей. Быстро сжимались железные пальцы и, вонзаясь в тонкие шеи, ломали их.
И душа умирающих возносилась бессмертною песнью. А благоразумный доктор, улыбаясь этой чувствительности, наслаждался музыкой («Убийца лебедей», Вилье де Лиль-Адан[37]).
Душа современного мещанства — благоразумное безумие, просвещенное варварство — таков смысл этой легенды.
Цеппелин, кидающий бомбы в Национальную библиотеку, пулемет, громящий Венеру Милосскую, двадцатидюймовая гаубица, разрушающая Реймсский собор, — все это подвиги знаменитого доктора: стальные пальцы, быстро сжимающиеся на тонкой шее лебедя.
Просвещенное варварство ставит вопрос не о каких-либо частях или свойствах, а о самой сущности современной культуры: неужели и вправду вся она — только лебединая песнь, услаждающая слух знаменитого доктора? Неужели и вправду едиными устами, единым сердцем исповедует современное человечество национализм, как последнюю истину?
По плодам узнаете их: национализм — дерево, милитаризм — плод; национализм — душа, милитаризм — тело. Не бестелесность, призрачность всякого тела — исходная точка современной гносеологии.
И «положительный» доктор — самый призрачный из призраков.
Когда-нибудь, поверь, настанет день, Когда все эти чудные виденья, И храмы, и роскошные дворцы, И тучами увенчанные башни, И самый наш великий шар земной, Со всем, что в нем находится поныне, Исчезнет все, следа не оставляя. И сами мы вещественны, как сны, Из нас самих родятся сновиденья, И наша жизнь лишь сном окружена.Жизнь — сон. Сны бывают дурные и хорошие. Война — дурной сон человечества.
Современная культура зиждется на глубочайших антиномиях, вечных колебаниях между идеализмом и материализмом. Но если последняя истина то, что время и пространство только «субъективные формы нашего мышления», если все лживо и призрачно, то последняя сущность идеализма и материализма одна и та же — нигилизм, воля к ничтожеству. «Мир как представление» — сновидение, покрывало Майи. «Преходит образ мира сего». Двадцатидюймовые гаубицы и меленитовые бомбы — только тщетные усилия разорвать это покрывало, проснуться от дурного сна. Милитаризм — облеченная в железо и кровь метафизика.
Вот почему варварство — плод современной культуры. Озверение, одичание. Озверение хуже зверства; одичание хуже дикости.
Калибан — неудавшийся воспитанник Просперо:[38]
Он черт, рожден он чертом; Воспитывал его напрасно я. Мои труды и все мои страданья Потеряны…Нам казалось, что борьба между Калибаном и Просперо кончена; нет, только начинается…
«Уж не это ли, в самом деле, достигнутый идеал? Не конец ли тут?… Все так торжественно, победно и гордо, что вам начинает дух теснить. Вы смотрите на эти миллионы людей, покорно текущих сюда со всего земного шара, — людей, пришедших с одною мыслью, тихо, упорно и молча толпящихся… и вы чувствуете, что тут что-то окончательное совершилось — совершилось и закончилось. Это какое-то пророчество из Апокалипсиса… Помню, раз, в толпе, на улице (в Гайд-Маркете, лондонском квартале проституток), я увидел одну девочку, лет шести, не более, всю в лохмотьях, грязную, босую, испитую и избитую… Она шла, как бы не помня себя, не торопясь никуда, Бог знает зачем, шатаясь в толпе; может быть, она была голодна. На нее никто не обращал внимания. Но что более всего меня поразило, она шла с видом такого горя, такого безысходного отчаяния на лице, что видеть это маленькое создание, уже несущее на себе столько проклятия и отчаяния, было даже как-то неестественно и ужасно больно. Она все качала своей всклоченной головой из стороны в сторону, точно рассуждая о чем-то, раздвигала врозь свои маленькие руки и потом вдруг всплескивала их вместе и прижимала к своей голенькой груди. Я воротился и дал ей полшиллинга. Она взяла серебряную монетку, потом дико, с боязливым изумлением, посмотрела мне в глаза и вдруг бросилась бежать со всех ног назад, точно боясь, что я отниму у ней деньги» («Зимние заметки о летних впечатлениях», Достоевский).
Что ужаснее — кровь, льющаяся, как вода, с паперти Реймсского собора, или удивленные глаза этой девочки? Оба ужаса одинаковы: война только вскрывает то, что было в мире. В мире мы об этом забыли, — может быть, вспомним в войне.
В войне и в мире дух просвещенного варварства — дух небытия. Материализм современной культуры — мнимый реализм; идеализм религии — реализм культуры подлинный. «Господь — крепость жизни моей». Если Он истинен, то истинно все; если Он — ложь, то все ложно и призрачно.
Страшный суд над нами совершается — не над кем-либо из нас, а над всеми, ибо все повинны в крови, льющейся с паперти, и в удивленных глазах маленькой девочки.
«Валтасар царь сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и пред глазами тысячи пил вино… Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища дома Божия в Иерусалиме; и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его. Пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады, на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем; мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колена его стали биться одно о другое». И явился пророк, и прочел написанное: «Мене, Мене, текел, упарсин… Исчислил Бог царство твое и положил конец ему; ты взвешен на весах и найден очень легким; разделено царство твое и дадено мидянам и персам».
Не будем ли и мы на тех же весах взвешены и найдены очень легкими? Мнимая тяжесть — действительная легкость ученого доктора, убийцы лебедей, который никогда не узнает, о чем они перед смертью поют.
ВОЙНА И РЕЛИГИЯ
Когда ночью проснешься и вдруг вспомнишь: «война!» — в душе подымается ужас. Можно ли воевать, чем оправдать войну, какой смысл в войне, — как бы мы ни отвечали на эти вопросы, ужас остается ужасом.
Людоедство некогда казалось естественным. Люди ели человечье мясо, не думая о том, можно или нельзя есть; потом перестали, тоже не думая, потому что вкус человечьего мяса им опротивел. И того, кто теперь вздумал бы отведать его, постигла бы участь Дон-Жуановых спутников, которые после кораблекрушения, умирая от голода, убили человека и съели: «они сошли с ума — went raging mad».
Война людям все еще кажется естественной, и они воюют, не думая о том, можно или нельзя воевать; перестанут, тоже не думая, когда война им опротивеет. И это уже начинается. Вот Леонардо да Винчи называет войну «самым зверским из сумасшествий — bestialissima pazzia»; вот Л. Толстой говорит о войне такую правду, какой еще никто никогда не говорил. А что в немногих великих, то и во многих маленьких: вот русский солдат ранил австрийца штыком, потом взял его себе на плечи, долго нес, ухаживал за ним, а когда он умер — сошел с ума от жалости и ужаса.
Наше возмущение «немецкими зверствами» подобно возмущению людоедов тем, что человечье мясо едят недожаренным. Нет, уж лучше просто есть, не возмущаясь; чем хуже, тем лучше: скорее война опротивеет. Человек, оставаясь человеком, уже воевать не может: он должен озвереть. Говорят, в нынешних сражениях лошади грызутся: люди заражают зверей своим собственным зверством.
Закрыть глаза, отвернуться, уйти от этого ужаса — вот первое движение человека, который понял, что такое война. Но уйти некуда: хотим, не хотим — мы все в войне, все убийцы или убитые, едущие или едомые.
Не уйти от войны одному: все виноваты и все должны покаяться. А уходить одному, брезгать, умывать руки, может быть, больший грех, чем вместе со всеми в войне участвовать.
«Вот пришел Касьян-угодник и Никола-угодник к Богу в рай.
— Где ты был, Касьян-угодник? — спросил Бог.
— Я был на земле; случилось мне идти мимо мужика, у которого воз завяз; он попросил меня: помоги воз вытащить; да я не захотел марать райского платья.
— Ну, а ты, Никола-угодник, где так выпачкался?
— Я был на земле, шел по той же дороге и помог мужику вытащить воз.
— Слушай, Касьян, — сказал тогда Бог, — за то, что ты не помог мужику, будут тебе через три года служить молебны. А тебе, Никола-угодник, за то, что помог мужику воз вытащить, будут служить молебны два раза в год».
Воз человечества завяз в грязи и в крови. Не будем же проходить мимо, сохраняя чистоту райского платья, будем вытаскивать воз, пачкаясь в крови и в грязи.
Что есть кое-что и в войне доброе, это сейчас все видят. Так уж мир устроен, что ценою великого зла покупается великое благо. Дьявол служит Богу нечаянно; но человеку все-таки надо сделать выбор между Богом и дьяволом.
Одно из «благ» войны — познание народа. Мы всегда верили в народ; теперь уж не верим, а видим, знаем. Не то удивительно, что народ в войне храбр, а то, что, несмотря на все усилия сделать из него «зверя», он сохраняет человечность, образ и подобие Божие. Золотая руда была землей засыпана, покрыта вековой ржавчиной. Но меч ударил по ней — и вот разрез ее сверкающий.
Золото, золото — сердце народное!
Еще удивительнее познание того, что мы так презрительно называли доныне «мещанством» современной Европы. По всей вероятности, эта война — конец старого порядка «мещанского», начало нового, неизвестного. И вот надо быть справедливым: есть величие в этом конце. Если начало «мещанской» Европы в Великой революции было прекрасно, то и конец — в великой войне — так же прекрасен.
Золото, золото — сердце мещанское!Конец «мещанства» — конец «индивидуализма», мнимого, нерелигиозного утверждения личности.
— Сейчас одно из двух: или уйти на войну, или уйти в себя, — говорил мне один из последних русских «индивидуалистов».
Это, конечно, самообман: в себя от войны не уйдешь, потому что война, не только вне нас, но и в нас самих. Именно сейчас, в этой войне без вождей, без героев, без личностей, больше чем когда-либо чувствуется малость одного, величие всех.
Тут есть правда, но есть и ложь или опасность лжи. Война — затмение личности, не только мнимой, но и подлинной. От Байрона до Ибсена, от Достоевского до Ницше — мещанский индивидуализм не ответил на религиозный вопрос о личности, но поставил его так, как он еще никогда не ставил. Ответа на этот вопрос— вот чего ждет Европа не от войны, а от того, что будет или может быть после войны.
А чего ждет Россия?
Для России возможны два исхода.
Один — порабощающий, победа зверского национализма и милитаризма, которая страшнее всех поражений. Почти все, что сейчас говорится и делается, направлено в эту сторону; почти вся льющаяся кровь — вода на эту мельницу. Но если так, желать ли победы? Внутренний враг не злее ли внешнего?
Нельзя не желать победы. И если нельзя победить, не соединившись с внутренним врагом, то надо с ним соединиться, но при этом — сознавать опасность того, что делаешь, чтобы не оказаться в дураках или в изменниках.
Другой исход — освобождающий. Что народ идет на войну, пусть еще бессознательно или полусознательно, за какой-то правдой и что правда эта будет «обновлением» России — мы все надеемся. Но одной надежды мало: надо готовить этот исход, закреплять в сознании мгновенный, стихийный порыв. Русская интеллигенция — сознание России. Сейчас менее, чем когда-либо, должно ей отрекаться от себя самой.
Кто нынче не верит во все что угодно, иногда с безумной и преступной легкостью? Дешева стала вера, сомнение — дорого. Сомнение — сознание — «воздушная разведка» над вражеским станом. Не будем же бояться сомнений, не будем стрелять по своим собственным летчикам.
«Война с войной», «война за мир» — пустые слова, хуже чем пустые — лживые, пока торжествует национализм звериного образа. Мы видим его в наших врагах; увидим же и в нас самих.
Изживание войны — изживание национализма. Война есть предел насилия. Христианством насилие не отрицается, а преодолевается, изживается. Религиозная антиномия насилия, антиномия войны — «нельзя и надо» воевать, «нельзя и надо» убивать — неразрешима в позитивной плоскости. Задача русского сознания, русской интеллигенции, заключается в том, чтобы перенести вопрос о войне из позитивной плоскости в религиозную, где эта антиномия разрешается: «нельзя и не надо».
Если эта война — «война всего мipa», то и конец ее, мир, — «мир всего мipa».
«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мip, Я даю вам».
Mip хотел дать свой мир, без Христа, — и вот что дал. Пусть же этот урок не пройдет для нас даром.
Мир всего мipa — последний мир — последнее освобождение. Истолковать народу освобождающий религиозный смысл не войны (у войны нет религиозного смысла), а того, что будет или может быть после войны, — задача русского сознания.
Гром не грянет — мужик не перекрестится. Грянул гром войны, и перекрестился народ. Перекрестимся же и мы. Народ не услышит нас и не пойдет за нами, пока мы этого не сделаем.
Религия — «частное дело» — Privât Sache. До чего доводит это утверждение мнимой религиозной личности, религиозного «индивидуализма», мы видим воочию на страшных судьбах Германии. Пусть же и этот урок не пройдет для нас даром. Нет, религия — не частное, а общее дело, самое общее, самое общественное из всех дел человеческих.
Что такое христианство, что такое Христос как начало религиозной общественности, — пока мы не ответим на этот вопрос, мы не сможем ответить и на вопрос, чего Россия ждет от войны.
ДВА ИСЛАМА
Страшно, что все мы были так слепы — слепы, как щенки новорожденные. За день, за час, за миг ничего не предвидели. Как во дни Ноя, перед потопом, ели, пили, посягали. И когда увидели, то все еще не верили.
«Конец мipa идет», — кричали нам пророки, до последнего дня, до последнего часа, до последнего мига. Но мы не верили, не видели, не слышали. Закрывали глаза, чтобы не видеть, затыкали уши, чтобы не слышать.
«Конец мipa»? Нет, еще не конец, но начало конца или, вернее, начало всех концов. Что именно конечные судьбы Божьи на наших глазах совершаются, — надо быть слепым, чтоб этого не видеть.
Война России с Турцией и, может быть, всего христианского Запада со всем мусульманским Востоком — тоже одно из начал одного из концов. Эта война началась еще в дохристианской древности, в борьбе иудейского и потом эллино-римского Запада с ассиро-вавилонским и персо-мидийским Востоком; продолжалась в Средние века, в войнах крестоносцев; и вот, на наших глазах, кончается.
Если бы мы не были так слепы, то предвидели бы не только всемирно-историческую, но и метафизическую неизбежность того, что сейчас происходит в союзе Германии с Турцией.
От исторического христианства получили мы в наследие почти неодолимое предубеждение — род суеверия — против ислама как «ложной религии». Но понятия лжи и религии несовместимы. Нет ложных религий, есть только более или менее истинные. Зерно истины заключается в каждой из них. Поскольку религия есть религия, т. е. утверждение божественных ценностей, она не может не быть истинной. В этом смысле ислам — истинная религия.
«Allach akbar — Бог велик» — таково единственное откровение ислама. Бог велик и един. Нет Бога, кроме Бога. «„Ислам“ значит покорность Богу. Мы должны покоряться Богу. Вся наша сила заключается в покорном подчинении Богу, во всем, что Он ниспослал бы нам, как в этом, так и в другом мире. Все, что Он посылает нам, будет ли это смерть, или что-либо еще хуже, чем смерть, мы должны принимать за благо; мы предаем себя на волю Божью» — так определяет Карлейль сущность ислама. «Если это ислам, то не живем ли мы все в исламе», — спрашивает Гёте.
Нынешний политический, а, может быть, и больше, чем политический, союз Германии с Турцией — всемирно-историческое осуществление Гётева пророчества о «Западно-Восточном Диване» (Westostlicher Diwan) — союз мусульманского Ближнего Востока с протестантским Средним Западом.
Ислам — «реформация» семитов, реформация — «ислам» арийцев. Два ислама, две реформации — метафизически — соответственные, обоюдные: обе — движение назад, возвращение, реакция: ислам — к первоиудейству, как будто христианства не было, протестантизм — к первохристианству, как будто церкви не было. Дело испорчено, надо поправить, а для этого все начать сызнова — такова общая мысль Магомета и Лютера.[39]
Главная притягательная сила обеих религий — общедоступность, общепонятность, приспособленность к среднему человеческому уровню. Обе религии — «в рост человеческий». Ничего сверхсильного, сверхмерного. Все метафизические крайности сглажены, все острия сломаны. Самые удобные, умеренные, естественные, разумные, «рациональные» религии — религии «здравого смысла», по преимуществу.
Бог внемирен, «трансцендентен», непознаваем, невоплошаем. Отсюда — «иконоборчество», отрицание всех божественных знаков и знамений, «символов» (предполагающих «имманентность», воплощаемость Бога). Вот почему так просто, пусто, чисто, светло, и голо, и холодно в обоих храмах — протестантской церкви и мусульманской мечети.
Монизм, детерминизм — два главных догмата обеих религий. Монизму религиозному, единобожию, противоречит или как будто противоречит догмат о Троице, о воплощении Сына Божьего. Вот почему оба «ислама» сводят Христа к «человеку Иисусу»; мусульманство — сразу, догматически, протестанство — мало-помалу, критически: от Лютера к Фейербаху[40] и Гарнаку,[41] от Гарнака к Ницше. У аверроистов, средневековых арабских комментаторов Аристотеля, точно так же, как у современных германских ученых, метафизическое единобожие становится «научным монизмом», материализмом; единство воли Божией — единством «законов естественных». И религиозному «фатализму», который нашел свое протестантское завершение в учении Кальвина, соответствует научный «детерминизм»; «оправданию верою» — оправдание ведением.
«Никогда не приходилось мне читать такой томительной книги… Невыносимая бестолковщина! Правда, многое, говорят, записано на бараньих лопатках, брошенных без всякого разбора в ящик». «Как бы то ни было, но книга написана невозможно скверно, так скверно, как едва ли была написана когда-либо другая книга», — замечает Карлейль о Коране.
Но если буква Корана темна и мертва, «бестолкова», то дух его мудр, огненен и жив. Кажется, Пушкин, в своих «Подражаниях Корану» проник в него глубже, чем когда-либо.
Недаром вы приснились мне В бою, с обритыми главами, С окровавленными мечами, Во рвах, на башнях, на стене. Внемлите радостному кличу, О дети пламенных пустынь! Ведите в плен младых рабынь, Делите бранную добычу! Вы победили: слава вам, А малодушным посмеянье. Они на бранное призванье Не шли, не веря дивным снам.«Священная война» — вот смысл Корана. Да примут Ислам все племена и народы, вся «дрожащая тварь», а кто не примет — огнем и мечом истребится. Один Бог, один Пророк, одно царство — от Гималая до Гибралтара. Записанное «на бараньих лопатках» запишется и на страницах всемирной истории.
Священная Война, война — религия — этого нет ни в одной религии, кроме ислама, по крайней мере, в такой степени. Война и в христианстве освящается почти так же, как в исламе, — почти, но не совсем.
Lumen coelié, sancta Rosa! Восклицал он, дик и рьян, И, как гром, его угроза Поражала мусульман.Но недаром «он имел одно виденье, непостижное уму»:
Все безмолвный, все печальный, Как безумец умер он.Еще безумнее — Франциск Ассизский, в Саладиновом лагере, умоляющий неверных сложить оружие, прекратить войну, «ради Христа»; еще безумнее Л. Толстой с «Войной и миром»; еще безумнее тот русский солдат, который ранил австрийца штыком, а потом взял его к себе на плечи, долго нес и, когда тот умер, сошел с ума от жалости и ужаса.
Можно ли врага любить и убивать? Можно. А если и нельзя, то все-таки надо. Нельзя и надо — тут противоречие, раздирающее душу, хотя и тайное. Но шила в мешке не утаишь.
Вот этого-то шила нет в исламе: там что надо, то и можно. Там война для войны, в христианстве война для мира. Ислам живет войною; христианство войну изживает. И никогда еще это изживание не чувствовалось так, как сейчас.
В союзе Турции с Германией два «ислама», протестантский и мусульманский, соединились именно в этом своем главном, единственном догмате — Священной Войне — войне как религии.
Между императором Вильгельмом, объявившим войну всему христианскому человечеству «во имя Христа», и «Антихристом» Ницше существует глубокая религиозная связь. О, конечно, это еще не Антихрист, а разве только «щенок Антихристов», как называли раскольники Никона; но и в щенке — Зверь.
Ницше подумал, Вильгельм сделал. Ницше от Христа отрекся и сошел с ума; Вильгельм от Христа не отрекался и с ума не сходил. Вильгельм, благоразумный, благополучный, благочестивый, и бездарный Ницше. Крови Господней причащается перед тем, чтобы пролить столько крови человеческой, сколько от начала мира не пролито. Это страшно, но еще страшнее то, что душа великого христианского народа — да, все-таки великого, все-таки христианского — не возмутилась этой кощунственной мерзостью, а если и возмутилась, то осталась безмолвною.
Вильгельму приснился тот же сон, как Магомету:
Недаром вы приснились мне В бою с обритыми главами, С окровавленными мечами, Во рвах, на башнях, на стене… Вы победили: слава вам,Магомета, одного из величайших людей, с Вильгельмом, одним из ничтожнейших, нельзя сравнивать, а если и можно, то разве только как лицо — с карикатурой. И уж во всяком случае, что этот сон не в руку, что эта война не «Священная» — нет никакого сомнения для всего христианского человечества.
Реки вспять не текут — религии не повторяются. Если в первом исламе абсолютная истина — «послушание Единому Богу», то во втором абсолютная ложь — послушание человеку единому.
Но ложь не в одном из христианских народов, а во всем христианском человечестве. Не только Германия, но и все народы в достаточной степени вытравляли Христа из христианства, утверждали «второй ислам» — послушание не Единому Богу, а человеку или человечеству единому, безбожный национализм и милитаризм, самую грешную из войн как Священную.
Ложь не извне, а внутри. И, не победив ее изнутри, себя не победив, никого не победим. За вторым исламом — третий, четвертый, десятый, бесчисленный, непобедимый, непоправимый, окончательный.
Ложь побеждается истиной, возрожденный ислам — возрожденным христианством.
Возродится ли христианство? Если нет — его победит ислам; если да — ислам будет им побежден.
ЖЕЛЕЗО ПОД МОЛОТОМ
Так тяжелый млат,
Дробя стекло, кует булат.
Что железо России куется молотом и будет сталью, мы верим; но что говорит железо под молотом, все еще не слышим; все еще «народ безмолвствует», и его безмолвие в эти страшные дни едва ли не самое страшное.
Зато как звенит и дробится стекло, слышим; кажется, только это одно и слышим пока. Сколько битого стекла, сколько звенящих осколков и дребезг! Как будто теплица, где мы росли и цвели, рухнула, и вместо неба стеклянного над нами вдруг настоящее, — какое черное, какое красное!
Вот куча битого стекла — русский национализм, та нечестивая вера в себя, как в Бога, которая воет звериным воем: «С нами Бог! С нами и больше ни с кем!» О, если бы хоть ныне, когда Божья рука отяготела на нас, мы поняли, что не только с нами Бог!
Давно ли русский национализм воздвигал «черту оседлости», как стену несокрушимую, — и вот, где будет скоро эта стена? Сметется, как паутина, — увы, — не столько русским великодушием, сколько немецким нашествием.
Давно ли русский национализм щелкал зубами, как волк, на Галицию — и вот, где теперь Галиция?
Давно ли русский национализм покупал Польшу, как Чичиков мертвые души, — и вот, где теперь Польша?
В августе прошлого года кто-то из «храбрых» отдавал руку свою на отсечение, что не пройдет двух месяцев, как Берлин будет взят. Где же эта рука отсеченная?
Что же теперь молчат эти «храбрые»? Куда они спрятались?
Стыдно, так стыдно, что провалиться бы сквозь землю.
И добро бы кучка безумцев опьянела, ослепла от национализма, как от подлой «ханжи», — нет, почти все русское общество. О, если бы хоть теперь, когда ему на голову льются такие ушаты холодной воды, оно отрезвело как следует!
Другая горка битого стекла — «объединение», неразделение на «мы» и «они». Что Россия будет единой, даст Бог, скорее, чем думают «объединители», и тогда победит, — если в этом кто-либо из «них» сомневается, то из «нас» никто. Единая Россия куется молотом войны. Единство будет скоро, но единства нет сейчас. Потому-то и нет победы, что нет единой России — все еще «мы» и «они», две России. И пусть одна из них — только нечистый оборотень, лживый призрак, двойник; пока есть двойник, надо с ним бороться. И горе нам, если мы ослабеем в борьбе, если поверим тому, что двойник говорит: «ты — это я; мы — одно».
В том-то и ужас наш, что сейчас две России, две войны, два врага, и мы не знаем, какой опаснее.
Чтобы одолеть этот ужас, будем смотреть ему прямо в глаза. Мы не знаем, какой из двух врагов опаснее, — будем же бороться с обоими так, как будто оба опасны равно. Мы между двух огней — это худо; но еще хуже бросаться из огня в огонь. Не будем же верить предательским шепотам: «Помиритесь с одним из врагов, чтобы одолеть другого». Будем, что над двумя врагами победа одна. Только свободная Россия победит; только победившая будет свободна. Но нельзя освободиться сначала, чтобы потом победить, так же как нельзя сначала победить, чтобы потом освободиться, — можно только вместе.
Высшая правда национализма — «патриотизм», любовь к отечеству. Патриотизм — слово не русское: о самом родном, живом — чужое, мертвое. «Любовь к отечеству» — два слова вместо одного, недостающего. Как будто народ не может или не хочет говорить о своей любви к отечеству. Любит молча. Надо уйти от народа, чтобы сказать: «Я люблю народ, люблю отечество». Когда мать умирает, сын не говорит о том, как он ее любит. О святом нельзя говорить — стыдно и страшно. Мы еще недавно говорили о своей любви к отечеству, без всякого стыда и страха. И вот теперь, когда надо любить, все эти слова оказались пустыми, «стеклянными». Теперь кто любит — молчит.
Высшая ли правда в этой войне — любовь к отечеству? Мы любим свое, немцы — свое, может быть, не меньше нашего. Если нет у нас большей правды, то победу решит не правда, а сила: кто силен, тот и прав, — как думают наши враги. За что же мы на них сердимся? Нет, в этой войне — именно в этой, в отличие от всех — победит не любовь к отечеству.
Чтобы знать — надо любить. Немцев мы сейчас не знаем, потому что не любим. Думать, что все они «звери», такая глупость, с которой спорить не стоит. Мы их не знаем сейчас, но по старой памяти думаем, что есть и между ними хорошие люди, которые понимают все, что мы понимаем. Думаем, что жива еще старая, добрая Германия Гёте и Шиллера. Жива, но невидима. На нее надвинулась, ее закрыла иная Германия, с лицом в самом деле не человеческим и даже не зверским, а дьявольским. Не одичание, не озверение происходит там, а нечто более страшное, чему нет имени на языке человеческом, но что можно сравнить с тем, что происходит в человеке, когда он сходит с ума или, как говорили некогда, «беснуется». Сумасшедший, бесноватый народ или, вернее, нечистый оборотень, лживый призрак, двойник народа — вот с чем борется человечество.
Вообще немцы люди разумные. И если разум — все, если в человеке, в человечестве нет ничего, кроме разума, то они и теперь остаются разумными, а все человечество сходит с ума. Но утверждать, что разум — все, есть величайшее изо всех безумий, безумие не воли, не чувства, не страсти, а безумие самого разума. Страшно, когда обыкновенный человек сходит с ума; но насколько страшнее «сумасшедший Кант», обезумевший разум.
Немцы народ метафизический и последовательный в своей метафизике. Они сделали никем еще не сделанный, правильный метафизический вывод из национализма — утверждение нации как абсолюта, утверждение правды народной как всечеловеческой. Вывод правильный, но посылка безумная. И если конец этого безумия мира неведом, то его начало слишком известно: это — древнее, едва ли не самое древнее изо всех безумий человеческих ассиро-вавилонское, мидийское, персидское, эллинское, римское безумие «мирового владычества», воля народа быть человечеством.
Что таков именно смысл войны для Германии, что Германия воюет не с тем или другим народом, а со всеми народами, со всем человечеством, это немцы поняли и приняли тоже, как правильный вывод из своей метафизики. Поняли и то, что борьба идет уже не за победу, а за существование. Быть или не быть Германии — быть или не быть человечеству — вот как поставлен вопрос. И немцы на него ответили: быть Германии; Германия да будет человечеством.
Но пусть мы ошибаемся; пусть достойный конец всемирной истории — прусская казарма, хотя бы в виде социал-демократической республики, человечество не примет такого конца и если нельзя иначе спастись, то лучше погибнет, уничтожит себя — и хорошо сделает: не стоит жить на такой земле опоганенной.
Да, немцы «не звери», а такие же люди, как мы. Не они звери, а в них зверь. И едва ли кто-нибудь улыбнется сейчас, как улыбался недавно, если мы назовем этого зверя Антихристом.
Вот с кем борется человечество, и вот почему кто скажет «мир», не победивши, — изменник не только своему народу, но и всему человечеству.
Ни историк, ни политик, ни даже сам воин не знает, что такое война; это знает пахарь, чья нива выжжена, художник, чье создание разрушено, мать, чей сын убит. Но вот и они говорят: «Не надо мира, война до конца».
Будем же воевать до конца и помнить, что в этой войне победит не любовь к отечеству, к своему народу, а только любовь ко всем народам, ко всему человечеству.
Пусть же дробится стекло и куется железо России под тяжким молотом войны. Стекло звенит, молчит железо. Но мы уже знаем, что оно скажет.
«Не будет мира, не будет мира, не будет мира, пока не победим» — вот что скажет железо под молотом.
СОЛОВЬИ НАД КРОВЬЮ
«Сухо дерево! Как бы не сглазить!» — говорят суеверные люди, когда при них замечают, что больной поправляется.
Однажды, по поводу слухов о небывалых победах, военные власти сочли нужным предостеречь русское общество и русскую печать от излишнего доверия к подобным слухам. Слухи действительно были, и доверие к ним было. Кажется, увы, не только было, но есть и будет.
«Победим… побеждаем… победили», «разгромили… уничтожили…» Когда это читаешь и слышишь, хочется сказать: «Сухо дерево!»
От слова, говорят, не станется. Нет, станется. Мера слов — мера чувств, мыслей и воли. Не соблюдать меры в словах, лгать — значит неверно думать, неверно чувствовать, неверно действовать.
Безумная самонадеянность и безумный страх—две стороны одного и того же. Поражение вынести трудно, но победу, может быть, еще труднее: легко зарваться, опьянеть, потерять голову. А что мы к этому склонны, видно по многим признакам.
«Я один раз шел вечером от всенощной, мимо лавок, и стал против Николы помолиться, чтобы пронес Бог, потому что у них в рядах злые собаки; а у купца Ефросина Ивановича в лавке соловей свищет и сквозь заборные доски лампада перед иконой светит… Я прилег к щелке поглядеть и вижу: он стоит с ножом в руках над бычком, — бычок у его ног зарезан и связанными ногами брыкается, головой вскидывает; голова мотается на перерезанном горле, и кровь так и хлещет; а другой телок в темном углу ножа ждет, не то мычит, не то дрожит, а над парной кровью соловей в клетке яростно свищет, и вдали, за Окой, гром погромыхивает. Страшно мне стало» («Грабеж» Лескова).
Нынешний русский национализм «звериного образа» не напоминает ли этого соловья над кровью? Конечно, кровь льется не потому, что поет соловей, но все-таки страшно это соловьиное пение над кровью.
В одном газетном листке рассказан анекдот о больном старом немце, которого никак не могли поймать; он скрывался в ночлежном доме, а когда его и здесь настигли, выскочил в окно и разбился, — тут его и поймали.
Другой анекдот о двух сестрах старушках, учительницах музыки, родившихся в России и долго живших в Петербурге; когда вышел приказ о выселении германских подданных, старушки просили, чтоб им позволили жить в Гатчине; когда же пришли к ним на квартиру объявить о позволении, то увидели, что обе они повесились. Поторопились, бедные: должно быть, наслушались соловьиного пения над кровью.
Это пение хотя и отвратительно, но искренне. А лживая болтовня, «всеоглушающий звук надувательства» — еще отвратительнее. Самые святые, страшные слова так часто повторяются всуе, что теряют всякую цену.
Новый Хлестаков, размеров небывалых, «апокалипсических», лжет вовсю, и отравленные ложью листки газет — отравленный хлеб, которым люди питаются.
Вот журнал с патриотическим заглавием. На одной стороне обложки — Россия в виде Георгия Победоносца, пронзающего копьем змея; на другой — Германия в виде людоеда, гложущего кость, а во вступительной статье говорится, что война есть «явление порядка сверхчеловеческого; Синай, вещающий громами новые заповеди с божественной высоты»; что война «все уврачует и все решит».
Война как всерешающая истина, как божественная заповедь, как религия — это и есть главная мысль милитаризма германского. А если это и главная мысль России, то понятно, почему «мы оказались во всех смыслах духовными рабами немцев», как говорится в следующей статье: немцы первые осуществили эту мысль, и нам остается только у них заимствовать, им подражать. Понятно и то, почему «в душе русского народа накопилось бесконечно много озлобления» против немцев: Синай против Синая — милитаризм против милитаризма: сойди оттуда, чтобы я туда стал.
В том же патриотическом журнале один известный писатель допрашивает своих товарищей, которые, выражая негодование против «германских зверств», предостерегают другие народы от «национальной гордыни и ненависти»: кто эти народы? уж не мы ли, русские? И забывая то, что сказано в предьщущей статье о «бесконечном озлоблении» русских против немцев, заявляет: «К гордости нашей, я не вижу решительно никаких оснований опасаться»: «для идей Европы Россия давно уже сделалась вторым отечеством, порой лучшим, чем первое». Это значит: Россия лучше, просвещеннее, свободнее всех европейских народов. Между тем как эти народы «варятся в собственном соку», у нас, русских, «дух свободный и широкий». «Ни один народ не обладает даром такого совершенного понимания красоты и величия», как мы. Единственный наш недостаток — излишняя «скромность, недоверие к себе».
Можно быть великим и скромным, но нельзя говорить: я скромен и велик. Пусть другие хвалят меня, но если я сам себя буду хвалить, то мне могут сказать: гречневая каша сама себя хвалит.
Один юный славянофил в публичной лекции доказывает «по Достоевскому», что все немцы — «нехристи», а настоящие христиане, «богоносцы» — только мы, русские.
«Запад уже сказал все, что имел сказать. Ex oriente lux. Теперь Россия призвана духовно вести европейские народы, на нее возложена страшная ответственность за духовные судьбы человечества», — возвещает С. Булгаков. «Давно пора… Давно пора говорить такие речи!» — восклицает Розанов, приводя эти слова Булгакова.
«Занимается новый, быть может, последний день всемирной истории, — пророчествует Вл. Эрн. — По предвечному плану Создателя мира, с внезапностью чуда Россия вдруг заняла едва ли не первое место в начавшемся катаклизме (т. е. в „последнем дне“, в кончине мира). Она выступает в роли вершительницы судеб истории… Она должна склониться перед Промыслом и Ангелу-благовестителю ответить: „Се раба Господня, да будет мне по слову твоему!“».
Известный писатель может быть доволен: если мы страдали доныне «излишнею скромностью», то теперь от нее освобождаемся. Другой писатель, неизвестный, уверяет, что вовсе не какая-либо часть Германии, а «весь народ ее озверел, оскотинел… Вся она — точно насосавшийся клоп».
«Помимо Гёте (но Гёте в теперешней Германии угас), их всех можно бы вытолкнуть из человеческого общежития», — решает В. Розанов («Война 1914 года», с. 148) и отсюда делает вывод: «Бей немца по морде — штыком, кулаком, плетью, палкой — чем ни попало!» («Нов. время»). Читая такие воззвания, «Таймс» ужаснулся и благоразумно заметил, что «поголовное избиение 60-ти миллионов людей» по меньшей мере «фантастично».
«Вдруг все легло плашмя, я не могу иначе назвать ту совершенную перемену тона газет и журналов, которые, вчера западнические, — сегодня повторяют славянофильство», — умиляется В. Розанов («Война», с. 55).
Да, «все легло плашмя». И всякое тихое слово в этом неистовом хоре кажется «изменой отечеству». Только стоном стоит соловьиное пенье над кровью.
«Мы находились во власти стремительного наплыва чувств, не огражденного плотиной разума. Это было беспредельное самовозвеличение перед всеми другими народами… Но возникает вопрос, какую пользу нам принесла наша ненависть к ним»? (Ответ депутата рейхстага Вольфганга Гейне на статью Зомбарта).
Это сказано немцем о Германии. Хотелось бы верить, что этого нельзя сказать о России.
Самовозвеличение русскому простому народу несвойственно. Он в самом деле прост. Что простота — не так называемое «смирение», «уничижение паче гордости», а именно простота — сущность народного русского духа, это видно по таким великим и самобытным явлениям его, как Пушкин, Л. Толстой, Петр.
Русские люди «оказались во всех смыслах духовными рабами немцев»? И наш бунт против них — только бунт рабов? Если это правда для тех из нас, кто заразился от своих «духовных господ», немцев, страшной чумой национальной гордыни и ненависти, то это клевета на русский народ.
«Гимназистом от покойного брата я слышал однажды рассказ, что в войсках гвардии есть один особенный полк: в него набираются исключительно солдаты непомерной величины и чтобы лицо было непременно уродливое… что-нибудь свирепое, какой-нибудь нос, глазищи, — и тогда годен», — вспоминает В. Розанов. И вот однажды увидел он тот полк, нескончаемую вереницу тяжелых всадников… «Идут, идут, идут… И не кончаются… Стройные, стойкие, огромные, безобразные… Произошло странное явление: преувеличенная мужественность того, что было передо мной, как бы изменило структуру моей организации и отбросило, опрокинуло эту организацию — в женскую. Я почувствовал необыкновенную нежность, сонливость и истому во всем существе. Сердце упало во мне — любовью… Мне хотелось бы, чтобы они были еще огромнее, чтобы их было еще больше… Чувство мое относилось к массе, притом столько же людей, как и лошадей (т. е. зверей: тут и люди — звери; человеческое переходит в звериное. — Д. М.). Этот колосс физиологии, колосс жизни вызвал во мне чисто женственное ощущение безвольности, покорности и ненасытного желания „побыть вблизи“… Определенно, это было начало влюбления девушки… Я вернулся домой, весь в трепете… Мне казалось, я соприкоснулся с некоторою тайною мира… Передам, как она сказалась у меня в шепотах: „Что женская красота, милое личико и т. п.? Сила — вот одна красота в мире… Сила, — она покоряет, перед ней падают, ей, наконец, молятся… В силе лежит тайна мира, такая же, как ум, такая же, как мудрость… Может быть, даже такая же, как святость. Но суть ее — не что она может дробить, а другое. Суть ее — в очаровании. Суть, что она привлекает. Силою солнце держит землю, луну и все планеты. Не светом и не истиной, а что оно огромнее их. Огромное, сильное…“
Голова была ясна, а сердце билось… Как у женщин.
Суть армии, что она всех нас превращает в женщин, слабых, трепещущих, обнимающих воздух… И почти скажешь словами Песни Песней: „Где мой возлюбленный?… Я не нахожу его… Я обошла город и не встретила его“» («Война», 230–234).
Так вот в чем «тайна мира» — не в красоте, не в благости, не в истине, а в уродстве, во зле, в свирепости, в животности, звериности. Вот чему надо «молиться», как Богу. И воплощение этого Бога в войске и войне — «военщине», «милитаризме».
Это, пожалуй, не ново. Все немецкие материалисты и милитаристы (милитаризм — от материализма) говорили и делали то же самое. Тут новизна только в бесстыдстве.
И вот о чем поют наши соловьи над кровью…
ДУХА НЕ УГАШАЙТЕ
Хватит ли зарядов для пушек, хлеба для голодных, перевязок для раненых? Это, в последнем счете, вопрос культуры. Что культура для войны, мы еще помним; но что война для культуры — уже почти забыли.
Не солдаты на полях сражений, а мы, люди культуры, — первые раненые. Вынута связь из всех культурных ценностей, как нитка из жемчуга, — и ожерелье рассыпалось. Все обесценено, обессмыслено. Праздность, ненужность труда так очевидны, что дело из рук валится. Для кого? Для чего? Две строки военной телеграммы значительнее всех созданий Гёте и Пушкина.
Культура во время войны — пир во время чумы. Что «земля святых чудес» опустошается, это еще с полгоря; самоопустошение, саморазрушение духа — вот что всего ужаснее.
Слой культуры, прикрывавший, как хрупкий весенний ледок, омут варварства, оказался тоньше, чем люди думали. Сохраняя все пропорции, можно сказать, что такое понижение культурного уровня, какое сейчас грозит европейскому человечеству, происходило только во времена нашествия варваров; но там — извне, а тут — изнутри. И не какая-нибудь часть культуры, а вся она угрожаема.
Неизвестно, чем это кончится, — вот чувство, в котором мы сами себе еще не смеем дать отчета. Похоже на кончину мира. Неизвестно, чем кончится, потому что убыль культуры — еще не конец, а только начало конца, предвестие, как убыль воды в колодцах перед землетрясением.
Пожелания Руссо и Толстого исполняются, хотя и не в том смысле, как они сами понимали их, — «опрощение», «возвращение к природе». И до чего оно дойдет — опять неизвестно. «Широк человек, слишком широк, — я бы сузил!» — это пожелание тоже исполняется. Человек сузился, оскудел, обнищал. Блаженны нищие духом. Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем воевать богатому, — разумеется, духовно богатому.
Сокровища духа сметаются, как никуда не годный хлам. «Пусть горит — лучше выстроят» — этим погорельцы не утешены; но в пожаре, который сейчас происходит, как будто нет погорельцев — у всех горит чужое.
«Среди оружия Музы молчат»? Нет, кричат: «Эван Эвоэ!» — как буйные вакханки, разрывая на части Орфея.
Если пока Россия спасается, то лишь внутренними, «субъективными формами мышления» — пространством и временем. Мы выносливей, потому что медлительней.
Было две России, а теперь — одна. Одна ли — в этом весь вопрос, — вопрос о праве на существование русской интеллигенции как представительства народного сознания и народной совести.
Что так называемое «объединение» произошло слишком легко и стремительно — в этом, увы, тоже едва ли может быть сомнение. Нет ни иудея, ни эллина; но есть варвар и эллин, раб и свободный. Главное дело сознания и совести не заключается ли именно в отделении эллинства от варварства, истинного от ложного?
Ложная любовь хуже, чем ненависть. Что любовь русской интеллигенции к родине оказалась неложной, это могло быть неожиданным не столько для слепых, сколько для ослепивших себя добровольно.
Невозможность любить родину иначе как любовью ненавидящей — такова трагическая безысходность в судьбах одной из двух Россий. А переход любви ненавидящей в любовь любящую сложен и мучителен. Упрощаем ли мы или скрываем сейчас эту сложность, в обоих случаях — ложь, и хуже всего, что эта ложь не за страх, а за совесть…
Бестолковые люди бестолково мечутся. Это грустно, но еще грустнее то, что и люди умные теряют голову. Молчат, когда нельзя молчать, или говорят, чего нельзя говорить.
Фантастична ложь, но человекоубийство действительно. Диявол — «отец лжи», но он же и «человекоубийца». Сейчас неотразимее, чем когда-либо, связь лжи с человекоубийством: чем фантастичнее, призрачнее ложь, тем человекоубийство действительнее.
Дни наши «трезвые», а пьяных все-таки много.
Страшно среди пьяных трезвому. Для трезвости нужно сейчас великое мужество. Пусть же те, кому еще хмель не бросился в голову, твердят до последнего вздоха: война окончится, культура останется; небо и земля прейдут, но мысль и слово человеческое не придут.
Есть пути в культуру из дикости, но нет из одичания. Культура невозвратна, неповторима. Сущность ее — непрерывность, неугасимость: огонь ее можно поддерживать, но, угасив, не зажжешь.
Духа не угашайте — вот сейчас самое нужное из слов человеческих.
ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕРКВИ
Кто видел Утреннюю, белую
Средь расцветающих небес, —
Тот не забудет тайну смелую,
Обетование чудес.
Какая идея для современных среднекультурных людей самая невместимая, непредставимая, как четвертое измерение непредставимо для обитателя трех измерений? На этот вопрос можно ответить не задумываясь: идея церкви, свободного и любовного соединения людей в Боге.
В самом деле, что такое церковь для среднекультурного человека наших дней? В лучшем случае — великолепный археологический памятник, а в худшем — неубранный хлам или тот снег на дне оврага весной, который не хочет таять, когда все уже растаяло. Убежище темных душ, еще не рожденных к свету сознания или умерших заживо. Место великого запустения — «обиталище для всякой нечистой птицы», как говорит пророк о Сионе разрушенном. Стоит упасть лучу на дно оврага, — и снег растает; стоит просветить темные души, — и церковь исчезнет.
Давно уже миновало то время, когда среднекультурные люди сердились или страшились, слушая разговоры о церкви; теперь они только скучают и не понимают, как можно говорить серьезно о таких пустяках.
И вот, чтобы, зная все это, утверждать, что идее церкви принадлежит необозримое будущее, что это величайшая из всех человеческих ценностей, тот камень, отвергнутый строителями, который сделается главою угла, — чтобы это утверждать, нужна большая смелость и, может быть, больше чем смелость — то «святое безумие», которое сынам века сего кажется обыкновенным «юродством».
Таким «юродством» или святым безумием полна книга А. В. Карташева,[42] записанная речь, произнесенная в 1916 году в собрании Религиозно-философского общества: «Реформа, реформация и исполнение церкви» (изд. «Корабль» — «Огни», 1916 г.).
Карташев сознает свое «безумие». «Я отлично сознаю, что всякая попытка построить решение одного из великих философских или религиозных вопросов на идее и факте церкви страшно далека от понимания современного общества». «Что такое христианство и что такое церковь — об этом твердых понятий в обществе почти не существует». Тут «страна полуоткрытая», а может быть, и вовсе неоткрытая, новая Америка, ожидающая нового Колумба.
Да, Карташев себя не обманывает, он сознает, что идея церкви встречает линию наибольшего сопротивления в современной европейской культуре, что вся она против этой идеи не только эмпирически, явным ликом, но и мистически, тайным духом своим.
И вместе с тем Карташев сознает, что он в этой борьбе не один. Все прошлое той же европейской культуры, которая пусть отпала от церкви, но недаром же вышла из нее, пусть блудная, но все же родная дочь своей матери, — тут с ним. И если бы даже все настоящее Европы изменило своему прошлому окончательно, то все будущее России, вся религиозная сила русского народного духа, которая сказалась в великой русской литературе, тут все-таки с ним, с борющимся за идею церкви. И пусть Толстой слеп для этой идеи, а Достоевский хуже чем слеп — полузряч, видит ее искаженным зрением; но оба титана, слепой и полузрячий, несут на плечах своих, сами не видя что, все тот же камень, отвергнутый строителями, который сделается главой угла.
«Если ваши земледельцы-богатыри вытаскивают из недр сознания какие-то неотшлифованные самоцветы, может быть, невзрачные на взгляд европейца и ничего еще не говорящие его уму, то это еще не доказательство, что в них действительно нет ничего идейно нового… Я не завидую тем уже упоенным до полного убеждения в предельности, вершинности своей культуры и философии европейцам, которые откровений наших великих прозорливцев не знают, а еще печальнее, если и понять не могут… Ничуть не превозносясь до приравнивания себя к нашим великанам, Достоевскому и Толстому, мы только просим позволения хоть отчасти уподобить их непонятности трудность нашего положения перед лицом европейски вышколенных слушателей, когда мы выдвигаем идею церкви. Без сомнения, когда, ориентируясь на эту идею, будут написаны и теория познания, и логика, и этика, и философия религии, и все другие философские дисциплины, тогда, конечно, легко будет говорить. А пока мы знаем, что слух интеллигентного общества для многих истин непроницаем, и простое доверительное изложение многих, казалось бы, элементарных вещей встречает громадные теоретические предубеждения». И если бы только «теоретические», умственные, — нет, и сердечные, кровные, кровавые.
И он мне грудь рассек мечом И сердце трепетное вынул, И угль, пылающий огнем, Во грудь отверстую водвинул.Вот что надо сделать с современным среднекультурным человеком, чтобы он понял, что такое церковь. «Все наши упования мы упираем в твердый камень церкви, внедряем в плерому (божественную полноту) этого догмата. В его неисчерпаемой полноте должны найтись все пути, все средства к разрешению жизненных вопросов веры, человеческого общежития и всего космоса».
«Нечто странное ты влагаешь нам в уши», — могли бы ответить современные афиняне на эту Павлову проповедь. И не только странное, но и страшное. Ведь если понять до конца всю остроту вопроса о церкви, то возникает, в самом деле, страшный выбор: или исполнение церкви, Царства Божьего на земле, или царства зверя, гибель мира, всей европейской культуры, второй Атлантиды, уже не в воде, а в крови; первые волны этого кровавого потопа мы уже видим сейчас.
Но сам Карташев иногда как будто нарочно или нечаянно притупляет режущую остроту вопроса, заглушает трагический ужас выбора. Если не в мыслях, то в словах его есть одна неясность, очень опасная. Слово «церковь» он употребляет в двух смыслах, смешивая или, по крайней мере, недостаточно разделяя эти два смысла: церковь как исторически-данное и церковь как пророчески чаемое; как то, что есть, и как то, что будет. Исторически данная церковь, хотя и притязающая на единство и вселенность, но в действительности распавшаяся на две церкви поместные — западную и восточную, и грядущая церковь, воистину единая и вселенская, — это не одно существо в двух состояниях, на двух ступенях развития, а два разных существа. Черту, разделяющую эти два понятия церкви, надо провести резче, неизгладимее, неумолимее, чем это делает сам Карташев, для того чтобы понять его как следует.
Мы еще вернемся к этой неясности, но предупредить о ней следовало тотчас же, иначе все дальнейшее может быть хуже чем не понято — понято ложно, превратно, может оказаться водою на чужую мельницу.
Религиозный дух реформации, проникавший всю современную европейскую культуру, — вот в чем видит Карташев главную причину того, что идея церкви современному человеку так непонятна. «Общепризнанный теперь взгляд всех социальных философов на религию как на тайную область человеческого духа (Privât Sache) есть прямой и характерный плод реформации, совершенно упраздняющий церковное христианство». «Самый глубокий и чистый принцип реформации — полное одиночество религиозной личности перед Богом».
Реформация знает «лишь одно религиозное измерение — в глубину, лишь одну бедную линию — от Бога к человеческой душе».
Продолжим эту мысль Карташева, чтобы выяснить ее до конца.
Церковь утверждает соединение людей — общество в Боге; реформация утверждает каждого отдельного человека в Боге, а соединение людей — общество без Бога.
Может быть, религия в человечестве — величина более постоянная, чем обыкновенно думают; может быть, религиозная теплота души человеческой всегда одинакова, как теплота глубоких вод. Бог есть то, чем люди живы, и пока они живы, есть у них Бог, хотя они сами не знают Его. Может быть, и в современном культурном обществе изменилось не количество, а качество религиозной энергии. В церкви люди шли вместе к Богу; теперь к Богу идет человек, когда он один, а когда люди вместе, они идут к чему угодно, только не к Богу. Бог ушел внутрь человека, а между людьми не стало Бога.
Реформация, уничтожив церковь — соединение людей в Боге, очистила место для государства — соединения людей без Бога. Никогда еще государство не было таким абсолютным, единственным, как в наши дни. В Средние века рядом с государством была церковь. Вся современная европейская культура выковывалась между церковью и государством, как между наковальней и молотом. Но наковальня разбилась вдребезги, и остался один молот, уже не кующий, а дробящий, сокрушающий. Средневековую церковь обвиняют в жестокости, в кострах и пытках инквизиции. Современного государства никто ни в чем не обвиняет. Но если бы сотая доля тех жертв, которые приносят сейчас государству, принесены были церкви, то давно уже на земле наступило бы Царствие Божие.
Никогда еще государство не было так подобно церкви, как в наши дни. Каждая национальная церковь хочет быть вселенской, и каждое национальное государство тоже. Эта мировая война и есть война государств национальных за государство всемирное.
Церковь — самое огненное из чудес; государство — «самое холодное из чудовищ». Государство — оборотень церкви.
Государство сделалось церковью, — оттого-то и не может понять современный человек, насквозь государственный, что такое церковь.
Тут хитрость дьявола: он загнал Бога в самый темный, тайный угол души человеческой, чтобы завладеть сначала всем остальным миром, а потом и душой человеческой, потому что ей все-таки некуда уйти из мира. И, судя по тому, что сейчас происходит в мире, хитрость эта удалась или почти удалась: Бог — «частное дело» (Privât Sache) каждого человека в отдельности, а общее дело всего человечества в лапах дьявола. Каждый в одиночестве спасается, а все вместе гибнут. И если так дальше пойдет, то можно сказать с уверенностью: никто не спасется.
Одна причина ухода человечества из церкви — религиозный индивидуализм, порожденный реформацией, то, что происходит внутри культуры; другая причина — то, что происходит внутри самой исторической церкви.
«Все недвижное, не творящее истории еще подвластно, по инерции, церкви; но все творчески-живое, передовое, носящее на себе печать молодости и таящее в себе залог будущего не может поместиться в церковь и выходит из нее». «Духовный разрыв с церковью идет по линии вопросов, известных каждому культурному человеку. Всякий знает, что он не находит в церкви удовлетворения своему разуму, своей свободе, своему творчеству и освобождению общественному». «Причина этого разрыва не в одном грехе и своеволии человечества, но и в требовании высшей религиозной истины. Все приобретения человеческого сознания в истории, все углубление и обновление стоящих перед ним философских, социальных и религиозных задач не может быть им оставлено, забыто по существу. Этих вечно растущих требований человеческого духа нельзя у него отнять ни священными угрозами, ни священными ласками».
«В церкви иссякло пророчество. Она обескрылела под абсолютною властью священства, стала вся целиком старообрядческой, утратила радость буревестника, летящего впереди огня, палящего старую землю и старое небо. В церкви осталась, слезами умиления и восторга напоенная, радость примирения с тленным и преходящим образом мира сего, но радости творческого разрушения и созидания в ней нет. И люди идут в церковь поплакать в горе или радости, творить же идут в открытые поля, под солнечный купол небес, и там вдыхают живительный воздух пророческой эсхатологии» (откровения о последних судьбах мира).
«Если так, то что же сдвинет церковь с места?»
На этот вопрос отвечают последние страницы книги, воистину огненные, пророческие, небывалые в русской литературе со времен Чаадаева. Надо прочесть целиком эти страницы; жалко вырывать из них отдельные слова, отдельные звуки этой великолепной симфонии. Слова записанной речи — ноты несыгранной музыки. Но те, кто слышал речь Карташева, никогда ее не забудут. Художественная красота, алмазная ясность, алмазная твердость, может быть, ее наименьшее достоинство; может быть, слушатели даже совсем не увидели этой красоты, как жаждущие не видят красоты сосуда, из которого пьют.
«Человеческое сердце, пророческое по преимуществу, — вот вечный, неиссякаемый ключ всех религий и всяческого религиозного творчества. Итак, в церкви должно воскреснуть пророчество», — отвечает Карташев на вопрос об исполнении церкви. В душе человеческой не иссяк источник пророчества. «Церковь только проглядела, куда оно ушло». Духом пророческим «сейчас дышит все человечество внецерковное и внерелигиозное». «Без религии человечество перестраивает землю, созидает новый мир и чувствует, что здесь с ним, в этом творческом порыве благодать будущего». Не иссяк источник пророчества. «Он ширится и несется бурным потоком, выбившись из берегов церкви… Надо его слить со встречным церковным томлением о пророчестве. Надо приемник пророчества у церкви вскрыть, чтобы и там оно загремело о том же, о чем гремит в человеческих душах».
«Итак, — заключает Карташев, — религиозных чаяний человечества не могут удовлетворить никакие реформы и реформации церквей, а также никакое недвижное стояние на камне Петровом» — на камне священства. «Только на крыльях пророческой благодати духа, дышащего в мире, где он хочет, через опыт всех церквей, через исторический подвиг всего культурного человечества, через рассеянный одинокий религиозный опыт, даже через опыт всех религий люди соединятся в лоне единой, воистину вселенской церкви, которая приведет их к порогу царства Христова на земле. Тогда смутные чаяния человечества и молитвенное устремление церкви сольются воедино в чудесном исполнении».
«Вы ищете чего-то нового в церкви, но в какой же? В пределах православной церкви или за ее пределами?» — этот вопрос предложен был Карташеву одним из слушателей, католическим священником.
На прямой вопрос надо ответить прямо. Карташев отвечает уклончиво. Тут у него опять та неясность, недосказанность, о которой я уже говорил: смешение или недостаточное разделение двух смыслов в слове «церковь», — может быть, единственная мутная и слабая точка во всей речи, но именно здесь и не должно быть слабости; здесь должна быть твердость непоколебимая, ибо точка эта и есть точка опоры для того рычага, которым идея церкви поднимается и вдвигается в историю.
«Невозможно увидеть лицо еще не рожденного младенца», — оправдывает Карташев эту неясность. Лицо младенца нерожденного увидеть нельзя, но лицо матери можно. Кто же мать грядущей церкви вселенской? Одна из церквей исторических или все они вместе, или же, наконец, внецерковная стихия человечества? Карташев этого не знает и не хочет знать. Он отвечает нерешительно: «Пророческое творчество в церкви как будто мыслится переливающимся за грани канонической дисциплины (власти священства). Как будто рисуется внешний раскол, новое вероисповедание». «Как будто» — этого достаточно для мысли, но не для воли; для созерцания, но не для действия.
Власть священства в церкви абсолютна. Надо ли восстать на эту власть во имя пророчества? «Как будто» надо, отвечает Карташев. Но с таким ответом кто же восстанет? Тут, как во всех вопросах воли, — а без воли какое же творчество — не должно быть сомнений. Тут или — или. Пока есть «как будто», нет воли, нет действия.
«История скорее всего навевает ожидание трагедии, а не идиллии», — продолжает Карташев сомневаться. Неужели только «навевает»? Неужели сейчас в истории, в той мировой катастрофе, которая происходит на наших глазах, только веяние, а не ураган? Неужели можно еще сомневаться, что это: «идиллия» или «трагедия»?
«В церкви должно воскреснуть пророчество». Легко сказать! Но ведь Карташев знает, что священство и пророчество «антиномичны в религии», непримиримы. Потому-то историческая церковь и лишилась духа пророческого, что священство в ней возобладало над пророчеством. «Пророк священнику страшен своим духом». Он чует в нем «беса». «В этом человеке бес», — доныне говорит священник о пророке, как сказано было некогда о Том, Кто больше всех пророков.
«Надо приемник пророчества у церкви вскрыть, чтобы и там оно загремело о том же, о чем гремит в человеческих душах». Тоже легко сказать. Да есть ли такой приемник у церкви исторической? И если даже есть, не разлетится ли он вдребезги от этих громов?
Нет, камень Петров никакой бурей пророческой не сдвинется. И чем неподвижнее, незыблемее, тем святее, вернее своему назначению, ибо назначение церкви Петровой — не творить, а хранить и передавать сотворенное. В передавании, в предании — вот в чем святость этой церкви, а не в пророчестве. Пронести через все века и народы лик Христа неизменяемый — разве этого мало? Без церкви исторической мы бы даже и не знали, что такое Христос.
На окраинах этой церкви, обращенных к будущему, свет Христов меркнет, и церковь уже не видит, куда идет, куда ее ведут. «Другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Две ложные теократии, две подмены Христа — западным первосвященником и восточным кесарем — два всемирно-исторических пути, по которым церковь Петрову ведет уже не Христос, а другой.
Так снаружи, но не так внутри. Там, в глубинах своих, в сердце своем, эта церковь «продолжает сиять неувядаемым внутренним великолепием, все тем же притягательным, необычайным, идущим с небесных высот светом, но светом вечерним», — это знает Карташев лучше, чем кто-либо. И вместе с тем знает, что «дух человеческий, не вынося бесконечного тяготения на нем багряных закатных лучей, снова и снова порывается в противоположную им темную сторону Востока, ища там новой встречи с белыми утренними лучами вечного дня».
Сам Карташев стоит на рубеже этих двух светов — багряного и белого. Можно стоять, но нельзя идти, не сделав выбора, не ответив прямо-напрямо на прямой вопрос, где совершится исполнение церкви вселенской: в пределах или за пределами церквей исторических?
Как дважды человек не рождается, так и в церковь не входит дважды. Кто из нее вышел, тот уже никогда не войдет. Человечество вышло из церкви исторической. Надо уйти из нее вместе с ним, чтобы вместе войти в грядущую церковь — вселенскую, из багряного света закатного — в белый утренний свет.
Страшный уход, страшный разрыв. Только тем, кто никогда не был в церкви, он кажется легким, бескровным: а тот, кто в ней был, знает, что это самый тяжкий, кровавый из всех разрывов души человеческой.
Пойдет ли Карташев на этот разрыв? Если нет, то он останется великим религиозным созерцателем; а если да, то, судя по этой речи, такой пророчески-огненной, какой, повторяю, мы еще не слышали со времен Чаадаева, — в России явится великий деятель.
Примечания
1
Немецкий философ-идеалист Иммануил Кант (1724–1804) автор «Критики чистого разума».
(обратно)2
Герберт Спенсер (1820–1903) — философ-позитивист.
(обратно)3
Буддизм — религиозное учение; возникшее в Индии (VI–V вв. до н. э.).
(обратно)4
Зороастризм — древнеиранское религиозное учение (X–VII вв. до н. э.).
(обратно)5
Иудаизм — религия (VII до н. э.), признающая единого бога Яхве, проповедующая богоизбранность еврейского народа.
(обратно)6
Ислам — одна из мировых религий (VII в. н. э.), возникла в Западной Аравии. Истинным богом последователи ислама признают Аллаха.
(обратно)7
Анаксагор (ок. 500–428 до н. э.) — древнегреческий философ, исповедовал идеи античной демократии.
(обратно)8
Гераклит Темный (ок. 540–480 до н. э.) — древнегреческий философ, основоположник диалектики. Прозвище «Плачущий» или «Темный» возникло из-за присущего ему пессимизма.
(обратно)9
Паскаль Блез (1623–1662) — французский ученый, религиозный мыслитель и писатель.
(обратно)10
Эпиктет (ок. 50 — 130) — древнегреческий философ-стоик; был проповедником человеколюбия и нравственности; утверждал, что все люди равны; отрицал государство.
(обратно)11
Сократ (470–399 до н. э.) — древнегреческий философ, считавший основным нравственное воспитание граждан.
(обратно)12
Марк Аврелий (121–180) — римский император; интересовался философией, находился под влиянием идей Эпиктета.
(обратно)13
Жорж Санд (наст. имя Аврора Дюдеван; 1804–1876) — французская писательница.
(обратно)14
Мишле Жюль (1798–1874) — французский историк.
(обратно)15
Аттила (ок. 434–453) — царь, объединивший варварские племена; намеревался захватить Рим.
(обратно)16
Чингисхан (ок. 1155–1227) — великий хан Монгольской империи, совершал опустошительные набеги на соседние страны.
(обратно)17
Тамерлан (Тимур; 1336–1405) — полководец и государственный деятель; основал Золотую орду; совершал разорительные походы на Малую Азию, Индию, Закавказье.
(обратно)18
Беме Якоб (1575–1624) — немецкий философ-пантеист, мистик.
(обратно)19
Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775–1854) — немецкий философ-идеалист.
(обратно)20
Шопенгауэр Артур (1788–1860) — немецкий философ-идеалист; главным считал мировую волю.
(обратно)21
Маринетти Филиппо Томмазо (1876–1944) — поэт, прозаик, теоретик и глава итальянских футуристов.
(обратно)22
Тастевен Генрих Эдмундович (1880–1915) — секретарь редакции журнала «Золотое руно», литературный критик.
(обратно)23
Струве Петр Бернгардович (1870–1944) — «легальный марксист», публицист, экономист; один из руководителей партии кадетов.
(обратно)24
Карлейль Томас (1795–1881) — английский философ, историк, публицист.
(обратно)25
Рылеев Кондратий Федорович (1795–1826) — входил в Северное общество, руководил восстанием 14 декабря 1825 г.; поэт.
(обратно)26
Константин I Павлович (1779–1831) — великий князь; после смерти Александра I отказался от прав на российский престол.
(обратно)27
Трубецкой Сергей Петрович (1790–1860) — князь, полковник; был избран диктатором восстания, но участия в нем не принимал.
(обратно)28
Оболенский Евгений Петрович (1796–1865) — князь, участвовал в Союзе спасения и Союзе благоденствия; возглавил 14 декабря штаб восстания.
(обратно)29
Батеньков Гавриил Степанович (1793–1863) — участвовал в Отечественной войне 1812 г.; помощник M. M. Сперанского, сотрудник А. А. Аракчеева; член «декабристской» масонской ложи.
(обратно)30
Константин Равноапостольный — Константин I Великий (Флавий Валерий Константин; ок. 285–337), римский император; способствовал превращению христианства в государственную религию.
(обратно)31
Вяземский Петр Андреевич (1792–1878) — поэт, публицист; был дружен с Чаадаевым.
(обратно)32
Татищев Дмитрий Павлович (1767–1845) — дипломат, член Государственного совета.
(обратно)33
Вигелъ Филипп Филиппович (1786–1856) — директор Департамента иностранных вероисповеданий (1829–1840); крайне негативно относился Чаадаеву.
(обратно)34
Кюстин Адольф де (1790–1857) — французский писатель, публицист; отправился в Россию, находился под личным покровительством Николая I, однако в книге «Россия в 1839 году» критиковал русское самодержавие.
(обратно)35
Тургенев Александр Иванович (1784–1845) — литератор, археограф; директор Департамента духовных дел иностранных вероисповеданий (1810–1824); поддерживал отношения с Чаадаевым до конца жизни.
(обратно)36
Станкевич Николай Владимирович (1813–1840) — русский философ-идеалист, просветитель.
(обратно)37
Вилье де Лиль-Адан Филипп Огюст Матиас (1838–1889) — французский писатель.
(обратно)38
Калибан, Просперо — персонажи комедии В. Шекспира «Буря». Именем Калибана принято обозначать низменные человеческие инстинкты.
(обратно)39
Я разумею здесь и в дальнейшем, конечно, не весь протестантизм, а лишь известный уклон его, известное течение или, вернее, опасность, грозящую протестантизму в большей степени, чем какому-либо другому христианскому исповеданию. Протестантизм сам по себе — великое, вечное религиозное движение, в котором заключается, как и во всякой религии, зерно абсолютной истины.
(обратно)40
Фейербах Людвиг Андреас (1804–1872) — немецкий философ-материалист.
(обратно)41
Гарнак Адольф фон (1851–1930) — историк, занимался проблемами церкви.
(обратно)42
Карташев Антон Владимирович (1875–1960) — профессор Духовной академии, впоследствии министр вероисповеданий Временного правительства.
(обратно)



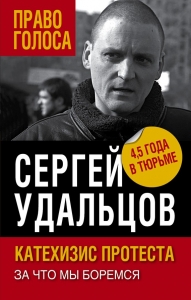
Комментарии к книге «Невоенный дневник. 1914-1916», Дмитрий Сергеевич Мережковский
Всего 0 комментариев