Сергей Залыгин Заметки, не нуждающиеся в сюжете
Предисловие
В декабре 1998 года Сергей Павлович Залыгин, с которым мы были едва знакомы, подарил мне свой шеститомник. Прислал с внучкой, подругой моей дочери. До этого мы несколько раз разговаривали по телефону, раз или два очно, очень коротко, по делу, и еще он написал мне письмо, редакторское — когда в «Новом мире» шли мои «Рассказы о Анне Ахматовой». Не согласный почти со всеми его замечаниями и предложениями, я обратил внимание на непосредственность, с какой они были сделаны, и отсутствие оглядки на общепринятые мерки. Например, моей иронии по поводу того, что Хрущев разругал литературу и искусство, «которые занимались черт знает чем, а не изображали русский лес, особенно прекрасный в зимнюю пору», он разделить не пожелал и возразил: «Но русский лес действительно очень красив зимой».
Его книги, как я мог предположить, и не читая, но имея представление об авторе, оказались то, что называется, не моей библиотеки. Не моего круга чтения. Другой вкус, другие интересы, воспитание, опыт, прошлое, биография. Пастернак однажды обронил, что, чтобы понимать как следует поэзию Элиота, надо, вероятно, знать маршруты лондонских трамваев. Чтобы погрузиться в мир Залыгина, от меня требовалось знание быта и обычаев Сибири, русской деревни, послереволюционного времени, практики социализма. Это увлекало меня немногим больше, чем лондонские трамваи. А он был сосредоточен только на этом, замкнут исключительно на России — как если бы остального мира или вовсе не было, или он имел смысл лишь в качестве приложения к нашей жизни. Для меня, с отрочества приученного видеть русское частью мирового, это была самая чуждая, неприемлемая позиция.
Первые книги Белова, позже Распутина, наводили на мысль, что решетниковско-слепцовская трогательная нота — константа русской прозы. И что другая константа — немедленно прививающиеся к ним идеология и идеологи, которые преобразуют их творчество в, как писал Павел Анненков о Сенковском, Грече и Булгарине, «олицетворение затаенного презрения к делу образования на Руси, образец хитрой, расчетливой, но ограниченной практической мудрости, и наконец, — ловко устроенный план надувательства благонамеренностью и патриотизмом тех лиц, которых нельзя надуть другим путем». Залыгин, как я мог составить себе мнение о нем по доносившемуся со стороны или вычитанному из случайной статьи, тяготел к «почвенникам». Это было нечто иное, нежели «деревенщики» — между которыми с одной стороны и совсем уже казенным официозом с другой проходил тогда главный идеологический фронт. «Западников» они объявляли просто гадами и в серьезный расчет не брали. Эстетического фронта не было вообще.
Надпись, сделанная на первом томе, выражала обыкновенную расположенность: такому-то «с пожеланиями всего, всего доброго!». Единственным, что отличало ее от сотен подобных, был почерк. Шариковая ручка дрожала в пальцах восьмидесятипятилетнего человека, каждая буква казалась вычерченной крохотными изящными зигзагами, обведенной по контуру меленькой «елочкой». Я сунулся было в один роман, в другой, да, видимо, слишком уж длинный путь надо было совершить сознанию оттуда, где оно чувствовало себя свободно, где привычно обитало, от, положим, Онетти и Иегошуа, — дорога утомила его, чтение захлебнулось. Но этой весной я привез с собой в деревню, где живу летом, десяток книг, стал перебирать, с какой начать, даже открыл одну — Жаботинского «Пятеро», — прочел несколько страниц. Вдруг захлопнул, достал с полки Залыгина и стал читать «На Иртыше». Правду сказать, давно собирался, почти сорок лет: люди, с чьим мнением считаюсь, говорили как о вещи стоющей и настоящей.
«Выше сознательности с его не спрашивать. Сколь мужику втолковали, сколь он сам понял — столь с его и возьми. А выше моёго же пупка прыгать меня не заставляй — я и вовсе не в ту сторону упрыгну». Я читал «мужик» — в смысле: нормальный человек. Божий. Человеческий. За ним стояло и современное городское его значение, куда более теплое, чем советское «товарищ», которое оно заменило. Антигосподин. Крестьянские «сколь» и «столь» сами собой заслонялись привычными «сколько» и «столько» — тем же манером, как книжные устарелые. «Стращают: „Вот какой ты мужик, неправильный, а правильный вот какой должон быть“. Ладно, сказали свое. Сказали — и уйдите бога ради с глаз, уйдите, дайте срок». Со мной творилось то же, что с героем, вызванным на допрос к следователю: «Оказалось вдруг — об жизни, об том, что и как в этой жизни бывало, они очень просто могли разговаривать. Даже интересно было вспомнить и вспомянутое объяснить».
Больше семидесяти лет отделяло день чтения от описываемых событий, с юности воспринятых мною как живая трагедия. Ее конкретные причины, механизмы и методы за это время сошли с переднего плана и сделались видны, как затонувшая на мелководье лодка: ясно, но вне текущего действия. Трагедия не исчезла, не ослабла, просто сдвинулась в область, отведенную для трагедий. Я читал «На Иртыше», как Софокла, как Эсхила. Сибирь была не менее — и не более — отдаленной, чем Эллада, коллективизация — чем Троянская война, моя скорбь по ссылаемому крестьянину Степану Чаузову — чем по изгоняемому царю Эдипу и предательски убиваемому Агамемнону. Как действительно стоющая вещь, повесть освободилась от пут 1960-х годов, включивших ее в свои публицистические, партийные, цензурные разборки и заморочки. Я закрыл книгу, и мне трудно было вернуться к одесской наблюдательности и философии «Пятерых», сводящейся к тому, как все на свете влияет на биржевую цену хлеба.
И еще на одном сопоставлении поймал я се6я, читая. То, что так проницательно исследовали французские постструктуралисты, в особенности то, что можно назвать практиками подмены истины принуждением, решено в «На Иртыше» художественными средствами. И преимущество сделанного Залыгиным заключается в том, что там, где французы ради доведения своих доказательств до математической чистоты исключают из рассмотрения человечность и оперируют фактами, которым все равно, с кем иметь дело: с лягушками или людьми — его герои предстают в интеллектуальной, эмоциональной, энергетической и волевой полноте личности. А что предпочтения читательского круга, размышляющего на эти темы, развернуты сейчас в сторону элегантных концепций Фуко и K°, то здесь можно видеть скорее косвенное свидетельство подлинности залыгинского подхода — неудобного для превращения в афористичные формулировки и не приводимого к эффектным формулам. Конями, на которых пашут, не сыграешь в шахматы.
Вот и все, что мне хотелось сказать об авторе публикуемых здесь автобиографических заметок. Вынужденно пришлось писать о себе — понятно, не из собственных выгод и интересов, я тут как пример тех, на чьем фоне его фигура выделяется контрастней. Мы принадлежим к определенным типам людей, подчеркиваем эту нашу принадлежность или, наоборот, боремся с ней. Некоторые стремятся быть ни на кого не похожими — то есть прежде всего на себя. Залыгин был, какой был, никем другим не притворялся, не подавал себя ни крупнее, ни мельче, ни ярче, ни незаметнее. Ему доверяли — сотрудники, писатели, избиратели, генеральные секретари. Он поддерживал линию партии, подписывал, какие нужно, письма в газете «Правда». И, не будучи защищен ни мировой диссидентской, ни официальной советской известностью, мог и в одиночку пойти против всесильных терминаторов союзного и республиканского ранга, против их мафии и немеряных денег, против превращения ими страны в гниющее Рыбинское водохранилище, против силы, которая и не таких смалывала без следа. Какая-то другая сторона ломоносовской натуры.
…Дарственная надпись на собрании сочинений, когда я посмотрел на нее сегодняшним зрением, выглядела неизмеримо длиннее слов, которые ее составляли. Узор, тщательно прорисовавший букву за буквой, заставлял глаза двигаться по вьющимся изгибам, не отрываясь, не перескакивая через несколько зубчиков ради того, чтобы скорее прочесть. Не знак изображенного буквой звука был целью, а сам звук. Он реверберировал, держался в воздухе дольше, много, много дольше времени, требующегося для его простого произнесения, дрожал, как рука, выводившая: ввввв-ссссс-еееее-ггггг-ооооо ввввв-ссссс-еееее-ггггг-ооооо ддддд-ооооо-ббббб-ррррр-ооооо-ггггг-ооооо!!!!! Незамирающее эхо прощанья.
Анатолий НАЙМАН
Заметки, не нуждающиеся в сюжете
Почему, зачем я пишу это? Сегодня? Может быть, потому, что не складываются сюжеты, сюжет для писателя — это еще и отказ от собственной жизни, отдаление от нее, а нынче жизнь вцепилась в каждого из нас даже и не сама по себе, а одним только выживанием. Жизнь-выживание беспощадна ко всему, кроме себя самой, тем более — ко всем сюжетам, которые не оно, не выживание. Как редактор, как автор я чувствую это, нынешняя литература, произведения, которые несут мне в «Новый мир», — это литература выживания, блудная, порнографическая, маньячная, искалеченная выживанием и калечащая жизнь.
Заметки, не нуждающиеся в сюжете, — это выход из создавшегося для меня положения: действительность лишает меня способности к сюжетосложению. И ладно, обойдусь записками.
И я начал. 3.УШ.92 в комнате № 521 санатория «Загорские дали». Как-никак, а много воды утекло за мои-то почти полные восемьдесят лет, как-никак, а течение воды в речном русле всегда было для меня любимым и самым близким движением природы, и, должно быть, я не ошибся, если к концу ноября у меня было написано уже около двухсот страниц.
И тут случилось так: ко мне пришел сюжет (его подобие?) романа, хотя и не целиком, но все-таки в значительной мере автобиографического. Я принялся за него в палате глазной больницы Федорова (Федоров оперировал меня 25.ХI), там были прекрасные условия для работы (палата 505), я провел в ней пять дней, и, когда вышел, было, наверное, уже страниц пятьдесят-шестьдесят.
В июле 1993 года я снова пребывал в «Далях», в той же 521-й, «Экологический роман» к этому времени был закончен, перепечатывался на машинке (Ирина Алексеевна Бадина, спасибо ей, перепечатывала его уже в четвертый раз). 16.УП я дописал еще страниц десять-двенадцать (вернувшись в Москву, в тот же день отдал их Ирочке[1]), а 17-го меня уже обуяла все та же графоманская тоска и снова «записки», которые на всякий случай я взял с собой.
Как это всегда со мной случается, значительную часть «записок» я растерял, это ужасно злит, но тут я даже и не злюсь: не надо торопиться, что успею, то успею. К тому же при жизни я вряд ли буду предлагать «записки» к публикации. Не очень-то меня интересует: а будут ли они напечатаны когда-нибудь? Нет, все-таки я злюсь!
521-я, круглый стол, никак не приспособленный для письменной работы, и прекрасный вид из окна — дали же! Загорские!
Странно, но Сергиев Посад был когда-то переименован (теперь восстановлено прежнее название) вовсе не ввиду этих изумительных пейзажей (ледниковый период, морены), но по имени революционера Загорского. Нелепость, а ведь как удачно получилось в соответствии с географией, с ландшафтом!
Конечно, я за возвращение имени Сергия Радонежского, но и бессмыслицы тоже бывают удачны, попадают в точку!
Каждую среду езжу (с экскурсией) в Троице-Сергиеву Лавру. Она подавляет, я не верю, что у нас когда-то была столь творческая история, но она была, была и была! Прочь неверие!
Записки не хронологичны. Пишу то, что пишется, что присутствует в глубине памяти и требует своего выхода вовне.
В конце концов, если они все-таки будут когда-нибудь закончены, их можно будет и расположить в какой-то последовательности, а нынче — свобода так свобода, желание так желание.
Еще до прихода моего в «Новый мир» (официальное предложение сделал мне Г.М.Марков летом 1986 года) новый Генсек М.С.Горбачев многократно приглашал нас, писателей, на Старую площадь, сначала в кабинет (как я понял — кабинет секретариата, а потом в зал расширенных заседаний того же секретариата ЦК КПСС[2]).
Горбачев много говорил (но давал поговорить и нам). И ведь радостно в ту пору было сознавать: вот оно — новое время!
Чувство ближайших перемен сильнее, чем их смысл.
Прошли годы, теперь я думаю, что все, что говорилось тогда, было банально, во-первых, и безо всякого (без малейшего) предвидения того, что будет несколько лет спустя, но это сейчас разумеется, а тогда не разумелось.
Мне был очень интересен и сам М.С., и кажется, что в какой-то мере — я ему тоже. У меня было предчувствие, что он хочет поручить мне какое-то дело, и хотя мой возраст (71–72) более чем солидный, силенки еще были, и я искренне хотел участвовать в перестройке.
Мне не раз предлагали в прошлом всяческие посты: декана и зам. директора сельскохозяйственного института в Омске (где я заведовал кафедрой в 1946–1955 годах, а работал ассистентом с 1940 года, с перерывом), председателем отделения СП в Новосибирске, в Ростове (туда уехал бывший секретарь Омского обкома Киселев и приглашал меня), секретарем Московского отделения СП (Гришин), было предложение (отдаленное) и на пост Маркова, но меня ничто не прельщало, я, как мог, так и писал, и я оставил работу в вузе и в Сибирском отделении АН СССР не ради административной карьеры, а ради вот этой свободы делать то, что хочется делать.
Я никогда не был членом партии и толком не знал, как строятся те отношения, которые на любом из этих постов неизбежно должны возникнуть. Это при том, что чувства презрения или противостояния партии у меня в те годы не было, я не хотел заниматься делом, которое не по мне, вот и все.
В моей биографии очень большое значение имел переезд из Новосибирска в Москву. Решающую роль в этом деле играл Г.М.Марков. Он пригласил меня в свой кабинет, похлопал по стенке сейфа и сказал:
— Вот тут, мужик, у меня лежат документы, из которых следует, что возвращаться в Новосибирск тебе нельзя!
После публикации в «НМ» повести «На Иртыше» я и сам догадывался — нельзя! Я уже знал, что об этой повести очень резко отзывались М.А.Шолохов, М.А.Суслов, а в Новосибирске это отозвалось гораздо сильнее, чем в Москве.
— А как же с квартирой? — спросил я у Маркова.
— С квартирой? Так: года три-три с половиной поживешь в Доме творчества в Переделкино, а потом я пойду в ЦК и скажу: человек три года без квартиры! Надо помочь!
— В Новосибирске моя семья, хотя бы временно я смогу туда наезжать?
— Временно — сможешь!
У Маркова было очень развито чувство землячества и взаимоподдержки, и я ему благодарен. Неизвестно, чем бы дело кончилось, если бы не его предупреждение. Но затем последовал наш разрыв: он хотел, чтобы я писал хвалебные статьи о его творчестве, я этого не мог. Он рассматривал мой отказ чуть ли не как предательство: я-то для тебя, земляк, делал, а ты для меня?
Так или иначе, но все равно получилось именно так, как сказал Г.М.: три с половиной года я маялся в Доме творчества в Переделкине (и в других домах тоже), а затем получил ордер (с красной полосой) на четырехкомнатную квартиру в хорошем районе, окнами в Нескучный сад. И работу мне Марков подыскал подходящую: вести семинар прозаиков в Литинституте (1968–1973 годы. Где-то в те же годы я был избран общественным секретарем Союза писателей РСФСР, вел Совет прозы. И там, и тут работать мне было интересно, удавалось и писать (роман «Соленая падь», фантастическая повесть «Оська — смешной мальчик», эссе «Мой поэт» (о Чехове), довольно много рассказов и литературно-критических статей).
Это положение меня вполне устраивало.
Я не был в диссидентах и плохо знал о них, не был активистом, но у меня было свое дело: борьба против проекта строительства Нижне-Обской ГЭС. Эта ГЭС затопила бы 132 тыс. кв. км (месторождения тюменских газа и нефти), и в 1962–1963 годах мне удалось этот проект остановить (об этом ниже, а может быть, и совсем не надо: достаточно сказано в «Экологическом романе» — далее я обозначаю его как «ЭР», первоначальное название «Заколдованный створ»).
Вернусь к году 1986-му.
Предстоял Всесоюзный съезд СП СССР. Я узнаю2, многие об этом говорили, что моя кандидатура будет выдвинута на пост Маркова. Так хотели делегации Украины, Белоруссии и др. Но марковские функции мне были совершенно непонятны.
Я не мог себя представить в кабинете «первого», со всем огромным аппаратом этого учреждения, с пленумами и съездами, с делегациями, которые надо принимать и возглавлять, с посещениями ЦК КПСС. Удручающий формализм. А беседы с начальством? Такие амбиции, что на все это пойти можно, будучи разве что Гашеком, чтобы изучить материал для будущего гашековского же романа.
К сожалению, я не Гашек. Значит, все это было бы для меня чудовищной бессмысленностью даже и в новые времена, даже при эйфории начальных лет перестройки.
Отказываться? Но ведь формально-официально никто мне и не предлагал высокого поста, откуда я это взял?
А слышал от украинской делегации СП: утром до открытия съезда подошел Борис Олейник.
— Украиньские письменники ставят на тебя! Все до одного! И другие делегации — то же самое.
После первого же заседания съезда я все-таки решил идти к Маркову; если потребуется, то и к Горбачеву, объясниться, а пока что слушал отчетный доклад Маркова.
Он говорил с час, должно быть, и тут зашатался, лишился дара речи, его увели с трибуны под руки.
Худо мужику! Спазмы. А то инфаркт!
Ну я-то Гошу знал и понял, что дальше будет. Будет: больница, выборы без его участия, значит, никто не станет критиковать его отчет, никто не решится его, подынфарктного, переизбрать.
Я смотрел не на Гошу, говорю же — знал я его, знал; меня Горбачев интересовал, его физиономия, тем более мы близко сидели (в президиуме), все видать до капельки.
А капельки на лице М.С. появились, и выражение озадаченности тоже: «Бестия — всех обошел!». Наверное, он подумал так не без одобрения: поучительно же для практики партработника.
Доклад дочитывал В.В.Карпов, и опять то, что нужно: Г.М.Марков будет избран председателем как бы почетным, В.В.Карпов — рабочим. Дочитывая марковский доклад, Карпов уже вступал в должность «рабочего».
Ну как все продумано, а? Недаром же съезд не чей-нибудь, а инженеров человеческих душ.
В тот же день Е.К. Лигачев — давний друг и земляк Г.М. Маркова — побывал у дружка-земляка в больнице и доложил съезду: положение больного не очень тяжелое, но очень беспокоится семья (жена и две дочери — все члены СП).
Несколько лет спустя я узнал («ЛГ» опубликовала), как было дело.
На Политбюро вопрос: кому быть председателем СП? Возгласы:
— Залыгин!
Горбачев, именно он, против:
— Мягкий очень. Не подойдет. Оставим Маркова почетным председателем, Карпова сделаем рабочим. Залыгину (кажется так, в «ЛГ» не читал) дадим «Новый мир».
Если так и было решено Политбюро, тогда зачем же Маркову было разыгрывать предынфарктное состояние? Удивлять Горбачева? Просто: Марков-то знал о настроениях «в массах», а Горбачев о них не знал.
Спектакль так спектакль!
Но я и до сих пор с уважением отношусь к Маркову — умен так умен! В случае со мной — не мстителен (немного), а ведь мог бы! К тому же он и вправду хорошо знал: никакой я не председатель, не руководитель! И как же он был светел лицом, как уверенно-благодушен, когда представлял меня как главреда коллективу редакции «Нового мира»!
Изобразить бы все это беллетристически, но не по плечу!
О Лигачеве я мог бы порассказать — человек очень честный и очень глупый, такие в партаппарате обязательно должны быть во всех инстанциях.
Я знал его: он был секретарем Советского РК КПСС г. Новосибирска, созданного специально для Академгородка, мы с ним были в комиссии по выбору стройплощадки под этот городок (председатель — академик М.А. Лаврентьев), потом — секретарем Новосибирского обкома КПСС по пропаганде — опять общались (Е.К. очень старательно общался с писателями). Позже Е.К. уехал в Москву, потом Первым в Томск, оттуда звонил мне в Новосибирск: помогите создать в Томске писательскую организацию — квартиру дадим. (Я посоветовал пригласить двух братьев из Хабаровска, они там хватили горя в склоках.)
Ну а Гоша-то, право, каков! Из сибирской таежной глухомани паренек в бахилах — куда двинулся?! Романы один за другим, совершенно никуда негодный роман «Сибирь» (первый, «Строговы», был лучше), дважды Герой Соцтруда, лауреат всех премий, в академики замахивался — не вышло, очень был расстроен: «Происки!».
Умница. В Европе дальше пошел бы: память необыкновенная, трудоспособность, людей чует изнутри, карьерист. Да ведь и пережил немало.
Гошин рассказ.
«Когда в 37-м стали сажать, я работал редактором молодежки в Новосибирске. Успел, вовремя убежал в тайгу, в деревню. Агния (жена, вернейшая подруга) учительствовала, а я дома сидел, не высовывался, не дай Бог высунуться. Перебивались с хлеба на воду. Вдруг по радио и по другим источникам: всем, кто был репрессирован, исключен из партии, отошел от нее, явиться в крайком, в Новосибирск, с партдокументами, все будут восстановлены, всем будет компенсировано! Я и поверил. Сдуру, конечно, молод еще был, поверил. Добрался до Новосибирска, навел справки: прием в крайкоме с четырех, кажется, часов. Подался. Иду. Сердце от радости трепещет, в руках держу партбилет.
Места до боли знакомые, хаживал тут тысячи раз, темно уже, но и в темноте все узнаю. Вдруг — что такое? — человек бежит мне навстречу, за этим же человеком еще кто-то, двое. Человек — голос показался знакомый, акцент вроде латышский, но кто, не узнал, — кричит мне:
— Там — хватают!
Вот тут до меня дошло, что и как, и я рванул в обратную сторону. И что ты думаешь: за мной тоже двое, а того латыша, похоже, догнали. Ну тут уж я рванул так рванул, не припомню, чтобы и еще когда-то так же! Места, говорю, знакомые, я через двор и вниз, под откос, в выемку железной дороги. Ну тут, на бровке откоса, догнал-таки меня один, полушубок был на мне крестьянский, он — р-раз! — и в воротник вцепился, а я — р-раз! — из полушубка выскочил, налегке еще прибавил, под откос скатился. А морозец этак градусов тридцать. Вокзал близко, отдышаться, погреться можно, но я побоялся — там наверняка за нашим братом охотятся. Сам охотник — и белковал, и медвежатничал, знаю. И за Каменку к знакомым подался, едва живой дошел. Знакомые ни о чем не спрашивают, поняли. Переночевал, одежку какую-то мне дали, я, минуя железную дорогу, снова в тайгу подался. К Агнии. Год ли, что ли, прошел, тогда только и вышел из тайги. Вот ты беспартийный, ты не знаешь, сколько наша партия пережила, а я знаю — на себе испытал».
Семнадцать лет при А.Т. Твардовском я был его автором (четыре года — при Симонове). После ухода А.Т. (ушел? ушли?) я дал себе зарок — больше не печататься в «Новом мире». Мы советовались с Юрием Трифоновым: он будет и дальше печататься, я — нет, я гораздо больше был связан с А.Т. и в литературе-то оказался благодаря ему.
Надо бы написать об этом подробнее, не хочется повторяться: писал уже. В каком-то сборнике, посвященном памяти Твардовского, кажется, 12 эпизодов из встреч и бесед с ним.
Карпов — он долго был сначала заместителем, а потом главным редактором «НМ» — многократно приглашал меня к сотрудничеству, я не шел. В то время «Наш современник» был, пожалуй, самым любопытным по прозе, я пошел туда, но в 1986 году, будто предвидя ближайшие события, отдал рассказ «Женщина и НТР» в «Новый мир». Тем более что это рассказ интеллигентский, «Наш современник» уже тогда такие не жаловал.
Я так жалею, так жалею, что слишком мало общался с Юрием, все откладывал на потом, Юрия (и Шукшина) очень не хватало, не хватает все эти годы — «перестроечные».
Шел я на «Новый мир» годика на два-три — никак не больше. Самому годиков-то уже 72! Вот-вот и 73! Сколько же можно еще тянуть? Чувствовал за собою и еще одно обстоятельство: я — первый беспартийный главный! Сами (т. е. ЦК) назначили — значит, сами и должны будут считаться с тем главным, который не подчинен партдисциплине (и партиерархии).
И действительно: «НМ», по крайней мере до тех пор, пока всеобщий финансовый крах и развал не охватили и его (а в финансах и предпринимательстве я ничего или ничтожно мало понимаю), был моим делом. Интересно было делом заниматься, интересно было узнавать, ни одна из перипетий, с ним связанных, меня не угнетала, а только занимала, увлекала даже. И так шло долго — до середины 1992 года примерно.
Ну а потом… Не знаю, дойду ли я до этого «потом». Уж очень оно муторное…
Все тот же вопрос о «записках».
Почему «записки», а не дневник?
Не знаю, почему я не умею вести дневников, — они мне претят, да и только. Но незнание, неумение тоже можно объяснить, попытаться это сделать. Попытаюсь.
Для меня (а может быть, и вообще?) существует только то, что я помню. Жизнь так и делится на две части — запомнившуюся и забытую.
Забытая тоже была, действовала на меня — на мой психологический склад, на то, как складывался мой способ мышления, на здоровье, на мои привычки, на судьбу — все это так, однако то, что не сохранилось в памяти, не существует для меня. Оно выпало не из всей жизни, но из жизни памяти, оно — тоже я, но бессознательное, а всякое размышление о себе и о событиях требует памятного сознания. Без памяти нет факта.
Я очень хорошо знал Корнея Чуковского. Позже читал (печатал в «НМ») его дневники. Подробностей — тьма, дневник ведь. Но у Чуковского была и изумительная память. Он обладал механизмом, который двигал им при написании дневников, дневники развивали его память, память требовала дневников, он без дневников задохнулся бы от собственной памяти.
У меня такого механизма нет, память неважная и очень своеобразная. (Об этом еще скажу.)
Самым интересным было то, с чем надо было бороться, — цензура.
Цензура еще года два или три после моего прихода в «НМ» действовала вовсю. В Главлите подписывался каждый номер. Я в Главлите бывал много раз. В настольном списке служебных телефонов у меня был телефон зав. отделом художественной литературы Солодина. Очень умный человек, прекрасно знающий литературу. Была еще какая-то дама, непосредственный шеф журнала (фамилию забыл). Почти на каждую редколлегию к нам приходили двое мужиков: из горкома, из райкома КПСС. Слушали. Молчали. После заходили ко мне в кабинет, делились впечатлениями. Впечатления нормальные. К главному относились с уважением. Работе не мешали. При мне — вполне симпатичные мужики, а что уж они говорили «там» — откуда мне знать? Я знал одно: они мне не мешали по крайней мере, видимо, даже и подозрений не вызывали. Я не подозрителен.
Бывал и представитель КГБ. Один раз заходил ко мне, представился (фамилию не помню), а вот к ответственному секретарю Резниченко заходил каждый месяц и беседовал подолгу. Но опять-таки — ничего видимого.
Р. этот — типичный комсомольский работник. То ли он хороший был работник, то ли плохой; то ли честный, то ли не совсем; то ли я его помню, то ли забыл — право, не знаю. Это и знать, и помнить неинтересно.
Публикация Солженицына.
Если бы я не имел в виду публиковать «Доктора Живаго», запретного Домбровского, Платонова, Набокова, Бунина, а Солженицына — прежде всего, я и на «Новый мир» не пошел бы. И уже сам факт назначения меня на этот пост я расценивал как уступку власть предержащих этой тенденции, поскольку я ее не только не скрывал, но и подчеркивал: это моя цель.
Другое дело, что кто-то имел в виду найти со мной «общий язык». Я, действительно, довольно просто уступаю. До определенного предела. Но мне-то этот «общий» не был нужен, тем более что шел я на два-два с половиной года и должен был сделать за этот срок побольше.
С чего было начинать? Решил — с Нобелевской речи Александра Исаевича. Она всему миру известна, и прятать ее от совлюдей? Глупость же!
Поставили в № 11, набрали. Начали тиражировать.
Звонок (домой) от директора издательства (Ю.Ф. Ефремов).
— Мне «Речь» печатать запретили. Анонс о ней на обложке — тоже. А вы как хотите. Ваше решение меня не касается. Вы человек независимый. Что хотите, то и делайте.
— Кто вам запретил?
— Кто вообще запрещает?
— Но вы же часть тиража уже напечатали? Значит, эту часть под нож? Убыток? (Говорили позже — 11000 экз.)
— Ваше ли это дело — считать мои убытки? Я — не печатаю. А вы, человек независимый, как хотите, так и поступайте. Решайте, печатайте в другой типографии.
Действительно, было, что решать: остановить выпуск журнала или смириться с тем, что «Речь» снята, продолжать выпуск журнала в надежде на будущее? Два варианта. И дело вот еще в чем: будущее, на которое надеешься, — оно близкое или далекое?
Я был у тогдашнего зав. отделом культуры ЦК поэта Юрия Воронова. Очень болезненный, очень милый человек. Страстный рыбак, других страстей не замечал. Но знаю историю с рыболовецкой флотилией «Слава». Он дал в «Комсомольской правде» (будучи ее главным редактором) такую публикацию, что затем 14 лет отсидел в ссылке — в ГДР (собственным корреспондентом «Правды»). Перенес он и ленинградскую блокаду. Сколько пережито, а — нынче? Идешь к нему и знаешь — результата не будет никакого. Милый разговор — и только.
Но — сходить надо.
Сходил. Поговорил. Спросил: к кому еще повыше мне надо сходить? К какому-такому секретарю ЦК, к какому члену? Ответ:
— Ни к кому не ходите. Бесполезно.
Другое дело — Солодин. Умный мужик, книжник. Начнет рассказывать о своей домашней библиотеке — заслушаешься. Я и заслушался. Сначала. Потом спросил:
— Ладно, я «Речь» сниму. А потом? Долго ли ждать? Лучших времен?
— По-моему, недолго.
Я вернулся в редакцию и позвонил Ефремову:
— Печатайте без.
В редакции люди недовольны: зачем Залыгин уступил? Они знали четко: нельзя уступать! А я не знал, кто выиграет, какие силы, — те, кто выступает против цензуры, или те, кто за нее? Вот какие мы все еще сильные, взяли и прекратили выпуск журнала! Выходил и не будет выходить. Я надеялся, что буду выходить, и выходить с Солженицыным. Позже мой друг, профессор Джеральд Миккельсон (Канзас), рассказывал:
— В США многие считали: в СССР предел гласности достигнут. Далее — партия ни на шаг не отступит.
Еще Джерри говорил:
— Залыгин напечатает не только Нобелевскую речь Солженицына, но и «Архипелаг». Если бы он на это не надеялся, он ушел бы с поста главного редактора. Зачем-то он этот пост принял?
Ну а дальше возникла неожиданность, без которой никак ведь и не могло обойтись, но я о ней не подумал: Солженицын возник.
Возник сам Солженицын. Как всегда неожиданно и решительно: ничего не печатать (после «Речи»), ни «Раковый корпус», ни «Круг первый», ничего, только «Архипелаг Гулаг».
Мы перезванивались, переписывались, я уговаривал А.И.:
— Будем действовать эволюционно: сперва «Корпус», затем «Круг», «Август», вот и дойдем до «Архипелага».
А.И.:
— Нет и нет! Ворота надо распахивать сразу и настежь! Распахнем — тогда мы хозяева положения, а станете действовать осторожно, исподволь — вас замотают. Одним словом: я даю разрешение на публикацию «Речи» и на «Архипелаг». И ни на что другое.
Думал я думал: а Солженицын-то прав. И стал я двигать «Архипелаг». Публикация «Речи», спустя короткое время, прошла как-то даже и незаметно не только для редакции, но и для общества. Никто не расценивал эту публикацию как событие, как победу, победой мог быть только «Архипелаг».
Беседовал с Солодиным. Он спрашивал:
— Вы сами-то «Архипелаг» читали?
— Нынче читал. И раньше читал. Одну ночь.
— В самиздате надо было читать. Вот тогда-то вы поняли бы, что это такое. Для партии и для советской власти. А сейчас уже не понимаете.
— Ну а какая может быть гласность без «Архипелага»? Неужели вы верите, что минуете «Архипелаг»?
— Нет, не минуем…
Итак, в Главлите была трещина. У начальника Главлита, Болдырева (был я и у него), — ни-ни, но здесь, в кабинете у Солодина, трещина была.
Вопрос с публикацией «Архипелага» выходил непосредственно на Горбачева. Болдырев дал мне это понять, хотя и без намеков было понятно.
На встречах Горбачева с интеллигенцией, с писателями прежде всего, о которых я говорил, он поддержал меня дважды.
Первый случай — с министром сельского хозяйства Никоновым. Мы в «НМ» печатали резкие статьи против мелиораторов, которые губили земли. Я такие статьи не только писал, но и печатал — кровное дело. Никонов нам препятствовал, и я заявил об этом на очередной встрече у Горбачева.
Горбачев строго погрозил Никонову пальцем: это как же так? Да разве можно мешать писателям в наше-то время?
Больше Никонов в наши экологические публикации не вмешивался. Кроме того, интересно было наблюдать, как грозящий палец генсека действует на члена Политбюро! (Вот бы написать-то!).
Второй случай: выступая на очередной встрече, я вручил М.С. петицию об отмене строительства азотного комбината (вторая очередь) в Новгороде. Эта вторая окончательно погубила бы город, первая уже нанесла ему (и наносит ежедневно) непоправимый урон. Петицию эту при входе в ЦеКа вручил мне новгородский писатель Борис Романов, который менее чем за сутки сумел побывать и в Новгороде, и в Ленинграде и вот примчался в Москву. Под петицией стояли подписи новгородцев и академиков Д.С. Лихачева, В.Л. Янина, еще много подписей, в том числе и моя.
И опять помогло — строительство второй очереди азотного комбината было отменено.
Естественно, это внушало мне определенные надежды и в деле с «Архипелагом».
В перерыв заседания подхожу к Горбачеву:
— Михаил Сергеевич, ну а как же насчет «Архипелага»?
— И речи нет! Забудь! (М.С. — со всеми на «ты», особенно — когда один на один).
Так было раз пять или шесть: нет разговора — и только. Но мы «Архипелаг» готовили к печати. Готовить его, собственно, было нечего, но мы всюду раззванивали о том, что готовим, что вот-вот…
В одну из таких же встреч Горбачев сердито и мимоходом сказал:
— По этому вопросу будешь беседовать с Медведевым — он теперь главный идеолог!
А это была уже уступка: Медведев не Бог весть как умен, с ним проще. Горбачев как бы отстраняется от непосредственного участия. Но — Боже мой — о чем можно было договориться с В.А. Медведевым? Более бесцветной, безличностной личности я, кажется, не встречал. Наш Резниченко был против него талантом!
Однако же мы встречались. И многократно. Я говорил: готовим. Он говорил: нельзя. Я говорил: готовим. Он говорил: нельзя. Я говорил: ставим в такой-то номер. Он говорил: снимем! Я говорил: скандал на весь мир! Он: мы общественное мнение подготовим. А типографии печатать запретим — типография государственная! А надо будет — на любой скандал пойдем, советские люди нас поймут.
Советские люди засыпали нас в редакции письмами: вы что, твари этакие, не печатаете Солженицына? Собственные шкуры, твари, бережете? А мы-то думали, что вы, Сергей Павлович, порядочный человек!
И другие письмена: Солженицын такой-то и такой-то, и ты такой же! Вы что — Россию хотите погубить? Гражданскую войну хотите в СССР устроить? Хватит с нас угрозы со стороны США, не хватало еще со стороны «Нового мира»! Тов. Медведев В.А. (член Политбюро, член-корреспондент АН СССР, член, член, член) имел-таки основания нечто подобное произносить, опираться на советских людей.
Тем временем движение в поддержку Солженицына ширилось. 75-летний юбилей его широко отмечался. Меня на такие собрания приглашали — я не шел. Не знаю уж, правильно ли я поступал, но если это и было ошибкой, то тактической, а не стратегической. На таких собраниях я не хотел говорить все, но и о чем-то умалчивать — тоже не хотел. И еще: я знал — наша возьмет, а это уже ощущение счастья, а счастливый человек — он глуповат и очень странно выглядит на публике. И вполне может сказать «гоп!», еще не перепрыгнувши.
Затем я собрал редколлегию (расширенную, помнится, были Д. Гранин, П. Николаев и др.) и поставил вопрос так:
— Иду к Медведеву и говорю ему: мы печатаем Солженицына. Вы — против? Снимайте главного!
Редколлегия — единогласно «за»! С энтузиазмом. Мне даже подумалось: легко же мои коллеги подставляют своего главного! Может быть, и зря, но так подумалось. Один только Даниил Гранин сказал:
— И охота тебе… — Хорошо зная Даниила, я хорошо понял и то, что он не сказал.
Пришел к Медведеву. Он меня выслушал и сказал:
— Дайте мне срок две недели. За две недели мы вопрос решим. На всех ступенях. Вплоть до Политбюро.
Я:
— Согласен. Но через две недели вы будете разговаривать с другим редактором «Нового мира».
— Ну, Сергей Павлович, ну зачем же так?.. Или вы нас не уважаете? — И он перечислил тех, кого я не уважаю. (Среди них были и те, кто меня поддерживал, А.Н. Яковлев и Горбачев).
— Но я сыт вашими отказами. И читатели «Нового мира» тоже сыты.
— Дайте мне два дня…
— И через два дня будет то же: другой редактор.
— Ну, Сергей Павлович, это уже неоправданное упрямство.
— А с вашей стороны — оправданное?
Возвращался я в редакцию с плохими предчувствиями. Думал: есть основание снять Залыгина — он не хочет разговаривать. Мне же в этот момент уходить не хотелось: дело-то все-таки двигалось, а назначат другого редактора — ему начинать сначала, и как-то он начнет? Да у меня и дальнейшие были замыслы, достаточно серьезные.
Но предчувствия мои далеко не всегда оправдываются.
Только вошел я в свой кабинет — звонок. Ответсекретарь (главный администратор Союза писателей) Ю.Н. Верченко:
— Сергей Павлович, вы уже вернулись из ЦеКа? Очень хорошо! Медведев выносит вопрос о публикации «Архипелага» на Секретариат Союза писателей, а мы вас поддержим!
Не могу это толком объяснить и догадываюсь так: Медведев понял, что «Архипелаг» все равно будет вот-вот напечатан, снимать меня он побаивается — скандал. Он находит такой выход: «Архипелаг» разрешит печатать не он, а Секретариат Союза писателей. И только я вышел из его кабинета, он звонит Верченко:
– «Новый мир» — ваш орган. Вот и решайте, как поступить. ЦеКа больше не вмешивается (примерно так).
Но Союз писателей, сколько бы ни говорил Марков о том, что Солженицыну не место на страницах журналов Союза писателей, запретить публикацию официально уже не может — не то время.
Через два дня Секретариат СП постановляет: на усмотрение главного редактора. Председательствовал Верченко. Секретарей-столпов не было, эпопея с «Архипелагом» завершилась. А.И. Солженицын был прав: только так и надо было действовать. Кое-какая переписка у нас с А.И. на этот счет была, но больше — телефон и оказии.
Дня через два я был в поликлинике. Зашел к врачу, а тот:
— Зайдите в такой-то кабинет, там телефон, вас по телефону разыскивают.
Захожу. Мне называют номер (кажется, знакомый?), звоню, голос отвечает тоже знакомый:
— Сергей Павлович? Горбачев говорит. Сможешь зайти ко мне? Сейчас же?
Через двадцать минут я на Старой площади, в кабинете, в котором уже приходилось бывать.
Горбачев смеется (мне кажется, он доволен):
— Я тут своим давно объяснял: надо Солженицына печатать, надо без изъятия. «Архипелаг» — значит «Архипелаг»! Конечно, было бы лучше сделать дело постепенно, подойти к «Архипелагу» через «Раковый корпус», через «Круг первый», но это уже право автора. Какой тут у меня разговорчик на ПэБэ был! Кое-как объяснил своим. Дошло!
Я Михаилу Сергеевичу поверил — так и было дело, казалось мне. Он ведь и отказывал-то мне будто бы нехотя.
Мы еще долго в тот раз сидели. М.С. и всегда-то любил больше говорить, чем слушать.
Помню, по какому-то поводу я сказал: «Это такое дело — интриги будут!» Горбачев засмеялся (весело): «Ну в этом деле они меня не проведут!».
Конечно, «Новый мир» хлопотал, настаивал на своем, но главное — время, оно и работало на нас. И Горбачев менялся под влиянием все того же времени.
Однако же вслед за тем, тотчас, возникала еще одна публикация, она далась нам ничуть не легче «Архипелага», тем более что вокруг нее не было общественного мнения, никто о ней и не знал, никто поначалу ее не поддерживал.
Речь идет об атомной теме, об АЭС, о Чернобыльской катастрофе.
В № 4 за 1988 год мы напечатали небольшую статью Алеся Адамовича «Честное слово не взорвется», из этого названия уже ясно, о чем речь.
В последующие годы мой приятель, честно-активный Алесь, сделал много. Правда, в одном суде выступил как обвинитель, а мне кажется, что писатель в этой судебной роли выступать не может, он обвиняет только за своим письменным столом, пусть на собраниях, но не более того. Но это уже его дело.[3] Я же считаю его главным делом именно эту статью, она пробила первую брешь, и, когда брешь была пробита, атомщики спохватились: «Тревога! Всем в контрнаступление!»
И как раз в это время к нам поступила статья инженера Григория Устиновича Медведева «Чернобыльская тетрадь».
Когда шла речь об «Архипелаге», я был спокойнее, я был уверен, что не нынче, так через месяц-другой «Архипелаг» все равно будет напечатан, но у меня не было никакой уверенности в судьбе «Тетради», ее могли и зажать. Надолго, а то и навсегда.
Г.У. Медведев — инженер-атомщик (значит, умный), проектировал и строил Чернобыльскую АЭС, участвовал в ликвидации последствий катастрофы, был облучен, семь месяцев пролежал в больнице — кому же было и написать об этом погублении белого света, как не ему?
До «Нового мира» что-то в том же духе Медведев напечатал в Ленинграде (в «Неве»), имел место цензурный скандал, его и его редактора обвиняли в разглашении государственной тайны, он предусмотрительно запасся какими-то реабилитирующими бумагами, однако его редактора таскали и таскали, редактор звонил мне: правда ли, что и мы собираемся печатать Медведева? Вот бы было хорошо, ему бы поддержка! Но я уклонялся от прямого ответа, я не знал, кто звонит и насколько можно быть откровенным, дело-то было еще котом в мешке.
Г.У. Медведев держался очень осторожно. Он жил где-то под Москвой, телефона у него не было, сообщались по телеграфу или звонили его соседям. Редакцию он не торопил, вел себя корректно, очень сдержанно.
Не так давно в Министерстве экологии (уже после публикации «Тетради») ухватила меня какая-то дама (представилась, но я фамилию не запомнил):
— У меня такие материалы, такие материалы по Чернобылю! Будете печатать?
— Будем. Хотя мы ведь напечатали Медведева.
— Медведев — это что!.. Вот у нас, у нашей группы экспертов главной экспертизы по расследованию аварии, у нас материалы! Медведев этими данными не обладает, да и не все он мог сказать: сам ведь тоже и строил, и проектировал…
— Ну, разумеется, — сказал я, — в одной статье всего не скажешь. Время идет, появляются новые данные. Пишите нам. Будем печатать.
Говорили с полчаса. Впечатление: женщина знающая, да и очевидно ведь: полные материалы той экспертизы и до сих пор полностью не опубликованы.
Дама обещала в редакцию зайти, продолжить разговор. Принести материалы, дело даже выглядело так, будто она меня уламывает принять ее.
Не зашла, не принесла, не позвонила. А следы я не найду. Если же люди знающие молчат, незнающий у них ничего не вырвет.
И еще о цензуре того времени.
В Главлите (Солодин) объяснили мне обстановку: Главлит, если что нынче и цензурует, так только в порядке общегражданском (того же Солженицына), но существуют ведомственные цензуры (военная, атомная и др.), туда Главлит обязан посылать «сомнительные» материалы, а пропускать эти материалы, только получив «добро» этих закрытых ведомств.
Вот и медведевский материал («Тетрадь») должен пройти чуть ли не через шесть министерств (и комитетов), ясно, что все они сделают всё, чтобы его задержать. Но рассылать рукопись «Тетради» надо, получим ответы, будет яснее, что же нам делать.
Разослали. Получили ответы (довольно быстро). Все ответы — отрицательные: «Печатать нельзя!» И тогда вот что мы сделали: мы напечатали все эти ответы. Они-то ведь уже не могли быть государственной тайной, их-то Главлит не обязан посылать на визу авторам в те же министерства, но редакции Главлит имел право те ответы передать.
А мы, журнал, имели теперь право ответы напечатать. И напечатали. Ну а после этого не имело смысла задерживать и публикацию Медведева: замы министров сами о рукописи Медведева так хорошо рассказали, так хорошо, как никто другой бы этого не сделал. Итак, сначала отрицательные заключения ведомств, а затем и «Тетрадь».
Возникает в этом деле и А.Д. Сахаров: редакции требовался очень авторитетный специалист, который поддержал бы нас против ведомственных цензоров.
С Сахаровым свела меня редактор отдела прозы «НМ» Наталья Михайловна Долотова — муж ее (покойный) был крупным физиком, она была тесно с этим миром связана и помогала мне не раз (в случаях экологических — тоже).
Рукопись Медведева Сахаров прочел очень быстро, и я поехал к нему, чтобы выработать план действия. Мы решили: 1) написать совместное письмо в инстанции, 2) написать (каждый свое) предисловия к Медведеву. Так мы и сделали, но письмо в инстанции (оттиск) оказалось утерянным, я думал, что оно в его бумагах, он думал — в моих. Спустя несколько лет Елена Боннэр обращалась ко мне за этим оттиском, а я — к ней. Кому мы тогда писали — не помню, содержание письма помню только приблизительно.
Между прочим, покуда мы работали с А.Д., он через каждые пять минут звал жену:
— Лена! У меня там бумажка была в Академию наук по вопросу… Принеси-ка!
Еще через пять минут:
— Принеси-ка…
И «канцелярия» и «архив» срабатывали безукоризненно четко и моментально: супруга Сахарова знала все до самых мелочей.
(Для меня это проблема, если уж не № 1, так № 1 1/2: никто — и я сам тоже — не может навести порядок в моих бумагах, а их — тысячи.)
В редакции Валентина Ивановна Ильина старается. И небезуспешно. Без нее я бы погиб.
С Еленой Боннэр мы позже встречались несколько раз, она передала мне материалы научной конференции, посвященной памяти А.Д. Сахарова, мы имели намерение привести эти доклады в божеский вид, чтобы можно было их понять не только физикам-ядерщикам, но и нормальным людям.
Я просил проделать эту работу Г.У. Медведева, но, сколько мы ни старались, — не вышло, не смогли.
Нас (меня и жену) приглашал американский посол г-н Мэтлок с супругой, которые имели в виду создать в Москве американский культурный центр имени Сахарова — но тоже сорвалось, хотя Елена Боннэр и здесь проявила огромную энергию.
Г-н Мэтлок, филолог, его специальность — русский язык и литература, — был внимательнейшим читателем «НМ», бывал он и у нас в редакции, и его отъезд оказался для нас большой потерей.
Сахаров имел все основания на меня обижаться (никто другой — не мог, нет таких оснований). В моей жизни был такой случай: я подписал письмо против А.Д. Глупо и подписал-то — даже не посмотрев толком, что за письмо. Очень стыдно! Но Сахаров никогда об этом случае не вспоминал. А когда в Президиуме АН обсуждался вопрос о присуждении премии имени академика Миллионщикова (присуждается за научную публицистику), именно его голосу я обязан тем, что премия эта была присуждена мне (1989 год, присуждается один раз в четыре года). В данном случае она была присуждена за статьи по вопросам экологии.
Несколько позже я наблюдал А.Д. на съездах народных депутатов СССР, на заседаниях ВС СССР, на некоторых Советах ВС, много размышлений и чувств вызвал у меня этот человек (отношения между ним и М.С. Горбачевым в частности). Может быть, я еще и вернусь к этим впечатлениям, но сейчас — снова к медведевской публикации («НМ», 1989, № 4).
Повторяю: она далась нам ничуть не легче, чем солженицынская, но странно — публикация эта вызвала гораздо больший резонанс за рубежом, чем у нас.
В США книга Григория Медведева была признана лучшей книгой года, была переведена на многие европейские (и на японский) языки, автор стал знаменит, а первые гонорары он жертвовал в пользу детей, пострадавших в Чернобыле.
Г.У. Медведев напечатал у нас еще и несколько рассказов (с фантазией) на ту же тему. Не ахти, но нам хотелось, чтобы это имя не сразу исчезло со страниц «НМ». Так же, как это было с экономистами Н.Шмелевым, В.Селюниным и многими другими.
Н.Шмелев плакал (ничуть не преувеличиваю), когда мы напечатали его статью, но рассказы он дал нам худенькие, мы их не приняли.
А.С. Ципко не верил мне, что его доклад в Риме (где мы вместе были на конференции) «НМ» доведет до статьи и напечатает, зато как он был требователен и нетерпелив, когда вопрос стоял уже о том, в какой номер эту статью ставить! И почему этот номер (с его-то статьей!) вдруг задерживается в производстве?
Заодно уж и такой случай. На той же конференции выступал министр иностранных дел Италии. Я попросил у него текст на предмет перевода и публикации. Он обрадовался: «Завтра же текст будет у вас в руках».
Ни завтра, ни послезавтра. Мы уехали… Месяца через полтора он этот текст прислал через итальянское посольство, и сколько же было оттуда звонков — когда публикация?
Но публикации уже не могло быть: доклад чисто политический, он безнадежно устарел.
Не будучи редактором, я не имел представления об этой стороне дела, об отношениях «автор — редакция», не знал ее. Но вот — узнал. Тоже полезно. Мой собственный опыт автора, в частности, в отношениях с Твардовским, меня ничему не научил, хотя он и говаривал мне: «Ох, тяжко, ох, тяжко мне! С десяток авторов — это люди, а остальные? Об остальных лучше и не говорить!»
7. VIII.92
Цензура военная. Она связана с публикацией повести Сергея Каледина «Стройбат».
И в этой истории, в этой пьесе, играет сам автор — писатель Каледин, человеческий тип, от которого я отчужден полностью. Он меня использует на 150 процентов, а я его — ни на йоту.
Я это прекрасно понимаю, злюсь и негодую, он со мной играет, его игра — тоже его творчество, он одно без другого и не представляет.
То, что для меня хамство, для него норма, повседневность и безусловные права человека. Отними у него хамство, он почувствует себя человеком бесправным, беззащитным и даже — не человеком.
Я не ему уступаю, а интересам журнала — это он схватывает моментально, этим и пользуется.
Не помню, какое учебное заведение он кончил, думаю, он и сам не помнит, поскольку это не имеет для него ни малейшего практического значения, потом он служил в стройбате, потом вел образ жизни бомжа, хотя и работающего. Парень — косая сажень в плечах, бородат и басовит.
Каледин попал в бригаду могильщиков и написал повесть «Смиренное кладбище», одно из первых новых, раскованных произведений литературы перестроечного времени. Когда мы ее печатали, было впечатление серьезного открытия, но было и жутко — страшная вещь! В то время страшных было еще мало, очень мало.
Читательская почта была двух цветов — белого и черного, но резонанс все-таки оказался значительно меньше ожидаемого: жизнь опережала литературу своими ежедневными, ежечасными открытиями, журнал не мог угнаться за газетами.
За «Кладбищем» последовал «Стройбат» — пожалуй, еще более суровая, жестокая вещь.
И если по «Кладбищу» мы имели дела с Главлитом, трудные, но не так чтобы очень, то тут возникла военная цензура.
В моем кабинете стали появляться полковники и генералы, в том числе и очень высокие, вести со мной беседы.
Для кого-то это будет неожиданностью, но я без колебаний скажу: это были самые вежливые, самые тактичные и выдержанные люди из тех, с кем мне приходилось сталкиваться по цензурным делам. Не сравнить с цековским В.А. Медведевым.
Чаще срывался я, чем они, генералы, они вообще не срывались. Если не считать телефонных, то на очных переговорах дело пришлось иметь прежде всего с генерал-лейтенантом Стефановским, зам. начальника Политуправления Советской Армии. Во всяком случае, он запомнился мне больше других.
Мне даже неудобно говорить об этом, но отнюдь не я перед ним, а он передо мной выступал в роли просителя: я не могу вам приказать, но прошу понять…
А понимать было чего: мы, редакция, наносили по армии удар огромной силы. Наши беседы невольно переходили на рассуждения о дедовщине, о чрезмерной секретности, о перерождении армии, о ее невероятных размерах и расходах, и все это — в связи с повестью «Стройбат».
Стефановский говорил:
— Все так. Ну давайте все это в одночасье разрушим и останемся без армии!
Я:
— А что это за армия, которая боится какой-то повестушки?
Стефановский:
— Ну если бы мы уж так боялись, мы могли бы запретить публикацию повести — и все тут.
— И получить всемирный скандал?
— Пережили бы… Не такое переживали.
— Через полгода пресса все равно прорвется в ваши крепости, а дело с запретом повести «Стройбат» значительно ухудшит ваше положение.
Примерно в таком вот духе мы объяснялись: я объяснял, что лучше, а что хуже для него, для армии, он — что лучше, что хуже для меня, для журнала и прессы: не дай Бог журнал исполнит какую-то неблагородную роль!
Так мы и расставались всякий раз.
Я:
— Будем печатать.
Стефановский:
— Еще раз прошу — взвесить все «за» и «против». Не ошибитесь!
И вот еще что: в армии-то у них тоже был раскол. Уходил Стефановский, и раздавались звонки (от полковников военной прессы):
— Ну как? Когда же вы будете публиковать «Стройбат»? Ждем не дождемся!
И еще плюс ко всему: во все эти дела без конца встревал Каледин. Он ходил по военному начальству, звонил, писал, требовал, а главное — скандалил.
Самым невероятным, на мой взгляд, его поступком был такой.
Зайдя ко мне, он увидел на столе мое письмо начальнику Политуправления. Он его списал и послал адресату за своей подписью.
Адресат, получив одно и то же письмо за разными подписями, звонит мне:
— В чем, собственно, дело? С кем, собственно, мы имеем дело — с редактором журнала Залыгиным или со стройбатовцем Калединым?
Я приглашаю Каледина.
— Что вы делаете?
— А мне так интересно. Я же не совершаю никакого преступления? Я вправе действовать по своему усмотрению!
— Тогда действуйте — пробивайте вашу вещь сами, без моего участия!
— Нашли чудака! Без вашего — не выйдет!
Десять раз я вспоминал роковое начало «Стройбата». Дело в том, что повесть чуть ли не под таким же названием сначала принес нам Илья Ойзерман-Касавин. Очень неплохая повесть. Мы ее отредактировали, поставили в номер, и тут пришел Каледин, принес свою вещь.
Я сказал:
— У нас уже есть такая же. Уже стоит в номере.
Каледин:
— Того парнишку с номера снимите, а меня поставьте.
— Почему?
— Потому что моя повесть лучше.
— Откуда вы знаете?
— Знаю. Лучше меня никто не напишет! К тому же я — автор «Смиренного кладбища», а кто такой мой конкурент? Кто его знает?
И действительно повесть Каледина была лучше по письму и современнее по материалу. И такова уж участь редактора — смиряться перед хамством, чтобы быть объективным.
Но ведь и дальше дело шло в том же духе.
Напечатав «Стройбат», я сказал Каледину, чтобы ноги его больше не было в редакции, но все-таки послал ему поздравительную открытку с Новым годом: ладно уж, забудем раздоры, что у вас есть новенького?
Каледин заключил открытку в рамочку и всем ее показывал.
И мне показал: вот как я хорошо к вам отношусь! — а потом и прислал нам свою новую повесть «Поп и работник».
«Стройбат» в литературном отношении был все-таки послабее «Кладбища», «Поп» значительно слабее «Стройбата», и мне это было на руку: наконец-то отделаемся от Каледина!
Не тут-то было! Инна Петровна Борисова, сотрудница отдела прозы (работала еще при А.Т. Твардовском), взялась «Попа» «доводить» (это ее специальность — «доводить»), а Каледина стало не узнать — ангелочек, на все согласен, на все готов, на любые доводки, сокращения, исправления.
И через год, что ли, мы его напечатали.
Вот уже несколько лет я о Каледине не слышу. Но все может быть — может, и разразится. Но — не в «Новом мире». «Новый мир» он презирает…
Цензура тюремная.
Повесть Габышева «Одлян — воздух свободы».
Цензура тюремная, мне известно, еще недавно была железной. Но что она могла после публикации «Архипелага»? На что была способна? На какие-то символические жесты — у-ух, какая я все еще страшная!
Вот и в случае с Габышевым: унылые звонки, и кто-то намекает, дескать «от сумы да от тюрьмы…» И только. Не более того.
Поэтому впрямую о цензуре тут разговора нет, разве что о рукописи, об авторе.
Рукопись принес мне Андрей Битов, сказал: очень плохо и очень здорово написано. Я ночь читал, день и еще ночь — не оторваться! (Страниц много, много.)
Вкусу Битова — да вот еще Михаила Рощина — я доверяю. Писатель — это стиль, а когда я читаю того и другого, то кажется — я сам писал, так мне это близко. Хотя с Битовым мы пишем по-разному. Конечно, субъективизм, а куда в литературе без оного?
Стал неизвестного Габышева читать и я, так и есть: и плохо, и здорово.
Уж возились-возились мы с ним в отделе прозы — сделали. Напечатали. И явился классик Габышев — во всяком случае, такой у него сделался вид. Париж, Рим, еще столицы мира покорены и Литературный институт, кажется, тоже: Габышев — студент, хотя и безграмотный. Он этот пробел восполняет матерщиной на каждой странице.
Ну задаст еще и еще «воспитанник» колонии малолетних преступников воспитанникам Литературного института! Пример увлекательный: ни учиться не надо, ни читать-писать, ни говорить нормальным языком, ни даже глядеть на мир в оба-два. А надо: 1) занести на бумагу что-нибудь свое, 2) отнести записки известному писателю (а тот уже отнесет в редакцию), 3) потерпеть, покуда тебя будет мучить редактор.
В 1968–1973 годах я вел семинар прозы в Литературном институте, знаю эту публику, но с тех пор такого вот рода примеры стали там действовать на студентов с десятикратной силой.
С год тому назад, больше, Габышев принес и с гордостью положил мне на стол свой новый труд. Я прочел — ну тут уж и действительно ничего, кроме матерщины.
— Не хотите печатать? Еще пожалеете: напечатаю в другом месте! Не знаете вы новых литературных направлений, консерваторы! — возмущался автор.
Другое место нашлось, Габышев принес нам свой труд в печатном виде (журнальчик, о котором я ни до, ни после не слышал).
— Что я вам говорил? Читайте! Завидуйте!
И впрямь, что остается редактору? Читать и завидовать?
Не мне судить о той роли, которую сыграл «Новый мир» в отмене в СССР четырех цензур: гражданской, атомной, военной и тюремной. Но очень странными выглядят нынешние заявления некоторых периодических изданий (журнал «Москва»), которые в трудное время помалкивали, ждали, к чему приведут схватки с цензурой их коллег, позже результатами этих схваток воспользовались и вот вопрошают: да что он значит-то — «Новый мир»? Очень мало! А «Знамя»? Совсем ничего!
Вообще я думаю, что журналам некорректно критиковать друг друга. Критикуя, скажем, «Знамя», «Октябрь» или «Наш современник», я, вольно или невольно, утверждаю: мы как будто бы и равноправны, но я лучше, а вы — хуже. Ведь не критикуют же друг друга книжные издательства!
Другое дело — газеты. Или — специальные издания типа «Литературного обозрения».
Не понимаю, что такое критик — литературный, театральный, кинокритик и т. д.? Отчетливо понимаю литературоведа, театроведа, киноведа, искусствоведа. Если критик не является «ведом», если он не «ведает» профессии, о которой говорит, он в лучшем случае читатель (зритель), который счел нужным заявить о своем мнении, о том или ином факте литературы (искусства). Но такого рода заявления не могут ведь стать специальностью.
8. VIII.92
Не люблю политику. Не разбираюсь в ней. Не политик. Политика — это партийность, а партийность с ее программами, уставами, дисциплинами (не дисциплиной, а дисциплинами, самыми разными для разных категорий партийцев) всегда мне была чужда. Никогда я не был ни пионером, ни комсомольцем, ни членом партии. Не потому не был, что убеждения не позволяли, к партии я долгое время с уважением относился — был воспитан и в школе, и в техникуме, и в вузе, — но отчуждение мое было сильнее уважения.
По мне, тот политический строй хорош, который создает возможность хорошо работать, я знаю, что богатство — это хорошо организованный (пусть и не всегда праведный) труд, а бедность — это труд дезорганизованный, примеров тому и другому множество, положим, Япония и Россия.
Ну а монархизм это будет или социализм — дело второстепенное, дело опять-таки в организации труда: та же Япония — монархия, та же Россия, в недавнем прошлом социалистическая, а ныне — неизвестно какая, и, покуда труд в России не будет организованным и продуктивным, это и не станет известным.
Когда вы приезжаете в какую-то страну, вы не спрашиваете у тамошних граждан, какая у них избирательная система и какая конституция, но спрашиваете: как вы живете? То есть как и в каких условиях вы трудитесь, что дает вам ваш труд?
Вот и «Новый мир» — пусть уж лучше партии борются за «НМ», чем «НМ» за какую-либо партию или группировку.
«НМ» — в этом смысле ничей, и это раздражает многих больше, чем если бы он был чей-нибудь, принадлежал бы пусть противной, но партии. Это раздражение, эту неприязнь мы испытываем на каждом шагу, хотя со стороны, может быть, и не видно.
Года два тому назад очень недолго (недели две-три) вся наша печать вдруг заговорила о центризме, о том, как трудно центризм соблюдать (потому и трудно, что в нем не должно быть политики). Даже Солженицына охотно цитировали — он так говорил. Но, повторяю, центристского умеренного пороха прессе хватило на две-три недели: бесконечная свара оказалась лучше, хотя она и хуже.
Мне говорят: у тебя, у «НМ», нет позиции, ты уходишь от действительности.
А я: попробуй-ка, испытай такой «уход»! Моя позиция — непреходящие ценности или по крайней мере стремление к ним. Утеряем их, эти ценности, и никакая политика не будет иметь никакого смысла. Любая политика рубит сук, на котором она сидит, — это непреходящие ценности. Разумеется, нельзя обойтись без сиюминутности. Минута, мгновение — тоже жизнь, едва ли не равнозначная вечности, потому что, если прервать жизнь только на минуту, ее уже не будет никогда, она не восстановится. Вот политика и использует этот злой, антижизненный закон, равнозначности мгновения и вечности, но и сама-то жизнь, биология и экология существуют так, как будто этого закона нет. Впрочем, его и в самом деле нет, во всяком случае, он никогда и нигде не проявлялся, в жизни он не заложен, разве только в политической. Политика тем и занята, что сначала вселяет в человека страх гибели, потом заявляет: никто тебя не спасет — только я! Вот почему всякая политика авантюрна. Но ведь и без нее, подлой, нельзя, не обойдешься, поскольку все человеческое существование по отношению к самой природе — уже не что иное, как авантюра. Этот основополагающий авантюризм все возрастает и возрастает — одна только НТР чего стоит! Один Персидский залив! Один коммунизм в своей политической практике!
Один, одна, одно… А сумма «одних»?..
Вот-вот эта сумма перешагнет свой критический предел… И для меня едва ли не все основные материалы «Нового мира» именно так и должны прочитываться. Должны. По-моему. Но, кажется, не более того.
Меня всегда заносит: начну с «Нового мира», кончаю… миром, но разные же это вещи.
Может быть, потому, что я не политик, политики относятся ко мне и с подозрением, и с интересом. Подозрение: нечего обманывать, отрицание политики — это тоже политика; интерес: нельзя ли эту аполитичность склонить в свою политверу? В конце-то концов любая партийность сводится к тому, чтобы завлечь в свой лагерь беспартийность.
Для меня партийность — это атавизм, не только не изжитый, но и развивающийся: все эти уставы, программы, лозунги, партячейки неизбежно ущемляют общечеловеческие интересы, сужают личность. По мне — должны быть не партии, а общественные движения в защиту какого-то принципа — экологического, экономического, общественного, государственного — или в противопоставление ему.
Человек участвует в этом движении, не будучи связан ни уставом, ни дисциплиной, ни регламентом, и только покуда он этого желает. Он может в любой момент из этого движения выйти, может участвовать сразу в двух и более движениях.
Когда движение становится партией, оно многое теряет в глазах общественно-развитой страны («зеленые» в ФРГ). Конечно, до полной самоликвидации партий не только далеко, но временами становится все дальше и дальше, хотя бы по одному тому, что ширятся национальные движения и рано или поздно они становятся партиями.
В этом смысле для меня интересны США, особенно после поездки туда в составе группы консультантов М.С. Горбачева в 1987 году. (Была такая группа из 14 человек. По культуре нас было двое: Михаил Ульянов по кино и театру, я — по литературе.)
В США партийность не такая, как в других странах, партий, по сути дела, там только две, и обе — больше движения, чем партии, обе стоят на одной и той же платформе государственности, и политические различия между ними сведены к минимуму, их почти нет, есть экономические различия. Обе партии — патриотические. В Америке не может быть президента — не патриота, не столько национального, сколько государственного. «Америка превыше всего!» — это национальный, а еще больше — государственный лозунг, лозунг гражданина США, независимо от его национальности. Задача двух партий — создать конкуренцию при выборах президента, т. е. исключить однопартийность, а для этого партии могут и не иметь уставов, партдисциплины и даже программ помимо тех, которые выдвигают претенденты на президентский пост во время выборной кампании.
Почему оказался продуктивным диалог Горбачева с Рейганом и даже Никсона с Брежневым, несмотря на то, что США и СССР были непримиримыми противниками? Во-первых, потому, что оба государства стояли перед возможностью взаимного уничтожения, во-вторых, в силу беспартийности США как государства. Беспартийные США никогда бы не договорились с большевиками, но с Горбачевым, склонным к беспартийности, уже могли.
В Вашингтоне я наблюдал Горбачева, присутствуя едва ли не на всех его переговорах и встречах, исключая закрытые, непосредственно с Рейганом, и мне кажется, что энтузиазм Горбачева тоже на этом возникал: на беспартийности США как государства. Он с этим столкнулся впервые в жизни, это произвело на него огромное впечатление — доводы взаимной максимально внеполитической выгоды.
Один вечер я провел за столиком с двумя бывшими госсекретарями США — Вэнсом и Киссинджером — и с госсекретарем действующим, Шульцем.
Бывшие относятся к нынешним с почтением, но почтение нынешних к двум бывшим даже чуть больше и уважительнее — как к аксакалам. У нас наоборот: бывший и будущий враги № 1 и № 2 для нынешнего.
Во время подписания соглашения Горбачев — Рейган в Белом доме, в очень торжественной обстановке, я видел лица того и другого метрах в трех. Что бы там ни говорили о дипломатии, но и в ней случаются минуты высшей искренности, максимально возможной доверенности и доверчивости.
Для всей обширной аудитории справа и слева от центра стояли телевизоры, и можно было видеть весь акт из дальних рядов. И вдруг один телевизор (левый) отказал… На лице Рейгана выразились такие недоумение и ужас, будто обвалился потолок. Через две минуты телевизор был включен, Рейган был все еще растерян, а Горбачев старался эту растерянность рассеять.
Вечером того же дня (помнится) в Белом доме был прием, а до начала — концерт Вана Клиберна. Как же он постарел! Какое неуверенное у него выражение лица, недавнего человека-звезды, но уже прошлого. Я слышал его больше тридцати лет назад в Новосибирске. Немножко-немножко он говорит по-русски, и, когда я напомнил ему: «Новосибирск!», он расцвел. Вспомнил молодость и Россию.
Еще один «дипломатический эпизод».
Я сидел в четвертом ряду, а наш посол Юрий Дубинин с женой впереди меня в третьем.
Боже мой, как страдала, как бледнела и краснела жена, как ругала и злилась жена на своего мужа-посла — почему они сидят в третьем ряду? Ну если уж не в первом, так во втором-то ряду они должны находиться! А если в третьем — так какой же это посол? Это уже Бог знает кто! Я встречался с Дубининым, когда он был послом в Мадриде. Мы летели с ним рядом в самолете Мадрид — Москва и много разговаривали в тот раз. Конечно, я не знал, что он летит за новым назначением в США, но он был весь из себя сияющий.
Мы встречались с ним недавно (1994 год, февраль) в редакции — он принес рукопись с изложением истории Хельсинского соглашения. Пришлось рукопись отклонить — она написана дипломатом для дипломатов же. Ну и как водится, из рукописи следовало, что если бы не автор, то и соглашения никакого не было бы.
Он был в недоумении: как так, почему статья не пошла? А мне было очень трудно отказать: кажется, через него можно было достать финскую бумагу для журнала. Еще осталось впечатление: права человека — это одно, а права советского человека — это другое. Так-то вот… Но держится человек виртуозно, если так можно сказать, как будто в клетке из пуленепробиваемого стекла.
Из этого знакомства вдруг возникло у меня представление о дипломатии и дипломатах. Вот уж где царит иерархия, где демократией и не пахнет, где технология царит все та же, что и при царе-Горохе! Дипломат не способен расценивать времена иначе, чем по собственным успехам: то время, безусловно, лучшее, в которое он достиг наивысшей должности, наивысшего успеха. Вот и для Дубинина самое лучшее время — брежневское и сам Брежнев. Для Н.Т. Федоренко — сталинское и сам Сталин. (С Н.Т. я ездил в Италию, в Венецию, на симпозиум по Гоголю, делал доклад, а в США в составе большой делегации писателей — там просто болтался, хотя написать было бы интересно. Однако обо всем не напишешь, разве что само под руку подвернется так, что и не отвертишься.
Удивительная для меня деталь: наша правительственная делегация жила в посольстве, а советники и охрана Горбачева — в отеле «Мэдисон», журналисты же — в другом отеле, все это рядом. Вокруг «Мэдисона» и внутри была огромная американская охрана, в лифте нельзя было проехать одному, только с сопровождающим (негритянка с пистолетом на боку и с радиоприемником на груди), к главному входу отеля уже нельзя было перейти улицу без предъявления документов полицейской охране (тоже негры и все огромные), но вот в чем дело: все это — в первый день. На второй день вся охрана знала нас в лицо, документов не требовала, приветливо нам улыбалась и можно было ввести в вестибюль и в ресторан своих гостей. Вот это — полиция!
И что бы за судьба была у планеты Земля без нашей перестройки? Как и всегда, перемены в этой судьбе дороже, драматичнее, трагичнее всего отразились на России, но нельзя сказать, что это — несправедливость. Подумать, так история-то, в общем, справедлива. Если бы Россия была так же умна, как и богата, она бы задала всему миру перцу!
Да, эйфорию мы тогда переживали, и эйфорию не без основания — что бы это дальше-то было без примирения между США и Россией? Возможна ли была бы наша перестройка, возможно ли было бы продолжать мир без нее?
Значительность события чувствовалась тогда и в большом, и в малом. Кроме того, в то время мы чувствовали несравненно большую уверенность в себе, в своем будущем, чем теперь, спустя семь лет, а это так много значило! Горбачев умеет создать атмосферу доверия. Мы дома этого так не чувствовали, за рубежом — очень.
Я присутствовал при его немноголюдных встречах в Кремле с Рейганом, с Тэтчер, с президентом Бразилии, с Шульцем, и это очень чувствовалось.
Но вот в Пекине — уже нет, там было слишком многолюдно и очень различны оказались манеры поведения договаривающихся сторон.
К тому же в Китае (1989 год) мы, советские советники, все сопровождение, были предоставлены самим себе, во встречах не участвовали, кроме массовых приемов, а вот общались между собой довольно тесно, и нам было интересно. В частности, многие часы мы провели с Валентином Распутиным.
В Китае я бывал и раньше, и насколько легко и просто было тогда с китайской интеллигенцией — с университетской профессурой: люди соцлагеря, мы с полуслова понимали друг друга, настолько непонятно тогда же было общение с «руководящими кадрами» — в 1956 году я встречался с Чжоу Эньлаем, Го Можо и Мао Дунем. (Об этих встречах, может быть, ниже.) Теперь мы жили в обширной резиденции за каменной стеной, мало с кем, собственно, даже ни с кем не общались извне. У нас (Распутин, Айтматов и я) было одно выступление на русском факультете университета, там я встретился с моим хорошим знакомым, профессором Е. (1956 год), он выглядел бодро и уверенно; с переводчиком моей книги Ли, который тоже стал профессором и навещал меня в «Новом мире», я тоже встречался.[4]
Резиденция — большой парк с прудами и множеством коттеджей (25–30 коттеджей разной степени шикарности), вроде был май, происходили события на площади Тяньаньмынь — не знаю, правильно ли мое написание, знаю, что в переводе это значит «Площадь Спокойствия». Огромная площадь — большего размера я, пожалуй, и не видел — была сплошь уставлена палатками, молодежь пела, танцевала, размахивала флагами, по улицам носились грузовики, переполненные людьми, опять-таки с флагами и лозунгами, они, если узнавали в нас «советских», горячо приветствовали. Это народное движение, безусловно, возникло под влиянием тех перемен, которые происходили у нас.
Днем, а еще чаще ночами, демонстранты бесконечными колоннами двигались вокруг стен резиденции и кричали: «Ми-ша! Вы-хо-ди к нам! Ми-ша! Вы-хо-ди!»
«Миша» не выходил, выйти не мог — иначе какие могли бы быть у него переговоры с правительством Китая?
Мне все это внушало тревогу: в 1962 году мы с писателем Собко были в Пекине, когда там уже назревала «культурная революция» — событие совсем иное, но те же толпы и тот же (?) энтузиазм, и бывали случаи, когда нашу машину окружала толпа и мы просиживали в неподвижности три-четыре часа, а толпа бушевала вокруг нас.
1989-й год, конечно, не был 1962-м, совсем другое дело, но ощущение какой-то непредвиденности, смешение надежды с предвидением беды — это было. И верно: китайские власти только ждали отъезда Горбачева — он улетел, и на другой же день на Площади Спокойствия произошла кровавая расправа.
Что значили все эти события?! Не знаю, теряюсь. У нас не было таких расправ, но суверенитеты республик унесли несравненно больше крови, нищета и разорение у нас великие, а Китай все-таки двигается не назад, а вперед в своем экономическом развитии. Одним словом — не знаю.
Еще эпизод.
В один из дней нашего пребывания в резиденции Горбачев подошел ко мне: «Завтра я занят весь день, Раиса Максимовна будет ездить по Пекину, не согласитесь ли ее сопровождать?»
Я согласился. Мне было интересно, интерес был оправданным: я давно подозревал, что Р.М. совсем не такая, какой я видел ее на официальных приемах и по ТВ. В тот раз приехали мы в Государственную библиотеку Пекина, Р.М. торжественно встретили у входа, провели в здание, мне даже помнится, что на стенах были указатели нашего маршрута по коридорам и залам, но она наотрез отказалась от этого плана следования: будем ходить, как вздумается. Есть у вас зал для читателей-иностранцев?
— Есть.
— Пойдем туда.
Пришли. Р.М. спросила: а есть ли среди читателей кто-нибудь из Советского Союза?
Один человек не очень уверенно, но откликнулся:
— Есть…
Это оказался литовец, который небойко говорил по-русски.
Р.М. сказала ему:
— А хотите, я угадаю тему, над которой вы здесь работаете? Вы работаете над темой «Из истории литовско-китайских отношений».
Так оно и оказалось. Да ведь и то сказать — по какому бы еще другому случаю занесло литовца в библиотеку Пекина?
Помимо библиотеки, мы и еще в нескольких музеях-храмах побывали, потом поехали на грандиозный правительственный прием, но здесь и узнать нельзя было ту Р.М., с которой мы только что ездили по Пекину. Телекамера почему-то делает ее жесткой, официальной, голос ее меняется, тогда как в обычном общении это живая женщина, она и шутит, и смеется, и не изображает.
Но, признаться, впечатление, которое возникло от Р.М. официальной, не оставило меня и в тот день.
Мои суждения о Горбачеве могут быть только поверхностными, т. е. в них полностью отсутствует политический анализ, присутствуют же личные впечатления, сложившиеся с 1986 года по настоящее время (июль, 1993), т. к. нынче я изредка встречаюсь с ним в Фонде его имени.
И я должен сказать, что во всех наших встречах, даже и тогда, когда он мне отказывал (при прохождении в печать Солженицына, например), впечатление у меня оставалось такое: я имею дело с порядочным человеком. И с приятным. Слово «приятный», хотя и звучит в данном случае и наивно, и некомпетентно, меня не смущает, я общался с М.С. на своем собственном, а не на его уровне.
Отмечу еще один случай.
Дело было 9.ХП.91 г. Суббота. Горбачев через своего помощника по культуре Владимира Константиновича Егорова (у меня раньше возникала мысль — пригласить В.К. зам. главного редактора «НМ», и я жалею, что не осуществил эту возможность) назначил мне встречу (Кремль) к 11-ОО. Я приехал.
У Горбачева на столе лежала папка с записями Солженицына, изъятыми у него при аресте в 1944 году. По указанию М.С. они были разысканы в архивах КГБ, а теперь М.С. предлагал мне срочно лететь в США, в Вермонт, и вручить их А.И. ко дню его рождения.
План был неосуществим: оставалось два или три дня до дня рождения А.И.
— Обеспечим! — сказал М.С. — Дадим указание нашему послу в США, и тебя прямо из аэропорта в Нью-Йорке доставят в Вермонт!
Но я в то время в связи с публикациями Солженицына постоянно перезванивался с ним, вернее — с Натальей Дмитриевной, и знал о намерении А.И. выехать на две-три недели из Вермонта, так что вполне мог бы и не застать его дома.
Кроме того, через полтора месяца я должен был лететь в Канзасский университет для выступлений там по приглашению профессора-русиста Джеральда Миккельсона (во второй раз, в первый, кажется, в 1986-м). Джеральд — один из «главных» пушкинистов США, много писал и о В. Распутине. Не раз бывал у меня на даче, несколько лет, с перерывами, жил в Питере — руководил американскими аспирантами в Союзе (и России). Его ученик, профессор колледжа в Мэмфисе (штат Техас), защищал диссертацию (выглядит-то как шикарно, какой переплет, какой набор!) «Ирония в творчестве Залыгина». Теперь он переводил «Комиссию» (вышла в начале 1994 года), и я должен был слетать и к нему в Мэмфис тоже.
Горбачев быстро (он довольно часто соглашался быстро) согласился со мной и предложил мне полистать папку с записями Солженицына. Зная нрав А.И., я отказался. Тогда разговор зашел о том, о другом и длился часа полтора, а это ведь были как раз те часы, в которые Ельцин, Шушкевич и Кравчук в заповеднике Беловежская Пуща решили, что Россия, Украина и Белоруссия должны быть полностью независимыми государствами.
Точно те самые часы.
Это стало известно на другой день, но я всегда был совершенно уверен: в субботу в полдень Горбачев, когда мы беседовали с ним, ничего не знал об этой встрече тех троих в Беловежской Пуще. Недавно я спросил М.С. об этом, он подтвердил: не знал.
А ведь должен был знать!
Вообще мне кажется, что Горбачев обладает некоторыми человеческими качествами в ущерб качествам лидера. Он не подозрителен и не злопамятен (он ведь никогда не ругал своих предшественников), он больше любит говорить, чем слушать, он несколько излишне самоуверен там, где это не оправдано.
Помню, в одном из разговоров я по какому-то поводу сказал:
— Это такой вопрос, в котором может таиться множество интриг!
М.С. погрозил в воздухе пальцем, улыбнулся:
— Ну в этом деле они меня не проведут!
Кто они — осталось неизвестным. Но «они» его провели. И здорово.
Горбачев отличался исключительной работоспособностью. Он не пьет, не курит, у него исключительная память, он точен в исполнении рабочего дня.
Американцев это очень подкупало. Рейган много старше и работать в таком темпе не мог, брал в обед тайм-ауты, Горбачев на эти часы назначал новые и новые встречи.
И вот еще что я хотел сказать: М.С. — сельский мальчик с Кубани, Р.М. — дочь рядового железнодорожника из степного, более чем незавидного сибирского городишка Рубцовск, приехали в Москву, прошли по конкурсу (разумеется, без всякой поддержки со стороны) в МГУ, закончили: он — юридический, она — философский факультеты, закончили с блеском — это что-то значит. Я долгое время работал в вузе (хотя и в провинциальном, в Омском сельскохозяйственном) и представляю себе, что это значит. Молодым людям из сибирских деревень было трудно поступить и в Омский сельхозинститут, а в МГУ?
В свое время я на такой шаг не решился бы — МГУ! Впрочем, хорошо, что не решился. Провинция, отсутствие авторитетов, полная самостоятельность (никаких аспирантур и сразу же — зав. кафедрой) мне дали больше.
И еще вот что: на моем веку Россией правили Николай Второй, Львов, Керенский, Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев, Ельцин, теперь вот командир звена истребителей полковник Руцкой претендует — кем из них Россия и мир остались довольны? Никем.
Только и делаем, что рушим памятники и сжигаем портреты. Где же работа созидательная? Едва что-то успеем создать, как тут же и разрушаем. Если бы не наша безмерная природа, ничего бы от страны, от самих себя не оставили. Из одиннадцати перечисленных правителей все или были устранены, или умирали на своем посту. Но трое — Николай, Львов и Горбачев — ушли, отреклись от власти сами. Обстоятельства заставили — да, но все-таки сами объяснили, почему уходят.
Горбачев менее, чем последующие перестройщики, хотел разрушения — это был его главный грех в глазах последующих ортодоксов. Но что те, последующие, ортодоксы создали? Невероятный бюрократический, взяточнический класс и столь же невероятный класс спекулянтов, противостоящий всякой производственной деятельности; и той, и другой сторонам выгоден повсеместный дефицит. Рыночная экономика должна быть построена на конкуренции, но никак не на дефиците товаров и услуг.
В начале своей деятельности М.С. хотел немногого: перестроить КПСС, чтобы она, обновленная, облагороженная, смогла перестроить и общество, и государство. Он не знал, что стоит эту партию чуть-чуть стронуть с места, и она покатится под откос.
Возвращаюсь в Вашингтон, к вашингтонской эйфории, когда не только мы, но и американцы были на воздусех (причина очень уважительная — конец холодной войне!), к начальной, искренней и неопытной демократичности Горбачева, которую я все время ощущал на себе, т. к. на многих встречах (исключая встречи непосредственно с Рейганом, в которых я не участвовал) Горбачев нередко обращался ко мне:
— Так я говорю, Сергей Павлович?
И сразу же после встреч:
— Так я говорил, Сергей Павлович?
— По-моему, правильно!
А в иных случаях добавлял: «хотя можно было бы и еще сказать…» Но тут Горбачев уже не слушал — что можно было бы «еще», да и я не очень-то был уверен, что мой комментарий ему необходим.
Все это происходило в нашем посольстве, в его уютных залах и кабинетах в стиле конца прошлого века. Бывал я в этом здании и раньше, ну тут как бы даже приспособился к нему: будто так и надо — здороваться то с Шульцем, то с Вэнсом, то с Э.Кеннеди, то с Киссинджером. Это уж после, пораздумав, ругательски ругаешь политиков, а для первого раза интересно, и даже появляется чувство значительности происходящего. Более того — чувство необходимости: все это очень и очень нужно — и никак иначе. Обычно при таких встречах-разговорах оглядываешься вокруг: другие-то так же воспринимают происходящее или иначе? Или — никак, не трогает их оно? В Вашингтоне мы были рядом с М.А. Ульяновым, у него — та же реакция, что и у меня; в Пекине — с Лавровым, Распутиным и Айтматовым, у Лаврова и Распутина та же реакция, что и у меня, у Айтматова — взгляд отсутствующий, вот он и стал профессиональным дипломатом (до этого был непрофессиональным).
И посол Дубинин был весьма приветлив и тоже на воздусех — он появился в Вашингтоне недавно.
В Вашингтоне счастливый Дубинин (посол в США!) еле на ногах стоял: М.С. его загонял. М.С. видел в дипломатах людей, а не дипломатов. Это их подавляло, особенно наших, советских. А вот американским (тоже не всем) это даже импонировало, а в конце концов способствовало тогдашнему успеху Горбачева.
Это нравилось американцам. Видимо, они сравнивали энергию Рейгана с энергией Горбачева — один был светилом заходящим, другой — восходящим.
В Академии наук США советники Горбачева выступали с докладами (я — по экологии). Мы все там и по медали какой-то получили.
Только произнес я свою речугу, вдруг пробежал какой-то шепоток — и все! Все в один миг куда-то смылись. Оказывается — в Академию приехала Р.М. Горбачева, вот американские ученые и бросились ее встречать. У нас бы по отношению к Нэнси Рейган академики не проявили такого интереса и любопытства.
Ну а мы, советские (почти все), остались в зале заседаний на своих местах — подумаешь, экая для нас невидаль! И верно: когда американские академики возвращались в зал (не все), они поглядывали на нас с удивлением.
Помню доклады А.Б. Аганбегяна, В.Н. Кудрявцева, Е.М. Примакова, Р.З. Сагдеева — наши блеснуть умеют.
Был я и на службе в церкви, там за счастье всего мира шла служба на многих языках и по многим обрядам христианской церкви, своего рода соревнование. Наш митрополит Филарет лицом в грязь не ударил: стены вздрагивали, а люди (по православному обряду) слушали стоя его краткую проповедь, отчасти песенную, и в какой-то опять-таки счастливой были растерянности. Сдается мне — Филарет наш оказался на высоте и общепризнан. А еще были мы с Ульяновым в гостях у директора библиотеки конгресса профессора Джеймса Биллингтона, он — русист, говорит без акцента, созвал тоже русистов и эмигрантов, в том числе и заполошных… Каких-то там художников-пейзажистов, которые в Вашингтоне по давней-давней памяти пишут подмосковные закаты и восходы русского солнышка и теперь очень хотели бы, чтобы мы их похвалили. А как похвалишь, если это — невозможно?
Между прочим, как часто бывает, мы разговорились на чужбине с Михаилом Ульяновым, и что же оказалось?
Оказалось, что он родился под городом Тара (Омская область), в колхозе имени Калинина в 1929 году, а в 1931-м я в этом колхозе был на практике (студент Барнаульского сельхозтехникума), составлял там оборотку стада, а предколхоза Ульянов Александр ежедневно меня пытал: «Да когда же это с твоей с оборотки наши коровы молока прибавят?»
— Он у меня такой был, батя! — вздыхал в доме директора библиотеки конгресса Михаил Александрович. — Он был день и ночь в деле!
А летели мы из Вашингтона в Москву в темную-темную ночь и с какого-то военного аэродрома под Вашингтоном, очень военного, — одни казармы, да часовые, да летчики в форме. Летели, как помнится, тремя самолетами. Один — с Горбачевым и прочим правительством, другой — с журналистами, третий — с охраной и советниками (те самые 14 человек, академики плюс мы с Ульяновым). Охранники заняли, разумеется, места с отдельными столиками в полном просторе и удобстве, положили на столики оружие и, обнаружив в этом салоне два свободных места, пригласили на них двух же советников. Я — один из двоих оказался, опять интересно, потому что — в первый раз. Что же это они оружие-то чистили? Оно же в употреблении не было?
А вот самолету с журналистами не повезло: его подняли в воздух и тотчас посадили обратно. Какие-то серьезные были нелады с двигателем. Об этом не писали в газетах, но так было.
Вспомню-ка я и свой первый приезд в США в 1978 году. Он тоже был как бы официальный: большая группа совписателей во главе с Н.Т. Федоренко (во время войны наш представитель в ООН), бывший заместитель министра иностранных дел был приглашен в США… госдепартаментом. Такой госдеп сделал жест, для того времени весьма неординарный. Так подействовали на свой госдеп американские писатели. Мы и летели, Н.Т. собрал вокруг себя «головку», а мне слышно было со своего кресла — обсуждался вопрос: вот прилетим, госдеповцы нас встретят и спросят — где бы вы в США хотели побывать? Мы на их письменные запросы по этому поводу до сих пор не ответили (мы — умные, предусмотрительные!), а теперь надо будет предложить госдепу такой маршрут, чтобы он был неприемлем, чтобы они нам отказали, а мы закатим скандал: зачем тогда приглашали?
Своего ума нашим не хватило, они привлекли в помощь какого-то пассажира — советского инженера, он много лет работает в США. Скажи, голубчик, советский человек, в какой, по-твоему, город нас американцы не пустят? Ни за что! Он и сказал:
— Сан-Диего!
Прилетели. Приехали в гостиницу. И в холле этот вопрос — куда же мы все-таки хотим поехать — госдеповцы задали, и Федоренко маршрут назвал: Сан-Диего! У тех глаза на лоб. Говорят: мы люди в госдепе небольшие, а вопрос серьезный, мы должны поехать, посоветоваться с начальством.
— А в чем, собственно, дело-то?!
— Уж очень дорого… А во-вторых, вы называете закрытые города…
— Значит, так: значит, вы хотите на нас, на советских, сэкономить? Значит, у вас есть закрытые города? Имейте в виду: нам ждать окончательного ответа некогда! Если что — мы завтра же улетим обратно в Советский Союз! Сколько прикажете ждать? Мы ждать не привыкли!
— Часа полтора…
Тут наши чуть-чуть сникли. Через час пятнадцать госдеповцы вернулись: ваше пожелание полностью удовлетворено! Тогда уже наши сникли окончательно: и скандальчика не получилось (для начала), и маршрут такой, что одолеть его трудно: день и ночь надо мотаться в самолетах. А тут еще этот самый Сан-Диего, главная база Тихоокеанского военно-морского флота США.
И, когда настало время туда ехать (из Лос-Анджелеса), никто не захотел, все устали до чертиков. А я не устал и согласился. Двое нас нашлось, волонтеров, но кто был второй, виноват, не помню, да и только! Повезли нас из Лос-Анджелеса в Сан-Диего самолетом туда и обратно (в один день). Лететь минут сорок, что ли, но нам так и объяснили: местность закрытая, нельзя ехать автомашиной, все вокруг видеть. А город Сан-Диего совершенно чудесный и богатейший, а гида нам дали — нарочно, что ли? — какого-то араба, палестинца, который сразу же заявил, что он враг Соединенных Штатов и хочет что-нибудь в США взорвать, а еще больше хочет тут что-нибудь заработать в пользу Движения освобождения Палестины. И он повел нас в парк и посадил на чертово колесо, катал и катал нас, и оттуда, сверху, показывал военные корабли в бухте: это вот такой-то линкор, на нем такое-то вооружение, а это — такой-то крейсер. Что все это значило — до сих пор не понимаю!
Потом араб повел нас в зоопарк и в дельфинарий. Дельфины показывали такие трюки, такую смекалку, что я ошалел! Араб же ругался:
— Дельфины у них — военные разведчики, но все номера разведчиков сегодня исключены из программы показа. Вы, советские люди, должны требовать, чтобы вам показали эти номера!
Но мы, едва живые после чертова колеса, ничего не требовали, нам очень хотелось к своим, домой, т. е. в Лос-Анджелес.
И ночью уже мы туда, опять самолетом, прибыли, и в памяти остался красивый Сан-Диего и голубой, тихий, тихий Тихий океан.
Ну а скандальчики мы все ж таки устраивали.
Первый — в Нью-Йорке на очередном заседании симпозиума американских и советских писателей. Артур Миллер что-то сказал о свободе слова в Советском Союзе, а Федоренко на него поднялся чуть ли не с последними словами и все твердил:
— У нас в бригаде Катаев, Бакланов, Думбадзе, Залыгин, а ты, Миллер, такой-рассякой Артур, позволяешь себе говорить такие вещи?! Да какой же ты после этого президент Пен-клуба? Тебя завтра же надо выгнать поганой метлой!
Ну и другие наши тоже старались.
Я молчал, удивлялся выдержке Миллера, но не более того. Вечером в гостинице наши устроили мне разгон: почему молчал?
Но Федоренко, дипломат, успокоил:
— Ничего, ничего! Мы Залыгина завтра выпустим!
И назавтра меня «выпустили» и я сказал, что тираж моих книг — 12 миллионов экземпляров, а у Катаева так и за двадцать… А у Миллера — сколько?
Больше ничего у меня не нашлось сказать Миллеру. А вообще-то встречи наши с американскими писателями и в СССР, и в Америке были очень интересными благодаря стараниям профессора Норманна.
И во время этих встреч, и в гостях в писательских семьях мы видели самое доброе к себе отношение.
Но об одном, заключительном скандальчике нужно и еще рассказать, тем более что он имел забавное продолжение.
На каком-то поднебесном нью-йоркском этаже издатель Роберт К. (говорили — миллиардер) — длинный, тощий, почти что рыжий, и сразу было видно — умный и веселый еврей — дал в нашу честь шикарный обед.
Я и Нодар Думбадзе сидели чуть в стороне и не слышали, из-за чего разгорелся сыр-бор, только вскакивает вдруг Федоренко и начинает что-то кричать, ругать хозяев. А за ним — Катаев, а за Катаевым мой хороший приятель (Г.Б.) благодарит хозяев за прием:
— Вы что? Вы хотите купить нас этим обедом? Да я последние штаны с себя сниму и расплачусь за обед!
Подумал бы, чудак, где он свои штаны продаст, — в Нью-Йорке же нет барахолок! Подумал бы, сколько стоят его штаны, а сколько — салат, которым он только что закусил.
И пошло, и пошло… С американской стороны кто-то из писателей (Солсбери?) попытался наших унять, а с нашей — Ф.Кузнецов тоже пытался — не помогло, все разорались. Однако же доели обед исправно, еще раз обиделись, а тогда и разошлись.
А в гостинице мне и Думбадзе (Кузнецова почему-то не тронули) наши дали жизни: зачем промолчали? Думбадзе досталось поменьше, он все-таки грузин.
И дома уже, в СССР, позвонил мне мой приятель Г.Б. (мы и сейчас, кажется, приятельствуем):
— Сергей! Давай напишем Верченко на Федоренку! Что это он за скандал затеял на обеде Роберта? И нас всех спровоцировал?!
Я ему сказал: ты штаны обещал продавать, ты и пиши, если хочешь!
И не стал бы я об этом говорить, не стоило бы, если бы не забавное продолжение во время нашей поездки 1986 года, в которой тот мой приятель Г.Б. тоже был в группе журналистов. Вместе с ним в одной машине мы — самыми последними — приехали на прием, устроенный в госдепе. Горбачев, как положено, представил нас Шульцу (госсекретарю), и мы прошли в громадный зал, искать свой стол, указанный в пригласительном билете.
Столиков этих четырехместных там добрая тысяча, наш в очень хорошем месте, неподалеку от президентского и Шульца. Нашли. Садимся. А за столом уже сидят переводчица и… Роберт. Тот, который угощал нас когда-то обедом, которого мы (Г.Б. — очень рьяно) обкакали с ног до головы. И начинает этот Роберт ржать в лицо моему другу Г.Б. Ну прямо, как лошадь.
Неужели — случайность? Или он же, Роберт, и подстроил эту встречу за одним столиком? Что там говорили и Шульц, и Горбачев — не помню. Только это ржанье помню. Роберт мастерски это проделывал.
Но ели мы все-таки исправно.
О том, как все смешивается в одну кучу — и кони, и люди, и судьбы государств, и такие вот мелочи, — об этом позже. Если сумею.
Хочу снова перейти к поездке в Китай в 1989 году, но чувствую, что не смогу обойти событий и впечатлений от своих поездок в эту страну в годы 1956-й и 1962-й. Сумбурно? Ну а если так пишется? Так вспоминается?
Заметки, они выручают. Вот статья получается непоследовательной и даже сумбурной: но вот разбил ее на отдельные части (на заметки) и как бы договорился с читателем: и не жди от меня последовательности, пишу так, как пишется, как думается.
В жизни-то нашей тоже не так уж много последовательности и порядка. Она тоже состоит из заметок — ну-ка припомните, о чем вы думали, о чем говорили в течение сегодняшнего или вчерашнего дня? Где там тема, где сюжет? А заметки — пожалуйста, всегда к вашим услугам.
В Пекине в 1989 году был уже совсем другой, далеко не вашингтонский Горбачев. Эйфория переделки мира, нашей истории и нашего будущего не то чтобы совсем сникла, но была уже совсем другой, минимальной и осторожной. Внутренние наши проблемы обострялись, государство уже разваливалось, но и не создавалось заново (этак долго еще будет, но мы все еще не знали, что долго).
И я думаю, что с американцами Горбачеву вести переговоры было несравненно проще, понятнее, чем с китайцами. В США все было очевиднее — мы были врагами, хотим стать друзьями. Ясно, как день! А тут? Кем хотим стать? Мириться хотим, а по каким пунктам? Неизвестно толком: а по каким мы ссорились-то? Мы Сталина, к примеру, отвергли начисто, а они Мао совсем не начисто. У нас гласность, а у них — что?
Да и весь-то бывший соцлагерь гораздо проще находил (и находит?) общий язык с капстранами, чем со своими же вчерашними соцлагерниками.
Американцев подкупала искренность Горбачева, а для китайцев это глупость, больше ничего.
2. VIII.92
Из китайского опыта перестройки, кажется, что-то можно взять, они нам должны быть ближе в каких-то смыслах, но — что именно? Взять-то? Не знаем…
Они прагматичны и прагматично жестоки, у них в результате перестройки экономическое положение явно улучшилось, а у нас? Но ведь у них и методы другие: если их новые капиталисты, коммерсанты и националисты зарвутся (слишком и даже не слишком), их перестреляют, и все дела, они это могут. А мы делаем вид, что не можем.
Распад китайской империи если и есть дело, так дело будущего. У нас такая империя, которая и империей-то не умеет называться, толкни — и нет ее.
И еще: для китайцев наш опыт нынче имеет бо2льшую ценность, чем для нас самих. Мы сами своим опытом пользоваться не умеем да и страну свою искалечили так, что в ней уже не к чему опыт приложить.
Скажем, нэп.
Нэп Ленин вытянул, опираясь на два сословия — на крестьянство, на крестьянский двор (который к тому времени еще сохранялся), и на ремесленников, которые на какое-то время заменили легкую промышленность, одевали-обували людей.
Китай нынче опирался на эти же сословия, а у нас их уже нет.
Вот и думаю: когда Горбачев ехал в Китай, он возлагал большие надежды на эту поездку, но надежды не реализовались в смысле экономическом. Разве только — опять же в военном. Но ведь это — минимум-миниморум. Тем более что холодная война с США, со всем капиталистическим миром действительно в прошлом, значит, и китайская угроза уменьшилась.
Не знаю, по каким признакам, но мне казалось, что при внешней нормальности переговоров с китайцами Горбачев был далеко не удовлетворен. По статьям экономическим не было ведь заключено никаких серьезных соглашений, позаимствовать из китайского опыта он тоже ничего не смог. Он распускал компартию — там об этом и не думали; наше хозяйство шло к упадку — там на подъем. Там разве только один Тибет претендует на самостоятельность, у нас все народы, все племена, все языки.
Политика наша настолько различна, что заимствовать нечего и в экономике.
В другое время эту поездку можно было бы оценить высоко — была достигнута некая степень доверия, улажены пограничные отношения, но каких-то союзнических отношений, общих и взаимовыгодных программ — ни одной.
И мне кажется, Горбачев это чувствовал и понимал — союзников по социалистическим идеям у СССР уже нет и быть не может. А идеи эти над ним все еще довлеют. Хотя ни европейский, ни азиатский социализм у нас не получится. До поездки в Китай он еще питал на этот счет какие-то иллюзии, а тут, кажется мне, и стал их терять.
Повторюсь:
Китайским лидерам было не до переговоров: площадь Тяньаньмынь бушевала, проехать по ней с каждым днем становилось все труднее, по улицам шли и шли колонны демонстрантов с красными флагами (за «настоящий социализм», «за гласность советского образца!»), носились грузовики, переполненные людьми (сияющие лица), распознав «советских» в легковых машинах, горячо нас приветствовали. Вокруг нашей резиденции («заветы Ильича») днем и ночью ходили толпы, кричали: «Ми-ша! Выходи к нам!» (от ворот резиденции их отгоняла милиция). Когда в последний раз мы отправились на прием в Народное собрание (грандиозный по численности), мы через площадь Тяньаньмынь проехать уже не могли — толпы, палатки, костры. И мы ехали закоулками, в здание вошли с бокового входа. Прием был очень официальным и грандиозным.
Накануне отъезда Горбачев собрал человек тридцать из нас на ужин. Это он умеет — шутить, смеяться без конца. По его же инициативе мы фотографировались — писатели обязательно рядом с ним, всем нашим столом, человек восемь, расписывались на меню. На память. О политике — ни слова.
Валя Распутин был очень удивлен: вот он какой, оказывается, М.С.? Тем более — какая Р.М.? Вот уж он не думал!
Если Горбачева подвержена воздействию объектива, то М.С. как раз наоборот: едва улавливаешь разницу, когда вот он, рядом, подписывает договор с Рейганом и когда тоже рядом сидишь с ним за ужином.
Борис Олейник вдруг написал книгу: «Князь тьмы». О ком бы это? Я не знаю. Читал — не понял.
А впервые я выехал за рубеж в 1956 году и сразу же на два с половиной месяца. Это был Китай.
Второй раз поехал за рубеж через шесть лет, в 1962 году, на три недели.
И опять это был Китай.
Третий раз (о котором речь была только что) — год 1989-й, я Китая, собственно, и не видел, но воспоминания прошлого до предела обострились.
В 1956 году поехали мы втроем — Борис Галин, я и Борис Полевой (руководитель группы).
Полевой — прекрасный товарищ, к тому же в Китае перед ним едва ли не преклонялись. Еще бы — автор «Повести о настоящем человеке», книги «Мы — советские люди» и др. Фигура занимательная. У него своя роль в Словацком восстании (1944), он — друг Фиделя Кастро и Джона Кеннеди. На Нюрнбергском процессе они с Кеннеди были аккредитованы как журналисты, Полевой был старшиной корреспондентского корпуса, только двое они и присутствовали при подписании Потсдамской декларации (капитуляция Германии, ультиматум Японии). Во время Карибского кризиса Полевой был в Америке и, как я могу думать, общался с президентом Джоном Кеннеди.
Он очень много уже и тогда, в 1956 году, знал, Полевой, но, будучи очень общительным, болтлив не был.
Помню и такой случай: венгерский корреспондент «Небсабадшаг» в Москве звонит Полевому в Шанхай: «Борис! Помоги соединиться с Будапештом, с нашим КГБ! Здание в осаде, а там работает моя жена!» Полевой (по единственному проводу) соединяется из Шанхая с Будапештом, разговаривает, потом звонит в Москву: «Только что говорил с твоей женой. Здание в осаде. Слышал стрельбу. Но твоя жена чувствует себя уверенно!»
Эта телефонная операция произвела на меня впечатление.
Сначала мы путешествовали втроем (позже все трое написали об этом по книге). Спустя месяца полтора Полевой улетел в Москву (работа над «Биографией Ленина»), мы с Галиным разъехались, он — на север, я — на юг Китая. Я вернулся позже всех, под Новый 1957 год.
Поездки наши носили и комический характер, дело доходило до того, что, когда однажды мы появились на стадионе какого-то небольшого городка, весь стадион встал и оркестр исполнил Гимн Советского Союза.
Полевой непрерывно записывал и записывал, потом издал дневники, в которых все имена и названия были ужасно искажены: записывать китайские слова на слух — дело безнадежное.
Я избрал другой метод — все названия, все имена просил переводчиков записывать в мою книжку (а переводчики были у нас первоклассные), и ни одной ошибки такого рода впоследствии в моей книге обнаружено не было. Это, кажется, единственное достижение моей книги, потому что понять истинное положение дел в Китае, да еще и без языка, нам было не дано. Где уж там, если и своего-то положения мы не понимали, но для китайцев все равно были мудрыми, были старшими братьями.
Какие все-таки исторические затмения случаются с великими народами! Гораздо большие, чем с малыми!
Вот идет колонна заключенных без конвоя, впереди человек с флагом, на флаге: «Мы перевоспитываемся!» — попробуйте-ка не изумиться! Или и день, и два, и три я прихожу в тюремную камеру к капиталисту, заключенному (пожизненно) за распродажу иностранцам исторических национальных ценностей, а также за изумительно искусную их подделку (у меня до сих пор хранится подаренная им подделка такого рода — небольшая глиняная лошадка якобы из археологических раскопок), а этот заключенный говорит на семи языках, в том числе и на русском. Теперь он рассказывает мне все, как было. Кажется, что ему скрывать, — так и так сидеть! Но — врал он много, особенно о том, как хороши нынешние власти.
Или вот две ночи я ночую в келье настоятеля буддийского монастыря (Синь Кунь — я еще скажу о нем), он мне читает письма верующих из Китая и китайцев из-за рубежа. В то время я еще не забыл английский и мы обходились без переводчика.
И в колхозах я был, и по Янцзы дней семь плыл на холодном-прехолодном металлическом неотапливаемом пароходе, да еще и в снежную бурю, а попросился на джонку — пожалуйста, день плыл и на джонке, потом на машине догонял пароход. Был и в соворганизациях, в комитете по освоению бассейна Янцзы в городе Ухани. Там у наших специалистов я получил каким-то образом опубликованную свою работу по вопросу освоения целины, о которой дома и упоминать-то «не рекомендовалось», поскольку я ссылался на дореволюционного экономиста, споря с утверждениями самого Трофима Денисовича (Лысенко).
Кроме серьезных наблюдений, я мог бы набрать и десятка два случаев-анекдотов.
Например. Один из наших переводчиков-китайцев уже не первый год переводил на китайский М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Когда я уезжал, он сказал мне, что труд это — адский, что очень многих слов и словосочетаний он попросту не понимает. Вот если он будет присылать мне в Новосибирск тексты Салтыкова, которые ему непонятны, а я буду перелагать их на русский, но общедоступный язык и пересылать их ему обратно в Пекин? Я согласился. Результат? В результате едва ли не все основные произведения Салтыкова я перевел с русского на русский и теперь неплохо знаю Щедрина. И полагаю, что его «Современная идиллия» — выдающееся произведение мировой литературы, особенно существенное для нас и в наше время, но почему-то оно даже не всегда и упоминается в перечне основных трудов Салтыкова. А — зря! Действующие лица «идиллии» (тот же Глумов) нынче да-а-алеко пошли, не то что сто десять лет тому назад, а достигнув высоких постов. Конечно, уж никто из них не напишет ничего такого, что позволил себе писать вице-губернатор рязанский и тверской. Не потому не напишет, что нельзя. А потому, что никто так не сумеет, потому, что нынешний язык этого не позволит. Одним словом: нигде и ни в чем я не проходил такой школы русского языка и русской литературы, как при переводе Салтыкова с русского на русский.
Может быть, это и неудивительно, потому что школа-то закончилась для меня барнаульской семилеткой (1929 год), после семилетки я поступил в техникум, там общеобразовательных предметов уже не было. Так или иначе, а я благодарен китайскому не шибко грамотному переводчику Чжану.
Другой опять-таки почти что анекдот. В моем одиночном путешествии меня неотступно сопровождал гид и переводчик Хуан с пистолетом на боку — считалось, что меня надо охранять от возможных врагов советского и китайского народов.
В его обязанности входило каждый вечер писать на меня досье — где я был, с кем встречался, о чем говорил.
Должен признаться: меня это не шокировало, скорее забавляло, так как Хуан тоже не понимал своих обязанностей, он считал необходимым каждое досье вечером согласовывать со мной — советский же товарищ, старший брат! К тому же я здоровый был мужичонка, вставал в 6-00, ложился в 24–00, а ночью еще и писал, и привез домой 27 готовых очерков, а Хуан, тот не выдерживал, часов в шесть вечера валился с ног и подбирал мне встречи так, чтобы среди моих собеседников был кто-то, кто знает русский язык, сам он этих бесед уже не слышал, а записывал их с моих же слов.
Но и то верно, что не было у меня ни одной встречи, ни одной беседы, в которой не присутствовала бы великая идея дружбы двух великих народов, все остальное казалось несущественным. Позже-то я вспоминал, что однажды нам (всем троим) что-то пытался рассказать корреспондент «Правды» Кожинов (Кожин? Не помню). Он потом и статью написал в своей газете о своих сомнениях по поводу советско-китайской дружбы и был раскритикован и подвергся партвзысканию.
Был еще такой профессор Е с супругой, очень образованный человек (он и теперь, бывая в Москве, заглядывает ко мне в «НМ», в поездке с Горбачевым я с ним встречался снова), тот, даже и не говоря ничего, как-то давал нам понять, чтобы мы не слишком увлекались нашей дружбой, но нам и это было, как об стенку горох, тем более что и в народе, и в общении с интеллигенцией нигде-нигде уловить такого рода настроений было нельзя. Это зарождалось там, вверху, и тайно, а вот идешь поутру полевой тропинкой, навстречу — крестьянин с вязанкой хвороста. Он вязанку бросает на землю и с восторгом твердит: «Сулянин-жэнь, сулянин-жэнь, сулянин-жэнь!» (Советский человек.)
Есть мне что вспомнить и о великих тогдашнего Китая.
По приезде в Пекин, проснувшись рано утром, я увидел в окно гостиницы: мужчина, женщина, мальчик, лошадь и осел, впрягшись каждый в свой хомут, везут огромную арбу с овощами (должно быть, на базар). Я сел и записал эту сценку. Вошел в номер переводчик Чжан:
— Что это вы написали?
Я ему показал.
Он:
— Я отдам это в «Женьминь Жибао».
И через день-другой заметка моя была в этой газете напечатана, а затем уже я печатался там с разными сценками систематически. Как я понял, такие зарисовки в ходу у китайской публицистики.
А когда я вернулся в Пекин из поездки на юг (провинция Юньнань, г. Куньмин: сказочные красоты), я был уже известным «сулянин-жэнь» и прощальный ужин мне давали и Мао Дунь, писатель и министр культуры, Го Можо, президент Академии наук, и Чжоу Эньлай — премьер. Мы сидели в полутьме, ели каких-то обитателей морских и пресных вод и смотрели на экране театр теней.
Первым ушел Чжоу, потом президент Го Можо, потом Мао Дунь, а я сидел, смотрел театр теней: умру, а досмотрю до конца! Хотя и чемоданы собирать надо — утром лететь! — и устал я зверски, и Хуан мой давно спит в уголке полутемной комнаты, а я — до конца: четыре часа без перерыва.[5]
Зато как же мне были благодарны актеры, как поднялось в их глазах значение советско-китайской дружбы! Да ведь и мне пошло на пользу: путешествуя по Китаю, я побывал на семнадцати спектаклях китайской оперы (там что ни провинция — своя оперная школа, а то и две), а сколько переслушал шошуди (народных устных рассказчиков) на базарах и улицах — и не упомню. Вернувшись домой, я написал небольшую работу о китайской опере и китайском балете (напечатал ее, помнится, в «Сибирских огнях» и даже давал советы Новосибирскому театру, когда он китайскую оперу ставил.
Наша новосибирская балерина Зимина исполняла китайские танцы, мне показалось, лучше китаянок. Насколько мне помнится, новосибирцы даже и в Австралии играли этот спектакль.
Еще вспоминается: во всех городах (Пекин, Сиань, Чэнду, Чунцин, Ухань, Кантон, Шанхай, Ханчжоу, Сычжоу, Лоян и снова Пекин, а в одиночном моем путешествии еще и Баодин, Шиузя-чжаун, снова Чунцин, Куньмин) во всех гостиницах нас снабжали советскими газетами. Чуть ли не все газеты того времени на чем свет поносили меня — за повесть «Свидетели», напечатанную в «НМ», не помню номера. Не очень-то приятное чувство!
Ну а после этой поездки я года три внимательно следил за событиями в Китае, выписывал советско-китайскую газету «Дружба», получал и из Китая массу книг (на китайском языке), в том числе 20-томник Лу Синя. Этот писатель мне очень нравился (на русском!), я написал о нем небольшую работу (кажется, «Сибирские огни»). А уж встреч с китайцами и в Новосибирске, и в Москве было не перечесть! Потом наши отношения стали быстро охлаждаться. И когда осенью 1962 года, опять же в октябре месяце, день в день 16 октября, я и Н.П.Собко снова оказались в Китае — дело было дрянь.
Н.П. — человек нервный, жил трудно — об одной ноге остался с войны, но сдерживать себя умел. Господи, какой же это был другой Китай! По улицам ходили толпы людей, опять же с красными флагами, требовали судить р-революционным судом своих вчерашних кумиров едва ли не всех, кроме, конечно, Мао (Чжоу Эньлай не упоминался ни в том, ни в другом смысле, а Го Можо и Мао Дуня уже потряхивали). На той же площади Тяньаньмынь, нашу машину окружали люди. Что-то кричали либо стояли молча и неподвижно, нам проехать — ни взад, ни вперед. По часу, больше стояли мы неподвижно, и, только если удавалось открыть дверцу и Собко выходил из машины на костылях и говорил: «Война! Война!», показывая на ногу, которой не было, люди расступались и строились, строились в колонны по пятьдесят или сто человек (они всегда только так и ходили), а нас в очередной раз везли в музей революции или в музей истории Народно-освободительной войны.
Мы просили:
— Отвезите нас в какую-нибудь редакцию.
— В редакциях никого нет: все на уборочной.
— Но ведь газеты-то выходят?
— Выходят. Но в редакциях все равно никого нет.
И в театры ездили и часов пять-шесть смотрели про войну.
И в цирке были, в знаменитом, китайском, — смотрели баскетбол, советская и китайские команды. Судья китаец штрафовал наших беспощадно, жуть смотреть, но всякий раз зрители дикими аплодисментами, а иногда и стоя, приветствовали решение судьи (наши проиграли). Только два зрителя, они сидели позади нас — не аплодировали, каждый раз закрывали лица руками — им стыдно было. Они исчезли еще до конца игры — кто-то их позвал. Мы тоже хотели уйти, нам сказали: машины нет. Когда мы садились в свою машину, а начальство рассаживалось в персоналки, физиономии у них были такие довольные — страсть. Нас, поверженных, они наблюдали с удовольствием.
Переводчиков нам меняли через каждые два-три часа — чтобы не познакомились, не разговорились. Садишься в театре на свое место после антракта, там уже другой тип:
— Я ваш переводчик.
— А где же тот, который был?
— Отозвали. По делам.
А постоянным нашим сопровождающим и гидом был кто-то из секретарей Союза кинематографистов, в Пекине мы с писателями так и не встретились.
Один раз только случилась встреча со знакомым писателем Лао Шэ (знаменитые романы «Записки из кошачьего города», «Рикша» и др.), он п р и ш е л на прием в Советское посольство 7 ноября, и это был героический шаг с его стороны. Позже, в разгар культурной революции, его водили по улицам на веревке и обливали помоями. Не так давно у меня в «НМ» был его сын, он тоже знает русский, мы вспоминали его отца.
Между прочим — ни с одним китайским интеллигентом я не разговаривал, не общался таким образом, чтобы забыть, что он — китаец.
В Европе, в Америке — этого же никогда нет, общаешься с профессором, стараешься установить его умственный уровень, его интересы, даже и его отношение к России, но при всем этом не помнишь, кто он по национальности — немец, англичанин, француз. Какой он человек — вот что интересно. И в Японии примерно так. А в Китае — нет, не так.
Азия, что ли, там сказывается непонятным образом? История? Отношение к Европе и к России? То ли ты друг и старший брат, то ли отступник и предатель социализма? То ли еще кто? Растяпа, которого надо обдурить на хабаровской барахолке? (1933 год.)
И при встречах с Мао Дунем и с Го Можо было так же, а Чжоу Эньлай — тот и вовсе непонятен, закрыт, угадать его и не стремишься.
Личность необычная, в гражданской войне героическая и опять-таки загадочная. Каким-таким образом он договаривался до компромиссов и с Чан Кайши, с Чжан Цзолином? Как учился во Франции и, я слыхал, был покорителем дамских сердец, первоклассным танцором — нет, не понять да и не принять мне всего этого. Не сумею.
И только с двоими такого чувства, недоумения такого совершенно не случалось. Двое эти: профессор Е и писатель Лао Шэ.
Были мы с Собко и в Гуанчжоу (Кантон) и там встречались с писателями. Поспорили о «путях развития», и председатель местного отделения писатель У сказал:
— Мне кажется, расхождения между нами не так уж и велики. И не надо их искусственно углублять!
Кто-то прокричал:
— Надо, надо! Никакой беспринципности! Никаких уступок оппортунистам!
Договорились встретиться еще и завтра.
Назавтра нам сказали:
— У уехал.
— Далеко?
— Очень далеко.
Насмотрелись мы и на то, как воробьев весь Китай ловил, — вредители, урожай истребляют! Грабят великий народ!
Вечером, совсем темно уже, мы были в пагоде, подъехала пожарная команда, пожарники стали внутри храма поднимать лестницы, светить фонарями.
В чем дело? Оказывается, днем в пагоде был замечен воробей. А вот и фото в газете: Чжоу Эньлай на дереве. Тоже ловит воробья. После, когда развелись повсюду вредители-насекомые, которых уничтожали воробьи, птичек этих стали привозить из Советского Союза. Но надо же — птичка домашняя, почти ручная, а неволю не переносит совершенно, и, пока везли их в вагонах, они умирали.
Ну это дело «ихнее», а мы — советские люди?
А мы, «советики», бывшие еще недавно «сулянин-жэнь», чувствовали себя одиноко и гордо: мы-то какие прогресивные, а? И что только не воспринимается людьми как прогресс и превосходство? Важно одно: чтобы ты видел кого-то, кто менее прогрессивен, чем ты. Чтобы ты был убежден, будто так оно и есть: ты, а не он! Вот и всё, чуть ли не всё.
Прогресс основан на сравнительности — больше-меньше, лучше-хуже, но с его же собственной точки зрения. Истины вне себя прогресс найти не может — и тогда, когда он ложен. Да и не хочет — это для прогресса было бы регрессом. (Тут было написано еще что-то, но — потеряно. Я ведь, как правило, множество бумаг теряю. Жаль!)
А еще повезли нас с Собко далеко на юг, в провинцию Хунань, в деревню Шаошань, на родину Мао Цзэдуна. Показали его хозяйство. Мальчик Мао получил в наследство четырех волов, богатый был мальчик — в среднем в Китае приходилась в ту пору 1/8 вола на одного крестьянина. Работать на четырех волах 14-летний мальчик, конечно, не мог, тем более что он учился в хунаньском педагогическом училище. Он нанимал батраков (говорится не в упрек).
Посмотрели мы с Собко на это хозяйство, обменялись соображениями: трудолюбивый был мальчик, жил неплохо. В книгу отзывов записали, что мы и сегодня верим в нерушимую советско-китайскую дружбу. Переночевали в гостинице для посетителей деревни Шаошань, а на другой день заглянули в книгу отзывов — там страницы с нашей записью нет.
Мы вернулись в город Чанша, центр провинции Хунань, нас поселили в очень странной гостинице — грязноватая казарма, облезлые номера с шикарными балдахинами ярко-красного цвета над облезлыми же кроватями. Я — на четвертом этаже, Собко — на втором. И что нас поразило: огромная гостиница пуста, такое впечатление, будто мы — единственные здесь постояльцы. Поужинали. Переночевали. Договорились с переводчицей (мы звали ее Соней, я встречался с ней не раз и в Советском Союзе, она приезжала к нам с высокопоставленными делегациями) о завтрашней встрече, и Соня куда-то уехала. Уехала — и конец: нет ее ни завтра, ни послезавтра. Утром, днем, вечером к нам приходит официант, мужчина крупный, в белом, и произносит: «Зав-трак!», «О-бед!», «У-жин». И мы идем в совершенно безлюдный ресторан, он нас быстро обслуживает, мы уходим… (Официант, мы догадывались, знал русский язык, мы ели молча).
Мы сселились в один номер, к Собко, на втором этаже. Нервный Собко начал болеть.
Я иногда выходил на улицы Чанша (недалеко) и видел: китайцы, все в серо-зеленых робах, возбуждены, читают газеты, размахивают руками, собираются в толпы. На меня смотрят не то с подозрением, не то с недоумением, я думаю: «Война!». Война уже была — индо-китайский конфликт — это мне известно, но и кубинский кризис — вот он, он, может быть, уже перешел в советско-американскую войну? Ядерную. Какие картины рисует воображение — об этом и говорить не стоит. (Позже Собко подарил мне пленку с эпизодами нашей поездки, ее попросила у меня жена Е.Ю. Мальцева и не вернула.)
На пятый день — Соня звонит:
— Я болела и не могла к вам прийти. Сегодня вечером мы едем в Гуанчжоу (Кантон). Затем — в Ханчжоу.
Продолжение этой истории последовало через девять лет. Я зашел в иностранную комиссию Союза писателей, там встретил меня консультант по Китаю, кажется, Ганеев, примечательная личность — бывший переводчик и советник Мао в Яньане, во время третьей гражданской войны.
Так вот, Ганеев — он хорошо знал и английский — прочитал мне из английской газеты статью корреспондента: в октябре 1962 года он оказался под домашним арестом в Чанша в качестве заложника. Английский гражданский самолет был сбит китайцами, поскольку участвовал в индо-китайском военном конфликте. Китайская сторона затеяла с Англией тяжбу, а он, корреспондент, в этой тяжбе был заложником и девять лет провел в Чанша.
Корреспондент писал, что в той же гостинице, где и он, были поселены советские писатели Собко и Залыгин, их ждала точно такая же участь, но в эти дни ни один советский самолет на индийской службе сбит не был, поэтому их отпустили с миром. (А самолетов наших у Индии было тогда много).
Выше я писал: в 1956 году я уже был в Ханчжоу и коротко жил в келье настоятеля монастыря Синь Куня.
В 1962 году я снова в Ханчжоу и снова решил Синь Куня навестить. (Собко не поехал.)
Мне дали двух (!) сопровождающих-переводчиков, молодых ребят, они в этом монастыре не бывали, о Синь Куне не слышали, дорогой я им рассказал о нем и заметил, что около двадцати минут нам придется ждать Синь Куня у монастырских ворот.
— Откуда вы знаете? — спросили ребята.
— Знаю. Сейчас Синь Кунь собирает в лесу лекарственные травы.
Так оно и было — ждали. Синь Кунь встретил меня так, будто мы расстались вчера, и мы продолжили наш разговор о дружбе народов, о событиях в мире. Синь Кунь говорил: так или иначе, а наши народы спокойно прожили рядом века и тысячелетия, почему же нам теперь думать, что этого не может быть и дальше? Ну и еще многое другое говорилось между нами (через переводчиков).
Когда мы возвращались в Ханчжоу, сопровождающие мои молчали — они были потрясены, видимо, не слышали никогда подобных разговоров между людьми. А еще я понял: они договорились между собой никому и ничего не говорить об услышанном.
В Пекин мы угодили под 7 ноября, на собрание, посвященное этой дате (снова были в сопровождении нашего гида-кинематографиста). Не помню, кто делал доклад, кажется, Лю Шаоци, председатель общества китайско-советской дружбы. Доклад из трех пунктов:
1) Позор югославским оппортунистам (югославы встали и ушли).
2) Да здравствует великая социалистическая Албания! (Албанцы бурно аплодировали.)
3) СССР предает мировое коммунистическое движение (посол В.С. Червоненко на сцене, на отдельном стуле, весь в поту).[6]
Ну а мы спрашиваем нашего кинематографиста (переводит Соня): до каких же пор мы будем ездить по военным музеям? Ну хотя бы одна какая-то редакция. Одна встреча с писателями!
Кинематографист пожал плечами:
— Я выйду, посоветуюсь с кем следует по телефону.
Минут через десять возвращается:
— Значит, так: невежливо задерживать гостей, если они этого не хотят. Билеты в Москву вам заказаны на послезавтра (т. е. дней за пять-шесть до конца официального срока нашей поездки).
Не помню, но чуть ли не в тот же вечер мы ужинали в резиденции посла, он просил нас быть, чтобы принять участие в разговоре с «одним лицом».
Этим лицом оказался Чжоу Эньлай.
Разговор был интересный. Чжоу — интересный человек, образованный (не раз слышал, что он учился в Сорбонне, но не нашел этому подтверждения в энциклопедиях).
Я спросил: помнит ли он нашу встречу шесть лет назад в театре теней? Оказалось, помнит.
Чжоу старался приглушить значение конфликта.
Беседа была интересной и отнюдь не откровенной. Когда мы вышли проводить его к машине, Чжоу сказал:
— Нет-нет, нам ни в коем случае нельзя ссориться! — Подумал. — Потому что мы дети одной матери: Октябрьской революции.
Ну а уезжали мы так: приехали в аэропорт, а там уже ждет нас Червоненко. Нас это удивило, тем более что и разговор с ним как-то не клеился.
Объявили посадку на советский самолет Пекин-Москва. Мы с Собко пошли на летное поле, а там толпа человек двести-триста окружила самолет и нас к трапу не пропускает. Наш экипаж машет нам с трапа, зовет, но нас не пускают к ним, их — к нам. Время вылета давно минуло, самолет не взлетает. В таком положении прошло часа полтора, а то и больше. Тут вышел на поле наш посол, взял нас за руки и повел. Толпа расступилась. Мы поднялись в самолет и полетели. Вылет задержался часа на три-четыре.
Как получается — я рассказываю о «китайской» весне 1989 года, а мне рассказывается об осени 1962-го? И даже — об осени 1956-го? И, наверное, нужно себе в таких случаях доверять: пишется — пиши, ради чего — позже прояснится. Ведь уже и нынче было со мной так же: пребывание в Америке в 1986 году вызвало в памяти первую поездку в году 1978-м. Хотя общего между тем и другим нет.
Но, наверное, в том-то все и дело, что — нет. Что, когда едешь в страну в разном качестве (то как писатель, а то как член правительственной делегации), и видимые качества страны тоже совсем разные и разобщенные.
Вот я и представляю себе, сколь же различны те же США для меня и для наших дипломатов?! И мы, Россия, тоже такие разные для разных американцев!
Вернусь к фигуре М.С. Горбачева. Я — не политик, политика мне чужда, я, наверное, буду утверждать это еще и еще, а на политика Горбачева я смотрю с неполитической стороны и вижу: он, наверное, один из первых в истории дипломатии, кто заговорил о дипломатии на обычном языке, доступном каждому. И американцы откликнулись, оценили это качество, по которому они, того не подозревая, давно соскучились: ведь их дипломатический язык тоже потерял многие человеческие качества, тем более — в отношениях с нами, с СССР. Мы и тут влияли друг на друга в отрицательном смысле, все углубляя и углубляя этот тайный и неприличный смысл, — и вдруг?!
Я счастлив тем, что присутствовал при этом «вдруг», наблюдал его. Я догадывался, что «вдруг» все еще ненадежно, но оно стало фактом, оно — было, значит, оно возможно.
14. VIII.1989
Великие державы — зло мира. Многие небольшие государства живут гораздо лучше и благороднее, пользуются дарами природы разумнее — так зачем же нужно быть государством невероятно могущественным? «Ведущим»? Именно по воле ведущих и возникают мировые войны. Малые повоевали бы между собой да и кончили, но ввязываются большие. Им до всего дело. Именно они создают арсенал всеуничтожающего оружия. Именно они, попирая нравственность, внушают безнравственность всему миру.
И СССР, и США в этом отношении до сих пор были совершенно одинаковы, а то, что одно государство делало свое антимировое дело на социалистической, а другое — на капиталистической основе, положения не меняет. Если бы социализм не рехнулся на достижении мирового первенства — он, может быть, еще и доказал бы свою международность. Если бы капитализм не концентрировался в одной-двух странах, он и не копал бы ту могилу, которую копает сам для себя. Шведы, датчане, англичане — капиталисты, а не копают же? Социалистический могильщик капиталу уже не страшен и, вероятно, страшен не будет, но кто же, как не капитализм, породил марксизм-социализм? Будь капитализм победне2е пороками, откуда было бы в свое время взяться его антиподу? И еще неизвестно, как будет выглядеть следующий (и не менее сильный?) антипод капитализма.
Ну а если так — тем нужнее всем нам тот самый общепонятный дипломатический язык, на котором заговорил Горбачев. Он, этот язык, и должен был силою обстоятельств возникнуть именно между двумя нашими странами. Это — что? Оптимистическая нота в громогласном похоронном марше нашей современности?
Еще замечу: не было бы великих стран, не было бы и ядерного оружия. И химического. И др.
15. VIII.1989
Значит, так: «Новый мир» должен быть журналом беспартийным. Какие к тому доводы? Целый ряд.
В нашем безумно, бездарно и преступно политизированном обществе должен быть хотя бы один беспартийный журнал. (А чем больше их будет — тем все-таки лучше.)
Не я буду бороться за ту или иную партийную программу, пусть партии борются за влияние на меня — беспартийного.
Я знал и знаю, что ни одно достижение культуры, а искусства тем более, никогда не было достигнуто в соответствии с партийной программой. Это ничего не значит, что в партийной программе записано: «развивать искусство и культуру», в лучшем случае это значит, что часть заработанных мною средств и уплаченных в налог партия отдаст на нужды культуры. Но я сам по себе отдавал бы больше, причем не на партийную, а на беспартийную культуру надо ввести разумный налог — и все дела. И партии ни к чему.
В великих произведениях искусства никогда нельзя заметить партийности — ни в Чайковском, ни в Пушкине, ни в Пастернаке, ни в Пикассо. Ни в ком из подлинных гениев. Гениальность беспартийна.
Партийности еще могут быть подчинены техника, производство машин и химикатов, но лично я был далек от этих задач.
А вот настораживать партия меня настораживала: что-то и для меня было не так в постановлениях о журналах «Звезда» и «Ленинград», в том, как преследовался Михаил Зощенко, и особенное недоумение вызвала у меня кампания по разгрому генетики, которую возглавил в 1948 году Лысенко. Я заведовал к тому времени кафедрой гидромелиорации в сельскохозяйственном институте, а лысенковщина коснулась и мелиорации. Лысенковцы разгромили академика А.П. Костякова, которого я почитал и почитаю.
В те времена я не знал, но теперь-то знаю, что партийность — это нынче удел нецивилизованных стран, современность которых — чрезвычайные происшествия, ЧП, в силу которых и благодаря которым и возникают чрезвычайные партии. В цивилизованном мире партии действуют активно лишь в некоторых обстоятельствах, скажем, в выборные кампании, во все остальное время они вполне цивильны и никому особенно не навязываются. Они, будучи демократическими, понимают, что партийность — это антипод демократичности. Демократических правительств, по сути дела, не может быть, демократической может быть только система их выборов.
Партии в цивилизованных странах постепенно вытесняются неуставными движениями — «зеленых», милосердия, по борьбе со СПИДом и т. д.
И еще повторяю: во времена-то партийной диктатуры я не был ни антикоммунистом, ни антипартийцем, ничего не слыхал ни о Мандельштаме, ни о Пильняке.
В 1937 году никто из моих близких серьезно не пострадал, наш Омский сельскохозяйственный институт репрессии каким-то образом почти миновали. И если у меня и возникали какие-то сомнения, то я упрекал в них себя: все понимают, а я чего-то все еще не понимаю?!
И я не один был такой в студенческой среде, вся наша компания была (шесть человек, комната № 36, общежитие № 6) беспартийной, иронически относилась к комсомолу и была занята одним — учебой. Мы учились не на шутку, с энтузиазмом, мы знали, что на производстве специалистов нашего профиля не хватает, что там нас ждут с нетерпением: вот уж приедут на практику студенты, народ грамотный, они и запроектируют такой-то и такой-то канал, узел, систему водоснабжения такого-то колхоза-совхоза.
Многие из нас и дипломные проекты защищали самые настоящие, реальные, и преподаватели — рецензенты выступали в качестве реальных экспертов, а дипломный проект прямо с защиты шел в производство.
В общем, дело обстояло для меня так: будут люди хорошо работать — все будет хорошо, власть — тоже хороша.
Впрочем, я и сейчас, кажется, недалеко ушел от того времени, когда думаю: только та власть, то государство нормальны, которые позволяют всем гражданам работать добросовестно и с толком.
Ну а нынче? Знаю, что кто-то должен, елико возможно, сохранять литературный вкус при всеобщей безвкусице, оберегать этот вкус и нечто ценное, когда ценности рушатся, когда впереди — та самая анархия, в которой государство теряет свою даже и незначительную и неопределенную роль, а каждый будет выживать на этом базаре сам по себе и всеми доступными ему средствами.
Конечно, когда в 1986 году я дал согласие пойти на «Новый мир», я этого не знал, не предвидел, задача была другая — пробить государственную цензуру, открыть русскому и русскоязычному читателю все те литературные (причем в самом широком смысле этого слова) богатства, которые скрывал тоталитаризм от народа.
Ну а то, что я знаю нынче о нашей действительности, это даже и не знание, скорее это — то антизнание, которое разрушает историю и культуру. Но, видимо, так: антикультуру уже не минуешь, поздно, и единственная возможность — сохранять культуру как таковую вопреки партийным, а значит, и антикультурным программам, вопреки любой анархии. Придерживаться уже созданных ценностей. Новых в это время не создашь.
Какие для этого есть возможности?
Ничтожные. Самые ничтожные оставляет нам и наша действительность, и мы сами себе, поскольку умеем много болтать и суетиться и мало работать. В работе мы то и дело больше друг другу мешаем, чем помогаем.
Но если говорить о собственном ничтожестве и бессилии, тогда и продолжать разговор незачем и не о чем.
А я намерен продолжать.
Большое место занял в моей жизни проект Нижне-Обской ГЭС, а почему так случилось, почему он привлек меня — надо самому себе отдать отчет, прежде чем об этом рассказывать.
Чуть-чуть повторюсь: в 1932 году я окончил Барнаульский сельхозтехникум, работал агрономом-зоотехником в Хакассии, затем — в Барнауле же, в том же техникуме, был инструктором производственного обучения.
В 1939 году окончил гидромелиоративный факультет, работал инженером-проектировщиком, служил в системе Гидрометслужбы Сибирского военного округа как гидролог. В 1946–1955 годах заведовал кафедрой с.х. мелиорации и в 50-е годы со своими студентами побывал на многих «великих» стройках — на Куйбышевской, Сталинградской, Новосибирской, Усть-Каменогорской. Позже был на Красноярской и Шушенской ГЭС, на Волго-Доне, на строительстве Донской системы каналов (так что я имел об этих многочисленных стройках представление).
Не только мои соученики, но и многие ученики уже были большими начальниками на этих великих.
Но были и невеликие преобразования, в которых я участвовал.
Где-то году в 1952-м Западносибирский филиал АН СССР создал свою, местную, «комиссию по преобразованию природы», и я стал ее председателем, то и дело наезжая из Омска в Новосибирск.
Великими стройками эта комиссия не занималась, а вот делами малыми — да. Скажем, в Омской области мы «выбросили» такой лозунг: «Каждому колхозу — водоем», и это было осуществлено, тем более что в очень многих населенных пунктах водоемы строились еще до революции Переселенческим Управлением и Департаментом Улучшения Земель, которые входили в состав Министерства Земледелия и Государственных Имуществ. Эти водоемы нужно было только расчистить, восстановить.
Между прочим, и другой наш девиз был в Омской области выполнен: «Каждому колхозу — библиотеку». Я же его и подал, тот девиз, и отправил в подшефный моей кафедры колхоз (Иссыккульский район) триста книг из своей библиотеки.
Нет, принципиальных сомнений в Великом плане преобразования природы у меня не было даже и после смерти Сталина. До некоторых пор. Вот ведь — и зав. кафедрой, и всяческий там председатель, а ход устоявшейся за многие годы мысли может изменить и малый случай.
Однажды я получил письмо от какого-то инженера-пенсионера; он считал, что выгоднее построить десять средних ГЭС, в том числе и на притоках главной реки, чем одну суммарной мощности на главной. Да, это будет дороже, но, во-первых, возникнет некоторая экономия на строительстве ЛЭП и потерях энергии, а во-вторых, и это главное — многократно сократится площадь затопления, не нарушен будет и естественный режим главной реки: еще неизвестны ведь все последствия ее полного зарегулирования огромными водохранилищами?
В конце 50-х в Новосибирске было открыто Сибирское отделение АН СССР, я как мелиоратор участвовал в комиссии по выбору строительной площадки — многочисленная была комиссия, в том числе и секретарь вновь созданного Советского райкома — Е.К. Лигачев. Меня вызвал председатель Президиума вновь создаваемого отделения СО АН СССР академик М.А. Лаврентьев, человек масштабный, но я не согласился с его масштабами преобразования природы Сибири — Барабы и Кулунды, в частности, — я-то знал трагические попытки 30-х годов такого преобразования, кроме того… кроме того — письмо инженера-пенсионера было уже и моим собственным доводом в беседе с Лаврентьевым.
Он на очередном Пленуме ЦК КПСС заявил, что Сибирское отделение АН СССР в течение нескольких лет обеспечит орошение 1,5 млн гектаров в Кулунде, а это — ерунда, нет в Кулунде пригодных к орошению не только 1,5 млн, но и 100000 га, нет и рабочих рук, которых так много требуется при орошении. Я сказал Лаврентьеву: хорошо бы было оросить тысяч 15 га, больше не получится.
Лаврентьев эти доводы отклонил, но меня приняла под свое покровительство академик П.Я. Кочина, с ней я и сотрудничал долгие годы.[7] И все еще, все еще идеи великого преобразования природы мне не были чужды. Вплоть до 1961–1962 годов.
Именно тогда в Гидропроекте возникло ТЭО (технико-экономическое обоснование) проекта Нижне-Обской ГЭС (5 млн квт), и я ужаснулся, был потрясен. Я ведь в свое время был и гидрологом, начальником гидрографических работ по Западной Сибири, я работал в створе Ангальского мыса (Салехард), в котором намечалось строить ГЭС, и зрительно, как наяву, представлял себе, что натворит в природе великой низменности водохранилище площадью 132 тыс. кв. км, а что — в режиме Карского моря, которое не зря называют «кухней погоды».
(Весной 1964 года я оказался на строительстве Ассуанской плотины в Египте и там еще встречался и спорил с Н.А. Малышевым, главным инженером проектов Волжской и Ассуанской ГЭС — он и к Нижне-Обскому проекту имел серьезное отношение, а проект этот еще и в 1964-м году «теплился в умах» несмотря на то, что в 1962-м был отклонен правительством. Да и не только теплился, у нас в те годы расцветал план полного «освоения» едва ли не всех сибирских рек.)
Не буду подробно рассказывать о последующих полутора годах моей жизни: я мотался по Советскому Союзу — ведь Нижне-Обскую ГЭС проектировали и в Москве, и в Ленинграде, и в Харькове, и еще Бог знает где… Из Киева, помню, меня выслали с участием милиции. Пришел в гостиницу милиционер, принес ж.д. билет: сегодня вечером вы должны выехать. Я выехал. Чего доброго, начали бы копать чемодан, а там — материалы по проекту Оби. Откуда? Кто предоставил? Нет, я предпочел выехать.
Ленинградские инженеры сперва предоставили мне очень нужные существенные данные, но вскоре потребовали их обратно и всячески стали меня поносить. Деятели Гидропроекта — они только-только вылезли к тому времени из генеральских погон, которые навешивал на них Берия и др., привычки же остались у них прежние — те костерили меня как врага, наверное, врага народа. Был случай — из Института северного земледелия (Ленинград) на меня поступила жалоба в Союз писателей, и Сурков, недолго думая, решил меня исключить из Союза (сам же позже и рассказывал мне об этом, смеясь). Но у меня были на этот случай записки агронома, сосланного из Краснодарского края в Салехард, эти записки, в которых разоблачались махинации опытной станции в Салехарде и Ленинградского института в целом, я послал на имя Хрущева с предложением перебазировать институт из Ленинграда в Салехард, где в это время пустовали десятки, сотни добротных построек в связи с ликвидацией Пятьсот первой стройки. Ленинградцы испугались и затребовали у Суркова свой компромат обратно.
«Литературная газета» — надо отдать ей должное, в свое время (1962) напечатала три моих статьи против проекта строительства Нижне-Обской ГЭС.
В Институте географии АН в Москве эта проблема обсуждалась с моим участием (как с автором этих статей) и с участием главного инженера Гидропроекта Чемина. Я предвидел, с какой козырной карты он сходит на этом обсуждении… Он и сходил:
— В Программе коммунистической партии, которую обсуждал и принял весь советский народ, отдельным пунктом записано строительство Нижне-Обской ГЭС, а Залыгин? Он, видите ли, против! Ему эта программа — пустой звук, да?
Бо-ольшое замешательство в аудитории. То я сидел в окружении научных работников, а вдруг остался чуть ли не в единственном числе в своем ряду.
И я достал из портфеля один документ — докладную Чемина в ЦК и прочел из нее два абзаца. Они слово в слово совпадали с Программой, но ведь докладная-то была написана года за полтора до публикации Программы, значит?..
— Значит, кто же ввел в заблуждение нашу партию? Думаю, теперь всем ясно, кто это сделал!
Поскольку Нижне-Обская проектировалась в Киеве, Харькове, Ленинграде — я уже говорил, — я всюду собирал данные, иногда самого неожиданного свойства. Так, в Харькове начинал проектироваться «лесной комбайн», который должен был валить лес, очищать стволы, вязать их в «сигары» и затапливать до лучших времен в водохранилище — пока не понадобится. Абсурд! Но Чемин (см. выше) уже исходил из того, что такой комбайн существует и с успехом делает свое дело.
Нелепости были чудовищные.
Чемин утверждал: затопленные нефть и газ добывать при затоплении будет еще проще: намоем острова, с островов будем бурить и по подводным нефтепроводам перегонять нефть.
В чем тут заключалась простота — понять невозможно. Водохранилище, безусловно, понизило бы температуру и ледовитость Карского моря (М.И.Будыко, А.Ф.Трешников).
Чемин: не понизит, а повысит!
Водохранилище — 132000 кв. км, столько же подтопление по притокам — ничего подобного в мире никогда не было, опять-опять абсурд!
Чемин: эти земли нынче бросовые, а мы рыбы из водохранилища больше возьмем! (До предела загрязненного нефтью? непроточного?)
Затапливается столько торфа, что, если сжигать его в котлах ТЭЦ, хватит на 550 лет.
Чемин: торф надо добывать, а ГЭС построим — никаких забот. Даровая энергия.
ГЭС и линии электропередачи не оправдаются и за сто лет. Строить при глубине Оби в 35 м. Такого в практике нет!
Чемин: нам важно получить энергию как можно скорее, решить проблему скорее. Не оправдается — взорвем плотину.
И т. д., и т. д.!
Как просто опровергается очевидность! Государственные мужи — Госплан, Совмин, эксперты — заседают, кто-то им внушил: а это нужно!
Не круглые же дураки все эти чемины, малышевы? И Госплан? И Косыгин? Тогда в чем дело? Я ничего не понял в этих людях. В том-то и дело, что глупость по своим размерам может превысить здравый смысл. А в России — так это и вовсе запросто. Я чувствую себя ничтожеством, пытаясь понять это. Это непосильно. Об этом не сказал Шекспир. И я вряд ли победил бы эту глупость, если бы у меня не было союзников. Я о них не знал, но они знали обо мне, зная, в гласную часть проблемы не включались, предпочитали «не засвечиваться», подставляли меня. Действовали за сценой, но, вероятно, только поэтому три моих статьи и увидели свет в «Литгазете» — в газете для теневых умов оказавшейся удобной, самой удобной: писательская, а мало ли что писателям взбредет на ум?!
Этими теневиками (которые, конечно же, имели своих людей и в Госплане, и в Совмине, и в академических кругах, не знаю — имели или нет в ЦК: там никто не засвечивался) были геологоразведчики — они-то знали, какие страна (и они сами по себе) потерпит убытки в связи с затоплением.
Через 15 лет, на писательском выезде в Тюмень, тамошний 1-й секретарь обкома П.Г. Богомяков, недавний геологоразведчик нефти и газа, в своем обширном выступлении так и объявил: 15 лет тому назад, день в день, Госплан, обсуждая статьи Залыгина, отменил ТЭО Нижне-Обской ГЭС. Он же рассказал, как это было.
Они, геологи, человек что-то около десяти, встали в гостинице рано и отправились в газетные киоски еще до открытия. Киоски открылись, они купили «Литгазету» с моей последней статьей (значит, знали о ней заранее?), экземпляров около ста, пошли в Госплан, развесили «Литературку» на спинки стульев зала заседаний. Когда собрались все участники заседания (кажется, был и Косыгин), на них это произвело впечатление: кто велел развесить газету? А вдруг — высокое начальство? Так или иначе, но на том заседании ТЭО было отклонено, а на нашей тюменской встрече я впервые узнал, как было дело, и мы с Богомяковым обнимались.
Забегу вперед. Ирония судьбы — лет через десять мы оказались с Богомяковым по разные стороны баррикады: он выступал как рьяный сторонник переброски стока сибирских рек в Среднюю Азию, мне даже казалось, что его устами говорил Рашидов. Где Богомяков теперь — не знаю.
Ну, а ввязываясь в эту историю, я не представлял себе ее масштабы, ее протяжение во времени — ведь полтора года я ничем другим не занимался. Помогла моя наивность, если на то пошло — глупость, ну и, конечно, поддержка геологоразведчиков, среди которых были (не могло не быть) и такие, которые прекрасно ориентировались в коридорах власти, в Госплане прежде всего, которые и на печать, как видно, имели влияние. Это я нынче говорю и взвешиваю, а тогда полагал, что я начал дело, я его и кончил. Не то чтобы я был горд собою в то время, нет, но мне думалось, что я еще и еще что-то подобное успею сделать в своей жизни — ведь вот же, получилось, значит, можно!
Ничего такого же, пожалуй что, уже не получилось, тем более что в те же годы, видимо, воодушевленный этим событием со знаком +, я написал и свою, вероятно, лучшую вещь — компактную, энергичную, пробивавшую путь «деревенской» литературе повесть «На Иртыше». Прошли годы…
Десятилетия прошли — три, — и вот теперь-то мне, если есть чем гордиться, хотя бы есть что противопоставить своим творческим неудачам, произведениям посредственным, никак меня не удовлетворяющим, так это — те самые годы 1961–1964, Нижняя Обь и повесть «На Иртыше».
В последующие годы у меня, кажется, была своя роль и в литературе, и в экологии, на эту тему я еще поговорю и уже поговорил в «Экологическом романе», стараясь при этом говорить не столько о себе, сколько о событиях, в которых я участвовал. Что получается из этого старания? Не совсем то, что хотелось бы.
Не знаю, насколько я прав, но мне всегда казалось, что я мало интересен сам по себе, мало в текущей жизни, но в то же время — парадокс? несоответствие? или — логика? — на какой-то странице из истории своей страны хочется оставить свои строчки. Не из этого ли желания исходя, я и пишу заметки? И да, и нет… Ведь еще мне хочется воссоздать события, которые мне более или менее известны. У меня нет достаточного кругозора, чтобы написать о своем времени как таковом — о процессе коллективизации в целом, о репрессиях, о сталинизме, о времени Горбачева, о перестройке, о днях сегодняшних. К счастью, я никогда не занимался и не стремился заниматься теми делами, которыми заниматься не умею, и, если, скажем, я вижу весьма посредственного литературного критика в роли министра, наблюдаю, как он с энтузиазмом блюдет форму и формальную сторону дела, ровным счетом ничего не понимая в самом деле, для меня это чудо, невероятие. Суть, видимо, в том, что у него нет средних способностей, средние — ведь это же хорошо, ведь они могут принести и результат, и удовлетворение, но этого ресурса у человека нет, а тогда человек ищет уже не среднее, а нечто исключительное. (Таким я наблюдаю министра Сидорова, наблюдал, наблюдал да и написал о нем статью («Известия», № 48, 94).
Стиль и писатель. Русская литература — бесконечна по своим прозаическим стилям. Великие писатели — это те, кто создал в ней свой собственный язык, собственный в родном языке. Достоевский, Гоголь, Булгаков, Платонов, частично — Горький (?). Конечно, были и другие — Пильняк, Бабель, Артем Веселый, Хлебников, но они остались экспериментаторами, только ими. Их стиль — это больше лаборатория, чем общедоступная литература.
А кто бы мог подумать, что на русском языке до Гоголя можно писать языком Гоголя? Воспринимать на нем действительность? Но вот приходит Гоголь и обнаруживает в нашем языке неизвестный до него ресурс, обнаруживает нишу и заполняет ее. Так же и Толстой, и Достоевский, и Чехов. При этом никто из них не лингвист, но все они — художники и художественные мыслители, они увидели в этом мире то, что не видели другие, поэтому язык всех других оказался им несподручен — понадобился свой, новый, до тех пор неизвестный. (Ни один лингвист не создал «своего» языка, только художники.)
Пушкин, тот угадал даже и не языковую нишу, он как бы заново открыл весь язык. После Пушкина весь язык стал пушкинским. Он и дальше подвергался преобразованиям, но именно он, а не допушкинский. К тому же Гоголя, Платонова и других творцов языка повторить нельзя. Никто не повторил (хотя Булгаков и пытался это сделать по отношению к Гоголю), и никто никогда не повторит: время не только приближает нас к содержанию великих произведений, но и отдаляет от их языка, от тех способов, которыми их содержание когда-то было выражено. Технология любого производства, в том числе и мыслительного, меняется, и кому может прийти в голову писать нынче так же, как писали древние греки или, скажем, Карамзин?
Есть только одна область мышления, в которой технология не меняется или же меняется очень медленно (речь идет о письменном, а не об устном творчестве), это — религия.
В этом смысле она — единственна, а всякая единственность и непоколебимость в наше время — великое достоинство. Религия — это поклонение исторической мудрости, но не сама мудрость. Она исключает (сводит к возможному минимуму) злободневность мудрости и только этим и злободневна.
В этом консервативном качестве она и необходима и осознает сама себя, исключая, однако, возможность своей сколько-нибудь полной языковой модернизации. Нельзя объяснить современность библейским языком, но ввести в современность как бы уже и нерукотворную Библию можно и должно — иначе прервется связь времен и будет утеряна достигнутая когда-то мудрость.
Отдельно стоит Чехов: у него нет своего языка, в нем нет ничего от Достоевского или Толстого (он сам не верил в свой язык, а потому и в себя как писателя).
Язык Чехова индивидуален уже тем, что, как никакой другой, стремится к исключению собственной индивидуальности. Чехов говорит о субъектах, но ему самому не нужна его субъективность, а только объективность и общедоступность, и вот у Чехова такое множество подражателей (и не безуспешных), как ни у кого другого. Чехов — редкостно космополитичен. Он ближе всех писателей к языку эсперанто. Он легко переводим на все языки, и все его герои — к переводу приспособлены более, чем чьи-то другие герои.
Чехов — новая страница в истории литературы (и — искусства?), но не дай Бог, чтобы эта страница стала претендовать не только на единственность, но и на свое превосходство, — сам-то Чехов ни словом никогда на эту роль не претендовал, всякая историчность была ему чужда (у него нет ни одного исторического произведения), а свою современность он угадывал в ее космополитичности. Его герои (а значит, и язык) близки и понятны всему человечеству, герои Платонова воспринимаются как производные исключительно русской действительности.
В литературе всегда есть, должны быть Чеховы и Платоновы своего времени. Это ее границы, которые она сама себе в разные времена назначает и в те же времена в этих границах ищет.
Чем большее пространство включают они, эти языковые границы, одна из которых исходит из космополитичности наших представлений, а другая из национальных признаков, особенностей и возможностей, — тем больше и сама литература.
Человек может быть индивидуален в нации, и только через нацию он может быть человечеством. Нация — одно из слагаемых человечества, а без слагаемых нет суммы.
Когда я писал «Мой поэт» (книга о Чехове), я об этом не думал, а нынче — одолевает.
О победах. Победа — это достижение благополучия. Где-то я читал и не так давно: 86 процентов французов считают себя счастливыми людьми. Что-то не верится. Но если не 86, а 43 процента — это же огромная цифра, которой никогда не достигала (и никогда не достигнет) Россия.
Россия достигала мощи, мощи размеров прежде всего, но не благополучия. Ее количество никогда не переходило в ее же качество, разве только в чье-то чужое. Россия никогда не знала оптимума, оптимальных величин. И не знает. И не узнает: слишком много наций, укладов, психологий, интересов.
Совершив территориальные приобретения, Россия не получила ничего подобного тому, что получили в свое время другие метрополии — Великобритания, Испания, Франция. Не истребляла она, подобно САСШ, и аборигенов. Не оставила после себя ни Африки, ни Центральной (отчасти Южной) Америки. Ее бывшие колонии, будучи таковыми весьма условно, жили и живут благополучнее метрополии. Россия вела себя по отношению к ним столь же гуманно, сколько и бестолково.
Неизвестно, что было бы разумнее предпринять на тех дальних рубежах и в тех временах, — содержать армию или заключать с Грузией, Арменией, Польшей, Бухарой и др. самостоятельными государствами договоры и обязательства, предусматривающие их независимость и поддержку в случае их завоевания кем-то третьим. У Германии, Турции и Англии вряд ли возникли бы намерения завоевывать собственно Россию, но ее экспансии они опасались. Вообще-то говоря — а зачем быть великой державой? Чтобы больше всех иметь самых разных проблем? Швеция да и Англия тоже перестали быть великими, разве им от этого хуже? Если бы все четыре части Швейцарии были большими, разве они сумели бы создать столь крепкую и надежную конфедерацию?
Но русская государственная и национальная мысль со времен Ивана Грозного строилась именно на территориальных устремлениях, которые где-то и когда-то далеко перешагнули разумный предел, реальную необходимость и приобрели не оправданное, но самодовлеющее значение. Конечно, до поры до времени это было необходимо — России нужны были выходы к морям, нужно было отвести постоянную угрозу Казанского и Астраханского ханств, и в этих случаях подобная военная политика была оправдана. Не надо было отдавать Японии Дальний Восток, но и не надо было воевать с ней из-за Порт-Артура.
Собственно, другой политики в те времена и не было, война и завоевания — этим кто имел хоть малейшую возможность, тот и занимался.
Это — так. Но когда, скажем, та же Литва нынче обвиняет Россию в исконной по отношению к ней агрессивности, для этого нет оснований — Россия воевала Литву, Литва с той же степенью агрессивности — Россию, а уж кому повезло (Смоленск 110 лет был под литовцами, они осаждали и Белозерск), кому — нет — дело другое. Равнозначность противников после войны забывается очень быстро, и побежденный объявляет себя жертвой агрессии, а победитель в лучшем случае — жертвой необходимости, а то и просто-напросто славным победителем, для которого победа есть высшая и безоговорочная справедливость. Только благодаря Советской Армии, по сути дела, армии русской, та же Литва получила Куршскую косу и Клайпеду, которых она никогда не имела, но сейчас она требует незамедлительного вывода «оккупационных» войск России, которые находятся там со времен второй мировой войны, то есть с тех пор, когда эти войска присоединили к Литве Куршскую косу и Клайпеду (немецкий город Мемель). Да ведь и сам Вильнюс (польское Вильно) тоже был восстановлен как литовский город не без участия «оккупантов». Интересно — были ли когда-либо такие оккупанты, которые столь же значительно расширяли бы территорию оккупированной страны в ее собственную пользу? К тому же ведь речь идет об установлении границ на момент заключения пакта Молотова-Риббентропа, а в строгом соответствии с этим Литва ох как потеряла бы.
Или — Латвия. Глубоко убежден (много читал по этому поводу) в том, что если русские совершили Октябрьскую революцию, то латыши ее спасли. Если бы не латышские красные стрелки и не латышская ЧК, Ленин уже к концу 1918 года снова был бы в привычном своем амплуа политэмигранта. Так зачем же нынче считать, кто кому оккупант и кто кому навязал Советскую власть — латыши России в 1917–1919 годах или русские латышам в 1940-м?
Теперь прибалтам в обязательном порядке нужна победа над Россией. В любом виде.
Каждая нация имеет право на самостоятельность прежде всего от природы, а не от тех или иных военно-политических и других событий. Но самостоятельность требует и цивилизации.
Военная победа — понятие неправовое, хотя любая война ведется будто бы во имя права. До реализации любого права человек и нация должны созреть. Реальное право созревает, только после этого оно декларируется. А не наоборот. Созрели прибалты — и прекрасно, но нельзя забывать и о «национальных меньшинствах», которые тоже ведь зреют в смысле правосознания.
Уж какой умница русский философ К. Леонтьев! В 1891 году сказать, что Россия пройдет через социализм и что выход из социализма будет затем страшен и труден, — это каким же надо было обладать предвидением? Наш президент и на три месяца вперед ничего не предвидит, а тут — на сто лет.
Но и у Леонтьева та же мечта — очень русская! — о Дарданеллах. Когда же, наконец, Дарданеллы, Босфор и Константинополь будут «нашими»?
Зачем нам была бы такая победа?
Господи! Сколько бы еще бед хватила, сколько бы крови пролила Россия и чем бы все это кончилось, если бы она в некую «историческую дату» с чувством исполненного «исторического долга» и исторической справедливости захватила бы Дарданеллы? Мы бы весь мир, мусульманский прежде всего, — навсегда восстановили против себя.
А без Босфора, без Дарданелл, без Константинополя? Без них мы ни в чем не испытывали особых затруднений. Никто не задерживал наших торговых кораблей в Черном море в мирное время, а удержание проливов во время войны, повторяю, обошлось бы нам невиданной кровью, и все равно мы бы их не удержали, все были против — Европа и Азия, и турки и англичане, об американцах и говорить нечего, американцам до всего на свете есть дело и забота, но они — люди дела и прагматики — только-только начинают понимать, что это их очень серьезный, а может быть, и самый большой недостаток и просчет.
И еще о наших победах.
«Победа Октябрьской революции».
«Победа в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства».
«Окончательная победа социализма» и т. д. и т. д.
Какие великие, какие бурные и какие ложные все эти победы! Пожалуй, единственной необходимой победой был год 1945-й… Однако — и он… Истинна ли та победа, которая дается любой ценой? В которой победитель потерял больше и прежде всего — больше собственного будущего, чем побежденный? Ясное дело — выбора не было, не мы напали, напали на нас, а свою страну люди защищают любой ценой, но все дальнейшие выводы и действия должны исходить уже не столько из факта победы как таковой, сколько из этой, уплаченной за победу, цены.
Удивительно, что в такой издавна нигилистической стране, как наша, мы заглушаем свой нигилизм придуманными победами. Одно другого стоит. По-видимому, одно из другого проистекает.
Нижне-Обская ГЭС тоже замышлялась как грандиозная победа.
Я пишу вразброс, почти без связей, мозаично, даже — сумбурно. Почему так? Потому что так же я думаю, так же вспоминаю свою жизнь и так же живу.
Я старался не повторяться, коснуться одной темы (случая), довести записку до конца, потом следующая, следующая… Не получается. И не получится: воспоминания не поддаются хронологии. Если эти записки когда-то кто-то будет читать, пусть смирится с тем, что иначе я — при всем желании — не мог.
Главные, наиважнейшие победы — это победы людей над самими собой, это прежде всего — победы экологические.
Вообще-то говоря, нынешнее состояние любого государства, общества, нации — это прежде всего его экологическое состояние. Так оно и есть, тем более если под экологией понимать не только состояние среды обитания природной, но среды и общественной, и государственной. Именно к такому пониманию дело идет, хотя бы потому, что социальные проблемы определяют и экологию.
Экология нынче чужда нашему обществу и государству — нам бы выжить сегодня, причем — любым способом, хотя бы и самым хищническим, самым авантюрным. Почему нынче в нашей стране столько убийств, «региональных» войн и побоищ, уголовных преступлений, спекуляций и авантюр?
Да потому, что само государство авантюрно, спекулятивно и преступно, а какой авантюрист работает на будущее — ему бы только урвать сегодня! И вот еще что: если человечество имеет в виду выжить, оно во всех странах должно установить экологические правительства, «зеленые» правительства.
Несколько слов из истории наших экологических министерств и министров.
Министр экологии — это в современном мире фигура № 2, это министр нашего будущего. Но как же в этих лицах все мелко и незначительно! Как ничтожно для них самих будущее в сравнении с настоящим! Кто под руку попался, тот и министр!
Первым председателем первого Госкомитета по экологии был Федор Моргун.
Получив назначение, Моргун позвонил мне:
— Сергей Павлович, вот какое дело: помоги мне укомплектовать штат Комитета! А то мне суют черт знает кого!
Я спросил — где его резиденция.
— Пока в Цека. Не знаю, как отсюда и выбраться на самостоятельную квартиру!
Я подумал: дело плохо! И, действительно, мы еще несколько раз поговорили с ним по телефону, однажды он забежал ко мне в редакцию, а потом месяца на два всякая связь с ним прервалась.
Когда же я пришел к нему в Комитет — это было уже рядом, ул. Неждановой, 11, — Моргун только руками развел: не успел и опомниться, как его «укомплектовали» и замами, и начальниками главков и управлений. За счет цековских кадров и других — разных. Скажем, Соколовского, зам. предкомитета Гидрометслужбы Ю.А.Израэля, «деятеля» по Чернобыльской АЭС.
Не знаю, что стало причиной смещения Моргуна, но только на его посту оказался Н.Н.Воронцов — профессор, доктор наук, беспартийный, биолог по специальности. Рвется в членкоры АН. Он входил в нашу ассоциацию «Экология и мир».
Моргун — начитанный человек, неплохой публицист, что-то художественное пописывал. Человек культурный, но нет у него культурного антуража, в его интеллигентности не хватает интеллигентного поведения. Ни чудаковатого, ни делового.
Н.Н. — тот весьма внешен, прекрасно одет, при модном галстуке и в тройке, сигареты — дорогие, язык подвешен по-русски и по-английски. Мне его ругали, и сильно, за какие-то делишки на Дальнем Востоке, но не это, а снова какие-то детали меня смутили.
Пришли мы к нему в кабинет с министром экологии Украины Щербаком (ныне посол Украины в Израиле), Воронцов и сесть ему не предложил. Может, потому что Щербак — недавний его подчиненный, а подчиненным сидеть в присутствии начальства не полагается? Итак, Моргун был более деловит и более работоспособен, чем Н.Н., но и Н.Н. тоже кому-то не понравился (своим ученым антуражем?), долго на этом посту не просидел. Причин устранения не знаю, знаю только, что Н.Н. не горевал — ударился в загранзеленые круизы и путешествовал, кажется, даже на подводной лодке Гринписа.
И вот третий министр, теперь уже не СССР, а РФ, — В.И. Данилов-Данильянц. Признаться, вот уж на кого я надеялся! Он у нас в ассоциации тоже бывал, о его работе в Академии народного хозяйства я был наслышан.
И что же? А ровным счетом ничего. Штат министерства — колоссальный (шестьсот человек), плюс сеть институтов, фондов, центров всего, что может выдумать настоящий бюрократ, три здания трех бывших министерств, бесконечные загранкомандировки, коллегии, еще Бог знает что, а результаты? Страну грабят, грабят преступно, а министерство не смогло возбудить ни одного (!) судебного дела о нанесении ущерба природе. Для сравнения: в США около 85 процентов всех проектов природопользования проходит через суд. Всегда ведь найдется человек, которому невыгодно, что в лесу срублено дерево, что в реку сброшены химикалии, что рядом строится дом, тень от которого падает на окна его собственного дома. Людям в этом мире становится тесно, а теснота, если в ней нет порядка, — это хаос.
Никогда не думал, что министр может быть так бессилен и так безответствен. Жалко его, стыдно за него!
Я в своей более чем скромной редакции такой пустяк запросто могу сделать, а министр в своем шикарном кабинете, в окружении штата из шестисот человек — не может. Ну не может, так хотя бы не обещал! Или он не знает, что он может, чего не может? И ведь не смутился, нисколько и не покраснел! Тогда зачем же он министр? Уйти надо — и с концом, он и до этого занимал видный пост.
Позже, 20.Х.93 г., мы — я, академики Д.С. Лихачев и А.Л. Яншин — опубликовали в «Известиях» статью «Среда вымирания» и сильно приложили минэкологии. Данилов-Данильянц посылал в редакцию протесты, редакция печатать их отказалась, но не в этом дело, дело в том, что именно в момент разговора с Д.-Д. о трех тысячах рублей у меня и появилась мысль такую статью написать.
Хорошо ли это, плохо ли, но это бессилие по мелочи убедило меня в том, что и по-крупному этот человек сделать ничего не может.
Но… но нам с Яншиным пришлось с Д.-Д. в дальнейшем сотрудничать (очень малопродуктивно). Другого-то министра нет… К тому же у него появился заместитель А.Ф. Порядин, человек деловой настолько, насколько в этих условиях можно быть деловым. Я знал его давно — в Новосибирском строительном институте я читал небольшой курс, он был студентом. Моя жена читала ему порядочный курс гидросооружений.
Кстати, бывший министр КГБ Бакатин — тоже наш ученик, но с ним, слава Богу, я встречался только на официальных приемах. Говорили — неплохой человек, а все равно как-то неудобно.
Почему я обращаю внимание на мелочи (самому противно)? Не потому ли, что каждый человек (тем более министр) должен уметь вести себя так, чтобы мелочи из него не выпирали? А что будешь делать, если из твоего собеседника ничего другого, кроме мелочей, не выпирает? А проблемы — пусты?
Мы договариваемся с ним о сотрудничестве между нашей ассоциацией и новым, открывающимся в Москве Национальным центром охраны природы, который будет представлять в России соответствующую международную организацию.
Д.-Д. говорит: именно вы должны осуществлять это сотрудничество. Он говорит мне это у себя в кабинете, но, придя в свою ассоциацию, я через четыре часа узнаю, что он договорился о непосредственном сотрудничестве с Национальным центром, минуя ассоциацию. (Дело кончилось тем, что ни ассоциация, ни Министерство с Национальным центром никакого сотрудничества так и не установили.)
Или: я представляю Д.-Д. план совместных работ — по созданию экологического словаря, по организации международной экологической школы. Он встречает мои предложения с восторгом, обещает финансовую поддержку из экологического фонда.
Что за экологический фонд? Уж не тот ли, который создал профессор Гирусов? Гирусов предлагал нашей ассоциации деньги, и не раз, и немалые, но когда я спросил — откуда у него-то, у Гирусова, берутся деньги? — он тотчас ретировался.
Д.-Д. заверил меня:
— Что вы, что вы! У меня свой фонд. На первый случай — миллион. Но будет возрастать. Вам сколько нужно?
Мне нужен пустяк — три тысячи рублей. Министр смеется (весело) — только-то?
На другой день выясняю: фонда в Министерстве нет, председателя фонда, чтобы его организовать, — нет.
Под этим впечатлением — других у меня нет, откуда бы? — я смотрю на наших руководителей по ТВ. Не знаю, что это за игра — смена министров, президентов, премьеров и т. д. Большая игра, темная игра — догадываюсь.
В современном мире оказалось два варианта этой игры и жизни: капиталистический и социалистический. Социализм потерпел крах, потому что его вариант еще хуже капиталистического, а перестройка происходит вообще вне всяких вариантов, заимствуя все самое худшее из того и другого, когда человек теряет в себе не только нравственное, но и любое начало — история ему нипочем, Библия — нипочем, социализм ему, вчерашнему убежденному социалистическому деятелю, сегодня враг, но и капитализм тоже не друг и не подлинный авторитет, он его ведь в глаза никогда не видал.
Капитализм для него — странная замена лозунга: «Народ и партия едины!». Этот лозунг и всегда-то был то ли меньше, то ли больше, но фальшив, а теперь для капиталиста из коммунистов и этого нет, нет никакого на свете единства, кроме разве что коррупционного.
Не формирование личности, а дальнейшее ее разрушение. Только за счет этого разрушения он и выживает, иногда — благоденствует. Недавно я видел дискуссию на тему о том, как и почему наши люди идут к капитализму. Вел Познер, кажется, это была самая неудачная его передача: никто не знал за «круглым столом» и в публике — ни «как», ни «почему» (разве только С.Н.Федоров), но все выясняли: а что же все-таки такое капитализм? Хотя все выражали желание идти к нему, неизвестному. И Познер не знал и наивно полагал, что если он поставил вопрос «как», то не возникнет вопроса о том, что такое то самое «что», по отношению к которому возникает «как».
В этой обстановке никто не знает и не понимает — почему человек стал министром, и вот уже ясно, что каждый может быть кем угодно. Почему весьма посредственный литературный критик Сидоров (правда, он тоже, неизвестно почему, побывал еще и в роли ректора более чем странного Литературного института — это подобие института) стал министром культуры.
А что за исключительность Бурбулис? Госсекретарь обязан быть личностью исключительной, а этот? Преподавал диамат в Свердловском пединституте — и вдруг… Других не было, других таких же диаматтупиц? У него на лице никогда не видно и признака хоть какого-то интеллекта, какой-то эмоциональности. Его судьба решилась тем, что он — из Свердловска.
Руцкой. Не имеет никакого опыта управления людьми, кроме управления несколькими боевыми самолетами. Он — герой афганской войны, которая сама по себе — не только антигероична, но и безумна, в нее-то, в безумную, он и вписывался как нельзя лучше, и вот — вице-президент! Поначалу мне импонировали его неуверенность и неловкость, когда он принимал верительные грамоты послов разных стран, но вот уже какая в этом и во всех прочих процедурах такого рода у него появилась опереточная уверенность! Но мало и этого — вот он курирует сельское хозяйство и начинает с того, что пишет книгу о сельском хозяйстве. Да что он в этом понимает?
А что он знает о Столыпине или Кривошеине? Об Энгельгардте, о Докучаеве, Костычеве, Вавилове или Таланове? И почему книгу «пишет» он, а не А.А. Никонов хотя бы? Что Руцкой знает о средневековом земледелии, без которого и наше нынче не поймешь? И почему происходит презентация его книги, что это — выдающееся событие? Все дело в состоянии президента, который уже не способен руководить страной, но все еще способен приближать к себе и отдалять от себя людей.
Почестнее и поумнее уходят в бизнес (чаще — тоже сомнительный, спекулятивный), уходят в сторону.
А ведь личность создает общество, общество — личность. Круг замыкается. Не знаю: я-то в этом же круге? или все-таки вне?
Впрочем, не мое это дело — понимать начальство. Я никогда его не понимал, тем более нынче.
Все тот же, тот же вопрос: я почему пишу-то? Ударился в воспоминания? Точно не знаю, но приблизительно обстоит так: человек на закате лет своих вспоминает, что он всю свою жизнь делал, и это — естественно. Для меня это естественнее, чем вспоминать, что я думал, как и что воспринимал, тем более что свои размышления и чувства я уже пытался выразить в жанре художественной литературы. Ну а собственно дело как таковое, непосредственное? Для меня это интересно — что все-таки тобою делалось, делалось беспартийно рядовым инженером в этом бесконечно, максимально партийном обществе?
В литературе, хочешь ты того или нет, ты обязательно видишь своего читателя, здесь я пишу, ни на кого, совершенно ни на кого не ориентируясь, осталась у меня за душой привычка — ничего не оставлять, выложить по возможности все. Только этим стремлением ты сам себе и интересен, самого себя терпишь на белом свете.
Конечно, надо бы писать и о том, что ты не сделал, — это было бы, по всей вероятности, любопытнее. Но уметь писать о том, чего ты не умеешь? Каак — не умеешь? Почему не умеешь? Что-то я такой литературы не знаю, мне такая тоже недоступна.
В то же время никто не начинает писать, не ощущая себя личностью. Я себя таковой ощущал — в застойные времена потому, что писал много, много издавался, потому что выиграл схватку по проекту Нижне-Обской ГЭС, потому что не только был беспартийным, но и чувствовал свою беспартийность как независимость, как свою личность; в начале перестройки — потому что был востребован, возглавил журнал, который должен был сыграть и сыграл свою особую роль, потому что выиграл в проблеме «переброски» и в других подобных проблемах, а — сейчас?
Я не Солженицын, тот может быть один — один в поле воин, он знает, что его дело не умрет в веках, во мне нет и никогда не было чувства исключительности, нет и проницательности, тем более мгновенной, и отношения с любым человеком я начинаю с доверия: может быть, этот умнее меня и больше меня понимает в проблеме, в конкретном деле, в нынешнем дне? Не видя же перед собой личностей, я спрашиваю себя: «А может, я тоже безличностен?» Мне нужна личностная атмосфера, но я никогда за всю свою жизнь так не чувствовал силы обстоятельств, как сейчас, — обстоятельств позорных и лживых, никак не способствующих тому, чтобы что-то делать. Что-то общественное.
Безумная событийность, в которой я перестаю ориентироваться, а значит, и в себе самом тоже. В безумии тоталитаризма легче ориентироваться. А в безумии анархизма тем труднее ориентироваться, чем в нем больше демоса и демократии. Безумие тоталитаризма проще, но не лучше.
Великий мыслитель Толстой — что он пережил за свою долгую жизнь, какие события? Крымскую войну и революцию 1905 года. Ну, может быть, еще следует зачесть убийство Александра II и его реформы.
Что пережил я, приближаясь к толстовскому возрасту? Две мировых и одну гражданскую войну, коллективизацию, индустриализацию, репрессии, семидесятилетний период (небывалый в истории и невозможный к повторению в будущем) коммунизма со Сталиным и без него, выход страны в космос, перестроечные войны и побоища, ну и можно, наверное, присоединить сюда и мои мотания по белу свету (29 стран, около 70 поездок), хотя, по правде сказать, я не улавливаю их влияния на себя. Однако какое же из этих и многих-многих других событий стало истинной, притягательной силой, формирующей мою личность? Как, скажем, 1812 год для Пушкина? Ни одно не стало. Если бы одно из событий стало для меня определяющим — тогда все остальные меня погубили бы, искалечили, привели бы меня к таким внутренним противоречиям, которые я не выдержал бы. Не представляю себя сегодня, если бы еще вчера я был бы коммунистом, да еще и активным! Миллионы в таком положении, но не я! Благодарю за это жизнь и Бога! Но это далось мне индифферентностью, способностью миновать события, не обращать на них внимания. Способность, в общем-то, античеловечная.
Кажется, значительная часть нашей интеллигенции уже десятки лет сохраняет свою интеллигентность тем, что уходит от событий в кухонные собеседования (а теперь и этих уже нет), а на работе работая так, чтобы не участвовать в событиях. В свое время русская интеллигенция и взывала к этим событиям и вызывала их, но затем ее задачей стало от них уходить. Диссидентство тоже ведь было бегством от событий.
А перестройка явилась уже помимо инициативы интеллигенции, только как инициатива верхушки партии, она застала беспартийную интеллигенцию совершенно врасплох и безо всяких навыков того обустройства, о котором говорил Солженицын, выбор для нее был крайне ограничен: поддержать или не поддержать очередную инициативу партии? Других-то инициатив ведь не было!
В чем и как поддержать? На митингах возопили те, кто, кроме того, что умел кричать, не умел больше ничегошеньки. Партийный аппарат умел хотя бы эксплуатировать «верховную» идею.
На моих глазах возникла в среде народных депутатов МРГ — Межрегиональная группа. Название глупое: чтобы быть межрегиональным, надо знать, что принято за регион, — этого никто не знал, зато МРГ — поповцы — обещали лечь на рельсы в защиту трудового народа, когда Рыжков предложил поднять цены на тридцать процентов. Ну и что? Где же те самые рельсы, когда цены выросли на тысячу процентов? Все сделали карьеры, многие по третьему разу проходили в парламенты, теперь даже и в объективы не суются, не показываются, своего достигли, парламентского содержания, чего еще нужно всяким бездарным литературным критикам, ставшим министрами? Страшно как-то…
А чем другим могла обернуться инициатива компартии под ничего не значащим названием «перестройка»?
Демократическая идея стала кормушкой для кормушечников.
Когда-то идейность русского человека была признаком его интеллигентности — теперь он ее лишен, теперь даже кухонных дискуссий, и тех нет, митинги тоже отошли, деловая интеллигенция — ученые, инженеры недавно создали атомную и водородную бомбу и «оборонку», построили Челябинск, а теперь в растерянности и без лидеров. Такие величины, как академики Александров, Лаврентьев, Курчатов, Королев, умерли вместе с идеей коммунизма, которая была для них идеей уже по одному тому, что они где-то в глубине души ставили ее выше Черненко, Андропова, Брежнева и самого Сталина.
А в настоящем действует только карьеристская интеллигенция, ни во что не верящая, кроме необходимости личного выживания (а во что верить интеллигентному уму советского воспитания?), интеллигенция ни восточная, ни западная, ни русская — никакая.
Самостоятельность? В то время, когда социально самостоятельной интеллигенции не может быть? Единой — тоже не может быть: единой идеологии нет, профессионального единства нет и никогда не было. Безличностная интеллигенция — это что-то новое, но оно есть. Ведь Бурбулис тоже интеллигент?
Во мне природой заложена потребность быть русским интеллигентом, но что это такое и как им быть сегодня — я не знаю. Только каким-то чувством, чутьем, что ли, все еще обладаю. Трудно руководствоваться этим своим внутренним состоянием на деле. Подчиненность обстоятельствам и бессилие я наблюдал в фигурах трех министров экологии, а наблюдая, твердил: «Это — не я!», «Это — не я!». В этом отрицании я прав, а дальше — что?
Что касается «Нового мира», то там я — все еще я, но я все чаще и чаще и это утверждение ставлю под сомнение. Все чаще и чаще использую более чем элементарный довод: уйду, а разве тот, кто поведет дело, сделает это лучше меня? Ловлю себя на мысли о том, что экологические министры, все трое, наверное, думали и думают точно так же. Значит, мы снивелированы 1:1?
Да ведь пора бы и на покой: 78, вот-вот 79 стукнет (пока писал — стукнуло и 80!), но уйти сейчас из «НМ» — это уйти с тонущего корабля. Нехорошо.
Надо бы сказать об ассоциации «Экология и мир», но все откладываю и откладываю этот рассказ. Она мне близка, мы уже сделали очень много, а когда мы собираемся небольшим нашим ядром, чувство родственности нас не покидает, все это так, но вот уже полгода — год, как исчезли наши противники, и с кем же нам бороться? Новых проектов природопользования никто не составляет, не утверждает, тем более не исполняет — денег нет, и что же подвергать экспертизе? Ведь недавно это было главное наше дело — общественная экспертиза проектов природопользования, пользования водными ресурсами прежде всего. И наши противники, тот же «Водстрой», нынче совершенно неизвестно чем занимаются, разве только одним-единственным делом — собственным выживанием. Эта проблема решается ими успешно!
Да, нынче мы можем писать, выступать в печати — а кто нас будет печатать? Никому неинтересно, разве только американцам и европейцам, которые используют нас, «Экологию и мир», как материал для своих диссертаций. Ну а если нас и печатают, и читают — что от этого меняется? Что меняется от того, что изо дня в день не только критикуют, но прямо-таки уничтожают и президента, и экс-президента и ближайшее их окружение?
Экология в СССР, едва возникнув, уже распадается, исчезает с лица страны. Распадается вместе с политическим распадом СССР. Вместе с распадом экономики. Вместе с исчезновением нравственности и хоть какого-то государственного порядка. И, повторяю, в силу своей собственной слабости. Она — еще дитя, а детская смертность у нас самая высокая в Европе, рождаемость — самая низкая. Скоро достигнем уровня Сомали.
Мы заняты одним-единственным делом — выживанием. А когда человек в тяжкой болезни борется со смертью, когда выживает — он не думает о своем будущем, все оставшиеся у него силы сосредоточивает на том, чтобы уйти от смерти вот сейчас, вот в эти минуты.
При всем том мы совершенно бесполезно затратили и продолжаем затрачивать на экологию много сил и некоторые средства, без конца составляем программы, вырабатываем концепции, и все это — совершенно впустую, неизвестно ради чего. Разве только ради зарплаты.
Я был членом Комитета по экологии Верховного Совета СССР. Председатель Комитета Салыков не хотел, чтобы я в нем состоял, но свое место в Комитете уступил мне Алесь Адамович.
Ну а что являли собою выборы председателя? На Первом съезде народных депутатов СССР, в перерыв, А.И. Лукьянов объявил: все желающие работать в том или ином комитете собираются, безотлагательно выбирают председателей и о «результатах» этих выборов перед началом следующего заседания сообщают ему. Именно таким образом в сельхозкомитете был избран Стародубцев, в Комитете по строительству и архитектуре — Ельцин. Везде так же. «Экологам» было указано собраться в зале заседаний левее трибуны (какой-то другой группе — правее). Мы собрались. Человек 60–70. Тут прошел слух (позже он не подтвердился), что председателем может быть избран не каждый депутат, а только член Верховного Совета. Сразу же отпала моя кандидатура — да я бы и не пошел на должность: нужно было бы оставить «НМ».
Кто-то крикнул: «Яблоков!». Но Яблоков тоже не был членом ВС, и ему отставка. Он сказал: «Может быть, я — заместителем?» А все это время бегал вокруг нашей толпы какой-то человечек азиатского происхождения, хватал всех за рукава: «Выберите меня! Выберите меня!».
Кто таков? Оказался — Салыков, секретарь Каракалпакского обкома КПСС. Как бы даже и начальник Арала и аральской проблемы. За ним другие двое бегают каракалпаков (Салыков — казах), занимаются антипропагандой: «Не выбирайте этого!». А кого выбирать-то? Никто друг друга не знает. Время истекает, перерыв кончается, а еще в буфет надо сбегать, перекусить.
И выбрали Салыкова. Могу сказать — могло быть и хуже. Салыков же в Комитете по экологии тотчас развернул такую канцелярию — будь здоров! Секретарши — класс, телефоны-вертушки, компьютеры, телефаксы, и вот начались разработки экопрограмм, проекты, обсуждения, заседания, выезды на места, вызовы с мест (десятками человек). Яблоков — заместитель — он по этому делу тоже мастак и активист, к тому же ловко умеет обходить острые вопросы (хотя бы и Арал), взял на себя, во-первых, все международные отношения Комитета, а во-вторых, заботу о живой природе — о зверях и рыбах. И те, и другие погибают, но молча, не жалуются, запросов не шлют. Я задал на одном из заседаний вопрос Салыкову: сколько уже миллионов мы, Комитет, израсходовали и где, в каком районе или городе улучшили экологическую обстановку?
Комитет — Салыков и Яблоков — воспринял мой вопрос как неприличный. Выступал я и в Верховном Совете, говорил о полной бессмысленности работы Комитета, назвал Салыкова «карманным человеком Полад-заде», напечатал свое выступление (не без труда) в «Известиях» под заголовком «С чем я не согласен» (известинский заголовок). Результат? Никакого. Разве только тот, что Салыков получил в Москве прекрасную квартиру, а Яблоков пошел в гору (нынче — советник Ельцина по экологии и… здравоохранению!).
(Тут ВС СССР распустили, появился новый ВС РФ. Председатель Комитета по экологии ВС РФ Варфоломеев — хороший, говорят, мужик, а дело? Дело в том же состоянии: катимся в пропасть, что при Салыкове, что при Варфоломееве, что при Горбачеве, что при Ельцине, — какая разница?)
Утром и вечером у меня острое, ужасно тревожное ощущение экологической катастрофы — вот она, вот-вот, но днем захожу в салыковский комитет, он приглашает меня в свой кабинет, но я не иду (ни разу не был), иду к Яблокову. Любопытно — там офис по последнему слову, техника на технике, А.В. здесь как рыба в воде, очень деловой, его деловитость захватывает и меня, утренние и вечерние тревоги — долой, споры, разговоры, прожекты… Такая вот экологическая жизнь, такая странная и неописуемая.
Вот и «зеленое» движение заглохло в первых же побегах, и добровольные экологические общества, если и сохранились, так только как спекулятивные, на иждивении тех самых предприятий, которые больше других загрязняют и губят окружающую среду: они губят, а их иждивенцы-экологи проводят «экспертизы», подтверждают, что все в порядке.
Экология превратилась в кормушку. Она для разных людей и людишек хлебная: никто ведь не может сказать, каким должен быть результат их деятельности, значит, она может быть совершенно безрезультатной.
Меня даже на улицах останавливали, кто — не знаю, расхваливали мою деятельность и тут же предлагали взять ассоциацию под свое (финансовое) крыло. Ну это откровенно и без обмана. Легко отказаться. А вот обмануть себя раз-другой я позволил: участвовал в открытии и презентации каких-то новых «общественных» организаций типа «Промышленная экология». В ТВ после этого, к стыду своему, я себя лицезрел, но никогда больше о существовании этих организаций не слышал. Но ведь они существуют. Чем-то занимаются?
Еще о своем депутатстве.
Когда я пишу эти строчки, уже прошел год, как депутатство мое и всего депутатского корпуса СССР закончилось. Уже Первый съезд, чуть ли не первые его часы, внушали смутную тревогу: грядут какие-то события, с которыми мы (я) не справимся. Грядут!
Едва ли не первым намеком на это были выступления литовцев Казимиры Прунскене и Витаутаса Ландсбергиса (они тогда были не разлей-вода), которые говорили о том, что Литва должна получить экономические свободы.
Я уже выступил на съезде до этого, что-то такое сказал — точно не помню, — чуть ли не о Смутном времени (если действительно так, значит — по делу), но после литовцев еще взял слово для реплики.
Реплика: литовцам неплохо было бы не забывать, что перестройка пришла не из Литвы в Москву, а из Москвы в Литву.
Реплика вызвала несогласие многих депутатов, прежде всего тех, кто чуть позже составил МРГ (межрегиональную группу)…
В перерыв я подошел к М.С. Горбачеву.
— Михаил Сергеевич! А ведь нам надо принимать закон о порядке выхода республик из состава СССР!
— Ну вот уж чего не надо, так не надо! — ответил М.С. — Этим мы как раз и спровоцируем выход из Союза, развал Союза!
Теперь, когда Союз распался, я думаю, что так случилось бы и при наличии закона о выходе и действительно сама постановка этого вопроса в ВС способствовала бы распаду, но, с другой стороны, «развод» произошел бы, наверное, более цивилизованно и более цивилизованным и действенным оказалось бы и СНГ. Но я не утверждаю своей правоты, нет… Не знаю, не знаю: может быть, и прав был Горбачев.
Кажется, на Втором съезде слово (с места) взял Валя Распутин. Он сказал:
— А не подумать ли России о том, чтобы первой выйти из СССР?
Это прозвучало в тот момент совершенно парадоксально, но теперь-то звучит мудро. Дело даже не в том, чтобы это состоялось бы тогда же, а в том, чтобы Россия психологически была подготовлена к своей самостоятельности. Чтобы это не было бы для нее акцией сногсшибательной. Убийственной.
Я начал свою работу в Совете по латышской литературе (17 лет был его председателем) с того, что проштудировал двухтомный учебник «Истории латышской литературы» — для количественно небольшой литературы этого (для первых шагов) было достаточно.
Практически же — с участия в праздновании 160-летия со дня рождения прекрасного прозаика Яунсудрабиньша (что-то близкое Аксакову и Пришвину), на его родине, в маленькой деревушке на границе с Литвой. Меня поразил этот праздник: латышские певцы, музыканты, танцевальные ансамбли выступали весь день и всю ночь до следующего утра, а на кладбище были приведены в порядок, отмечены грудами цветов и вновь созданными надгробиями могилы предков писателя чуть ли не до десятого колена. Народа было — тысячи, руководил всем председатель сельского совета, а пьяных — ни одного (хотя латыши на этот счет мастера, но тактично удалялись с той целью куда-нибудь за несколько километров).
Я выступал. Я говорил о том, как я понимаю Яунсудрабиньша. Слушатели удивлялись: оказывается, так же, как и они.
Яунсудрабиньш в официальном ходу в Латвии не был, потому что умер в «фашистской Германии», а теперь, помимо всего прочего, было первое его официальное и свободное признание.
Все тут оказались заодно — и я, русский, и латыши — партийные и беспартийные. Впрочем, беспартийных латышей, особенно в среде творческих работников, писателей, я почти что и не встречал, и они так прорабатывали своих «отщепенцев» — приходилось даже кое-кого выручать. Очень хорошего писателя, отчасти фантаста, отчасти реалиста, они на порог своего СП не пускали — сотрудничал с немцами! — и он работал дворником. Вызвали его в Москву, обсудили его творчество и таким образом легализовали.
В каждой нации, в каждом сословии есть люди, для которых власть — благо и первая необходимость, а среди интеллигенции, не только служивой, но и творческой, таких людей больше всего. Одновременно с появлением в Европе и в мире интеллигенции появилась и проблема: интеллигенция и власть. Я пишу об этом в одном французском журнале: «Заметки из истории русской интеллигенции плюс перестройка» и называю три типа поведения современной интеллигенции по отношению к власти: тип горьковский, сахаровский и солженицынский. (Конечно, этими тремя фигурами проблема не исчерпывается.) Но мне-то кажется, что наиболее благополучны те страны, в которых интеллигенция не стремится к власти, а занята своим делом — искусством, наукой, техникой, врачеванием, учительством. Политика же предоставлена самой себе, то есть профессиональным политикам.
И еще удариться, что ли, в воспоминания? В давние?
В первый раз я попал в маленькую-маленькую Латвию, расположенную на берегу реки Оми в Калачинском районе Омской области. Дело было в 1937 году, летом. Я, студент, был на производственной практике в изыскательской партии, изыскания — под строительство ГЭС на той реке Омь, она же — Омка. Мы гнали нивелирный ход по левому (высокому) берегу реки длиною 150–200 км в зоне предполагаемого водохранилища, но я уже тогда был пристрастен к гидрологическим работам и шел не по берегу, а плыл по реке, промеривая глубины и отмечая общие гидрографические данные — ширину реки, характер русла, скорость течения.
В день наш отряд проходил километров пять, не больше, а ночевали мы в деревнях, которые, по сибирским понятиям, вдоль реки были расположены густо-густо — тоже километров через пять. Но вот подошли мы к деревням — дворов по сотне каждая, — которые назывались Гельсингфорс, Ревель и Рига, в них соответственно обитали финны, эстонцы и латыши. (А выше мы прошли деревню Соловецкую со старообрядцами. Там показывали мне старинные рукописи, а я, дурень, не придал им никакого значения.)
И вот ночевал наш отряд в деревне Рига, и все говорили там по-латышски, а женщины по-русски не говорили совсем (и в Ревеле, и в Гельсингфорсе — также). А заборы были в Риге из жердей, установленных под углом в 45 градусов — впервые видел такое. Я спрашивал рижских мужиков: бывали они когда-нибудь в Риге? Никто не бывал, но все этот город расхваливали. Все обязательно хотели в нем побывать, глазком взглянуть. Вот и мне в тот раз очень захотелось в Риге побывать. К тому же профессор В.И. Долинино-Иванский, читавший у нас обширный курс водоснабжения, кончал Рижский политехническй институт, очень хвалил Ригу, говорил, что улицы там моют с мылом, и показывал нам свои чертежи (а он прекрасный был чертежник, гораздо лучший, чем лектор) двух рижских железнодорожных водонапорных башен. И не было в моей жизни случая, чтобы, в Ригу приезжая, уезжая из нее, я не любовался бы этими башнями. Правда, вид несколько портит тюрьма, бывший знаменитый Рижский централ, о котором наш профессор почему-то не говорил ничего.
Позже, году в 50-м, я тогда заведовал кафедрой сельхозмелиорации в Омском сельхозинституте, и вот мы кафедрой оказывали «помощь производству» — очень дело было модное и даже обязательное: математики и те ездили по колхозам-совхозам. Ну а нам сам Бог и начальство тоже велели. Но — без шуток — мы многое делали и с увлечением, и с пользой. И в колхозе имени Чапаева, в 35 км выше Омска по Иртышу, где председателем был страшный пройдоха и нахал-хохол Лаврик, мы строили плавучую насосную станцию для подачи воды на участок орошения. Стационарную установку строить было нельзя — уж очень велика амплитуда колебания уровней воды в Иртыше, больше пяти метров (за оросительный сезон), это выше практически допустимой высоты всасывания. И так нужно было сделать телескопическое соединение всасывающих труб, чтобы одна труба ходила в другой без всяких зазоров и плотно впритык, без вакуумов.
У меня на кафедре был ассистент (теперь доктор наук), Вениамин Сахончик, золотые руки, ему бы авиаконструктором быть, а не на моей кафедре торчать (после мы с ним разошлись, он меня крепко надувал и не раз). Так вот, он взялся подогнать металлические и максимального для всасывающих труб диаметра. И подогнал. Работал он в цехе завода «Красный Октябрь», с директором которого я договорился. Директор сказал: «У меня мастеров-то таких нет», а я сказал: «А у меня есть!». Когда Сахончик сделал свое дело, рабочие (ночная смена) несли его на руках из цеха до ворот завода.
Все это к тому, что в колхозе имени Чапаева работала бригада латышей (семей тридцать), сосланных в Сибирь без всякой вины, настоящие работяги (Лаврик знал, кого принять в свой колхоз). Жили они в землянках, а главным у них (и в колхозе главным агрономом) был недавний директор треста пригородных хозяйств Риги Хасманис — огромный, огромной энергии и деловитости человек. Каждое утро он обходил земли колхоза — 15 км — и не уставал восхищаться: какие земли, какая река, да разве можно в такой природе жить плохо?! (Это был первый, по существу, эколог, которого я встретил в своей жизни.) Но люди жили здесь плохо. Ухитрялись.
Перехожу к «латышской» теме непосредственно (пора кончать с насосами. Заметки коварны, не признают власти сюжета и даже — последовательности).
А дело-то в том, что латыши в колхозе Чапаева, жители землянок (один только Хасманис жил в обычном домике), отмечали свадьбу двух молодых людей. Они соорудили деревянную арку, снизу доверху обвили ее березовыми ветками, набросали веток на землю, и через арку эту на паре проехали молодые в свой земляной поселок. А латыши стояли в два ряда по сторонам арки и пели, пели. Руководителем же всего свадебного действа был Хасманис.
А из гостей были приглашены двое — Сахончик и я. Вот еще когда, году, может быть, в сорок девятом-пятидесятом, я был приобщен к Латвии.
Я все время хожу рядом с каким-то стилем, которого у меня не было и нет до сих пор. Обидно! Слишком близок локоть… Вот он!
Стиль — это форма выражения того времени, в котором он создается (возникает). Вероятно, еще ни одно время, ни один исторический период и свойственное этому периоду мышление не могли обходиться без своего стиля (стилей), и по стилям можно определять многие свойства различных периодов — державинского, пушкинского, достоевского, толстовского, чеховского (боюсь сказать — шолоховского), булгаковского, платоновского. Но мы все еще не научились тому определению, не знаем его — для этого нужна не только математическая лингвистика, но и математическая психология. Переворот в науке, переворот в отношениях между математикой и гуманитарными науками, без которого дальнейшее развитие того и другого теряет тот смысл, который можно назвать гуманитарным прогрессом. (Не путать с прогрессом научно-техническим.)
Удивительно, что чем сильнее и очевиднее стиль выражает свое собственное время, тем прочнее он закрепляется в будущем.
Стиль — это форма приобщения литературы (писателя) к своему времени. Больше того, мне кажется, что содержание само по себе такой роли играть не может. Давно-давно Библия и мифология уже выполнили главную содержательную роль, создали главные (тоже содержательные) художественные образы. На том Библия и держится, но вот стиль ее устарел. Его если уж не менять, то переводить на современный язык требуется.
«Евгений Онегин», да что «Онегин» — даже «Вий», даже «Мертвые души», даже «Преступление и наказание» могли быть написаны (и писались) чуть ли не в каждую эпоху, но только не на том языке, на котором наиболее полно и самостоятельно эта эпоха выражала себя.
Классика — это и есть стиль, соединение вечной темы с языком конкретной эпохи.
О Сталине говорят: «Он понимал». Понимал, что такое терроризм, что такое власть, что такое… По-своему он понимал все. Но «свое» понимание — это антипонимание. Он был прагматиком, а прагматизм — это не знание, это опять-таки «анти» — антизнание. Оно — из опыта достижения своей собственной и только собственной цели, камуфлированной под цель общественную и даже общечеловеческую. Для этого нужно быть человеком, полностью лишенным сомнения, а значит, и размышления. Вместо этого — опыт, инстинкт опыта. Миг — это я, во всяком случае, разница небольшая, во всяком случае, я умнее мира. Прагматизм только тем и доказывает себя, что он — та очевидность, которая исключает размышления.
Наконец-то добрался я до проблемы «Переброска части стока северных рек в Каспийское море» (много было официальных названий — это, пожалуй, самое полное).
На этой проблеме, кажется, впервые с начала перестройки и считая с 1917 года тоже впервые, общественное мнение столкнулось с государственными монополиями, а можно и по-другому сказать: с Советской властью. Конечно, такое столкновение стало возможным и таким широким только благодаря перестройке, в частности — благодаря Горбачеву. Не знаю точно, не говорил с ним конкретно на эту тему, но думаю, что он в этом столкновении был заинтересован и только делал вид, что наблюдает со стороны. Впрочем, так и было: Горбачев не вмешивался, а общественное движение от этого приобретало: вот какое оно самостоятельное, сколько в нем и здравого смысла, и энтузиазма!
Меня это движение особенно захватило, еще бы — в 1962 году (проект Нижне-Обской ГЭС) я был один, а — тут? Да ведь и проблема-то экологическая! Более того — гидрологическая и мелиоративная, от начала до конца моя! К тому же и возможности у меня были огромные — журнал «Новый мир». Не буду перечислять все наши публикации на этот счет, чуть позже эти статьи (конечно, далеко не все) вышли отдельной брошюрой («Поворот» — разошлась мгновенно). Даже «Правда» печатала меня охотно, и «Коммунист» печатал. Удивительно: оказывается, до этого цензура не пропускала в «Правде» статей такого рода. Председатель Союза журналистов и главный редактор «Правды» академик В.Г. Афанасьев об этом в «Правде» же и написал, уже в то время осудил Минводхоз. А первый секретарь МК КПСС Б.Н. Ельцин привел данные о том, насколько служащие различных учреждений заинтересованы в своей работе. Оказалось — самая низкая заинтересованность в Минводхозе.
Ну а противная сторона?
Я уже говорил о Минводхозе — раковая опухоль на организме государства. Государство затем эту опухоль и оберегало, чтобы скрыть свое безнадежное состояние. Тут все было замешано — и экономика, и политика, и история. История состояла в том, что все эти великие стройки и проекты являлись продолжением ГУЛАГа. Репрессии, миллионы заключенных должны были где-то «использоваться» — лучше всего там, где требовался труд малоквалифицированный, но в массовом масштабе, прежде всего это были работы земляные и бетонные. Каждая стройка и была ГУЛАГом, каждая существовала на тех же принципах и при вольнонаемном труде. Мне пришлось в свое время побывать на стройках Волго-Дона, Волгоградской, Цимлянской, Куйбышевской, Новосибирской, Усть-Каменогорской и Красноярской ГЭС, и, удивительное дело, у меня выработалась привычка к этим стройлагерям. Я приезжал на стройки один (от «Известий»), приезжал и со своими студентами-практикантами, это были уже не мальчики, только немногим младше меня, люди повоевавшие, в чинах до капитанов включительно, но лагеря в то время были явлением настолько заурядным, что никого из нас не смущали, к заключенным мы относились как к равным: ты попал, а я не попал — вот и вся разница. А могло быть и наоборот.
Первый опыт был — строительство Беломорско-Балтийского канала и канала имени Москвы. Как превозносил этот опыт Максим Горький! Мудрец Сталин сидит ночью с красным карандашом в руке над картой СССР и проектирует: вот эти леса вырубить, эти моря соединить — величие-то какое! Мудрость какая!
Когда я учился в институте, курс организации строительных работ читал у нас профессор И.И. Знаменский, «выпускник» Беломорско-Балтийского. Он орден там получил, так ведь он был у нас герой! И строительные работы читал, и дипломные работы он вел применительно только к великим стройкам, даже более фантастическим, чем те, которые были в действительности.
А другой профессор, Угинчус, вел курс гидротехнических сооружений, тот был с канала имени Москвы, правда, вольнонаемный. (Может быть, и не совсем вольнонаемный.)
Так вот, Минводхоз и Гидропроект (в «Экологическом романе» — «Квч») — это были детища ГУЛАГа. Денег у них было столько, сколько они запрашивали, сколько могли «освоить», то есть истратить. Кроме гражданской (по образцу ГУЛАГа) программы, они выполняли работы совсем уже закрытые — копали огромные бомбоубежица, строили спецгорода, дороги и т. д. Так же, как и капитализм, социализм вырождался в свой собственный монополизм, но если при капитализме имеет значение экономическая целесообразность, то у нас никаких ограничений, достаточно решения Политбюро. Теперь попробуем себе представить тот тип инженеров, который вырабатывался в системах Минводхоза, Гидропроекта, МВД и КГБ. Я, кажется, это знаю, наблюдал, немало моих студентов с гордостью пошло по этому пути, но рассказать, объяснить, что это за люди, — не смогу. Сделал такую попытку в том же романе (Квч, Большой Начальник — «БН»), но попытка это слабая. Боюсь, что этот тип вообще ускользнет от нашей литературы.
Впервые я столкнулся с проблемой переброски (переброска, перестройка… В русском языке около 2500 слов — каждое 40-е — 50-е слово начинается с приставки «пере») на защите докторской диссертации инженера, кандидата технических наук Березнера в Институте географии АН СССР, в Старомонетном переулке. В том же самом конференц-зале, где я когда-то столкнулся с инженером того же Гидропроекта тов. Чеминым. Цветущий мужчина лет сорока пяти, Березнер держался уверенно, схему переброски объяснял без запинки, отзывов (положительных) у него была куча, даже из Африки. Были и резко отрицательные. Директор ИГ (Институт географии) член-корреспондент (теперь академик) В.М. Котляков не прочь был отрицательные скрыть, но кто-то из присутствующих о них знал и потребовал зачитать.
Мне Котляков слова не дал, вопросов разрешил задать не более трех, но я и тремя поставил Березнера в очень трудное положение. Это было легко сделать уже потому, что никакими экономическими показателями соискатель не располагал. Совершенно никакими.
Удивили меня официальные оппоненты, больше других член-коррепондент О.Ф. Васильев, которого я знал еще по новосибирскому Академгородку. Вместе с моей женой они в гидравлической лаборатории строительного института моделировали судоподъемник Красноярской ГЭС. Шустрый был и толковый мальчик, академик П.Я. Кочина, у которой он работал, ему доверяла, но он вошел в доверие еще и к М.А. Лаврентьеву, а это уж очень много значило. Несколько лет он работал в Женеве.
О.Ф. восхвалял диссертацию, держался агрессивно по отношению ко всем, кто в замечаниях или вопросах выражал недоверие соискателю. С того времени мои отношения с О.Ф. стали плохими.
О.Ф. — директор Института экологии и водных проблем в Барнауле. Какая уж там экология?! Ни да, ни нет по поводу проекта Катунской ГЭС, а эта ГЭС — гибель для Горного Алтая, есть опасность попадания ртути в ее водохранилище, но дело в том, что для руководства Горно-Алтайской автономной области (надо же — это нынче республика с населением 200 тыс. человек) эта ГЭС нужна («будем продавать энергию в Китай!»). Престиж! Коли так, и строили бы на свои собственные деньги, но своих и на одну турбину не хватит, а через О.Ф. есть надежда что-то выколотить. Меньше чем через месяц в РАН снова выборы, О.Ф. снова голосуется, буду против.
Березнера на том Ученом совете не голосовали. Побоялись и отложили. Затем откладывали еще и еще. Слышал, что позже он защитился где-то в Ташкенте. Дело обычное.
На защите был и отец Березнера. С каким недоумением и обидой он смотрел на меня: «А этому-то чего надо? Поди-ка и сам не знает, что ему надо, разве только заработать какую-никакую репутацию. Доказать, что и он что-то значит».
Красивый старик. Кажется, умный.
Ну а вскоре после этой «защиты» в Институте географии я по логике событий оказался в комиссии вице-президента АН СССР и тоже моего новосибирского знакомца А.Л. Яншина.
Эта комиссия по разработке проблем охраны окружающей среды была создана в 1973 году (Яншин возглавил ее в 1982 году). В ее разумении оказались и такие проблемы, как проблема Арала и переброски стока северных рек. Комиссию поддерживал и М.С. Горбачев. Примечательно: будучи I-м секретарем Ставропольского крайкома, он выступал за строительство канала Волга-Чограй, позже я помню его выступления «за» уже в роли секретаря ЦК по сельскому хозяйству, и тут вдруг переменился. Редкость.
А вот президент Академии А.П. Александров, по моим наблюдениям, более чем прохладно относился к комиссии Яншина, он был одним из тех, кто стоял у истоков проекта переброски. (И Г.И. Марчук тоже.)
Но тут же я должен и поднять (приподнять?) руки вверх — Александров, Келдыш, Лаврентьев, Патон, Курчатов, Королев, отдельно Сахаров — это такие фигуры, такого масштаба, такие инженеры, ученые и деятели советского времени, говорить о которых вскользь — грешно, а говорить всерьез — долго еще никому не будет под силу: эпоха в развитии мировой науки и техники, в истории России, в истории развития (и деградации) личностей, индивидуумов. А художественная литература еще не скоро до изображения этого типа доберется — надо дорасти.
Мы собирались у Яншина в его вице-президентском кабинете АН СССР в течение года, наверное, раз тридцать (это — когда я там бывал), в составе человек двадцати, и ведь никто из нас, включая Яншина, не получал за эту работу ни копейки. Мы работали еще и дома, готовили тексты, проекты правительственных документов — решений-постановлений. Я пришел в комиссию, когда она уже работала вовсю, но, говорили мне, пришел вовремя. Думаю также, что ничего бы мы не сделали, не довели бы до конца, если бы не те, кто обычно называется техническими работниками, а на самом деле это работники ведущие, поскольку без них дело никак не могло двигаться. Если на заседание не являлся кто-то из академиков — можно было обойтись и без них, Яншин, и тот мог поручить кому-то провести очередную встречу, но если не было Наташи Юриной, Люды Зиликиной,[8] Вячеслава Чеснокова — то и сама встреча получалась ради встречи. Это они были организаторами, они вели протоколы, редактировали и подготавливали тексты комиссии (девять объемистых томов), переписывались с республиками, в которых возникали организации и движения, подобные нашему, днем и ночью обзванивали разных лиц, собирали подписи, печатали на машинке и за свой (очень бледный) счет нанимали машинисток: стеснялись просить деньги на благое дело, все ведь работали бесплатно. И еще я думаю, все мы не ошибались, — настолько очевидной была наша задача. Те материалы, которые представляли нам наши оппоненты, не выдерживали никакой критики, то и дело в них фальсифицировались факты.
Нам казалось — вот разоблачим эту фальсификацию, и общество будет разумнее. Мы не знали, что общество идет ко всеобщей фальсификации, меняя одну, большевистскую, на другую, хаотическую, специфику. Большевизм умел создать, пусть и ложную, но цель, надежду. Когда цель и надежда рушились, он сводил их к умозаключению о том, что завтра не будет хуже, чем сегодня. Нынче движение одно — к хаосу. Хаос же — это коррупция и мафиозность.
Не обходилось дело и без того, чтобы кто-то не пытался воздействовать на комиссию, вход-то на все ее заседания был свободным. Была и борьба за влияние на Яншина, один из таких резидентов, некто Б., был ясен едва ли не всем нам.
Но, в общем-то, никому не удалось изменить направление работы комиссии. А ведь рядом с нами работали: Институт водных и экологических (современное название!) проблем, журнал «Водные ресурсы», научный совет по комплексному изучению проблем Каспийского моря — все эти организации возглавлял член-корреспондент Г.В. Воропаев. На переброску работал и журнал «Гидротехника и мелиорация», ну и, конечно, самое мощное учреждение — Министерство мелиорации и водного хозяйства (позже Минводстрой — Водстрой), которые бились до последнего.
Удивительно: сначала, может быть, с некоторыми сомнениями, а затем и без малейших сомнений люди втягиваются в совершенно очевидные авантюры, и авантюра становится для них средой обитания, источником существования и единственной перспективой на будущее. На будущее не только самих себя, но и детей, и внуков. В коммунистическое строительство сколько было втянуто стран? В каждой находилось столько, сколько нужно, сторонников и инициативных исполнителей. А мы удивлялись Минводхозу?! Будучи все исполнителями значительно большей по масштабам коммунистической авантюры?! Вообще-то это еще хорошо, что удивлялись, хотя бы по частностям, если уже не по целому, которым был коммунизм. Здесь и собака зарыта: коммунизм отучил людей различать «можно» и «нельзя», авантюру и разумную деятельность.
И вот уже не имеет значения, что данные проектов, что сама их методика, смысл и содержание — все-все сфальсифицировано, если под проект уже отпущены деньги. Других вариантов тут и быть не может, другие — это уже нечто невероятное и предательское по отношению к «общим интересам». Почему, в самом деле, эти интересы не общие, если в штатах того же Минводхоза числится почти два миллиона человек, «трудится» более 150 «научных» и «проектно-исследовательских» институтов? Если строительные конторы выполняют заказы «самой» оборонки? Если начальники облводхозов уже смещают и назначают секретарей обкомов и председателей облисполкомов? Если сам Рашидов помимо всего прочего лидерствует в водохозяйственной мафии Средней Азии (да и всего СССР?) и уверен, что судьба Арала в его руках, что Арал — это тот садовый участок, ежегодный урожай с которого составит для него лично миллионы, а то и миллиарды рублей? И славу великого преобразователя природы тоже доставят? Ну, а свои законы, свои тюрьмы, сверху донизу свой аппарат у него уже есть.
Известен ведь анекдот Насреддина о том, что некий умный человек за большие деньги взял на себя обязательство перед ханом — за сорок лет научить осла говорить. Если не научит — голова с плеч. Человек этот рассуждал так: за сорок лет кто-нибудь да умрет — либо он сам, либо хан, либо осел, а деньги он получает сегодня.
Этот анекдот — присущ всякой политике, а для социализма это принцип главный и неизменный. Ведь и весь-то он, все его строительство — тот же анекдот.
Не раз я в печати называл минводхозовцев государственными преступниками и говорил: подавайте на меня в суд за оскорбление! Не подавали. Вежливо здоровались. И посылали людей, которые уговаривали меня подать в суд на Минводхоз. Ведь я же писал, выступал в газетах, объявляя их преступниками, за чем же дело стало? Они мне помогут, они мои единомышленники!
Нашли дурака! Если подам я, их службы, их юристы — тысячи человек — сумеют отмыться. Мне-то кто поможет — общественность? А какие у общественности документы, кто будет ездить по стройкам, с которых будут приходить «возмущенные» письма? Кто и за чей счет будет приезжать, чтобы свидетельствовать в суде? Нет уж, пусть привлекают меня за оскорбление или же проглатывают мои заявления молча, ограничиваются мелкими провокациями. Выходишь из дома, к тебе подбегают двое, фотографируют с двух сторон, вскакивают в машину и уезжают. Письма с угрозами. Звонки.
Было и по-другому: В.В. Карпов, которого я сменил в «НМ», друг Полад-заде, Н.Ф. Васильева и Рашидова (Карпов — ташкентец), предлагал мне получить премию… Минводхоза за выступления в печати! (Юрий Черниченко такую премию взял.) «Новый мир» выезжал в Ташкент, а там новомирцев встречал эскорт во главе с танком — Рашидов старался.
А какие банкеты Минводхоз устраивал новомирцам (далеко не всем)! Кто там бывал, говорят, что это и представить себе невозможно! Да ведь и сейчас тот же Карпов очень близок к той компании (дачные дела). Компания живет, здравствует, надеется на госдотации, может быть, и получает их под каким-то видом. Не так давно я, академики Лихачев и Яншин говорили об этом в той же статье «Среда вымирания».
Но все это — частности. Главное же в том, что в годы схватки «за» и «против» переброски в народе не было нынешней апатии, не был народ столь же нищ материально, тем более морально, не народился еще класс новых аферистов от перестройки — и со всем этим бороться труднее, чем с устоявшейся за десятилетия советской бюрократией, для которой все-таки существовали авторитеты.
По одному только проекту ленинградской дамбы можно было бы написать большущую книгу из двух частей.
Первая часть — техническая, доказательство того, что проект кому-то, какой-то минводхозовской, гидростроевской, городской, еще какой-то конторе приносит огромную выгоду (прежде всего — руководителям этих контор), но государству, городу Ленинграду — только убытки, только все те невзгоды, которые влечет загрязнение вод Невской губы, подъем грунтовых вод в черте города, который и без этого все больше и больше заболачивается. Нынче глубина залегания грунтовых вод во многих городских районах полметра от поверхности земли, дамба и еще ускорит этот процесс. Далее: проект предусматривает две очереди: сначала строятся очистные сооружения на выпуске канализационных систем, затем — дамба. Но строители и не приступали к очистным сооружениям, строить их никогда не выгодно, одно только оборудование чего стоит, а сколько стоит эксплуатация, коагулянты, электроэнергия и т. д.? Дамба — дело другое. Это земляные работы самые выгодные, в которых возможны колоссальные приписки: изменил категорию грунта на один-два балла и только, — и пойди проверь!
Вторую же часть этой книги составил бы детектив о том, как, какими способами — какими уловками экспертов и чиновников — попирается здравый смысл, черное выдается за белое. Противостоять собственной выгоде человеку очень трудно и при тоталитаризме, и при безвластии.
Не раз я говорил о проекте дамбы с Собчаком. Он меня безоговорочно поддерживал. На словах. А на деле?
На деле им же была создана девятая по счету экспертная комиссия с участием иностранных специалистов и под председательством… начальника строительства дамбы. Называли и сумму, в которую обошлась «работа» этой экспертизы — 400 тысяч долларов. Эксперты из прибалтийских стран заинтересованы в том, чтобы все дерьмо так и оставалось в устье Невы, не распространяясь по Финскому заливу, по всему Балтийскому морю. О мнении начальника строительства и спрашивать нечего.
А что же Собчак?
— Не знаю, не знаю… — вот и все, что отвечал он мне спустя полгода.
Еще факт. Когда мы решили провести расширенное заседание нашей экспертизы проекта ленинградской дамбы в Ленинграде (человек 25–30), то ленинградцы, наши сторонники, нас предупредили:
— И не думайте! Наше начальство не позволит!
— Мы и спрашивать не будем! Приедем и проведем заседание!
— Вот чудаки! К вам на ваше заседание ворвется десяток-другой «добровольцев», устроит дебош, сорвет заседание…
Экспертизную комиссию мы провели в Москве, привлекли крупнейших специалистов, наши математики просчитали проект во всех деталях, всякий раз выходило: абсурд!
Ну а дальше? Строительство практически прекращено: нет денег. Однако и недостроенная дамба приносит нынче не меньше вреда, чем если бы она была достроена.
Собчак… Несколько лет наблюдал его на съездах и заседаниях ВС СССР. Резко выступал. Правильно. Всегда достаточно информирован, а это очень много значит.
Но более плоского человека я не встречал. Его дело — трактовать, и не более того. Никогда не более. Никогда не уловил я в его выступлениях ни эмоций, ни даже интонаций. Интонация у него одна, выражение лица одно, направление ума одно: трактовать.
Взгляд мертвый (и мертвеет все больше). Разве что самоуверенность все возрастает и слушать ему все труднее, а говорить все легче. Однажды после концерта гастролирующий у нас дирижер Ашкенази пригласил Собчака, Станкевича и меня на сцену, имея в виду дать интервью для английского ТВ. Собчак никому из нас слова не дал сказать. Ашкенази его перебивал-перебивал, махнул рукой и дал знак телевизионщикам «не снимать!». Собчак знак видел — и ни в одном глазу.
Жаль, конечно, что труды комиссии Яншина были использованы ну разве что на десять процентов, только по проблеме переброски.
А ведь речь-то шла о мелиорации в целом, о всей деятельности Минводхоза.
Ведь как делается? Приезжает мелиоратор в колхоз (совхоз) зоны неустойчивого увлажнения (в Средней Азии дело обстоит иначе).
— Вам орошение или осушение нужно?
— Дорого… Да и с эксплуатацией мелиоративной системы не управимся. Людей для этого нет, средств нет.
— Так ведь за государственный счет! Если согласитесь — дорогу вам построим! А то школу! Больницу!
Ну как тут не согласиться? И вот район (колхоз, совхоз) жертвует частью своих земель, которые пойдут под «улучшение», чтобы построить школу, водохозяйственники же списывают средства, затраченные на школу, в счет тех же улучшений — тоже «освоение» средств. Таким-то вот образом Минводхоз сам изыскивает объекты мелиораций, сам их проектирует, сам себе сдает, сам себя премирует за успешное освоение средств, сам построенные системы эксплуатирует, то есть через несколько лет забрасывает их на произвол судьбы.
А иногда и не через несколько лет, иногда он попросту «построенную» систему и не вводит в эксплуатацию. Особенно часто это случается с системами осушительного дренажа — дренаж вовсе и не закладывался, выкапывалась траншея, тут же засыпалась — и делу конец. Кто будет проверять? Совхозу-колхозу дренаж тоже не нужен — больше забот, он и с неулучшенными-то землями не справляется!
Сколько миллионов гектаров в результате осушения и орошения было «списано», то есть навсегда исключено из земельного фонда государства? Никто толком не знает. Много, много… Миллионы и миллионы га.
Разумеется, и передовые колхозы, совхозы в арсенале средств пропаганды Минводхоза должны были быть и были, и на весь свет они трезвонили о том, что благодаря Минводхозу получают баснословные доходы. Минводхоз умел покупать не только бригадиров, инженеров, ученых и научные институты — механизм был отлажен. Механизм психологического разложения общества.
Ни где-нибудь, а при голосовании в Президиуме Академии наук программ развития водного хозяйства чуть ли не решающее значение имели выступления «передовых» председателей (и председательниц) колхозов, которые к тому же не упускали случай высказаться на предмет Залыгина и иже с ним. (Особенно в моем присутствии.)
Почему Минводхоз имеет средства для постройки школы и больницы и, пользуясь этим, покупает у хозяйства земли, чтобы испортить их раз и навсегда, а Минпросвещения и Минздравоохранения этих денег не имеют — тоже никто не знал. Минводхоз сильнее — вот и все дела. Бюджет Минводхоза от 12 до 18 миллиардов в год, его задача «освоить» эти миллиарды досрочно, его похвалят и до конца года дадут еще. А вот у просвещения, у здравоохранения — у тех шесть миллиардов в год, и термина «освоение средств» у них нет, им никто не подбрасывает. Я всегда думал: что это? Нелепость, глупость или мафиозность? Начало которой положил Хрущев?
Минводхоз, Гидропроект понимали, что я их понимаю. Один из двух томов своих «научных» трудов Минводхоз посвятил разоблачению меня. Бездарное сочинение. Ведь есть же и там грамотные люди — 150 научных учреждений плюс академические и отраслевые институты. Или блеф не скроешь?
Обо всем этом помимо технической стороны дела тоже говорилось в материалах комиссии Яншина.
Руководители сельского хозяйства того времени В.П. Никонов, Б.С. Мураховский (члены ПБ) при встречах раскланивались любезно, дружески беседовали с главным редактором «НМ». Их ненависть я чувствовал заочно и в телефонных разговорах. По телефону нет смысла улыбаться.
Отмена проекта переброски (16.УI.86, Совмин, заседание вел Н.И. Рыжков, против были Яншин, Аганбегян и Воротников — председатель Совмина РСФСР) имела, повторяю, огромный общественный резонанс, а печать поверила в свои силы. «Новый мир» торжествовал. Этого торжества ему и до сих пор простить не могут.
До 1917 года в России существовало Министерство земледелия и государственных имуществ. Очень умно: земледелие ближе всего стоит к проблеме использования природных ресурсов (государственного имущества). К госимуществу относились и минеральные богатства, и лесные — лесной департамент (теперешние одно-два министерства), и рыбопромышленность. Мелиорации шли через департамент земельных улучшений (штат инженеров — 12 человек), в департамент земледелия и землеустройства входило Главное переселенческое управление — колоссальный размах деятельности по освоению земель Сибири, Дальнего Востока, теперешнего Казахстана. В сельскохозяйственных институтах и училищах читался тогда курс «Переселенческое дело». В Омском сельхозинституте продолжал (в 30-е годы) читать этот курс большой специалист б. переселенческого управления Зборовский. Еще до массового переселения в тот или иной район там открывались опытные станции, которые создавали местные сорта сельхозкультур, улучшали породы домашних животных, разрабатывали агротехнику.
В годы нэпа все эти службы возрождались, переселение в Сибирь (и наделение землей) снова стало массовым.
Министром земледелия и госимуществ был Александр Васильевич Кривошеин (1908–1915), проводник столыпинских реформ, управляющий Дворянским и Крестьянским банками, глава правительства Юга России (1920) в Крыму у Врангеля, с Врангелем же он эвакуировался из Крыма, в эмиграции был председателем Русского общевоинского союза.
При назначении на пост министра в порядке знакомства с предстоящими проблемами исколесил Россию, написал о своих впечатлениях книгу. Я читал. Очень интересно, особенно все то, что касается Сибири, переселения в Сибирь. Помню в этой книге и такой эпизод: сыпучие пески мешали и земледелию и ж.д. строительству на Каспийском побережье Кавказа. Будучи там, Кривошеин попросил найти ему специалиста. Нашли. Но сказали — ненавидит монархию, монархическую власть, на каждом шагу поносит ее последними словами. Ярый монархист Кривошеин специалиста все-таки призвал и неделю возил его в своем вагоне. После записал: неделю слушал всякую похабщину в адрес императора, а что поделаешь — человек действительно знающий.
Этот человек рекомендовал насаждения шелюги. Насадили. Пески на побережье Каспия остановили. И мы, ученики 22-й совшколы в Барнауле, садили шелюгу и остановили наступление песков на город (со стороны вокзала).
И в Барабе, и в Кулунде я встречал так называемые «кривошеинские» (еще они назывались «министерскими») поселения, дороги, мосты, пруды, колодцы — все это было построено по его указаниям, в результате все той же поездки. Так готовился этот министр к своей новой деятельности.
Не помню даже — сколько статей я тогда написал. В «Правде», в «Коммунисте» была большая статья. («Известия» тогда воздерживались.) В «Нашем современнике». О «Новом мире» и говорить нечего.
И многие тогда писали, и, написав какую-нибудь ерунду, хвастались: если бы не моя статья — переброска осуществилась бы! Это я от Юрки Бондарева слышал, от дилетанта и влюбленного в самого себя человека. Почему запомнилось? А вот: он опубликовал что-то довольно пространное в «Сов. России», а я возьми да и сошлись на один из фактов, приведенных в этой статье. Что-то по поводу общей протяженности каналов в СССР в сравнении с чем-то французским.
Что тут поднялось! Перебросчики подняли какой хай: Залыгин-то! Он человек совершенно неграмотный! Я кинулся к статье Бондарева, стал проверять: все вранье, все выпендреж (и в этом Бондарев тоже весь).
Но мне-то оправдываться было поздно…
«Перебросчики» жаловались: вся пресса пишет против них, а им не дают слова! И тут ерунда: мы в «НМ» дали им места больше, чем себе, они по отношению к нам допускали грубости, мы — никогда (обвинения их в совершении государственных преступлений — это не грубость). Да ведь и цензура еще была в то время, она нас останавливала, а не их.
Выдержка из моей статьи: «Отказавшись от надуманных проектов переброски речного стока, или, как еще говорилось у нас, „проектов поворота рек“, государство наше осуществило поворот в сторону общественного мнения. Поворот столь же необходимый, сколько и необратимый». Цитата на обложке брошюры «Поворот». Издательство «Мысль», 1987. (Увы! — государственного поворота к здравому смыслу так ведь и не произошло.)
Очень быстро и хорошо была издана брошюрка, безо всяких заявок с моей стороны. Уж не Горбачев ли приложил руку? Может быть. Хотя на эту тему мы говорили мало. И правильно, что мало.
А вот Е.К. Лигачев, тот приглашал меня по этому поводу в ЦК. Говорили долго-долго. О чем — не понял. Кажется, о той же переброске.
Потом он прислал мне копии материалов, которые были направлены против меня. Со своей запиской. Записка опять-таки не очень четкого содержания: отвергая что-то, надо быть корректным и доказательным. (Мне кажется, я таким и был.) Потом Е.К. звонил мне, присылал в редакцию нарочных — забрать эту записку обратно. В конце концов я ее отдал, но копию снял, в архиве «НМ» она должна быть. Даже странно: я же Е.К. знаю давным-давно по Новосибирску, в моем представлении он всегда был человеком более определенным.
Что касается моего с ним разговора в ЦК — не выяснял ли он вопрос: буду ли я сотрудничать с Бондаревым в создании «патриотической» писательской группировки? (Нет ничего удивительного: вот уж кто друг друга понимает: уровень один. А вот в уровне порядочности — не сравнить!) Может быть, и так. Я уже после встречи об этом подумал, но, и не угадав этого замысла Е.К., никаких сомнений у него на этот счет все равно не оставил.
Уж очень часто Е.К. возвращался к фигуре Бондарева и в самом положительном смысле.
К тому времени, сидя в президиуме какого-то юбилейно-торжественного заседания в Колонном зале, Горбачев и Бондарев поговорили о чем-то очень крупно, остались друг другом очень недовольные. Слов я не слышал, сидел несколько сбоку, а вот выражения лиц (особенно Горбачева) наблюдал.
Писатель-прокурор — это нечто новое в литературе, свойственное только нам, совкам. Конечно, без обвинителя не может быть суда, но когда обвинителями выступают писатели, да еще демократы (А. Адамович, Ю. Черниченко), это меня ввергает в недоумение. Не может быть священнослужитель пьяницей, за этот порок его лишают сана, не может быть и писатель обвинителем. Впрочем… На ХYIII (кажется) съезде партии Шолохов требовал расстреливать писателей, «врагов» советской власти.
Адамович приносил нам свою рукопись, и я заговорил на эту тему. Он не понял. Или сделал вид, что не понял, что «ничего особенного». И это при том, что Адамович — один из самых честных людей, из тех, кого мне приходилось встречать.
При том, что Солженицын великий человек, он всегда сохранял свою человечность. Хотя он и работает по собственной программе 14 часов в сутки, это отнюдь не механизм, ничего подобного. Хотя А.И. невозможно переубедить, доказать ему нечто, хоть чуточку противоречащее его взглядам, это не догматик, а человек вполне определенных и непоколебимых взглядов. Человек, который пережил все, что переживала страна в его время, события 20-30-х годов, войну, лагерь, диссидентство, эмиграцию (точнее — высылку за границу), а теперь вот — возвращение на Родину. Плюс ко всему — раковая болезнь, от которой его организм смог избавиться вопреки мнению медиков. Пережить или только придумать еще какую-то советско-жизненную ситуацию очень трудно. Это жизнь, воплотившая в себе едва ли не все возможные и типичные для нескольких поколений ситуации и судьбы. Отсюда и мессианство, в котором его упрекают. А за что упрекать? Если бы не чувство великой цели и собственного предназначения в достижении этой цели — Солженицына попросту не было бы. Нельзя было бы без этого ощущения сделать все, что он сделал, нельзя было бы и сойти живым с операционного стола, когда хирург считал операцию безнадежной. А он сказал хирургу: ваше дело меня оперировать, мое — выжить.
Может быть, вот этим последним обстоятельством — человечностью миссии, ее доброжелательством, интеллигентностью в лучшем смысле этого слова, ее невзыскательностью, ее теплой семейственностью и гостеприимством и прочим высоко ценимым нами в русском, в любом человеке качествам — и был я больше всего поражен, когда в феврале 1992 года гостил у Солженицыных в Вермонте. Ни разу я не почувствовал, что передо мной — великий человек. Я только знал об этом и ни на минуту в этом не засомневался.
Солженицын, наверное, единственный великий человек, которого я встретил в своей жизни. Сахаров такого впечатления на меня не произвел. Д.С.Лихачев — тоже, может быть, потому, что мы очень близки.
Он и закодирован на великую цель — разрушить революцию и ленинизм. Это, может быть, и равновеликие фигуры — Ленин и Солженицын, — только с разными знаками, с разными талантами.
Будучи закодирован на цель политическую, Солженицын как художник должен был уступать свое время политике. И уступал. И уступает. Что поделаешь — наше время этого от него действительно требует, русская да и мировая история — требуют. Толстой и Бунин это требование воспринимали…
Обязательно должен был быть и вот он есть, такой писатель — Солженицын. Без него, без его книг мы не представим себе ни нашей современности, ни нашего будущего, ни нашей истории.
Кто бы еще, кроме него, вот так рассказал нам о нас? О событиях, определяющих время?
Как бы убедительно, красиво, талантливо, а то и гениально не говорили обо всем этом М. Булгаков, О. Мандельштам, Б. Пастернак, А. Ахматова, даже Оруэлл — без Солженицына мы и наша история все равно не обошлись бы. Он нам предназначен.
Что бы ни писали С. Булгаков, Бердяев, Франк, Лосский, Лосев — без Солженицына русская (она же мировая) мысль еще не высказала бы себя до того предела, до которого ей это удалось. Нельзя утверждать, что она высказана теперь до конца, конца мысли нет, но и без Солженицына ее, уже существующую, представить себе невозможно.
Такого рода положение в истории не может обойтись без жертв соответствующей личности, и жертва Солженицына состоит в его запрограммированности. Он поставил перед собой совершенно четкую и ясную для себя программу, цель, методику и средства ее достижения. Во всем этом у него нет (и уже не может быть) ни малейших сомнений. Это — уже не поэзия и не свобода творчества. Нельзя себе представить, чтобы вот так же на годы и годы вперед, на всю жизнь, был самозапрограммирован Пушкин. Дело Пушкина было всегда оставаться Пушкиным. Что положит ему Бог на душу — это Божье дело, а Пушкину нужно оставаться самим собой, подтверждать и подтверждать себя открытиями поэзии, и это опять-таки не только дело, но и предназначение Божье. Пушкин и погиб в том возрасте, когда поэту начинает угрожать программа.
Когда я был у Солженицына в Вермонте и мы беседовали с ним на антресолях, на втором этаже, он несколько раз подбегал к лестнице и кричал на первый:
— Наташа! Наташа! Ты только подумай — у нас с Сергеем Павловичем абсолютно одинаковые точки зрения!
Это радовало меня от души. Только с некоторым примечанием: еще бы наши точки не сходились, если они не могли разойтись — переубедить А.И. хотя бы и в самой малости было делом абсолютно невозможным. Я понял это через пятнадцать минут после начала нашего долгого разговора и принял единственно возможное поведение — ни словом не возражать, только слушать и слушать. Это было очень интересно, очень мне нужно. А то, что великий человек не придает значения неким малым малостям, — какое имеет значение?
Когда разговор зашел о его возвращении на Родину, я попробовал усомниться в этой необходимости. Он как будто даже и рассердился, когда я спросил его:
— А как вы будете с телохранителями?
— С какими еще телохранителями?! — очень удивился он.
— С обыкновенными. И на даче будут вам необходимы. А может быть, и при поездках в Москву.
Он махнул рукой: дескать, дело не стоит слов.
По случаю моего приезда Солженицыны на два дня раньше срока стали отмечать масленицу. За столом — блины, икра, водочка, а ну — кто больше примет? Я принял девять, А.И. — семь блинов. Мне показалось, это его удивило, и он ушел спать.
Вот уж кто вызвал у меня удивление, так это Наталья Дмитриевна. (А ее мама — Екатерина Фердинандовна еще и еще!) Совершенно невероятные и женская мощь, и нежность. Что-то сказочное, при том, что нет ни малейшего чувства не только жертвенности, но хоть какой-то необычности самих себя.
Явление некрасовское, но как бы и еще более естественное, чем в те, в некрасовские и в пушкинские, времена.
А ведь это разумно, что Солженицыных так немного — экология! Представим себе, что слоны размножались бы, как зайцы? Как мыши? Как люди?
Ничего подобного: детеныш у слонов один, срок беременности слоних — 22 месяца, периодичность рождения — чуть ли не восемь лет (!), срок жизни — семьдесят-восемьдесят лет и не более. Чем не экология?
История борьбы против переброски — это наше общество, наша власть того времени в миниатюре. Мне кажется, нас, тех, кто был против, эта борьба научила немногому, может быть, и ничему. Мы взяли верх и естественно решили: вот она какая, перестройка-то — доступная. Ясная, гласная, прекрасная! Ну и дураки! Перебросчики же на этой проблеме, на этом опыте построили для себя стратегию дальнейшего поведения.
В застойные времена они строго следили за тем, чтобы в их ряды не «просочился» кто-то посторонний, не до конца ими обработанный, «чужой». Когда в аппарат Минводхоза (а всего это два млн. человек) в те годы принимали нового специалиста, устраивалось собеседование. Один из первых вопросов: как вы относитесь к Залыгину? Конечно, несмотря ни на что там были и мои единомышленники, они писали мне, я был в курсе минводхозовских дел, хотя никогда с ними не встречался.
После отмены проекта переброски (ПП), его создатели будто бы присмирели, но это — не так, они приватизировали огромные материальные средства, учинили всякого рода концерны и концессиумы и теперь ждут своего часа. Им нужна монополия государства, без нее они ни от кого не получат таких заказов, как Волга — Чограй, как Волга — Дон-2. Очень долго надо ждать, очень (несколько поколений), пока частные фирмы закажут строителям-водохозяйственникам объекты в одну десятую, хотя бы в одну сотую от тех объемов, которые еще вчера им заказывало государство. (Кстати говоря, такие заказы могут появиться и при экологической катастрофе.)
Надо было как-то противодействовать новому их появлению на сцене. Я уже писал: 23.Х.93 мы (я, академик Д.С. Лихачев, академик А.Л. Яншин) выступили в «Известиях» со статьей «Среда вымирания». Первым прислал в «Известия» протест министр Данилов-Данильянц. Редакция «Известий» и ухом не повела. Тут двинул протест Г.В. Воропаев — в суд грозился подать. Суть дела он увидел в том, что мы препятствуем его прохождению в члены АН РФ (это так — на предыдущих выборах Яншин и я помогли его завалить).
Г.В. Воропаев — главный теоретик переброски, ее представитель в АН СССР, а теперь и в АН РФ. Это — надежда современных перебросчиков. Верить ни одному слову этого человека нельзя, он и сам давно лишен чувства истины, хотя и неглуп, деятелен, умеет сказать, но все это — во вред подлинной сути дела. Я встречался с ним еще в комиссии Яншина при обсуждении проекта Ржевского водохранилища. Я ему враг № I.
Осенью 1991 года он затеял было дискуссию со мной в газете АН «Поиск». Набор его статьи редакция «Поиска» прислала мне и Яншину с предложением открыть дискуссию. Яншин написал ответ, я тоже, но с предисловием в виде письма ко мне редактора «Поиска», в котором тот говорил, что Воропаев, в общем-то, подлец, но это все равно не мешает открыть с ним дискуссию. После этого редактор мне звонил, извинялся, публикаций и дискуссий не было.
Однако это ничуть не помешало Воропаеву вскоре прийти ко мне в «НМ»: ну и правильно, и хорошо, а я вам очно объясню свою позицию, а вы, надеюсь, меня поймете и поддержите мою кандидатуру на выборах в АН.
И стал меня просвещать — какой он хороший, честный и умный. Графиков при нем куча, схем, таблиц, из которых следует: ну да, переброска в настоящий момент неосуществима, но в принципе она очень хороша, а будущим поколениям она необходима. Начинать же нужно сейчас, немедленно.
Я: если мы такие бедные, немощные, так зачем нам технические проекты будущего? Единственно, что мы можем для будущих поколений сделать, так это сберечь для них природу. А они сами разберутся, как этой природой воспользоваться. У них будут другие возможности, другие экономические и геополитические условия. Мы этих условий не знаем и, не зная, будем для них проектировать глобальные мероприятия? При разговоре — часа три-четыре — Воропаев глаз с меня не спускал и улыбки тоже, и я вспомнил, про него говорят — гипнотизер. Стали прощаться. В дверях он оглянулся: надеюсь, я вас убедил?
— Убедили в своей неправоте, и еще раз я убедился в своей правоте!
Надо было видеть его лицо! Он вернулся, стал в упор смотреть на меня, как на сумасшедшего. Снова сел — продолжить разговор. Я отказался.
Между прочим, гипнотизеры, с которыми я сталкивался, никогда не могли на меня повлиять. Больше того, если гипноз был групповым, они быстро распознавали меня и просили выйти, не мешать.
Вернусь к «Известиям», к публикации «Среды вымирания». Я принял участие в подготовке редакционного ответа Воропаеву. Он в своем письме изложил два взаимоисключающих тезиса: он никогда не менял своих взглядов, он никогда не был сторонником ПП, относился к нему критически. Не удивительно ли? Ведь уже и после отмены проекта он опубликовал в «Правде» статью «Проекту жить»!
В свое время он был директором Института водных проблем АН СССР, после отмены ПП его заменили другим (М.Г. Хубларян), но он остался председателем Совета по проблемам Каспия, а это — та же проблема ПП.
И Яншин, и я, и Президиум АН РФ были против Воропаева, как руководителя этого Совета — смешно же, то он бился за то, чтобы пополнять Каспий за счет переброски, а теперь он же должен осуществлять защиту суши от затопления каспийскими водами. Предстоящее повышение уровней Каспия прогнозировалось давно (М.И. Будыко), но тогда это было не в интересах перебросчиков.
Смешно-то смешно, однако академик-секретарь отделения океанологии, физики атмосферы и географии В.Е. Зуев имел право определить кандидатуру председателя Совета по Каспию и этим правом воспользовался. Об этом вкратце было и в статье «Среда вымирания», но не в том дело. У меня хранилась книга, выпущенная Воропаевым в бытность директором Института водных проблем для служебного пользования (1984, тираж 500 экз.), в которой директор Воропаев захлебывался в восторге от собственных достижений при разработке ПП. Цитаты из этой книги я и привел в ответе «Известий» по поводу письма Воропаева. Ответ был сформулирован, как обзор откликов, поступивших в редакцию на нашу статью «Среда вымирания» (название было придумано в редакции, хорошее название).
Когда был опубликован этот ответ-обзор, точно не помню, где-то уже в январе 1994 года.
Вопрос: откуда у меня появилась книга для служебного пользования, под грифом самого Института водных проблем? Доброжелатели нашлись, не знаю их фамилий. Двое принесли. С покаянием за свою прошлую деятельность. Ну прямо как в большой политике, та же схема.
Перестройка и ПП — это показатели временности жизни (вопреки ее вечности), показатель ее антиприродности — что то же самое. Это отсутствие перспективы или та перспектива ложная, как это было в 1917 году. (А политика без достоверного прогноза — это авантюра.)
Это все та же политика без прогноза, обещания, которые не выполняются и выполнены быть не могут, потому что не учитывают реальные условия существования людей. Самая большая, уже конечная авантюра — это временность жизни. И удивительно, как просто человек втягивается в свою собственную временность, когда весь окружающий мир о ней и знать не знает.
На решающем заседании Совмина в 1986 году доклад делал академик А.Г. Аганбегян, мы в комиссии Яншина на него надеялись фифти-фифти. Я знал (и Яншин тоже) А.Г. еще по Академгородку в Новосибирске. Помнится, он был кандидатом наук, только-только доктор, тяготел к левым — а в городке левые были тогда и в силе, и в моде, и в действительно серьезном составе, там Даниэль был и его жена, об аспирантской молодежи и говорить нечего. Был я с А.Г. в одной группе советников при Горбачеве в поездке в Вашингтон (но это позже), он был редактором какой-то очень левой экономической газеты в том же Академгородке, и все-таки, когда шло заседание Совмина, я, сидя дома, места себе не находил — что-то там скажет Аганбегян? Я его очень хорошо представлял внешне: очень тихий, очень толстый, умный, когда разговаривает, в глаза собеседнику ни в коем случае не посмотрит. Еще молодой при том (1932 года рождения), избран в АН уже в 1974 году. Физики — да, умудрялись в таком возрасте пройти в АН, но чтобы экономисты — что-то не припомню… Аганбегян, в общем, сделал доклад в пользу нашей комиссии.
Результат он, конечно, знал заранее, это Яншин его не знал. Проект переброски был отменен, но с оговоркой — недостаточна проработка, нужно продолжить исследования. Ну а когда это Советская власть что-нибудь безоговорочно отменяла из своих решений-постановлений? Никогда ничего… Исправить, уточнить, доизучить, доисследовать — это и в отношении коллективизации говорилось, и репрессий, и проекта Нижне-Обской ГЭС, и всегда.
Яншин мне позвонил с заседания Совмина. Мы ликовали. Воропаев писал статью в «Правду» под названием «Проекту жить!»
Ну, а что было делать после этого комиссии Яншина? Самораспускаться? Дело сложилось иначе: мы создали общественную организацию «Экология и мир», ее принял на свой бюджет (200–250 тыс. руб. в год) Фонд мира, А.Е. Карпов. Значительная часть членов комиссии Яншина, он сам, и еще многие другие ученые, стали членами этой ассоциации. Я стал ее председателем. У нас появился небольшой штат. Мы хорошо поработали до весны 1993 года. Я приложил много сил: что стоило выбить прекрасное помещение из восьми комнат на Кузнецом мосту — никто не верил, что это удалось. Тогдашний председатель Моссовета Сайкин, тот был ни в какую, но, когда он ушел в отпуск, его зам. Беляев (умер) это сделал. Чем все это кончилось? Плохо кончилось для многих из нас, для меня — хуже всех. Но об этом больно говорить, отложу. В другой раз.
Одна только карта СССР с указанием тех объектов, строительство которых нам удалось предотвратить (сорок таких точек), составленная Е.М. Подольским — изгнан из ассоциации как самый вредный элемент, — она, эта карта, что стоит! (Карта оставлена на стене конференц-зала ассоциации.) Но и об этом после, после…
Текст моих записок получается спокойный, слишком, но пишу-то я беспокойно. Вот сейчас на полу вокруг меня валяются справочники, энциклопедии, два-три варианта уже написанных страниц рукописи романа («экологического»). На стуле — термос, чай, мне надо больше пить, я простужен, и лужа чая на стуле. А мне пустой чай никогда не пьется, обязательно надо что-то жевать, хотя бы кусочек хлебушка. Жую, но мне это опять же мешает. Ну и т. д. Письменный стол — это вообще хлев, полная неразбериха.
И всегда так. Писать мне не трудно, всегда увлекательно, пока пишет рука, я и пишу, гораздо, невероятно труднее разобраться в написанном. Что за чем должно следовать? Я никогда не пишу по порядку, а только ту сцену, которая вот сейчас мне видится и слышится, и получается, что одну сцену я вообще не писал, а только вообразил, а другую написал дважды, трижды, а то и семь раз и не знаю, какая лучше, жалко все, все хочется соединить — опять не получается.
Заканчивал «Соленую Падь», так недели две ползал по полу, собирал целое из частей, приходил в отчаяние, хотел порвать все до последней страницы, но и на это меня не хватало. Примерно такое же положение и с этими воспоминаниями (страницы все летят со стола на пол, стук машинки их стряхивает, — я пишу то от руки, то на машинке). Слава Богу, мне помогает моя редакционная машинистка Ирина Алексеевна Бадина, без нее я бы пропал. Править в рукописи я не могу, ничего не вижу, только на чистом машинописном листе вся их нелепица, все ошибки (и то — не все) выползают наружу. Было дело, фантастическую повесть «Оська — смешной мальчик» я отдавал на перепечатку четырнадцать раз, «Соленую Падь», кажется, одиннадцать.
Я хотел писать только о том, что я делал и делаю. Получается по-другому: о том, чем и как я занят.
— У-у-у-у, звери! У-у-у-у, гады! Все эти читатели-писатели, прочие мерзавцы! Это скажите, пожалуйста, какое-такое право они имеют в упор меня не замечать? Не читать! Презирать?! Какое?! Да если разобраться — кто они все без меня? Кто такие? Никто — без Пушкина и без Толстого, нолики без палочек, одни только экскременты своей эпохи, одни… Но я-то? Я? Если я не Пушкин, значит, я не существую? В самой малой малости — нет и нет? А я с этим ни в жизнь не соглашусь!
Я и без Пушкина это я — вот в чем дело-то! Я к Пушкину себя, самого Артюхова Бориса, не приравниваю, не такой дурак, но? Но я и без Пушкина человек и мало того — писатель! Единственный! Из всех единственный. И твердо знаю: другого такого же нет! Твердо знаю: во веки веков не будет! Просто потому что не может быть! Последней скотиной я буду, если ошибаюсь, если вру и лгу, но я не скотина и я не вру и не лгу. Я толкую истинную правду, а скоты те, кто мою правду, а с ней и меня самого пропускают сквозь левую губу: «Дерь-мо»! Сами они все такие дерь-дерь-дерь-дерьмо!..
Это я кому говорю-то? К кому — все сказанное и все невысказанное обращаю? А все к тем же, к тем же, кто из принципа не хочет меня понять, дескать, сами все знаем, не глупее тебя! Вот и весь ихний гуманизм и человеческое отношение!
Вот и вся ихняя перестройка — каждому на каждого наплевать и растереть. Гласность для них — свобода оплевания, они ее ждали как манны небесной — и вот дождались! Празднуют! Бесятся! День ото дня плодятся! Без удержу размножаются! Надежда — друг друга пожрут!
И вот я прихожу в «Новый мир», а там сидит — кто? Там главный редактор сидит! Зачем он там? А все затем же: меня стращать, меня же и не пущать! Грести под себя. Редактора подгреб, академика подгреб, нынче сидит и думает: чего бы еще подгрести?
В конце концов я с редактором поговорил. Нецензурно, то есть без цензуры. Высказался до края. А ему — нипочем! Как горох об стенку. Он не понимает, что весь мир уже скоро содрогнется от моих слов и мыслей. Я никому на свете, хотя бы и всему миру, шутить со мной не позволю! Я уже полностью доведен и понимаю это, а другие все еще не понимают, что они тоже доведены уже. Горбачевыми-Ельцинами, Бурбулисами-Гайдарами, а также Бушами-Колями. Они меня заставят высказаться на деле. И пусть они не думают, что это случится в далеком будущем, что они не доживут. Обещаю: доживут! Пожгу чего-нибудь, убью кого-нибудь — тогда услышат и поймут, что такое гласность!
Примечание. Один из типов моих посетителей. Один. Но их — множество.
Что такое редакция толстого журнала-ежемесячника? Это такое место, где никто ничего не знает о текущем номере, но какая-то часть сотрудников что-то делает — иногда добросовестно.
Содержимое выбивает из отделов ответсекретарь и сдает в типографию. (Наш секретарь не сдает — не желает иметь дела с издательством.) Еще несколько позже, все без исключения — и работяги, и сутяги, суетяги, чистой воды бездельники — с интересом рассматривают, что же там оказалось сброшюрованным — под одними корочками. В одном номере журнала.
Заключение: редактор собирает летучку. Летучка обсуждает вышедший номер. Тут каждый и проявляет свои истинные способности. В этот день в редакции полный сбор. Как в день выдачи зарплаты.
Что такое редакционный коллектив? Это коллектив, в котором все знают все, что надо делать, и никто не умеет что-нибудь сделать.
В котором есть главный редактор, обязанность которого — выслушивать советы своих сотрудников.
Что такое зима и лето в коллективе редакции? Зима — это время, когда трудно работать, потому что слишком холодно, а лето — когда работать трудно, потому что слишком жарко. Ну а весна и осень — уже и сами по себе ни то, ни се.
Корреспондента газеты кормят ноги. Что кормит редактора толстого журнала? У нас мизерные зарплаты, люди где-то и чем-то еще подкармливаются. И слава Богу! Что еще с них спрашивать, какую-такую еще работу? У нас очень хороший, высококвалифицированный коллектив, а главный редактор — на своем месте (потому что заменить его все еще некем).
Д.С.Лихачев — последний русский интеллигент-гуманитарий, оставшийся в Отечестве. Он еще той школы, которую в начале века составляло в России по крайней мере несколько тысяч человек. А то — и десяток тысяч. И вот он — последний.
Он один знает столько, сколько мы, тысяча современных русских интеллигентов, знаем все вместе взятые, суммарно. Больше всего меня удивляет его память.
Вот уже и взгляд усталый и даже равнодушный и лицо не выражает ничего, но все это не действует на память — она существует сама по себе и независимо ни от чего.
Еще недавно таких было вдвое больше. Лосев был.
Сюжет — это преимущество искусства перед жизнью. Это изобретение, которому нет и никогда не будет равных. По существу, все изобретения ума человеческого — это средство к обману жизни, но равного сюжету нет и вряд ли может быть. Во-первых, сюжет обладает той последовательностью событий, которой жизнь никогда не обладает, хотя бы потому, что она сама себе сюжет, во-вторых, сюжет отбрасывает все, что мешает ему осуществиться, а жизнь и мечтать об этом не может.
Сюжетное мастерство — сказочное мастерство: и потому, что оно умеет отобрать у жизни все то, что ему нужно, и потому, что умеет лишить себя всего, что ему не нужно, и потому, что умеет выдать себя за действительную жизнь, даже и после этих немыслимых трансплантаций и ампутаций.
Кроме того, мастер сюжета умеет и может считаться как с неким наличествующим фактом — с фактом своего незнания мира. Он даже и не знает, что он — не знает. И в этом смысле он — совершенное животное, жизнь этого тоже не умеет и никогда этому не научится. Жизнь знает себя до конца, но бессловесно.
Почему-то человек не может жить без изображения жизни. Через свое воображение. Через сюжеты художественные и научные, общественные и интимные.
Человек страшно самолюбив, а сюжет, а изображение жизни, как ничто другое, удовлетворяют его самолюбие.
Да здравствуют сюжеты!
Комментируя «Франкфуртские чтения» Генриха Бёлля в книге «Самосознание европейской культуры ХХ века», Ирина Роднянская пишет, что Бёлль не считал иронию тем алиби, которым автор может пользоваться в отношении своего произведения. Но ведь любое литературное произведение уже есть авторское алиби: высказывая ту или иную мысль, создавая тот или иной образ, сюжетную или бессюжетную ситуацию, автор обязательно осуществляет свое собственное алиби. Еще не было таких авторов, которые, и принимая принципиально-чужую точку зрения, опровергали бы самих себя. Даже раскаяние, даже самая жесткая самокритика все равно являются для автора только в виду алиби его самого.
Художник может быть разным, но не противоположным самому себе. Даже если его творчество и дает повод усмотреть в нем такое противопоставление, все равно во все времена он субъективно самоутверждается. Или — переутверждается.
Дважды в разных писательских группах я бывал в Дортмунде у прозаика Рединга, друга и поклонника Бёлля (а раз так, то и русской, и советской литературы).
Приезжал Рединг в Советский Союз многократно. Один год — в Дубулты, в Дом творчества, с двумя своими чудными мальчиками, с женой, очень милой женщиной (а также со своими полотенцами, простынями и рулонами туалетной бумаги). В Дубултах мы общались еще и еще.
Но не об этом речь… Рединг обязательно хотел познакомить нас с Бёллем, мы садились в машину и ехали из Дортмунда в Кёльн (60-е годы, конец).
Приехали в первый раз, Рединг позвонил по автомату Бёллю, тот извинился: что-то заставляет его отложить нашу встречу часа на два. Звонили через два часа, еще через два — результат тот же, и мы уезжаем в Дортмунд.
Спустя день-другой мы снова в Кёльне и снова визит откладывается сначала на два часа, потом — на час, ну, а потом — мы в кабинете Бёлля. Рединг сияет и, сияющий, знакомит нас. Только начинаем разговор, как Бёлль говорит: а пойдемте-ка я покажу вам свою квартиру!
И все идут по комнатам (восемь их, что ли?), а я взбрыкнул и не пошел, остался в кабинете один.
Прибегает переводчица:
— Сергей Павлович! Пойдемте же, пойдемте с нами!
— Не пойду!
Минут через двадцать-тридцать все возвращаются в кабинет. Общая неловкость. Я сгораю со стыда. Минут тридцать-сорок разговор. Кажется, интересный. Но я-то его не помню, ни слова. Больше того: после этой встречи не могу читать Генриха Бёлля.
И всякий раз, когда доходили слухи о том, как Бёлль помогает Солженицыну, я снова переживал все ту же неловкость.
А Ирочка Роднянская — это самая образованная, она же и беззаветная сотрудница нашего журнала.
А все или почти все, что печатал Бёлль в СССР, проходило через «Новый мир». Но не при мне — он умер за год до моего прихода в журнал. Тоже укор. Мне.
Писатели не пишут нынче потому, что все кругом объелись гласностью, в результате у всех — несварение головного мозга.
Мне хотелось бы написать о герое (современном), который взывает:
«Господи, благослови меня, грешного, в Тебя не верующего!
Господи, благослови меня, не нашедшего в душе своей Тебя и ввергшего затем душу свою в мир, никогда не сотворенный Тобою, но сотворенный неизвестностью ради самой же себя!
Господи, благослови меня и прости за то еще, что в жажде узнавания мира миновал я Тебя и возвеличил себя в той же дьявольской жажде!
Господи, благослови меня и тех еще, кто слово „цена“ низвел до принадлежности любого предмета и любого духовного, Тобою сотворенного!
Господи, благослови меня и тех еще, кто жизнью своею зажил жизни чужие, но понял это лишь на склоне лет своих!
Господи, благослови вернуться в замысел Твой!»
Примечание редактора: из беседы с одним из авторов «Нового мира» и др. журналов. С этим он, журналист, пришел ко мне. С этим же от меня и ушел. Что я мог ему сказать? Посоветовать? Что из этого мог принять к печати?
Проблема возникновения, развития и дальнейшего существования русской интеллигенции, в общем-то, сводится к другой, более узкой проблеме: интеллигенция и власть.
Почему так? Не потому ли, что власть в России — благодаря ее многонациональности и многоверию, географической пространственности и многоприродности, невероятной протяженности границ и пограничности ее со странами самого разного устройства, разного вероисповедания и разного народонаселения — имела особое назначение? Осуществить которое никогда так и не было в ее силах и возможностях? Нет, никогда и нигде свое назначение власть не могла оправдать перед столь различным населением. В России власть обречена. И выход у нее один: не видеть этой обреченности.
Обычный разрыв в понятиях о государственной власти в ее собственных глазах и в глазах ее граждан нигде, наверное, не был так велик, как в России. Нигде такие понятия, как «власть» и «государство», не были столь же размытыми и неопределенными; а в то же время — обязательными. Власть здесь постоянно ощущала необходимость своего неизменного присутствия, а население — необходимость столь же постоянного переустройства власти. Этой противоречивостью русский человек, русский подданный, резко отличался от подданных любого другого государства Европы, Азии, Америки.
Русская интеллигенция почти с момента ее возникновения воспитывалась, а тем более самовоспитывалась не столько на постулатах, сколько на противоречиях. Именно в них, а не в позитивной деятельности находила она свое призвание, едва ли не с первых же шагов своего существования (с Петра Первого).
Этому способствовала и система образования, прежде всего гимназическая: она была построена таким образом, что молодые люди знали закон Божий, древнегреческий и латынь, но не знали росийского государственного устройства и собственных гражданских прав, не знали физики и химии, которые вносят в общество свою порядочность и системность. И это при том, что гимназический курс отечественной истории был курсом истории властей и ничем другим. Гимназия направляла своих питомцев в университеты без экзаменов,[9] а университеты давали опять-таки сугубо гуманитарное образование, выпускали врачей, юристов, а того больше историков и словесников (филологов) — преподавателей для все тех же гимназий. Этот отвлеченный от практической жизни круг замыкался, но люди, стараясь вырваться из него, становились не кем-нибудь, а революционерами, особенно после того, как в гимназии и в университеты хлынули разночинцы.
Дворянская молодежь быстрее разобралась, что к чему, охотно уступила разночинцам университеты и пошла в технические институты: путейский, горный, лесной, в технические училища — именно они, эти институты, стали привилегированными, а их студенты, материально обеспеченные, стали «белоподкладочниками» (с белыми шелковыми подкладками студенческих сюртуков). Недаром же русские инженеры с успехом двинули техническую мысль и техническое развитие Отечества и сами приобрели серьезную репутацию в мире. Их не хватало в России (но это уже другое дело), и западный капитал, через концессии используя природные богатства России, привозил и свои технические кадры.
Архаичность была столь очевидной, что разрушить ее было нетрудно, и за это дело взялись большевики: «до основанья, а затем…» Едва ли не главным ходом уже тогда было раздробление России на союзные и автономные республики, области и округа в сочетании с централизмом. Гениально придумано, а рассчитано на недалеких и безнравственных людей, которые одной рукой принимают национальную независимость, а другой — передают ее центру. Такие люди нашлись везде. Игра была серьезная, разнообразная и авантюрная. Это нынче Украина и Белоруссия утверждают, что им был навязан русский язык. Ничего подобного: почитайте-ка газеты начала 30-х годов, они полны сводками и отчетами о том, как административно (и репрессивно) на Украине внедряется украинский, в Белоруссии — белорусский язык. Русских чиновников изгоняли и сажали за «саботаж». Другое дело, что спустя еще три-четыре года на Украине и в Белоруссии собственные языки стали препятствием в централизации СССР, в котором они вот как были заинтересованы.
Борьба за власть. Дележ власти во все времена был рискованным делом, и уже по одному этому в игру вступали люди, наделенные особыми качествами.
Но, может быть, нынче впервые в истории борьба за власть оказалась столь примитивно проста и общедоступна, столь груба и беззастенчива, безо всякого риска потерять голову, репутацию или имущество. Голова — в том же государственном смысле — у этих борцов мало чего стоит, репутации и имущества у них нет. Выборы депутатов — представителей власти — были беспрограммными, беспринципными (никаких принципов, кроме право-лево, за которыми неизвестно что скрывалось), попросту мальчишескими. Так мальчишки выбирают дворовых лидеров, и все мы, депутаты, были парламентариями-детьми. К тому же детьми Октябрьской революции, независимо от того, признавали мы свою родительницу или крыли ее последними словами.
Это была ирония нашей разухабистой истории, и всегда-то отличавшейся тем, что собственный, то есть русский, исторический опыт был нам нипочем, а потому и не в первый уже раз все начиналось с нуля. Подобный случай даже литература и та не придумала, разве что Василий Шукшин подошел ближе других к этой ситуации с целым сонмом своих «чудиков», с героем рассказа «Штрихи к портрету» (с Н.Н. Князевым прежде всего).
Собственно говоря, это были не столько чудики, сколько те люди, кто принял на вооружение девиз «не зевай!». Вспоминаю Межрегиональную группу в депутатском корпусе при Горбачеве — само по себе это едва ли не гениальное обозначение, если имеется в виду намерение скрыть истинные намерения. В самом деле, что такое межрегион, если неизвестно, что такое регион, — географическое это, национальное, социальное или какое-то другое понятие? А что такое «группа»? Или это союз, или объединение, или партия («партгруппа»?), или временное сборище? Или группа пассажиров, зрителей, эстрадных исполнителей?
Едва ли не всякий раз, когда мы имеем дело неизвестно с кем и с чем, все сводится к тому или иному до поры до времени закрытому эгоистическому начинанию. В данном случае — шел раздел бесхозной власти (в условиях, о которых уже упоминалось). В группу входили А.Н.Мурашов, Г.Х.Попов, Б.Н.Ельцин, И.И.Заславский, Т.И.Заславская, Г.В.Старовойтова, А.В.Яблоков, Е.В.Яковлев, А.Собчак, Е.М.Примаков — и вот все они нынче «на постах» (добились своего!).
Общепризнанным руководителем МРГ, ее знаменем, стал академик А.Д.Сахаров, он же оказался едва ли не единственным из ее активных членов, кто, с воодушевлением занимаясь политикой, безусловно, оставался вне той игры, которая была игрой за власть. Он умер, и тотчас распалась и «группа».
Это я сейчас кое-что понял, а будучи депутатом, не понимал ничего, но и не входил ни в одну группу, кроме Комитета по экологии.
В доперестроечные времена можно различить несколько типов поведения русской интеллигенции по отношению к Советской власти — поведение Луначарского и Бухарина, поведение Королева и Курчатова, поведение Горького и Шолохова, поведение Сахарова и Солженицына. Все это — поведения, а у МРГ никакого поведения не было, и это нечто новое. Не будем повторять имена-фамилии, заметим только, что среди этих имен (за исключением А.Д.Сахарова) не было ни одного недавнего диссидента, но зато почти что все — это имена недавних, достаточно активных, членов КПСС.
В 1917 году Россия уничтожала свою буржуазию. В 1991-м — она принялась заново ее воссоздавать. Вернее — создает условия для ее воссоздания. Наверное, иначе и нельзя — нельзя создать социальное сословие, как если бы речь шла о какой-то постройке или скульптуре, можно говорить об условиях, которые для этого необходимы. Условия эти, скажем, в Америке и в Германии, в Англии и Японии были очень различны, а результат, а буржуазии там и здесь мало чем отличаются друг от друга — значит, и тут и там вступают в силу некие общие законы, гораздо более интернациональные, чем те, по которым были созданы I, П, Ш и IУ Интернационалы. Законы прежде всего рынка, эгоистические, реальные, а не утопические.
На это мы и надеемся. Однако известно: новая буржуазия сама по себе всегда беззаконна, гораздо более алчна и безнравственна, чем давняя, устоявшаяся, она будет грабить всех окружающих до тех пор, пока грабить будет уже нечего, а создавшийся вакуум станет реальной угрозой ее собственному существованию, и она должна будет воспроизводить не только самое себя, но и тех, кого можно грабить. И даже не грабить, а иметь в их лице своих партнеров-производителей.
Тем более все это относится не к обычной эволюционной буржуазии, а к совершенно необычной, даже фантастической — к буржуазии социалистического происхождения, в стране, в которой социализмом была усвоена еще и методика разграбления природы как наиболее бездумная, ничем не ограниченная методика всеобщего грабежа.
Потому у нас и возник сегодня в столь необычном ракурсе вопрос о собственности на землю, что мы в растерянности — нельзя не отдать землю в руки новой буржуазии: без этого ее, настоящей, вообще не будет. Тут и психологическая растерянность: на каких основаниях (законах) землю раздавать и на каких ее брать? (Раздают буржуа-бюрократы, а берет — кто?) Как бы не прогадать, не остаться в дураках! Не подождать ли еще, когда дело хоть как-то прояснится?
Опять 1917-й р-р-революционный год, только с обратным знаком. Национализация земли становится фактом теоретическим. Вот и воспользоваться бы этой практической теорией и создать как можно скорее все необходимые атрибуты землевладения: соответствующее законодательство, земельный банк, земельное страхование, законы землепользования (с экологическим уклоном) и проч. Земельная буржуазия — самая прочная и самая престижная, и государству надо научиться ею управлять.
Иначе ничем не ограниченная, спекулятивная, безо всяких навыков владения землей новая земельная буржуазия социалистического происхождения приведет народ к необходимости рано или поздно совершить над ней новый 1917-й год.
Что писать прежде — что легко или — что трудно пишется? Ведь то, что легче, то очень часто и лучше получается.
Надо объективно оценить цензуру: она во многом (во многие времена) способствовала литературе. Писателю было с чем и с кем бороться, это его воодушевляло и углубляло его творчество, облагораживало его и его общественное положение. Такая борьба — это не то, что конкуренция с порнографией, это нечто настоящее, чему не стыдно посвятить жизнь.
Цензура создавала и того читателя, который союзник писателя, а нередко и его почитатель — ведь какой он смелый, этот писатель! Как обошел цензуру! Да ведь и редактор тоже — каков! (Твардовский!)
Теперь этого нравственного союза «читатель — писатель — редактор» как бы уже и нет, и читатель, тот, что сложился с чаадаевских, с радищевских, с аввакумовских еще времен, — исчез. Навсегда?
Вот ведь как: бледная хрущевская «оттепель» и горбачевская перестройка — какая разница в масштабах! А в литературе? Тогда возникла и деревенская, и военная, и солженицынская, а нынче? Уж не в том ли причина: вместо борьбы моральной, нравственной, цензурной — рыночная конкуренция? И потенциал (писательский) тоже другой: тогда — «выпускники» ГУЛАГа и фронтовые офицеры, а нынче — кто? Рыночники? «Уникалисты»? В том смысле, что я, дескать, писатель уникальный, потому что таковым себя чувствую, а что чувствует во мне читатель — это меня не интересует. Нисколько!
И — врет: интересует!
Но повторяю еще раз: время-то отнюдь не нулевое, время событийное, за которым литература не успевает. Рано или поздно успеет. Вопрос в том — когда? В чем?
Время трагическое. Имел беседу на встрече русских зарубежных и наших, отечественных предпринимателей. Устроитель встречи — Морозов, потомок Саввы Морозова. Среди них — несколько экологов. Один из них утверждает: человечеству осталось жить четыреста лет. России — сто шестьдесят.
Германия передала в Конституционный суд России материалы, из которых явствует, будто бы немецкий генштаб в 1917 году вложил один миллиард марок в программу уничтожения России как государства. Ленин — в первом пункте этой программы — ее исполнитель.
Таких разговоров всегда было с избытком. Я от них всегда отмахивался. Но — вдруг?
Прием у Владыки Питирима по случаю приезда семьи Романовых, проживающей в Испании: вдова недавно умершего Великого князя Кирилла, мать вдовы (обе — грузинки), ее и Кирилла сын, мальчик лет одиннадцати-двенадцати.
Боже мой, какое убожество! Две облезлые и вульгарно раскрашенные дамы — им на Старом Арбате матрешками торговать! Мальчик, должно быть, плохо смыслит по-русски, глаза выпучены, на лице неопределенного возраста, полном и туповатом, — никакого выражения, а штаны серые, дешевые, мятые, не по росту большие.
И поношенные ботинки. И при всем этом — сознание своей императорности.
Обмениваюсь впечатлениями с одним крупным бизнесменом, он говорит:
— У меня впечатление, что эти Романовы были бы рады, если бы я пригласил их отобедать в каком-нибудь ресторанчике. Но я не пригласил. Неудобно как-то. Для них и неудобно.
Выше я упоминал об Андрее Дмитриевиче Сахарове. Это была заметка в том плане, который касался «Нового мира». Но мы соприкасались еще и на съездах народных депутатов, иногда — на заседаниях ВС и на прочих-разных заседаниях, которые собирал Горбачев.
Физиков этого типа я знавал и не одного — гениальных и почти что таковых, но чтобы такой физик целиком отдавался политике, концептуальной и даже мелочной, текущей, представить себе не мог.
За одну ночь А.Д. готовил текст какого-либо заявления или какой-то политической программы, за несколько дней — проект новой конституции. Конечно, заготовки у него были, но главное — он был прекрасно подготовлен по всем этим вопросам и не понимал: почему люди начинают относиться к его проектам с некоторым сомнением, почему их смущает, что уж очень быстр и слишком плодовит их автор?! Но для самого-то А.Д. продолжительность работы над материалами не имела никакого значения, его интересовал только результат (письменный). В самом деле: в течение какого времени созревает та или иная математическая или физическая формула — не все ли равно? Важно, чтобы она сама по себе была безупречна. Математика, более чем какая-то другая наука, вневременна, у нее своя собственная история, история имен прежде всего (почти как в географии и больше), и это отношение сохранялось у А.Д. и к политике: он приходит не только к тому или иному политическому выводу, но и к выводу для него бесспорному. Я спрашивал Андрея Дмитриевича — как переживает он обструкции, возникающие по отношению к нему в зале заседаний Верховного Совета и съездов народных депутатов?
— Никак! Это же не имеет отношения к делу! — отвечал он.
И так оно и было — зал в иных случаях и бушевал, и оскорблял его, а он стоял на трибуне и с улыбкой пережидал протест, приблизительно так же, как пережидает учитель ту суматоху, которая возникает, когда после бурной перемены ученики пятых-шестых классов (самый трудный возраст!) рассаживаются за партами. Куда они денутся-то, ученики? Обязательно рассядутся, успокоятся, и можно будет начинать урок.
Такое вот совмещение ученого (физика!) с политиком!
Конечно, уже был пример, и какой — Альберт Эйнштейн! Но там дело было в зачаточном состоянии: для того, чтобы выступить то ли в защиту мира, то ли против фашизма, не надо было обладать глубокими политическими знаниями.
А Сахаров ими обладал, по-видимому, он проработал — не прочел, а проработал — огромное количество книг по политологии, и, конечно же, проработал, как ученый-физик, сопоставляя политологию с математикой, с точными науками.
Все это может выглядеть и, наверное, выглядело странным и, уж во всяком случае, непривычным, но ведь и Россия — страна странная и никому непривычная, даже русским. Ее странность — это ее ни на что непохожая самостийность.
Германия: когда после поражения в войне 1939–1945 годов, фашистская и ненавистная всему миру, она возрождалась как великая страна, там был созван своего рода семинар, закрытый и по-немецки дисциплинированный, посвященный одной-единственной задаче, одной проблеме, одному вопросу — как же все-таки, опозоренной, разрушенной, растоптанной, ей вернуться в европейское сообщество, в цивилизованный (в лучшем смысле этого ныне скомпрометированного слова) мир?
И этот симпозиум, в котором одинаковые по своему значению роли играли и физики и лирики, и политологи и промышленники, и философы и математики, не мешая друг другу, друг с другом никак не конкурируя, тем более не подставляя друг другу ножки, выработал ту программу, которая действительно спасла Германию.
А — мы? Или у нас нет физиков-математиков, военных деятелей, космонавтов, вообще мыслителей? Вообще практически умных людей? Или никаких умов для России в такой ситуации все равно не хватит?
Но ведь именно благодаря им мы из Смутного времени вышли с честью, с достоинством… Так, может быть, и сейчас?..
«Может быть, и сейчас и нынче», — думал я всякий раз, наблюдая за Андреем Сахаровым в Верховном Совете и на съездах.
И все-таки: было бы лучше, если бы он меньше выступал, меньше декларировал, но последовательнее настаивал всего на двух-трех выдвинутых им предложениях.
Во Дворце съездов, в Кремлевском дворце А.Д. сидел обычно на два ряда впереди меня и по другую сторону прохода между рядами, который вел к трибуне.
У тех кресел, которые выходили в проходы, есть еще и откидные места, и вот я наблюдал, как позади Андрея Дмитриевича во время заседаний усаживается кто-то из его приближенных по МРГ (Старовойтова, Мурашов, Афанасьев) и что-то такое «активно» нашептывает ему. Андрей Дмитриевич согласно кивает. Советчик удаляется на свое собственное депутатское место, а А.Д. минут через десять-пятнадцать уже рвется на трибуну. Выступлений было у него и шесть, и семь в день. Общая беда нынешних наших руководителей: не умеют подбирать себе советников. И часто на этом горят.
Взять хотя бы Горбачева. Взять хотя бы и Сахарова. Почему советчиками у него были только те, которые перед ним лебезили?
Еще малое свидетельство: вот я читаю, будто Горбачев всячески ущемлял А.Д.Сахарова, не давал ему в ВС и на съездах слова.
Никогда этого не замечал. Наоборот, то и дело, несмотря на протесты из зала заседаний, Горбачев настаивал на очередном предоставлении А.Д. слова.
Вернусь к своим замечаниям по поводу того, как в лице Сахарова совмещались математика и политика. Можно подумать, что это — качество и способность, вырабатываемая с возрастом, стариковское свойство. Меня как человека более чем пожилого возраста вопрос не оставляет безразличным. В то время как знания сами по себе последовательны, их использование и приложение к делу такой последовательностью отнюдь не обладают.
Это пережил и Сахаров, и что бы там ни говорили, а переход от создания бомбы к сотворению мира и демократии внес в его психику хаотичность. (Точности он лишился.)
У меня на глазах был другой пример, пример очень молодого человека, лет двадцати, к этому возрасту он уже «наработал» кучу всяческих грамот и премий как юный математик, кончил десятилетку за восемь лет и поступил в Гарвардский университет.
И вдруг увлекся религией.
— Сережка, — спросил я своего тезку, — как с тобой случилось-то? Объясни!
— Дело в том, — сказал он, — что математика — это очень просто. Все очень просто, что обязательно проистекает одно из другого в строгой последовательности. Но вот настало время, когда математика призвана объяснить самые сложные комплексы и явления — древние догмы, положенные в основу религий, в духовное существование человека… Эта проблема меня и заинтересовала. Жизнь турбулентна, а не ламинарна. Математика выходит из ламинарности и вступает в турбулентность.
Ну вот… А у нас в МГУ закрыли (навсегда?) такую специальность, как математическая лингвистика. Дескать, бесперспективно и никому не нужно…
Во времена Маркса и Энгельса еще и понятия такого не было — экология, но ко времени Ленина — Сталина оно появилось: Сталин уже был экологом. Ну как же — а сталинский план преобразования природы?
Посмотрим на проблему — большевизм и природа — повнимательнее.
Марксизм-большевизм собственное наличие в мире обосновывал одним из законов природы: борьбой видов и внутривидовым антагонизмом. Одни животные (хищники) пожирают других (травоядных), и в пределах одного вида тоже идет борьба за существование — на грядке между собой борются всходы морковки. Ну а если это так, если не только Бог, но даже и Маркс благославляет борьбу классов в человеческом обществе и общежитии — так тому и быть. Она же, бескомпромиссная эта борьба, завещается будущим поколениям по меньшей мере до тех пор, пока одна половина людей не истребит другую (не исключается и полное взаимоуничтожение?). О настоящем же времени иначе и не говорится, как о том, что вся наша жизнь — борьба, борьба… Такой-то вот делается вывод из природного закона о конкуренции. Таким вот — прогрессивным — образом истолковывается природа.
Однако дальше у марксизма возникают серьезные недоразумения с этой самой — будь она неладна! — природой: конкуренция-то в природе есть, это правда, но революций в ней все-таки нет, природа как была от сотворения мира эволюционной (а отнюдь не революционной), так и остается таковой до сих пор и, видимо, не думает менять свое поведение несмотря ни на что — ни на землетрясения, ни на затмения, ни на климатические катаклизмы, подобные ледниковому периоду.
Катаклизмы есть, революций нет…
И вот уже эволюционность природы марксизму надо упрятать куда подальше, надо избегнуть столь позорного для самого передового учения всех времен и народов соглашательства.
Тут-то природа и объявляется отсталой и слепой, от которой незачем ждать милостей — не дождешься! — надо их брать силой, надо природу перестраивать и преобразовывать в соответствии с Великим сталинским планом, с планом супругов Полад-заде, руководителей Минводхоза — Минводстроя — Водстроя, с планом Секретаря ЦК КПСС тов. Долгих наконец, поскольку он — куратор советской энергетики (был таковым).
Спорить не приходится — к погибели природы приводит не только советская система, но и вся мировая — тоже, но это — едва ли не самое тесное сходство между столь принципиально различными системами, как социализм и капитализм. И тут и там речь идет о прогрессивном потреблении природных ресурсов, хотя капитализм использует эти ресурсы в десятки раз производительнее.
Теперь, после начала перестройки, вопрос для нас уже не столько в сходствах-различиях, сколько в возможностях отыграть социализм назад, восполнить, хотя бы частично, ущерб, нанесенный природе. И оказывается, что у нас, у перестройщиков, практических возможностей, по сути дела, до сих пор никаких, а вот «у них» — они есть. Есть экологическое законодательство, есть экологическая ответственность и производителей, и государства перед обществом. Есть и государственный эгоизм — они вывозят в нашу страну радиоактивные отходы, а у нас не хватает государственности, чтобы этот вывоз прекратить.
Они имеют министров, которые могут наложить вето на тот или иной проект природопользования, а мы не имеем столь же ответственных лиц ни среди министров, ни в многотысячных президентских аппаратах, включая советников президента, включая самих президентов; президентских указов по охране природы — несть числа, а что толку?
Известен факт, когда Чарльз Дарвин вернул Карлу Марксу его книгу «Капитал» с его дарственной надписью. Это, кажется, и было формальным началом разногласий между эволюционностью природы и революционностью «нового» человечества.
Нынче эти отношения в том тупике, который вот-вот закончится катастрофой. Это будет в результате побед революций над эволюциями.
Наверное, для того, чтобы сильнее чувствовать свое человеческое, каждому из нас нужно по меньшей мере два-три раза в год побывать собакой, кошкой, зайцем, слоном или ягуаром. А то — и травинкой какой-нибудь.
Будучи лишено способности перевоплощения, человечество одиноко в этом мире, и многие его беды именно от этого одиночества и проистекают.
Кое-кто из писателей пытался и все еще пытается посуществовать и поразмыслить от имени собаки или обезьяны, но, надо думать, это жалкие потуги, нечто, подобное игре в футбол годовалых младенцев.
До этого людям надо дорасти, но дорасти едва ли удастся.
Я всегда удивлялся способности американцев не думать о том, о чем думать бесполезно. Французы это тоже умеют, но по-своему.
Никто не заставляет человека быть писателем, но, став им, став членом СП, человек дня не проведет, чтобы не пожаловаться на то, что не создано условий для того, чтобы писателем быть.
Начинается поиск виновников столь несправедливого порядка вещей. (А зачем человек полез в писательство? Кто его туда звал?)
Первым виновником оказывается редактор, тем более в том случае, если он еще и редактор главный.
Уважаемый гл. Редактор С.П.Залыгин!
Откуда Вы знаете, что нам не о чем поговорить?
Мне, честное слово, ничего другого не остается, только задавать и задавать себе этот вопрос: зачем Вы главный редактор? А так же следующий вопрос: кто Вас в кресло посадил? А еще следующий: кто и когда Вас из кресла вышвырнет? Наконец, грязной метлой?
Еще раз и категорически заявляю: нам необходимо встретиться, поговорить по душам и совершенно откровенно.
С уважением С.С. Савельчиков.
Пространство — это понятно: вот я умру, меня не будет, и я перестану занимать принадлежавшее мне при жизни пространство моего тела, моих движений и передвижений.
Оно — моя собственность, на которую я к тому же обречен.
А время? Оно не принадлежит никому, потому что принадлежит всем и всему. Наверное, поэтому оно-то и провоцирует в человеке коммунистические идеи: все должно принадлежать всем.
Редактор, конечно, принял бы религию как выражение Царства Божьего на Земле (другого средства самовыразиться у Бога тоже нет, нет у Него выбора), но вот в чем дело: почему религий так много на Земле? И люди по причине религиозных противоречий кровь проливают, сколько уже пролили! И сварничают, интригуют одна с другой религии точь-в-точь так же, как обычно сварничают и интригуют люди где-нибудь в коммуналке или в очереди.
Ответа главный редактор никогда еще не находил, он был Сомневающимся. Все время и обязательно что-то мешало ему проникнуть в самые важные вещи и понятия. Может быть, потому он был Сомневающимся, что в его повседневной работе, а значит, и в жизни, было слишком много самого разного и слишком мало самого единственного?
Вся история России — это история метаний между…
Между непоколебимой, суровой и ничего не обещающей Догмой и многообещающей Неизвестностью.
В политической истории России всеми историками всегда отводилась особая роль народу. Он же, народ, приобретал роль не только носителя идей, от народа идеи исходили, а затем уже воспринимались интеллигенцией. Далее интеллигенция через систему просвещения и «хождения в народ» возвращала народу его же идеи, учила народ, каким образом ту или иную идею он должен воплотить в жизнь.
Такова схема. Схема идейного воспитания, которая захватывала умы, поглощала жизнь самых разных деятелей культуры, начиная от Толстого (а еще раньше Некрасова, Кольцова и многих других) и кончая Лениным и Сталиным.
Такая схема становилась нравственной основой деятельности русской интеллигенции, в том числе и выдающихся и г е н и а л ь н ы х ее представителей — будь это гениальные художники, гениальные прагматики или гениальные авантюристы.
Народ же сам по себе принципиально безыдеен.
Народ воплощает не идею, а нечто гораздо большее — ту самую жизнь, из которой могут являться (но могут и не являться) идеи.
Жизнь имеет множество проявлений, одним из них может стать идея, однако же никак не заменяя собою жизнь. Идея должна служить жизни, а не наоборот, как это часто представляла себе интеллигенция в отличие от народа. Она должна облагораживать жизнь, а не угнетать ее. Когда же она подчиняет себе жизнь и судьбы — это уже не столько идея, сколько заговор. Заговор партии, клана или группы — террористической, мафиозной, еще какой-то. Заговор единственного против гармонии множественности, которая свойственна природе, а вслед за ней и человеку.
Народ — это все без исключения сословия, все религии и национальности, населяющие страну, это то целое, которое призвано не столько создавать идеи, сколько умиротворять их, приводить к общему знаменателю, а знаменателем этим опять-таки является сама жизнь, которой жил, живет и будет жить народ. Умиротворению служит и религия, служит вера, а не идея, тем более — политическая.
Народ живет не идеями, а понятиями о жизни, понятиями, которые он выражает в народном же творчестве — в притчах, сказках, пословицах, в песнях, игрушках, архитектуре и в религии. И отнюдь не сам народ, а его интеллигенция подгоняет произведения народного творчества под собственные, интеллигентские идеи и идеологии, непосредственно под политику.
Народ не любит политики и долго и последовательно сопротивляется ей, если она ему навязывается, предчувствуя, что дело может кончиться плохо, очень плохо. Однако сопротивление это далеко не всегда успешно.
Народ легко воспринимает национальную и даже националистическую политику. Ничто из общественного, гражданского и государственного атрибутов не воспринимается столь же личностно, как национальная принадлежность. Отречение от своей национальности — явление крайне редкое, гораздо более редкое, чем смена религии.
И государственная, и общественная, и религиозная принадлежность может быть делом исторического выбора, исторических обстоятельств, но национальность дается природой вместе с жизнью, вместе с обычаем жизни, вместе с языком. Уйти от этого нельзя, с этим надо считаться и политикам, и политики считаются более умело, чем кто-либо другой, но в свою пользу. И выигрывают больше, чем народ. О жертвах же, которые приносят на алтарь национальных проблем и побед и народ и политики, говорить не приходится — они несравнимы. Значит, дело в том, чтобы не превращать национальное чувство в единственную идею, тем более — политическую.
Стенька Разин, революционер, политик и борец за власть, плывет по Волге караваном стругов, плывет воевать своего царя. Чем же он занят, в этом военно-политическом походе, каким видит Стеньку народ?
На переднем Стенька Разин, Обнявшись, сидит с княжной…Чем кончилась история с княжной — известно песне и народу, но чем кончился этот политический поход, вообще чего ради и для чего он был — об этом в песне ни слова, народ это не особенно беспокоит.
И все-то оно такое — народное творчество — аполитичное. Ему бы, народу, только матрешек малевать, петь-плясать, песни про любовь, про мужиков и баб складывать и выпивать. А еще — верить!
Да, конечно, политики о народном творчестве заботятся — музеи, выставки, ярмарки, ансамбли, — надо же показать свою причастность к народу!
Но вот что политика не прощает, так это веру.
Я в деревне «среди народа» жил довольно долго, бывал то и дело и никогда не слышал, чтобы там говорили: «Родина», «Отчизна». Тем более «великая, любимая». На эти слова народных песен нет.
Там человек живет без этих слов и не ради них, а ради самого себя, зная, что сам-то он рожден для исполнения предначертанных обязанностей: пахать, сеять, водить скот, продолжать свой род, платить налоги, а если нужно, идти воевать и погибать.
Обязанность — вот и все.
Понятия веры потому и вера, что не имеют границ. Веры могут и даже призваны ограничивать человека в его желаниях и действиях, это тоже их назначение, но сами по себе эти понятия общенациональны, общеконтинентальны, проникают они и в космос. В силу своей безграничности вера необходима человеку, духовное существование которого тоже не знает и знать не может собственных границ. Тем самым компенсируется ограниченность существования материального и сдерживаются бесчисленные запросы и требования материальные. При этом вера никогда не остается чисто понятийной, в этом случае она стала бы идеей, вера еще и легендарна, а легенда всегда персонифицирована уже по одному тому, что призывает подражать не чему-то, а кому-то, следовать не за чем-то, а за кем-то, она должна быть воплощена не во что-то, а в кого-то. В силу этого вере оказались недостаточны сам Бог и сам Аллах, ей стали необходимы Христос, Магомет, Будда, и, заметим, все эти фигуры (образы?) вполне аполитичны и, как говорят политики, безыдейны в той самой мере, в которой аполитичен и безыдеен народ. В борьбе за влияние на народ политика отрицает веру, характеризуя ее как «заблуждение», но в то же время заимствует у веры ее легендарность, ее способность персонифицироваться теперь уже в образы и фигуры не исторические и легендарные, а во вполне современные — не в Христа и Магомета, а в Робеспьера, Ленина, Сталина, Мао и Фиделя Кастро.
Иначе политика и не может — будучи сиюминутной, она должна, она обязана попирать историю, выдвигая героев вполне и даже более чем современных, подчеркивая, что если уж не каждый мог бы быть Лениным, то быть в числе двенадцати апостолов при нем не так уж и трудно. Политика не забывает при этом и себя: за ней остается право не только вождей выдвигать, но в случае особой нужды и казнить их. На этих условиях идеи и подменяют и веру, и народность, других способов достижения своих целей переустройства мира у политики нет и вряд ли могут быть. Так подменяет она историю современностью, а природную эволюционность человеческой революционностью. Существо веры — вечность, существо политики — момент. Справедливость политики заключается не в ее собственной силе, а в слабостях вечности, в зависимости вечности от момента: будучи прерванной на мгновение, вечность тоже ведь прервется навсегда. Отрицать действительность всегда проще, чем обустраивать ее. Обустройство требуется сегодня же, сейчас же, из того материала, который есть в наличии, отрицание откладывает обустройство на после, после того как будут созданы новые строительные материалы — легкие и вечные.
Нельзя отрицать роли революций в истории, но можно заметить, что чем больше истории, чем дальше история длится, тем все меньше и меньше остается в ней места революциям и революционности. И политика тоже мельчает и в свою очередь подменяется государственными переворотами, лоббизмом и мафиозностью.
Не могу сказать точно, но, кажется, я исхожу из классических (из псевдоклассических?) понятий народа и интеллигенции. Когда нынче произносится слово «народ», никто толком не знает, что же все-таки подразумевается: все население страны, или только наименее образованная часть его, или та часть, которая все еще воплощает исторические (опять-таки народные) традиции, а тогда народ — это уже понятие и национальное.
Еще меньшей определенностью обладает такое понятие, как «интеллигенция», которое ввел в русский словарь, пользуясь иностранным языком, интеллектуал средней руки писатель П.Д.Боборыкин в 60-е годы прошлого столетия. И надо же — сколько всякой всячины натворило это слово в последующей нашей истории! Ни в одном другом языке его нет, а в русском — вот оно. Или в силу невысокой по тому времени образованности России Боборыкин хотел подчеркнуть особую роль людей образованных, или хотелось ему чем-то отличить ученость от духовности, духовность от политических воззрений, а политические воззрения от материальных устремлений? Наверное, была все-таки в России того времени категория людей, которая искала себе название (самоназвание) и нашла-таки его, вывела из другого тоже русского слова «разночинство», «разночинец». Интеллигенция была не только внесословна, но, замечу, и внепотомственна, она существовала в первом поколении, вышедшем непосредственно из «народа», чьи дети были уже не столько интеллигентами, сколько специалистами — учителями, врачами, юристами, инженерами, агрономами. Хотя в представлении тех же интеллигентов Россия их времени и была болотом, они всячески содействовали тому, чтобы в болоте разыгрывались морские бури и штормы, не сознавая противоестественности такого состояния. Эта противоестественность в первую очередь интеллигенцию же и погубила. Ну, а в самопожертвовании, да еще массовом, да еще в ХIХ-ХХ веках, когда история, когда наука и логика подтвердили самоценность жизни, не было ничего хорошего, главное — никакой перспективы. Из самопожертвования возникли крайности — сначала терроризм Нечаева и Богрова, затем Ленина и Сталина, а в наше время возник, кажется, еще никогда не бывший в мире перестроечный эгоизм. Вплоть до мафиозности. Повседневной и всеобъемлющей.
Милая, милая русская интеллигенция — какая печальная судьба! Какой печальный урок!
Да, моя работа в вузе — не совсем правильно называть ее научной работой — во многом зависела от того, что женился я на дочери профессора института, который я кончал.
Профессор Сергей Васильевич Башкиров (дочь его — Любовь Сергеевна, вот уже 54 года, как мы вместе) был интеллигентом второго поколения — сын врача и фельдшерицы в Костроме, уже в юности занимался революцией, сидел в тюрьме, учился в Германии (ему было запрещено проживание в университетских городах России), работал по сельскохозяйственным машинам в Сибири. Человек был интереснейший (может быть, и расскажу еще). К гидромелиоративному факультету, который мы с Любой кончали, он отношения не имел, но судьбу мою моя женитьба в свое время определила.
Мы кончили гидрофакультет в Омском сельскохозяйственном институте в 1939 году и оба получили назначение в омскую областную контору Мелиоводстроя, в проектно-изыскательское бюро, но уже через несколько месяцев я был призван в армию, попал в 22-й запасной стрелковый полк, готовил маршевые роты и отправлял их на фронт (финская война).
В марте 1940 года был демобилизован, на работу не пошел, засел писать книжечку рассказов, написал, издал в местном издательстве, и тут меня пригласили ассистентом на кафедру гидромелиорации. Год — в этой должности. Потом — война, служба в гидрометслужбе СибВО в Салехарде и в Омске, а после войны, в 1946 году, на безлюдьи, я стал заведовать той же кафедрой. Многое из этого периода вошло у меня в сюжет «Экологического романа» («НМ», 1993, № 12), а теперь не об этом — о том, почему, по каким природным данным я хуже ли, лучше ли, но справлялся с кафедрой, более того — эта работа пришлась мне очень по душе. Очевидно, склонность к письму сказалась и на склонности к лекционной работе, а на кафедре это много значит. В те времена я и устно, и письменно гораздо легче излагал свои мысли, чем теперь. Может быть, потому, что мысли эти были проще, что их было гораздо меньше, они не мешали мне жить, наоборот — помогали. Я принимал на кафедру своих учеников и соучеников, которые, будучи студентами, учились гораздо лучше меня, это так, но мне не составляло никакого труда по-дружески писать за них многие главы их диссертаций. И тогда, и сейчас я совершенно уверен, что крупного ученого в области техники из меня не получилось бы, однако был у меня некий уровень, в котором я чувствовал себя легко, свободно и весело. Мне легче давалась наука в целом, в ее философии, чем в деталях и конкретных решениях. Кандидатскую я написал в течение года без единого отпускного дня, и в тот день, когда защищал ее (осень 1949 года), я читал лекции. Ни руководителей, ни даже консультантов у меня не было, я их избегал, раза два обратился к профессору-гидрологу и понял: зря! Профессор сбивает меня в сторону от моей темы, которую я задумал, в сторону своей. Моя тема была: «Выбор расчетного года при проектировании оросительных систем в зоне неустойчивого увлажнения», она нравится мне и теперь. Серьезных работ на эту тему к тому времени не было, а вот в смежных областях было накоплено много материалов, которые для решения этой задачи можно было привлечь. Я и привлек. Гидрологией я занимался в гидрометслужбе, с климатологией был знаком по А.И.Воейкову (1842–1916), я очень любил и теперь люблю этого ученого, писал о нем, о его трудах и путешествиях, география меня тоже привлекала всегда, с детства, со школы, где этот предмет вел у нас прекрасный учитель Порфирий Алексеевич Казанский (см. словарь «Русские писатели, 1800–1917», том 2), но я как чувствовал: не надо становиться географом, мне интереснее география в деле, в каком-то конкретном приложении, а таким приложением оказалась для меня мелиорация. Ну, а в самой мелиорации меня сразу же приветил не кто-нибудь, а сам Алексей Николаевич Костяков, столп нашей мелиорации, член-корреспондент АН СССР, академик ВАСХНИЛ, автор до сих пор не превзойденных учебников (1887–1957). Читая мои рассказы, он писал мне, чтобы я не бросал мелиорацию ради литературы, но я и не собирался этого делать, я полагался на время: время решит, где мое место. А.Н. присылал мне свои труды («Основы мелиорации», 5-е издание) на литературную редактуру, до того как отдавать их в печать. Я даже две-три существенные поправки внес. Он их принял.
Мою диссертацию он встретил очень хорошо, позже я делал по ней доклад в Москве (получилось так, что в тот же день меня принимали и в Союз писателей), он способствовал и неимоверно быстрому утверждению ее в ВАК’е, когда это было делом трудным: все диссертации пересматривались ВАК’ом с точки зрения соответствия их «учению» Т.Д. Лысенко. Уже через год по моим предложениям проектировались системы на Дону и в Поволжье, но недолго: расчетный год проектировщики вообще перестали определять, принимали некие стандартные для данного региона гидрологические и метеорологические условия — и только. Жаль. Оценка этих условий по определенной методике — отнюдь не излишнее дело и в мелиорации, и в земледелии в целом.
Да, со временем я стал писателем, но привязанность к мелиорации сохранилась, из этой привязанности возникла и экологическая деятельность. И другое: кажется, мне удалось никогда не заниматься тем делом, которое мне не по душе, так же как и тем, чего я не знаю, в чем не чувствую чего-то своего, родного, так или иначе мне присущего. Из этого, в свою очередь, вот что проистекло: мне нужны данности, которые я могу принимать без размышлений, доверять им — и только. Не так давно я прочитал одного английского православного епископа (кажется, мы его даже печатали в «НМ») Антония (Блума), он пишет примерно следующее: вот француз просыпается утром, он что? — разве он думает о том, что такое Франция? И кто такие французы? Нет, никогда, потому что это ему дано с детства, это для него данность, и все одним словом высказано. А русский человек? Он уже несколько веков размышляет над тем, что такое Россия, и чем дальше, тем все меньше и меньше это понимает. Тем более — кто таков есть он сам, русский человек? Ей-Богу, я всю жизнь удивлялся этому точно так же, как и владыка Антоний.
Перед моим окном береза, я думаю о ней. Но ведь от моих размышлений она не становится сосной и даже — чуть-чуть не березой?! Нет размышлений без данностей, без них не может быть решений и исследований.
Конечно, Россия с ее протяжением в пространстве, с ее историей во времени, с ее крайностями, психологическими, национальными, интеллектуальными (вплоть до появления такого понятия, как «интеллигенция», «интеллигент»), — это очень трудная данность, которая почти не поддается долговременному восприятию, но что поделаешь — другой у меня нет, нужно использовать «почти», больше использовать нечего. Так я и делаю: вот она, Россия, вот я в ней — русский человек, и надо об этих фактах поменьше думать, побольше делать такого, что уже проистекает из этой данности. Конечно, можно позавидовать французу, немцу, американцу или эскимосу, но и то — втихаря. Однако же по мере того, как я буду что-то делать не просто так, а исходя из этой данности, и сама-то данность будет становиться для меня все определеннее.
Вообще меня не очень-то волнует вопрос о власти, тем более — ее декларации и программы. Самый важный для меня вопрос я в декаларациях не находил, а вопрос, а проблема состоят в том, чтобы государство обеспечило своим подданным условия для такого труда, заниматься которым можно было бы с максимальной добросовестностью, чтобы производительность труда была в равной степени выгодна и трудящемуся, и государству. Вот и все. И все тут права человека, и все общественные условия, и вся тут экология, и весь гуманизм. Если между государством и трудящимся возникает капиталист — пусть ему тоже будет невыгодна ни чрезмерная эксплуатация рабочего, ни больное государство. Пусть это утопия, но разве утопии лишены принципов?
В Академгородке я жил года полтора. Несколько месяцев лежал в тамошней больнице со спазмами сосудов сердца и головного мозга. После поездки на строительство Асуанской плотины отозвался мне Египет. Врачи говорили — это две перестройки организма наложились одна на другую: Новосибирск — Асуан и Асуан — Новосибирск. Тяжелая была болезнь, и в Москве я лежал в Боткинской два раза, и в Новосибирске месяца три. Наверное, и загнулся бы: все сильнее и чаще были сердечные приступы, один за другим. Руки, начиная с пальцев, синели на глазах, боли, тошнота (сознание не терял). Девятый приступ, который я уже не думал выдержать, пришелся на воскресенье, моего лечащего врача не было, была дежурная, молодая врач, из ординатуры института Мясникова, который временно помещался этажом ниже. Пришла эта девица, покачала головой:
— Ай, ай! Приступ сильный, надо его снимать немедленно. Сейчас я принесу две таблетки, вы их проглотите, приступ будет снят, и вы уснете. Ну а завтра утром я приду и еще вас посмотрю.
Что мне было говорить по поводу такой самонадеянности? Таблетки я проглотил, и что же? Минут через пять синева с рук стала исчезать, сердце перестало болеть. Я этому не верил, жена — была рядом — не верила. Пришла эта девица снова и рассердилась:
— Почему же вы не спите? Я же вам сказала — спать!
И стал я поправляться, заново учился ходить, сначала три шага, сначала одна лестничная ступень, потом две, три… Чуть перебрал — начинай все снова. Я три раза начинал и восстановился, как будто и не было болезни. Мне сказали: болезнь такая — она вернется обязательно, не позже чем года через два, но, конечно, не столь сильная. Всякий раз придется лежать дня два-три.
Вернулась лет через десять, и сначала я действительно лежал, а потом не стал, нашел свое средство: таблетка сильного снотворного на ночь.
А лекарство-то у врача-молодицы было очень простое, успокаивающее, называется, кажется, триоксазин. Его врачи в кармашках носят, когда идут в морг на вскрытие. Волнуются же врачи: вскрытие покажет — подтвердится или не подтвердится диагноз, правильно или неправильно больного лечили. Все дело в том, что в институте Мясникова знали еще и другие свойства этого лекарства…
…Подойти бы к своему письменному столу, вцепиться в бумаги, порвать их в клочья и кончить с собственной писаниной раз и навсегда. «Навсегда» — ведь осталось очень мало, тем более — чего ради его беречь-то?
Нынче апрель 94-го. С увлечением читаю Чаадаева. Читал и раньше, но, должно быть, поверхностно, в то время как у Чаадаева нет (недостаточно) стремления к простоте.
Чаадаев о числе, и я немного о том же: числа в природе нет уже по одному тому, что в ней нет единиц измерения и нет нуля. Нуль — это гениальное изобретение человека, к тому же — антиприродное. Природа бесконечна и в наращивании, и в дроблении. Все живое воспринимает окружающий мир только в качестве — холод и тепло далеко небезразличны живым существам. Но измеряет температуру среды обитания и самого себя только человек. Он измеряет все — силу ветра, яркость солнечного света, пространство и время. Дело дошло до того, что человек принял некий день за нулевую величину (Р.Х.), от которой и ведет счет в две стороны — в прошлое и в будущее. Этот счет, кстати говоря, умаляет настоящее, которое одно только и существует для всего остального живущего мира. Число стало в основание всех материальных потребностей человека, число разделило эти потребности на материальные и духовные.
Мысль привела человека к числу, поставила его в зависимость от числа, от количества, сама при этом оставшись независимой, — ее, мысль, по-прежнему нельзя исчислить. Сколько у человека в течение дня было мыслей? Какой продолжительности? Какого размера? Веса? Напряжения?
Постигнув историю возникновения числа, можно было бы ответить и на многие вопросы возникновения современного человека. Чем было для человека число — эволюцией или мгновенным озарением? Или — тем и другим? Однако же человек никогда не постигнет начальных истин своего существования, он их не помнит так же, как не помнит и никогда не вспомнит акта своего рождения, более того — первых двух лет своей жизни. Память же возникает в нем едва ли не одновременно с понятием числа. (Которое и оформляет его до того не осознанные потребности.) Сознание осознает качество (тепло, холод, свет и тьму), сначала усвоенное (отмеченное) нашими органами чувств (слух, зрение и др.), а количество, счет мы определяем с помощью мозгового вещества. Постоянное число в природе (протоны, нейтроны, др.) — это не число, а неизменное качество. Число — это то, что изъясняет природные изменения.
По Чаадаеву:
«В приложении к явлениям природы наука чисел, без сомнения, вполне достаточна для эмпирического мышления, а также и для удовлетворения материальным нуждам человека; но никак нельзя сказать, чтобы в порядке безусловного она в той же мере соответствовала требуемой умом достоверности». Количеств, собственно говоря, в природе не существует, если бы они были, то «уже не Вера двигала бы горы, а Алгебра».
Великий ум в одинаковой мере чувствителен как к безграничности, так и к ограничениям, и вот уже Чаадаев замечает за словом, что оно не всесильно в этом мире; слово тоже недостаточно для того, чтобы вызвать великое явление всемирного сознания, слово — далеко не единственное средство общения между людьми.
Удивляет язык Чаадаева: универсальный, очень разный в зависимости от обстоятельств места и времени.
На следствии он пишет свои ответы следователю, как завзятый чиновник и бюрократ, письма родным — как родным, Пушкину — как Пушкину, письма литературные выглядят так, как будто они принадлежат современному литератору.
Разве что слово «сударыня» присутствует у него повсюду, так ведь и мы имели намерение (Вл. Солоухин) вернуть это слово в наш обиход.
Философия и философичность — это всегда попытка иного существования, иного, но параллельного реальному. Исходная и заключительная точки одни и те же — рождение и смерть, никакими доводами не опровергаемые реальности даже в божественном писании, хотя там есть и «до» и «после». Ничто не опровергает этих двух явлений, но слишком трудно признать единственность пути от одного к другому — это детерминизм, который человеческое сознание принять не может, практика жизни — принять не может. Такого рода принятие — отказ от философии.
Чаадаевская философия причинности, при кажущейся ее космополитичности, на самом деле от начала до конца национальна, поскольку сводит философию к судьбе России. Может быть, и все-то последующие наши философы от Константина Леонтьева до «белоэмигрантов» в Париже — Николай Бердяев, Семен Франк, Сергей Булгаков, а также Павел Флоренский, Николай Федоров, Николай Лосский — представили дело так, что Россия, ее особенности, ее судьба и есть философия. Кажется, небывалый в мире случай, а начало положил Чаадаев. Даже то, что он отказался от православия, принял католичество, дела не меняет: это в поисках все той же России, стремление увидеть ее со стороны. В христианстве, а все-таки со стороны.
Познание методов познания… Гносеология. Смысл смысла. Как бы нам не стало еще труднее жить и думать. Страшно как-то… Уж очень мы расхвастались безграничностью нашего мышления. Безграничность количественная, а — качество? Еще безнадежнее. Куда нас поведут-то — к познаниям третьего, четвертого, десятого порядка? К познанию познанием самого себя — для этого оно и дано человеку?
Те народы живут спокойнее и благороднее, которые исключают некоторые проблемы своего существования из своего сознания.
Ну, кто-там там, ученые единицы, специалисты рассуждают, однако всем остальным — это до лампочки, это не только незнакомо, но и чуждо. Философия качественно безгранична, как и вся духовная жизнь, число же ее представителей должно быть ограничено. Иначе — хана.
Уже Чаадаев уразумел науки глубже, истиннее, чем они сами себя, когда сказал: «Три открытия сообщили им толчок, вознесший их на эту высоту: а н а л и з Декарта, н а б л ю д е н и е Бэкона и небесная г е о м е т- р и я — создание Ньютона», он же сформулировал истинное, то есть ограниченное значение числа: наука забывает, «что мера и предел — одно и то же, что бесконечность есть первое из свойств», «что когда мы вкладываем в руку создателя циркуль, то допускаем нелепость». Письмо пятое, можно сказать, главу пятую того Писания, которое создал Петр Чаадаев, он открывает словами: «…Закон не может быть дан человеческим разумом самому себе точно так же, как разум этот не в силах предписать закон любой другой созданной вещи».
Временами в своем Писании Чаадаев — вдохновенный лирик, лиризм которого оказался слишком и субъективным, и возвышенным, чтобы дожить до наших дней, войти в нашу современность. При всей своей поэтичности Чаадаев не был поэтом, может быть, именно по этой причине он так остро нуждался в Пушкине.
«Мы растем, но не зреем, идем вперед по какому-то косвенному пути, не ведущему к цели». Но Пушкин и рос, и зрел не по годам, и шел по пути, ведущему к цели — к гармонии, и Чаадаев не мог этого не знать, не понимать.
Демократия должна признать, что демоса в ней нет: при всеобщем равенстве народ — это «все», и демократия по-русски должна называться всекратией.
Но если властвуют все, тогда — над кем? Над теми, кто не все? Кто — никто?
Демократизм — это способ поведения, общественного сознания, но не власть. Власть может быть избрана демократическим путем, но, как только она избрана, она уже не демократия.
Демократичной и демократической может быть партия, пока она не у власти. Двусмысленность демократической власти — козырь в руках любой ее правой оппозиции (и левой тоже).
У меня давно намерение: перечислить (пусть не все) случаи, когда только случай и оставил меня в живых, охранил меня. (Конечно, для тех, кто воевал, — это семечки, а все-таки).
Начну с детства. Видимо, это был 1918 год, наша семья (отец, мать и я) жили в Саткинском заводе (и держали козу для меня: козье молоко очень полезно детям. Я помню всех наших коз).
И вот проходит слух: идут красные, режут и убивают (на каких-то ближайших заводах так и было). С вечера пятнадцать-двадцать семей местных жителей, решают: женщин и детей отправить в ближайший женский монастырь.
Ночь темная, летняя, и подвод, наверное, десять или пятнадцать едут по горной дороге. Слева и где-то внизу шумит река, справа — крутые откосы. Мы едем все в гору, в гору.
Мама прикрывает меня чем-то теплым, я к ней прижался, мы, свесив ноги с телеги, дремлем. Нас, таких мам и детишек, столько, сколько может вместить телега. Кто-то говорит: вот сейчас приедем, еще один поворот, там и монастырь!
Светает…
И вдруг навстречу нам из-за того поворота грохочет телега и в темноте дикий мужской голос:
— Куда вы, куда вы? В монастыре красные — всех режут, последних дорезывают! Живой души не оставляют!
Тут как раз небольшая площадка, можно развернуться, наш обоз развертывается и под гору, под гору!
Утром вернулись в Сатку. Там спокойно.
Из Сатки мы эвакуировались сперва в Томск (летом ехали в теплушках, медленно ехали, то и дело в поле стояли, мне было очень интересно), из Томска последним пароходом «Гулливер», уже при ледоставе, в Барнаул. Отец уехал в Барнаул несколько раньше.
Недалеко от Барнаула (деревня Шалоболиха) наш пароход обстреляли (красные партизаны), никто не был ни убит, ни ранен. Мы плыли не в каюте, а в рубке, много нас там было, когда стреляли — все лежали на полу, заслоняя стены перед собой подушками. Тепло мне было и даже приятно слушать стрельбу. Мама моя никогда ничего не боялась, вот и мне было хорошо. (Никогда я не видел маму плачущей.)
В Барнауле мы очень недолго жили рядом с пристанью на улице Пушкинской, потом поселились в доме бывшего инспектора местного реального училища Баева — улица Бийская, дом 131. Наша «жилплощадь»: угол в конце коридора второго этажа, отгороженный шкапом и одеялом.
Не знаю уж почему, но Баев нас невзлюбил. И донес на отца, и трое пришли отца арестовывать (это уже зимой, при красных было, красные недавно взяли город). Баев стоял в коридоре и что-то нашептывал старшему этой тройки. Старший вошел к нам за шкап, потребовал документы. Долго-долго их рассматривал и вдруг что-то сказал отцу, что-то доброжелательное, а потом вышел в коридор к Баеву:
— Гляди, старый! Выведу тебя в огород и стрельну, как собаку!
И эти трое красноармейцев попрощались с отцом и ушли. Оказалось: старший красноармеец был из Сатки и хорошо знал отца.
Тем более необыкновенный случай, что саткинцы сплошь были настроены против красных. Как, впрочем, и весь заводской Урал. Рабочие жили на заводах и рудниках зажиточно, два-три-четыре брата вместе, в одном большом доме. В каждом дворе — три-четыре лошади, ребятишек не счесть (у нас в соседях были братья Фроловы, старший — Иван, мы у них часто бывали, Фроловы — у нас). Обычно так: двое-трое братьев на заводе (на руднике), один — на собственном земельном наделе ведет хозяйство. Зимой все подрабатывают извозом — возят в завод дрова, древесный уголь для выплавки высших сортов стали. В войну мужчин с заводов не брали: «оборонка». Уральские заводы сформировали костяк колчаковской армии. Ижевск, Воткинск, Сарапул — год оборонялись от красных (латышские полки), отступали до Уфы и снова возвращались (Болдырев, «Интервенция…», у меня — «После бури»).
Каким образом я один остался жив из всего списочного состава 20-го Сибирского стрелкового полка, я опять-таки подробно описал в «Экоромане». Добавить нечего.
Горел летом 1944 года в самолетике на перегоне Березов — Салехард, см. там же.
Самолеты меня подводили еще дважды.
Один раз в рейсе Москва — Сочи (1952 год). Летели я, Люба и Галя. Я сидел у иллюминатора и видел: через трубки на правой плоскости время от времени выбрасывает черную густую жидкость. Тут же ее смывает с плоскости воздушным потоком. Стюардессы нервничают — бегают, заглядывают в иллюминаторы, а кто-то из летчиков вышел, тоже обеспокоенный. Я хочу им показать, что происходит на плоскости, но как раз тогда-то ничего не происходит, а как только они уходят, вот он — выброс.
Я пошел в кабину пилотов. Не пускают. Я стал скандалить. Один из летчиков пошел со мной, занял мое место, прошло минут пять — выброс. Летчик изменился в лице, побежал в кабину, и мы тут же пошли на снижене. Внеплановая посадка — Запорожье. Провели там часа четыре-пять, полетели в Сочи.
Зимой, году в 1956-м — 1957-м, я летел из Москвы в Новосибирск.
На каком-то маленьком самолетике (с депутатами ВС — возвращаются с сессии) лечу, приземляемся в Свердловске. И что же я вижу? (По северной еще привычке смотреть во все глаза.) По поперечной взлетной полосе нам наперерез идет другой самолет! Должно быть, тормозит (подскакивает), но остановиться не может. Мы разминулись метрах в сорока-пятидесяти, нас сильно подбросило воздушной волной этого «поперечного» самолета. Потом нас загнали в угол летного поля и держали часа два, не выпуская из машины. Холодина в нашем салоне — жуткая. Пассажиры стали дубасить в кабину, в фюзеляж. Выпустили. Я тут же стал скандалить: «Я все видел, как было дело, требую жалобную книгу!» Книгу мне не дали, увезли в аэропортовскую гостиницу. Поселили в хороший номер, какие-то аэрофлотцы стали приходить ко мне и уговаривать никуда ничего не писать. Прошло два дня. Буря никак не стихает, самолеты на восток не летят, в аэровокзале творится что-то невообразимое. Мне-то ладно — у меня номер в гостинице, а остальным?!
Ну вот. Иду я мимо какой-то проволочной загородки в аэровокзале, за загородкой (газетная экспедиция) груды газет и свой скандал:
— Что за безобразие — матрицы «Известий» вместо Новосибирска за-слали в Уфу!
Это — свердловский известинец вопит. А ему:
— Матрицы из Уфы вернулись, а что толку! У вас должен быть сопровождающий, а его нет. Пошлем ваши новосибирские матрицы, они наверняка застрянут в Омске! Где ваш сопровождающий?
Тут свердловский известинец примолк, а я закричал:
— Я сопровождающий! (Сквозь решетку.)
— А где ты, гад, пропадаешь? — кричит кто-то мне.
— А почему вы, гады, меня не пускаете? Я к вам ломлюсь больше суток — не пускаете!
— А-а-а! — заорал свердловский известинец. — Почему вы человека не пускаете? Человек — сопровождающий, а вы его гоните! (Он, конечно, понял, как обстоит дело.)
В экспедиции слушающие — их двое-трое — рты разинули: к ним через проволоку мало ли кто ломился, они всех в шею. Но, может быть, и они сообразили, однако им тоже интересно избавиться от новосибирских матриц.
Тут явился какой-то аэрофлотовец.
— А «Известия» ваш билет оплатили? Где документ оплаты? — Это он мне.
— У меня — нормальный билет!
— Ах, нормальный! — И меня отвели к крохотному какому-то самолетику (мест на двадцать), стали самолетик разогревать, кое-как разогрели, и я полетел с матрицами в ногах и опять же с депутатами Верховного Совета.
Ну а в Новосибирске меня местный известинец встречал (ночь была) с распростертыми объятиями. И я был дома 31 декабря. Успел к Новому году.
Прилетел, стал обзванивать семьи тех новосибирцев, с которыми горевал еще в Москве, — мы еще там обменялись телефонами. Никто не прилетел. Только второго или третьего января стали приезжать поездами. Бураны свирепствовали еще долго. И не припомню такой же буранной зимы.
Начал писать с интересом, кончаю — без. И еще бы мог кое-что вспомнить в том же роде, но пропало всякое желание.
И это — обычная жизнь. А те, кто воевал, был на фронте? Астафьев вот Виктор Петрович?.. (Сегодня готовим ему адрес к 70-летию). Нацарапал что-то в адресе.
И всех-то я старше, а все еще жив… Первая строка стихотворения, которого нет и не будет.
Или: никогда не жил на белом свете, на черном — всегда и все-таки не жалею, что жил.
Никогда не появляется столько замыслов, как в то время, когда тебя буквально стирают с лица земли другие, совершенно другие, совершенно нетворческие обязанности и обстоятельства.
Дела по журналу. По экологии. По дому. По выживанию на минимальном для меня материальном уровне.
Чем же это объяснить?
Наверное, так: ты очень и очень напряжен, а напряжение порождает доступные ему мысли и соображения, как говорится, без различия пола и возраста. Все соображения, а не только самые необходимые в данный момент и моменту соответствующие.
Твой выбор? А нет ничего труднее, как выбор самого себя: каким ты вот сейчас должен быть, то есть чему в самом себе отдать предпочтение? Сколько же у меня сейчас (1993 год) начато рассказов? «Без сюжета» — раз. «Сапропель» — два. «Выбор марша» — три, «Безмятежная редакция» — четыре. А сколько еще не имеет названий?
Статья «Московский Кремль» для журнала «Travеler» — журналом отложена. «Путешествие русского человека по Америке» принята и опять отложена (им же).
«Заметки из истории русской интеллигенции плюс перестройка» (французский журнал, не помню названия), «Экология и культура» — «НМ», 1994, № 11 — пойдет; рецензия на книгу эколога Дугласа Вайнера — «Новый мир» № 10; статья о Карамзине (отрывок — в «Труде») в отдельном сборнике «Венок Карамзину».
Пишутся:
статья «Мелиорация» для экоэнциклопедии, которую я же еще в «Экологии и мире» и затеял;
«Экология и психология сегодня» — не знаю, для кого. И еще и еще что-то… не помню. Надо полистать бумаги, в которых я тону, временами — тону отчаянно. А эти вот заметки? А рассказ-пьеса «ВХО(д)» — самое главное и самое трудное, наверное, не справлюсь, не успею.
Вот и все авторучки свои потерял — писать нечем.
Может, знак: не пиши! Ни к чему?!
Нельзя поддаваться собственным настроениям при жизни, после смерти — сам Бог не позволит.
Давным-давно пора бы поговорить о «НМ»: уже 1994 год. Откладываю. Должно быть, так: прошлое, то, что держит память, лучше и легче, чем сиюминутное, ложится на бумагу.
Кое о чем у меня уже написано выше, это я не всегда, но помню и не по забывчивости повторяюсь, а потому, что, если я что-то пишу, я не должен размышлять над тем, что уже написано: чего еще нет — нужно писать, как будто в первый раз, иначе (у меня) не получается. Легче потом выбрасывать лишнее, чем соображать во время работы: а вот об этом уже есть. Искать в тексте это «есть» — муторное дело!
В периоды «застоя» (Брежнев, Андропов, Черненко) были своеобразные попытки государства (постсталинского) искать союза с культурой — с наукой и с искусствами. Союз был искусственным, неискренним, но был — и результаты имел немалые. Может быть, даже в силу своей необычности, нестандартности. Такого рода союз не мог быть долговечным, он и иссякал, но его необычность и новизна, кажется, могли способствовать и некой новизне искусства.
Государство вкладывало в культуру средства — в науки гуманитарные поменьше, а в НТП-вские, военного значения, — очень много. Нынче, когда секреты рассекречиваются, диву даешься, какие были достигнуты тогда результаты и в фундаментальных исследованиях, и в прикладных, и в КБ. Если учесть, что в организации труда в порядке использования средств коэффициент полезного действия у нас всегда был очень низок, — удивление еще больше: это сколько же надо было средств, чтобы достигнуть?
И как бы то ни было, а срабатывал энтузиазм — он всегда будет, если достигается результат, не было апатии, даже и при искусственном взаимном доверии. Порядок взаимоотношений был довольно четкий.
Разумеется, не могло не возникнуть расхождений между людьми творчества — во МХАТе и на Таганке, между Глазуновым и Неизвестным, между Хренниковым и Шостаковичем, между Кочетовым и Твардовским. Но вот в чем дело — и разногласия эти тоже регулировались сверху уже в силу того, что и в «оппозиционерах» (поначалу даже в Солженицыне) было заложено бережное отношение к социализму — как бы ему-то, такому прекрасному и уже принявшему столько жертв, не повредить, не оскорбить его (и не вывести из себя).
Государству, которое плело заговоры по всему свету — и в Африке, и в Америке, и в Азии, — очень важно было выглядеть государством культурным, оно и выглядело, старалось, даже вопреки своим истинным интересам и намерениям. Показуха была сущностью этого государства, и она была на большой высоте, достигала некой искренности, подлинного энтузиазма, который возникал как в результате прямой государствепнной поддержки, так и в результате противостояния этому государству.
Новой русской истории не было без проблемы «интеллигенция и власть».
Интеллигент, по крайней мере в первом, разночинном поколении, был обязан быть не только оппозиционером, но хотя бы недолго — бунтовщиком. Вторые и третьи поколения уже могли стать элементарными специалистами — врачами, инженерами, учителями, юристами, но первое — ни за что!
Минуя партийную интеллигенцию (Цюрупа, Луначарский, Семашко), я наиболее отчетливо представляю себе проблему «Интеллигенция и власть нового времени» в трех беспартийных лицах: Горький, Сахаров и Солженицын. Может быть, еще и Пастернак.
Государство же и социализм представляли собою Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев.
Во времена «застоя» интеллект, интеллигенция жили богатой духовной жизнью — тихой, невнятной, но духовностью в чистоте, едва ли не в идеальной чистоте, а искусство, те же Ю.П. Любимов и А.Т. Твардовский, этой «кухонной» духовности (и вольно, и невольно) старалось соответствовать. Они ничего не достигли превыше этой удивительной кухни, но кухня считала героями их, а не себя, и такое отношение было очень плодотворным.
Нынешние «круглые столы», «симпозиумы» и «дискуссии» — жалкое подражание столам кухонным: ведь гласное и свободное слово само по себе очень много теряет перед словом тайным, несвободным.
У меня нет тоски по кухне, разве что по свободному от коммерции самиздату. Кухня была, ее не стало, она явление временное уже по одному тому, что средой ее обитания был социализм, который тоже оказался временным, значит, иначе судьба кухни сложиться и не могла.
За нынешней гласностью скрывается ничуть не меньше, чем за «железным зановесом» застоя: под знаком гласности и свободы скрыть себя, себя выдумать даже легче, чем под знаком диссидентства.
Я никогда не забываю, что я — русский (и захотел бы — не забыл). Это прежде всего значит, что неурядицы, глупости, страдания России мне ближе, чем людям нерусским. Все, что говорится о величии России, я слушаю, но сам никогда в жизни не произносил, это значило бы — хвалить себя, говорить о своем собственном величии, а кто-кто, но я-то знаю, что его у меня нет.
Нельзя располагать народы по их значению от самого высокого до самого низкого, Родина — это мать, а разве можно говорить кому-то: моя мать гораздо лучше твоей! Матерей не выбирают, матерей любят — и только, ни с кем их не сравнивая.
Наверное, русские диссиденты того времени думали (ощущали) этот предмет примерно так же.
Вчера, 5.У.94, в 17–00 Черномырдин собирал совещание. Вопрос: подготовка к празднованию пятидесятилетия Дня Победы — 1995 год.
Белый дом. Дом правительства. Теперь он окружен высоким бетонным забором. (Недавно вместо забора появилась шикарная чугунная ограда). За забором ведутся какие-то строительные работы, все перерыто, видимо, всякого рода преградительные сооружения, ограничители проездов и проходов.
Внутри здания свежесть, недавно закончился ремонт, после разрушений октября 1993 года. (Я бывал здесь и раньше, могу сравнивать.)
Новые, очень дорогие люстры. Новая мебель. Новая отделка стен и потолков, лепнина. Свежо и ненадежно, спешно. Новый паркет плохого качества, между паркетинами зазоры, блеклая окраска. Масса служащих и охраны — посты, посты по всем коридорам. Раньше в этом доме было правительство (Совмин) и Верховный Совет РСФСР. Теперь — только Совмин. Ковровые коридоры, изящные фигурки подают чай-кофе. Строгие девушки, очень строгие. Их много, много.
Заседание: человек восемьдесят, средний возраст — семьдесят. Продолжительность — два с половиной часа.
Я сидел и записывал отдельные фразы выступающих.
«…создают славу. Я хочу сказать — создавайте славу своему народу! Хочу сказать: мы не должны пройти мимо всенародного подвига. А самое главное, я хочу сказать — от нас зависит престиж нашей страны. Наш человек героический и так далее. Всего не перечислишь, какой он».
«Можно ли иметь общество, у которого нет идеала? Задача правительства — дать народу идеал. Для этого надо использовать искусство».
«Надо сохранить правду, у нас по телевизору одни сникерсы, а мы, ветераны, просим по телевизору один час в один месяц, а нам не дают».
«Президент внимательно нас принял, а дальше что? Мне представляется, что наше правительство должно обратиться к старшему поколению, это очень важное человеческое дело».
«Мне кажется, все мы люди».
«О молодежи — это очень трудный вопрос».
«У меня два момента. Ради чего мы воспитываем поколения? Выйдем на улицы, чтобы все узнали: наша культура самая высокая в мире…»
Многие из этих людей воевали. Какие драмы пережили, какие трагедии, какое обнажение человеческой сущности, жизни и смерти! Сколько жертв, страданий?! Но им не надо говорить обо всем этом — слово для них становится средством собственного унижения.
Певцы, актеры, режиссеры, офицеры в отставке — их слово не для кремлевских заседаний. В землянках, под артобстрелом — другие же совсем это были люди. Человеку недоступны многие-многие метаморфозы от и до. От часа судьбы до часа объяснения судьбы на официальном заседании.
Н.Михалков (умнее других). Мы победили не потому, что ненавидели немцев, а потому, что любили Родину.
Никогда ни от одного крестьянина (колхозника) я не слышал слов о любви к родине (армия была крестьянской), там другое: исполнение долга, человек родился с долгом: пахать, сеять, родить детей, воевать, умирать на войне. Долг перед Родиной — это и есть любовь к ней.
Речь Черномырдина. «Вот ради какой России мы все нынче переносим. Для великой, могучей, культурной, справедливой!» Ну а где они — величие, могущество, культура, справедливость? Зачем так много эпитетов? Достаточно одного слова: благополучная (нормальная).
Такой России, черномырдинской, великой, сильной, культурной, справедливой, мы, как ушей своих, никогда не увидим. Величие было бы тем большим, чем меньше было бы глупостей и воровства. А получается: чем больше всего этого мы переживем, тем будем величественнее.
Франция тоже победила, а праздника Дня Победы у нее нет. И правительство не заботится о том, чтобы он был.
Нельзя привить любовь к стране, так же как нельзя привить любовь к той или иной женщине, к тому или иному мужчине. Праздник — это проявление веры, а если ее нет?..
Не заметить этого Дня — нельзя. Заметим. Но без пропаганды: «Любите! Кто вы такие, чтобы не любить?»
Оглядываюсь на свое прошлое. Нет, я никогда не подвергался чьему-то воспитанию. Мои родители не объясняли мне, что такое хорошо, что такое плохо.
Могу припомнить только один случай… Мне лет семь, и мы, мальчишки, играем в сыщиков-разбойников, наш двор по улице Бийской 131 (в Барнауле), с двором 129, где жили «мерсята» — дети обрусевшего немца-колбасника Мерса. Их двое было, колбасников-немцев, — Мерс и Шепель, — и странно, у них магазины были (очень небольшие) в центре города, визави по диагонали, на пересечении улицы Пушкинской и Соборного (Социалистического) проспекта. Так вот, мерсята смутили меня, и, будучи сыщиком, я им, разбойникам, кое-что сообщил о наших сыщицких планах. Я чувствовал неладное и рассказал об этом отцу. Он очень сурово объяснил мне, как это называется, и это объяснение было, кажется, единственным за всю мою жизнь нравственным назиданием. Больше я не помню ничего подобного. Наверное, в школе, в техникуме, в институте меня воспитывали, что-то мне внушали, но я ничего, совершенно ничего из внушаемого не помню. Я тоже воспитывал, проводил со студенческой группой политзанятия — на какие темы, о чем? Опять, хоть убей, не помню. Знаю только, что моя мать говорила: не надо никому и ничего объяснять, человек должен все знать сам, на то он и человек.
И, должно быть, у меня было это ощущение — «сам», была какая-то природность, и я никогда не делал чего-то потому, что это нельзя, но потому, что это мне не хотелось. В техникуме мои однокурсники страшно пили, на дверях общежития-флигеля у них было написано: «Колхоз „Алкоголь“». Это все были сельские ребята, «коммунары», из хороших с.х. коммун, но и они, должно быть, пережили раскулачивание, однако я, дружа с ними, за все время, пока учился, в рот спиртного не взял, не хотелось.
Когда мне было 12 лет, мы встречали Новый год в семье Алеши Конобеевского, моего одноклассника, сына адвоката, его мама угощала нас новогодним ужином, и мы пили фруктовую воду. Чокались, кричали «ура!». Я-то думал, что мы пили вино, и ничего хорошего я в вине не нашел (неприятная отрыжка).
В первый раз я пил настоящее вино (водку), когда окончил техникум. Приехал в село Таштын, районный зоотехник Окунев (хакас), который шел на повышение в область и которого я заменял, устроил прощальный вечер. Меня заставили пить. Водка мне очень не понравилась, и в институте я тоже ни разу не пил — чего хорошего? Позже я мог (и могу) принять, однако немного — я не пьянею, но отравляюсь, высокая температура два-три дня (два раза в моей жизни это было). Чтобы хоть что-то пили мои родители, я не помню.
Однажды я запросто выкурил папироску, но мне это тоже не понравилось, и больше я никогда и не пробовал курить.
Я женился в 25 лет, но раньше у меня ничего не было. Ругаться я могу, но только не вслух.
Я никогда ни у кого не занимал денег (а вот это — от матери).
Во всем этом нет ничего, кроме «хочется — не хочется, мое — не мое».
А что такое «мое»? Прежде всего это мое природное. Человек, развиваясь, может уходить от некоего потенциала, от качеств, заложенных в нем природой, но может и приближаться к ним всю свою жизнь, и это тоже будет его развитием. Ничего из этого я не ставлю себе в заслугу, хотя бы потому, что никаких усилий это от меня не потребовало, скучно мне от этакой благоправности тоже не было, представлялось чем-то естественным, о чем и думать не требуется. Моего как моего вообще во мне мало, окружающий мир мне всегда несравненно интереснее, чем я сам себе, а от родителей я унаследовал привычку сводить свои собственные потребности к минимуму. Не к абсолютному, нет, но к тому, который как-то соответствовал бы моему положению — студента, инженера, доцента, писателя и т. д. Я знаю, как должен быть обеспечен ну, скажем, доцент, однако ничуть не хуже знаю, что будет мешать мне быть доцентом, без чего я, доцент, смогу обойтись и что может быть лишним в моем существовании. Это даже и не нравственные правила, не убеждения, это собственное безотчетное ощущение самого себя в этом мире — и только. Может быть, это своего рода рационализм, не знаю, точное определение меня даже и не интересует. Это я сам — вот и все.
Сегодня впервые в жизни я решился выразить это словами, до сих пор и этого не требовалось, не было такой потребности. Да и сейчас ее тоже нет.
Принято считать, что писатели перестают писать по той же причине, по какой и всякий другой человек перестает в свое время работать: по старости лет. Наступает срок, силы иссякают.
Но это или не так, или — далеко не всегда так.
В расцвете сил Толстой и Достоевский создавали свои великие произведения, становились все более и более мудрыми и умелыми, ставили все более трудные проблемы, и решали их, и привыкли, что так и должно быть, что иначе быть не может. Что это естественно — решать в искусстве проблемы человеческого существования. Но вот выясняется, что сама-то литература, что все искусство имеет потолок, границу, за которой оно бессильно. Это граница-вопрос — «что будет?» (И другие подобные вопросы.)
Что будет со всем тем, что они, писатели, изобразили? Что и ради чего они изображали? И тут собственная мудрость заводит писателя в тупик, и это тем более трагично, что он привык выводить своих читателей из тупиков, объяснять им тот самый смысл жизни, который, оказывается, он сам не знает и не знает даже больше других, потому что факты бесконечно усложнились, приобрели для него не столько реальное, сколько художественное значение.
И Толстой, и Достоевский, и Салтыков-Щедрин, и Гончаров, а Гоголь в сорок с небольшим лет к этому тупику пришли. Наука, тем более точная, не знает этого потолка, этих сомнений, и ученые стареют по старости, а вовсе не по причине неразрешимости тех проблем, которыми они занимались всю жизнь. Мысль и процесс мышления в науке и тот же процесс в искусстве достаточно несовместимы. Науки (точные) — всегда частности и анализ, искусство — всегда синтез и обобщение. Наука — переход неосознанного количества в осознанное качество, искусство — неосознанного качества в осознанное количество (количество страниц, полотен, нотных листов, театральных сцен). Правда, я не уверен, что так оно и есть.
То и дело самый ненавистный для меня человек — это я сам. Никто ведь не чувствует все мои промахи, недоделки, неорганизованность, глупости, как я сам. Меня это мучает днем и ночью (мне часто снятся мужчины и женщины, которые меня упрекают, ругают, ни в грош не ставят). Исключение — только те часы, когда я пишу. Это спасение. С возрастом все это возрастает. Я не знаю, почему я ухитряюсь глубоко обидеть любимого мною человека и принести радость человеку столь же глубоко ненавидимому. Но это чуть ли не мое качество.
Выдающийся актер своего времени, молодой, из крестьян-колхозников. Отец — посажен, он его не помнит, мать — малограмотная женщина выдающегося ума.
И так он — в элите интеллигенции, но не интеллигент. Волков, Шаляпин, Репин, вступая в искусство, вступали в мир искусства, приобщались к людям высоко, высочайше интеллигентным не в первом поколении. А этому приобщаться было не к кому. Выдающиеся деятели искусства были, но не составляли ни поколений, ни традиций, ни среды, в которую можно было вступить, как в некий новый мир. И наш герой так и остался без аристократии. Это — наша ситуация.
Завтра лечу в Сеул. А сегодня потерял начало (страниц 20–25) произведения (не знаю жанра) «ВХО(д)» — Всероссийское хамское общество (добровольное). Очень неприятно!
Собираю сумку и обязательно опять что-нибудь забуду.
А где нашел-то? Через десять дней? Когда вернулся? Как раз посередине своего письменного стола. Это я умею. Вот и В.И. подтверждает: это вы умеете!
6 — 13.У.94. Пароход «Юрий Андропов», Москва — Нижний Новгород, конгресс «Культура и будущее России». У меня накопилось чего сказать на «Конгрессе», но не сказал. Стеснялся В.
Запомнилось: у входа в шлюз удит рыбак. Замер статуйно на пейзаже: сию минуту солнце уйдет за горизонт, покинет этот мир до завтра и, прощаясь, изобразило рыбака в своем свете. Художнику надо изобразить изображение рыбака, изображенного солнцем, земную и небесную сферу и рыбака в ней. Вот хотел рассказать и тоже не смог.
Артист, который, как артист, ругается с женой, вовсе не артист, а человек, искалеченный театром, жертва театра.
Артист — тот, кто становится артистом только на сцене и нигде больше.
Кто познал величие любимого человека, тот и сам — человек.
Дело как будто ясное для каждого: надо умереть. А не выходит.
Но временами очень хочется что-нибудь вспомнить. Что-то такое, что тебя в свое время определяло. Ведь почему-то под старость ты такой, какой есть, а не другой? Природа природой, а еще?
Нас определяют детство, юность, а потом и молодость.
Не сказал бы, что бытие определяет сознание, — сознание и способности тоже определяют бытие как бы даже и не в меньшей мере, а то, что мы называем подсознанием, — тоже сознание, но не «прямое», а «косвенное», через посредство тех фактов и событий, которые мы переживаем, не придавая им значения без подключения памяти. Сознание — это тоже способность. Сознание — это та избирательность, которая определяет все другие избирательности. Поэтому сознание — это и наша действительность, и наша духовность.
Очень долго меня совершенно не касался вопрос о том, какой я есть, каким должен быть. Каким был, таким и был — все. Вопроса нет. Он и сейчас меня не волнует: поздно волноваться, лучше просто поразмыслить. И только в воспоминаниях этот вопрос возникает. Бог весть с какой силой, но возник.
Так вот, полных шесть лет (1933–1939) я был студентом гидромелиоративного факультета Омского с.х. института. Такие мрачные годы, такое захолустье, а воспоминания о них светлые. Я уже говорил об этом, хочется еще.
Четыре из шести лет я прожил в комнате № 31 шестого общежития (гидромелиофак). Нас было семеро в этой комнате, все учились очень старательно, очень хорошо — никаких особых происшествий и передряг, учились — и все тут. Будто бы даже и рассказать не о чем, но это потому, что в нашей 31-й комнате были, пожалуй, не преувеличу, идеальные отношения.
Я не помню, чтобы кто-то с кем-то хотя бы слегка поругался, поссорился. Не помню, чтобы кто-то о ком-то сказал за глаза, посплетничал. Не помню, чтобы кто-то у кого-то что-то разузнавал — то ли какие-то подробности прошлой жизни, то ли что-то интимное. Не помню, чтобы кто-то у кого-то что-то сдувал, воспользовался чужим проектом, чужим конспектом. Не помню, чтобы кто-то рассказал неприличный анекдот. Правда, ругались запросто, безо всяких причин пересыпали речь матом. Все! Но не я — не было потребности. Не помню, чтобы кто-то сказал что-нибудь скабрезное о наших студентках.
Мы окончили институт и так и не знали — кто из нас из какой семьи, разве только в самых общих чертах (кто и где работал до института — знали). Минимальное вмешательство в жизнь каждого, никаких характеристик и оценок друг друга, никаких друг к другу просьб. Никто из нас никогда не был пьян, хотя раза два в год пятеро из нас (кроме меня) хорошо в течение двух-трех дней выпивали. Выпив, играли в карты и на струнных инструментах — гитара, две мандолины, иногда — балалайка.
Ровно в 23–00 ложились спать, если ложился хотя бы один, то он и тушил свет — и все дела: остальные должны были подчиняться. Рядом, в учебном корпусе, у нас была «чертежка», у каждого свой пульман: хочешь заниматься, гонишь проект — сиди хоть всю ночь. Я ночами никогда не сидел, но и учился, пожалуй, послабее всех в нашей комнате. Я уже тогда что-то писал и публиковал («Омский альманах», помню рассказ «Домой», «В лесу», еще что-то), а еще любил театр — мы с Любой ходили в облдрамтеатр. (Шесть км туда, шесть — обратно пешочком — транспорта не было.)
Не скажу, что наше общежитие было монашеским, нет.
На нашем же курсе, только не в нашей (№ 16), а в другой (№ 17) группе учились Андрей Дв. и Тася Ч. Нельзя было заметить между ними хоть какой-то взаимной симпатии, но раза два-три в год они закрывались на весь вечер то ли в той комнате, где жил Андрей, то ли в Тасиной, и все прочее население этой комнаты (человек шесть) уныло бродило по коридору: «Занято… И скоро ли они там кончат?»
Бывало, кто-то выставлял перед дверями «занятой» комнаты фонарик с красным светом.
Однако и эти случаи проходили как бы незамеченными, никто их не обсуждал, никто не упрекал ни Андрея, ни Тасю, все были заняты учебой, все комнаты старались еще и больше, чем наша, наша была самой способной, вот мы и ложились спать в 23–00, другие не могли себе этого позволить, сидели и зубрили по ночам.
В комнате нашей были дежурства; когда привозили дрова, за дровами бежали все, кто был в наличии, дрова «складировали» под кроватями, дежурный топил печь. В общем-то, было тепло, теплее всего — на нашем третьем, верхнем этаже. Мы очень хорошо (гораздо больше наших доцентов) зарабатывали на практиках, была у нас и «комнатная» собственность: энциклопедия Брокгауза и Эфрона, патефон с набором пластинок, фотоаппарат, струнные инструменты. Покупали в складчину. Когда закончили учебу, разыграли имущество по жребию. Мне достался патефон.
Я сказал бы — настоящая мужская дружба, мужское поведение, весьма уважительное отношение друг к другу. В комнате нашей жили два брата Жихаревых из Смоленской области, старший — Михаил, младший — Анисим. Они оба окончили техникум в Ташкенте, где преподавал их старший брат, видный инженер-гидротехник. Анисим был очень способным, быстрым в проектировании, на лекции он приходил с техникумовским конспектом, и, если наши доценты в чем-то путались, он их поправлял:
— Не так. Надо вот так!
Доцент К.М. Голубенцев, большой дилетант, пожилой уже (строительная механика, сопромат) — тот не стеснялся, спрашивал на лекции:
— Так я говорю, Анисим Андреевич?
— Правильно, правильно! — подтверждал Анисим. Или: — Не туда пошли, К.М.!
Так вот, Анисим вступил в комсомол. Никто из нас ни слова не сказал по этому поводу, но некое замешательство, помню, было, и Анисим это чувствовал (и делал вид, что не чувствует). Это, кажется, единственный случай некоего недоумения, других не помню.
Мы этот поступок не осуждали, не обсуждали. Политического смысла он для нас не имел, мы были вне политики, как бы даже и не замечали ни Сталина, ни «врагов народа» — процессы-то шли один за другим, репрессии, высылки, но наш институт они почти полностью обходили. Анисим тоже был аполитичен, тем более его поступок не мог означать ничего, кроме карьеризма.
Вот и вспомнил… Будто бы и ничего, а ведь как много! Берется оно откуда-то — самовоспитание, житейская самошкола. Мы окончили институт, стали инженерами, а еще кончили и эту школу.
Живу не в своей жизни. В чьей-то чужой, не знаю, в чьей. Я о такой и представления не имел, только по отрывочным слухам. О ГУЛАГе и то больше наслышан и начитан, хотя, конечно, знаю: ГУЛАГ — еще хуже, значительно хуже. Никогда не был администратором, не увольнял, не принимал, никому не назначал жалований и плохо, совсем плохо представляю себе, что такое дебeт, а что — кредит.
Помню, правда, что мой отец (мне лет десять-двенадцать) решил из канцеляриста, из продавца книжного магазина стать счетоводом (вот заживем-то), и я бегал по букинистам, по библиотекам, искал для него «Бухгалтерию» Вейсмана. Нашел. Отец изучил Вейсмана и стал счетоводом. Не надолго. Года на полтора. На большее его не хватило — ушел снова в книжный магазин.
А мне вот на старости лет выпало. Жуть! Счета, банковские операции, куда-то деньги сдаем, куда-то платим, где-то, у кого-то я их выпрашиваю. Кто-то предлагает мне купить «НМ», кто-то куда-то вложить наши деньги.
Филимонов — спец! А мы прогорели!
Бухгалтер (ставка в полтора раза больше моей), симпатичная девочка, хочет — приходит на работу, хочет — нет, приходя, что-то мне объясняет, не знаю, что. Но главное, я не могу уяснить себе порядка вещей вокруг — порядка нет, его нет и во мне самом, в моем психическом состоянии. Вот сейчас пишу — где? В очереди, в поликлинике. В редакции не попишешь, там утро начинается только с неприятностей. Излагать их — будет еще неприятнее. Вот когда я чувствую неуместность своих восьмидесяти лет — в 90-е годы в России восемьдесят совсем неуместны, парадокс какой-то, больше ничего, несчастный случай, тем более что голова-то ведь на месте, с ней несчастного случая все еще не случилось.
Слабеет — это правда, но пока не слабее других. Иногда жалею — уж отказала бы, и дело было бы ясное. В чем импотенция — бессилен все это написать, сделать из себя персонаж какого-то произведения, не знаю какого.
Жизнь прожил в удивлении — что такое человек? Как? Откуда? Зачем? Особенно загадочна женщина. Почему человек — такая загадка для самого себя? Ни для одного живого существа в его существовании загадки нет, для человека она изначальна и обязательна, даже если он об этом не подозревает. Значит, он переложил ее на своего одноименного коллегу.
Человек идет по улице на двух ногах. Прямо. Быстро. На мой взгляд, красиво. Любуюсь, однако удивляюсь: ладно, происхождение чего бы то ни было всегда загадочно, но почему сегодняшний-то человек именно такой, какой он есть? Его создала природа, ее условия, но в одинаковых условиях люди различны до такой степени, что не понимают и не знают друг друга… Родные братья и сестры — не знают. Дети и родители не знают.
Мозг — это тайна, да, но ведь и все те функции. которые исполняются помимо мозга, исполняются тоже по-разному? Или помимо — ничего? Уж не мешает ли взаимопониманию слово? Оно ведь столько же универсально, сколько единично?
Публикация Марии МУШИНСКОЙ
Эти воспоминания С.П. Залыгин писал в 1992–1994 г.г. и потом, видимо, почти к ним не возвращался. Он предполагал, что в законченном виде воспоминания могут быть опубликованы, однако завершить работу над ними не успел. Не успел выверить фактическую сторону написанного — события и факты изложены так, как автор их запомнил.
От публикатора.
«Октябрь» 2003, № 9,10,11
Примечания
1
И.Б. Роднянской.
(обратно)2
Кабинет Политбюро мне показывали в Кремле. Стол круглый.
(обратно)3
Речь вот о чем: о драке в ЦДЛ, когда какой-то хам-антисемит съездил кому-то (русскому) по физиономии. Писательская общественность поднялась: судить! Драчуна судили. Алесь Адамович и Юрий Черниченко — обвинители. Подсудимому дали два года. А через год, что ли, заключенный в тюрьме повесился (повесили?)… С тех пор как увижу Алеся или Черниченко в натуре или по ТВ — у меня мурашки по коже…
(обратно)4
Года до 1992-го китайцы часто навещали «НМ», теперь — ни одного!
(обратно)5
Что же все-таки тогда, в 1956 году, со мной произошло? Вне поля моего непосредственного зрения? Почему столь представительные были проводы? Кажется, дело обстояло так: мои заметки понравились Мао, он их читал, а я через каждые несколько дней получал в гостиницах разных городов (я ездил и летал, куда хотел) конверт с очень большими юанями — гонорар. Я эти деньги истратить не мог, было стыдно уж очень-то обарахляться, и отдал деньги (значительную часть) на покупку квартиры своему переводчику Хуану. Он как раз женился, обзаводился семьей.
(обратно)6
Позже, в 1968 году, Червоненко был послом в Праге — ехал впереди нашей танковой колонны. Затем — посол во Франции. В одной из поездок в Париж я не раз с ним встречался. Теперь это странно, тогда — ничего.
(обратно)7
П.Я. Кочина возглавила комиссию по использованию и охране водных ресурсов Сибири и Дальнего Востока.
В этом сотрудничестве было много любопытного и сюжетного, но не буду отвлекаться от биоинформации, разве уж только когда я закончу, скажу лишь, что с П.Я. мы сработались хорошо, я долго жил в ее полукоттедже в Академгородке (вторую половину занимал Г.И. Марчук, в ту пору начальник вычислительного центра СО). У меня была дружба с А.Д. Александровым (в его семье я тоже жил, в коттедже напротив Кочины), с А.Б. Румером, В.Л. Покровским, Стрелковым, Сагдеевым, Ворожцовым, Канторовичем и др. Вряд ли я мог бы написать о каждом из них, но вот что касается общего лица академгородковцев того времени — дай-то Бог!
(обратно)8
Увы! — позже и та, и другая ударились в корысть, в подлоги, в темное предпринимательство. Время наступило такое, эйфория перестройки миновала, наступила эйфория стяжательства.
(обратно)9
Выпускники реальных училищ (их было очень немного) принимались с экзаменами, чтобы побольше оторвать от общего, прежде всего российского пирога. И они предали свой язык, будучи притом заинтересованными в притоке русскоязычного населения.
А тот же Казахстан? Он страдал вместе с Россией от коллективизации и репрессий, это так, но ведь Россия Казахстан создала (такого государства никогда не было), создав — отдала ему земли, которые никогда раньше казахам и не принадлежали.
Я — отнюдь не за новый передел. Я — за истинную историю, без которой не может быть справедливых взаимоотношений.
(обратно)




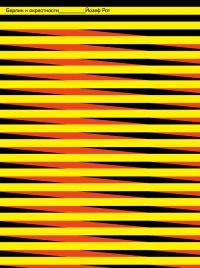
Комментарии к книге «Заметки, не нуждающиеся в сюжете», Сергей Павлович Залыгин
Всего 0 комментариев