Дмитрий Евгеньевич Галковский ПИСЬМО МИХАИЛУ ШЕМЯКИНУ
Глубокоуважаемый Михаил Михайлович!
Эпистолярный жанр есть вид литературы советскому человеку недоступный, и поэтому я нахожусь в некоторой растерянности и некотором недоумении. Но все же в настоящем письме есть насущная необходимость, и я, помолясь Богу и заранее принося Вам всевозможные извинения за многочисленные стилистические несообразности, приступаю к написанию оного.
Во время Вашего последнего приезда в Россию Вы договорились с Людмилой Владимировной Абрамовой относительно участия в создании энциклопедии Высоцкого. Сейчас общий замысел предполагаемого издания конкретизировался и поддается более-менее связному изложению.
Вообще издание энциклопедии Высоцкого есть вещь ни с чем несообразная и фантастическая. Если вести речь об энциклопедии в академическом смысле, вроде энциклопедии Гёте или даже совковой Лермонтовской энциклопедии, то это смешно уже по той простой причине, что подобной чести не удостоились Достоевский, Толстой, Пушкин. Что касается популярной "энциклопедии", вроде массовых красочных изданий, посвящённых “королям рок-н-рола" или героям диснеевских мультфильмов, то Высоцкий для этого слишком трагическая фигура, а кроме того, в условиях России поделки "для народа" всегда выглядят пошло.
И тем не менее — энциклопедия. Когда мне сказали: "Энциклопедия", — я подумал и согласился. Почему? Мне кажется, что Высоцкий фигура символическая (вроде Мэрилин Монро или Чарли Чаплина), и поэтому может организовывать вокруг себя пространство мира, служить мерой вещей. По крайней мере на 1/6 части суши.
Я бы мог сказать Вам иначе: де песни Высоцкого — это энциклопедия русской жизни; его персонажи — галерея социальных типов; его язык — впервые заговорившая советская улица и т. д… но все это было бы неправдой. То есть правдой, но правдой с маленькой буквы. И стоило бы об этом писать зачем-то "энциклопедию"? Разве что по какой-то немыслимой провинциальной глупости. И почему не написать так же о Галиче, Окуджаве? Нет, я взялся за это дело потому, что Высоцкий представился мне определённым символом, то есть человеком, окружённым "мистическим ореолом". Кто знает, может быть именно в нем нашла свое выражение, нет олицетворение, эпоха 60- х. Наверно, как все люди такого рода, он не был даже "типичным представителем". Как не были типичны и Чарли Чаплин, и Мэрилин Монро. Если бы они прошли по улице своего времени, наоборот, они бы выделились своей необычностью и непохожестью на окружающих. И выделились далеко не "вверх", скорее — "вбок". Например, оба были коротконоги, что явно "не украшает". Но "символ". И через "символ" раскрывается эпоха. Через символ можно раскрыть эпоху. Её "трактовать". И следовательно, "освоить", "закрыть" — перейти в другое время. 60-е именно сейчас умирают. Свинцовое колесо времени медленно повернулось, и прошлое рассыпается. Даже я, 30-летний человек, чувствую это. И именно сейчас, когда физически очевидцы тех событий еще живы и дееспособны, когда еще не выветрился окончательно запах времени, следует зафиксировать прошедшее. Увидеть в произошедшем некоторый стиль, а настоящему через это — придать некоторый смысл.
Что такое для меня, человека другого поколения, "эпоха 60-х"? Наверное — время людей с человеческим лицом… и булыжником вместо сердца. Шестидесятники были крепкими ребятами, забивавшими железными копытами насмерть всех и вся. Их детство и отрочество — да, кто же спорит, — были ужасны. Но по сути-то — поколение победителей. Старшее — военное — было просто уничтожено, что создало неслыханные возможности для карьеры. Для людей, родившихся в 30-40-х, весь мир был у ног. Менее всего шестидесятники нюни и размазни, нет, они пришли в этот мир с ощущением, что им чего-то недодали, причем на животном уровне: пожрать, поспать, порезвиться на травушке-муравушке. Эти же люди пришли в мир и с другим чувством: что их обманули, что они верили, так по-детски искренне и слепо, в то, во что верить не следовало. Не следовало до такой степени, что их любовь была не только комична, но и безнравственна. А раз так — туши свет. И они отвели душу. Шестидесятники прошли по головам слабо сопротивлявшихся и малочисленных старших братьев и отцов, сожрали и изгадили золотой запас природы, капитал будущих поколений: выкачали нефть, извели леса, понастроили сотни бездарных и глупых городов, пустили в космическую трубу труд последнего поколения русского крестьянства. И все это сопровождалось оглушительным визгом, нет — инфразвуковым ревом демагогии и словоблудия: чтением бездарных (а хоть бы и талантливых) стихов на стадионах, захватом творческих союзов, "разбором" после удушения пражской весны между различными шестидесятническими кланами, пародийными исповедями и покаяниями, "хитрой политикой" по отношению к партийным хамам. Реально серьёзной, мужской, взрослой позицией во всем этом была позиция людей старших поколений (Ахматова, Солженицын) или совсем молодых — "профессиональных неудачников" 70-х, коим вовсе не только власти, а в значительной степени зарвавшиеся шестидесятники "перекрыли кислород" и просто "извели". Извели настолько, что, когда началась перестройка, 60-летние сотрудники "Юности" стали шнырять по арбатским подворотням в поисках "молодёжи", и, кстати, в конце концов привели в редакцию каких-то прыщавых "рокеров", будто бы являющихся сменой постепенно умирающих от инсультов и инфарктов "отцов-основателей". Впрочем, конечно не "постепенно", это неточное слово. Шестидесятник умирает в прыжке, как кенгуру. Он до конца, до упора цепляется за жизнь. В 60 лет, вроде N (**), помадится, одевает джинсы и свитера, чуть ли не серьги, ухаживает за 17-летними девочками (уже обожравшись и не имея никакого желания), разъезжает по международным молодежным конгрессам. И если умирает, то как-то неопрятно, то до комичного быстро (шёл и умер), то неправдоподобно долго, с чудесными воскресениями и исцелениями. Вечные дети, шестидесятники не умеют стареть. Достойная старость, мудрый отказ от жизни, уход в сторону для них невозможны. Они идут прямо и разбивают себе голову о каменную стену.
Пожилой бизнесмен почувствовал приближающуюся старческую немощь: слабеет память, дрожат руки, ошибается разум, накатывают приступы немотивированной злобы. Он собирает наследников и передаёт дело. Разумеется, сохраняя совещательный голос и оставляя себе долю на личные расходы. И, проживя достойно остаток жизни, умирает в 95 лет, окруженный благодарными и любящими детьми, внуками и правнуками. Другой вариант поведения: почувствовав, что хватка слабеет, что дело выскальзывает из рук, человек начинает обречённо, насмерть сопротивляться, доказывая всему миру, что "ещё поживём". Он через нехочу валит на диван секретарш, бьет сопляков-конкурентов чугунным сапогом в живот… И в конечном счете умирает в 65 и плохо. Это — шестидесятник. И все это при наивном сентиментализме, задушевных беседах на кухне, детской влюбленности в "хорошую девочку Лиду", пронёсенную через десятилетия цедеэловского сумасшедшего борделя.
О русской истории шестидесятник имеет самые фантастические представления: путает Александра I с Александром III; проводит тонкие аналогии между Бенкендорфом и Ежовым; судит об Иване Грозном и Александре Невском по фильмам сталинского кинематографа. Человек, просто читавший С.Соловьёва и Ключевского (людей в общем средних и заурядных), кажется на этом фоне специалистом по русской истории. Читавший брошюры Бердяева — специалистом по русской философии. При этом суждения шестидесятников поражают своей безапелляционностью и, я бы сказал, наглостью.
И наконец, нравственный дальтонизм. Школа для пролетарских детей, коллективное хождение в парикмахерскую и баню, полууголовный двор с обязательным битьем морды. Потом интенсивная комсомольская жизнь, рисование по ночам дацзыбао, отбивание чечётки на “вечере художественной самодеятельности — (двуцветная курточка на молнии с комсомольским значком, зачёсанные назад волосы, постепенно сползающие на глаза, запах пота и дешёвого одеколона) и тому подобное унылое времяпрепровождение молодого китайца. Вполне органичное, радостное, но уже где-то на уровне институтской команды КВН — с ухмылкой, с как бы отрицанием устоев. При этом нравственная позиция — "ничего не делаем, потому что не дают" была понятна, даже оправдана. Но это была бессодержательная нравственная позиция. Они не стали "хорошими людьми", потому что "не дали". Но по этой же причине они не стали и "плохими людьми". Характерный пример. В 80-е была попытка реанимации кэвээновского движения под многозначительным названием "Весёлые ребята". Это был своеобразный островок 60-х посреди огромного брежневского болота. Сначала они весьма мило шутили, но когда началась перестройка, осмелели и решили дать позитив. Ими был снят четырёхчасовой документальный фильм, по их мнению, чрезвычайно умный и весёлый. Большего хамства я не видел. Например, один из "ребят" вешался в московском парке, а отговаривавших его прохожих снимали скрытой камерой. Или другой умник раздевался догола и бегал по этажам взятого наугад жилого дома, а залезший в коробку из-под холодильника напарник опять же снимал уникальные кадры. И т. д. На западе есть подобные передачи. Но в данном случае всё было снято именно подло, с хамскими смешочками, с неумным и глумливым "интеллектуализмом". Кстати, престарелые шестидесятники до сих пор играют во всякого рода идиотские "розыгрыши" и с гордостью всем рассказывают о своём остроумии:
Сняли у плавучего ресторана пожилую проститутку и представили её NN как ответственного работника министерства культуры, ведающего раздачей орденов и званий. Козел ухаживал за ней три недели, дарил ландыши. А её "весёлые ребята" напоили чачей и привезли к нему на дачу в четыре часа утра. И из-за кустов смотрели, как NN-cкая жена орала. Кайф! Шестидесятники очень гордятся "программным" филь- мом "Застава Ильича". Но ведь это прежде всего очень неприятный фильм. Жеманный, лживый, с питекантропской моралью (апофеоз нравственного подвига: "дать в морду подлецу"). Но главное неприятный. Как неприятен близко сидящий собеседник, у которого пахнет изо рта. По поверхности экрана ползают неинтересные неврастеники и любовно делятся со зрителем своими детскими комплексами. А зрителю (просто зрителю, а не соратнику или историку) неинтересно. Чисто советская история: пациент просит у врача денег за сеанс психотерапии.
Но, с другой стороны, на шестидесятников можно обижаться. Можно ли обижаться на "ровесников Октября", к счастью большей частью погибших на войне и в Гулаге? Несчастный Мандельштам, вырвавшись в 30-х из своего первого заключения, схватился за голову: "Боже! как они там все подобрались!" Ну, что — бросается из подворотни азиатское насекомое, — рост 1 м. 60 см. — перекусывает вас жвалами, брызжет в лицо фонтаном муравьиной кислоты. Что же обижаться? На кого? "Кого" — это ведь означает что-то одушевлённое.
На шестидесятников обижаться можно. Они явно умеют — это видно — плакать. Вопрос Акакия Акакиевича: “Зачем же вы меня обижаете, ведь я же человек? — Разве не может так сказать самый расшестидесятник, какой-нибудь Губенко, третируемый даже "своими"? Вполне может. "Ребята, да какой я к черту министр — я просто Коля, Коля Губенко".
Вакханалия "лирики", девятый вал дурных стихов, захлестнувший совок в конце 50-х, — ведь это, с другой стороны, трогательно и наивно. Тупой дикарь, вдруг сделавший из каменных топоров ксилофон, — разве он нелеп? Он здоров и наивен. "Отелло не ревнив (не злодей), он — доверчив". Эта чудовищная доверчивость, детская наивность 60-х — трогательна. Собственно это поколение заново пережило естественную трагедию жизни. В известном смысле это были "первые люди", и преступление ими осмыслялось как Преступление, любовь — как Любовь и т. д. Сама ситуация была гениальная, почти библейская. И если в 60-е не появилось гениев, то лишь потому, что вообще, в целом, ситуация была одновременно и пародийна. Провинциальна. Но как бы то ни было…
Трудно описать подлинное отношение к этим людям. Когда я думаю о шестидесятниках, то часто вспоминаю устойчивый сюжет западного кинематографа: неведомое протееобразное чудовище, поселившееся в недрах американского звездолёта и постепенно пожирающее членов экипажа. Одна из кульминационных сцен: главный герой борется с семиметровой оскалившейся амёбой, и вдруг из её центра на него смотрит лицо только что поглощённой и интегрированной в общий организм слизняка любимой девушки. И она осмысленно смотрит своему вооружённому огнемётом другу в глаза, и её губы шепчут: "Убей меня". И струя огня вырывается из орудийного жерла, и рёв сгорающего в адском пламени монстра сливается с жалобным криком несчастной Пат или Кетрин. Наверное, это максимальная степень ужаса, так сказать, эталон чудовищности происходящего, абсолютный нуль, постоянно, с мазохистским наслаждением воспроизводимый голливудскими мастерами.
Эти милые человеческие лица, сцепленные в тестообразную массу того, что называется "поколением 60-х" — ужасны. "Возьмёмся за руки, друзья". Видимо, тут и разгадка двусмысленного чувства, вызываемого шестидесятниками. Самое страшное для западного человека — это потерять своё индивидуалистическое "я", раствориться в организме азиатского монстра "мы". Жизненная ситуация шестидесятников — это ситуация людей, не до конца родившихся, не до конца отделенных от общинного сознания, а потом предпринявших судорожную попытку освобождения, в подавляющем большинстве случаев неудачную (что при более общем масштабе есть свойство не только рассматриваемой эпохи, но и вообще русского мира с его евроазиатским дуализмом).
Когда это поколение исчерпало себя? Когда оно стало мешать, стало "заживать чужой век"? К 80-м годам, после тихой гибели коммунального ада уже явно. И Высоцкий — вот его благородная непохожесть на свое поколение — умер. "И лучше выдумать не мог". Он ушёл. Освободил место. Он один. Были конечно какие-то смерти и до: Шпаликов, Шукшин. Но это были эпизоды и исключения, подтверждающие правило. А смерть Высоцкого была действительно Смерть. Это все интуитивно почувствовали. Посреди оруэлловской олимпиады — смерть Высоцкого. Умер вовремя. Вообше он всё делал вовремя, несмотря на внешнюю хаотичность и безлепицу своей жизни. Стал зачем-то Гамлета играть. Вроде бы большей глупости трудно себе представить. Есть традиции мировой драматургии, есть академизм, актерская школа. Как же можно играть такую роль с дешёвыми "задумками" на уровне капустника. Тут опыт тысяч и тысяч актёров, это эталон актёрского мастерства. Рентген, мгновенно высвечивающий актерскую суть. Вышел чудак с гитарой — да всё, можно выходить из зала: "все ясно". Но если представить себе заснеженную Москву 1977 года, напряженную тишину зрительного зала, и на сцене совершенно пьяного Высоцкого, хрипящего "быть или не быть"… Совершенно не смешно. Это (для той жизни) событие. И совсем не понарошку. "Отелло доверчив". Вообще жизнь Высоцкого естественна. Это в высшей степени естественная драма жизни. И песни. Как это передать? Не знаю. В лоб — нельзя.
Вайль и Генис уже намекнули, что Высоцкий просто пошляк, что его творчество — это олицетворение советской пошлости и советского китча. Но разве любовь простого деревенского парня и простой деревенской девушки не пошла? Все их галантерейные или лошадиные "ухаживания" пошлы и комичны. Но это же на самом-то деле верх естественности и простоты. Естественная основа жизни, на которую переучившиеся и потерявшие естественность ощущений люди наверчивают всякого рода “искусство-. Да кто такая была эта Мэрилин Монро? Просто женщина. Но быть просто женщиной, так сказать вообще, абсолютно женщиной, символом женщины — это не слишком мало, а слишком много. Настолько много, что она не выдержала этого груза и погибла. И кем был Высоцкий? Актёром? Поэтом? Бардом? Нет, просто человеком — "человеком 60- х" И умер так быстро от этого. В 42 года. В классическом возрасте "внезапной мужской смерти".
Не знаю, написал ли я достаточно ясно. Это нужно было сделать к тому же достаточно коротко, отсюда излишняя резкость. Шаржированный образ шестидесятников был нужен для быстрого и эффективного отстранения от материала, чтобы показать, как это "со стороны". Как для монголоида выглядит европеец? Чтобы понять это, надо сделать среднестатистического европейца выше в полтора раза, придать его коже мертвенную бледность, вставить совиные глаза и сильно удлинить нос — тогда и получится "Белый дьявол", маячащий перед совершенным человеком в его сущности — монголом. Так что некоторая карикатурность была неизбежна. Кстати, самого себя я не выношу за рамки. Ведь даже это письмо: адресованное конкретному человеку и вполне искреннее, но написанное человеком лично незнакомым и в форме письма открытого — конечно его тоже писал осьминог, переваривший очередного члена экипажа и уютно расположившийся в укромном месте машинного отделения. Теперь что касается конкретной работы над энциклопедией.
Её технические параметры и строение изложены в справке, прилагающейся к настоящему письму.
Конечно, было бы грубейшей ошибкой "кривляться" и писать конкретные статьи энциклопедии в "раблезианском стиле". Несколько таких статей, пожалуй, и будет написано (вроде посылаемой Вам в качестве образца статьи "Ленин"), но в целом работа должны вестись спокойно, "по-английски". Это должны быть хорошие добротные материалы на "четверку", некое новое, "мистическое" качество должно проявляться при их сопоставлении. Все отделы должны делаться совершенно серьезно, искренне, одномерно, без каких-либо "сверхзадач". И основная масса иллюстраций тоже. Но при соединении должна возникнуть цепная реакция иронии, смеха, ностальгии, любви. Это будет действительно биография Высоцкого; анализ его творчества; путеводитель по песням; книга об эпохе 60-х. Но все это, соединившись в целое (хотелось бы) приобретет иное качество. Может быть, качество вещи, делающей прошедшее прошлым, и следовательно — вечным, и следовательно — всегда настоящим. Об изобразительной стороне энциклопедии не говорю. Я Вас считаю человеком талантливым, и, следовательно, никакие конкретные "рекомендации" Вам не нужны. Буду очень рад, если мое письмо Вас немного "раздразнит" и подвигнет к работе.
Если Вы сочтете нужным обсудить какие-либо аспекты работы над энциклопедией, то я всегда к Вашим услугам.
До свидания!
*) Это письмо попросила меня написать жена Высоцкого Людмила Абрамова. Впервые оно опубликовано с согласия Шемякина в "Независимой газете" 12.11.91. При этом редакция выбросила несколько предложений, придав письму более безличный характер. Насколько я знаю, большинство так и восприняло это письмо — как послание в никуда, "вопль". На самом деле это была прежде всего литературная шутка, призванная подтолкнуть к сотрудничеству живущего в эмиграции Шемякина, который дал Абрамовой согласие иллюстрировать "Энциклопедию Высоцкого", но действовал весьма анемично. Проект энциклопедии через год перестал финансироваться и успешно засох на корню, письмо же "всколыхнуло общественность"
**) Я не восстанавливаю убранные редакцией конкретные фамилии, являющиеся скорее собирательными образами
26.08 — 2.09.1991 г.



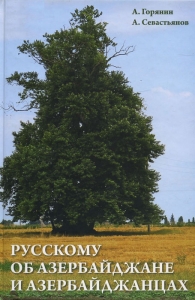
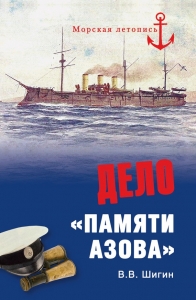
Комментарии к книге «Письмо Михаилу Шемякину», Дмитрий Евгеньевич Галковский
Всего 0 комментариев